Л. П. ГРОССМАН
У ИСТОКОВ «БАХЧИСАРАЙСКОГО ФОНТАНА»
Творческая история «Бахчисарайского фонтана» полна неразрешенных загадок. Кто сообщил Пушкину драматическую легенду о безутешном хане, воздвигнувшем необычайный памятник из мрамора и струй пленной польской княжне, погибшей в его гареме? Имеет ли это поэтическое сказание какие-либо исторические основы? Почему Пушкин заявлял, что писал эту поэму только для самого себя, и долго отказывался публиковать ее, следя с ревнивой бдительностью за попытками друзей провести хотя бы самые беглые сведения о ней в печать? Кому посвящены здесь отрывки страстных признаний автора, свидетельствующие о несомненном наличии в его ранней биографии какой-то «утаенной любви», доныне не раскрытой неопровержимо его исследователями? Какой ответ дают источники пушкинских текстов на взволнованные расспросы самого поэта о его воображаемой спутнице по опустелым залам Бахчисарайского дворца:
Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?
(IV, 170).1
Не следует ли наново поставить эти вопросы, решение которых одинаково важно для истолкования творчества и для истории жизни великого певца Бахчисарая?
Попытаемся это сделать.
Возникновение замысла знаменитой «татарской поэмы» поддается датировке, хотя и несколько обобщенной. Легенда о Гирее и Марии дошла впервые до Пушкина в Петербурге, в эпоху «пылких оргий», т. е. в трехлетье между лицеем и ссылкой. Он услышал это сказание от одной из своих знакомых, что и определило план, идею и стиль поэмы: «Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины», — писал поэт 8 февраля 1824 года А. А. Бестужеву; «К** поэтически описывала мне его (т. е. «странный памятник влюбленного хана», — Л. Г.)», называя этот восточный водомет «la fontaine des larmes», — писал он в декабре 1824 года Дельвигу (XIII, 88, 252).
Из другого письма Пушкина от 29 июня того же года к Бестужеву явствует, что именно эту рассказчицу крымского предания слушатель-поэт
50
полюбил тогда «без памяти» (XIII, 100). Но чувство его не встретило ответа, и он решил скрыть от всех имя этой ранней посетительницы Тавриды, вдохновившей его на прелестнейшую стихотворную новеллу и внушившей ему чувство, которое сам он называл «безумной любовью», «глубокими ранами сердца», «тяжелым сном» своей молодости.
Уже первые исследователи Пушкина обратили внимание на ряд его ранних лирических стихотворений, охваченных глубоким и горестным чувством к одной неизвестной женщине. П. И. Бартенев в своей монографии 1861 года «Пушкин в южной России» впервые указал, что «к воспоминаниям о жизни в Гурзуфе несомненно относится тот женский образ, который беспрестанно является в стихах Пушкина, чуть только он вспомнит о Тавриде, который занимал его воображение три года сряду, преследовал его до самой Одессы, и там только сменился другим. В этом нельзя не убедиться, внимательно следя за стихами того времени. Но то была святыня души его, которую он строго чтил и берег от чужих взоров и которая послужила внутреннею основою всех тогдашних созданий его гения».2
Не пытаясь разгадать имя этой женщины, которая могла еще находиться среди живых, Бартенев отмечал посвященные ей, по его мнению, стихи: «Я помню море пред грозою», «Редеет облаков летучая гряда», «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду» и «О дева-роза, я в оковах». Так впервые был поставлен вопрос о безымянной любви Пушкина и сделана попытка установить репертуар относящихся к ней лирических строф.
Позднейшие пушкиноведы много сделали для расшифровки имени этой незнакомки. Они назвали восемь современниц поэта в качестве возможных вдохновительниц «Бахчисарайского фонтана» и объектов любви его автора. Это были: княгиня Мария Аркадьевна Голицына, рожденная Суворова-Рымникская, внучка генералиссимуса; Наталья Викторовна Кочубей, в замужестве графиня Строганова, дочь министра внутренних дел и предмет раннего увлечения Пушкина-лицеиста; четыре дочери знаменитого героя 1812 года генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского 1-го — Екатерина Николаевна, по мужу Орлова, Елена Николаевна, Мария Волконская и ее младшая сестра Софья; жена историка Екатерина Андреевна Карамзина и, наконец, пленная девушка-татарка, ставшая компаньонкой барышень Раевских, Анна Ивановна. Вот кого исследователи русской поэзии — А. И. Незеленов, М. О. Гершензон, П. Е. Щеголев, Ю. Н. Тынянов, П. К. Губер, Д. С. Дарский и др. — собрали у входа в ханский дворец Бахчисарая.
Из всего этого разнообразного женского круга в биографию Пушкина вошла твердой поступью только Мария Николаевна Раевская. Обобщая наметившуюся в научной критике тенденцию, П. Е. Щеголев признал именно эту девушку предметом таинственной любви Пушкина, который якобы услышал от нее в Петербурге в 1817—1820 годах предание о Бахчисарайском фонтане. Оно было почему-то любимейшим поверьем всего молодого поколения семьи Раевских, т. е. трех прочих сестер и их брата Николая. Все они, согласно этой версии, совместно «вдохновляли» Пушкина на его знаменитую поэму.
Как ни странно было бы такое коллективное воздействие целой семьи на зарождение одной лирической поэмы, концепция Щеголева была широко
51
принята и до сих пор господствует в пушкинской литературе. Между тем ряд ее положений явно ошибочен. Мы даем в приложении их детальный анализ и ограничиваемся здесь общей характеристикой взаимоотношений поэта с выдающейся «русской женщиной». Это послужит нам необходимым введением в изучение всей проблемы.
Пушкин несомненно питал к М. Н. Раевской-Волконской глубокую и долголетнюю приязнь. Но его чувство к ней не имело ничего общего с той пылкой, бурной и мучительной страстью, о которой он так настойчиво говорит в своих южных стихах, письмах и поэмах. Отношение его к Марии Николаевне было совершенно иным — не «безумным» и не «тяжелым». Оно было свободно от всякой чувственности, отличалось ясностью и напоминало самому поэту «лампаду чистую любви». Оно не захватывало его целиком и не препятствовало другим его увлечениям и связям, часто опасным и мучительным (Ризнич, Воронцова, Закревская).
В изучении этого вопроса исследователи не считались с характером такого «идеального» чувства и относили к нему всё, что Пушкин высказывал в стихах того времени о своей мучительной страсти к другой женщине.
Лучше всех ученых сама М. Н. Волконская определила характер чувства к ней Пушкина. Она начинает историю их дружбы лишь с 1820 года. Это подтверждает, что в Петербурге они не могли встречаться, что никакого творческого воздействия на поэта она не могла тогда оказывать и никакой любви к ней, тем более всепоглощающей и безысходной, поэт оттуда не вывозил.
В месяцы совместного путешествия по югу возникли весьма дальние и всё же поэтические и дружеские отношения. В них сказалось обычное для Пушкина поклонение каждому проявлению пленительной женственности. «В качестве поэта, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал», — замечает Волконская. Но по существу, продолжает мемуаристка, «он любил лишь свою музу и облекал в поэзию всё, что видел».3
Таким, чисто поэтическим и было его душевное увлечение смуглым подростком во время южного путешествия. Оно было искренне и эстетично, но при этом сдержанно и мечтательно.
Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья, —
(VI, 29).
писал Пушкин в 1823 году. Именно таким было его чувство к Раевской. Оно могло навевать задумчивые стихи, но не бурные страдания.
Это была в начале не столько любовь, сколько, скорее, любование, созерцание художника, «сердечная дума», по его собственному глубокому выражению в стихотворении «Таврическая звезда» («Редеет облаков летучая гряда»).
Для верного понимания сердца поэта в момент этого творческого цветения можно вспомнить строфу Александра Блока из его «Итальянских стихов»:
Счастья не требую. Ласки не надо,
Лаской ли грубой тебя оскорблю?
Лишь, как художник, смотрю за ограду,
Где ты срываешь цветы, — и люблю!4
52
Кажется, именно так любил Пушкин Марию Раевскую. Созерцательно, артистически, лирично, самоотверженно. Как мастер элегий и творец романтических поэм. В этом была своя условность, но и своя высокая словесная ценность, соответствующая чистоте и возвышенности переживания. Но это не был «порыв страстей», о котором поэт вспоминал в других стихах этого времени. Должны были пройти года и возникнуть огромные исторические события, чтобы Пушкин испытал сильное чувство к Марии Николаевне — глубокое «гражданское» восхищение ее подвигом. Это произошло только в 1826 году. «Во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга», — сообщает в своих «Записках» Волконская.5
Это и был момент зарождения подлинной духовной любви Пушкина к юной приятельнице его странствий — поклонение певца свободы жертвенной и героической натуре, поднятой временем на историческую высоту. С этого момента она и становится «святыней» его души.
Поэта увлек тот высокий строй идей, который характеризовал всю семью Раевских. Мария Николаевна, как и ее братья и сестры, жила идеалами чести и долга, которые рано внушил ей отец. Патриотизм и героика, отречение и подвиг — вот что уводило молодых Раевских от фривольной культуры XVIII века и обращало к культу общественной и моральной доблести. Марии Николаевне уже в молодости была присуща серьезность и вдумчивость. Олизар называет ее «юной смуглянкой с серьезным выражением лица». Никто бы не решился обратить к ней нечистые помыслы или легкомысленные признания. Она неизменно внушала окружающим глубокие и возвышенные чувства. «Если во мне, — писал Олизар, — пробудились высшие, благородные, оживленные сердечным чувством стремления, то ими во многом я был обязан любви, внушенной мне Марией Раевской. Она была для меня той Беатриче, которой посвящено было мое поэтическое настроение, до которого я мог подняться, и благодаря Марии и моему к ней влечению я приобрел участие к себе первого русского поэта и приязнь нашего знаменитого Адама».6
Таковы были и сердечные влечения к этой девушке «первого русского поэта», близкие к «языку Петрарки» и свободные от всякой эротики. Ни один сладострастный стих Пушкина не обращен к ней, и наличие таких изъявлений в какой-либо строфе уже неопровержимо доказывает, что эта строфа не относится к Марии Раевской. От поэтизации к высшей героизации — таков был весь путь этого чувства, в котором первоначальное восхищение шалостями девочки на фоне южного пейзажа сменилось преклонением перед подвигом одной необычайной женщины в страшную эпоху «мятежей и казней». Это дало русской литературе ряд незабываемых строф. Но настоящая северная любовь Пушкина была иной.
Для решения этой проблемы исследователи изучили целый круг современниц поэта. Они проявили при этом немало находчивости, остроумия и трудолюбия. Но был допущен один недосмотр: они не обратили внимания на показания самого поэта, с которых необходимо было начать анкету по одному из труднейших вопросов его литературной и личной биографии. Документальными свидетельствами, исходящими от главного героя этого неразгаданного романа, мы и начнем наше рассмотрение тайны Пушкина.
53
Глава первая7
1
Сам Пушкин полностью назвал вдохновительницу своей южной поэмы. Назовем ее и мы. Это — Софья Станиславовна Потоцкая, вышедшая в 1821 году за начальника штаба второй армии генерала Павла Дмитриевича Киселева и рассказавшая поэту еще в 1818—1819 годах легенду о старинной красавице Марии Потоцкой, печально завоевавшей любовь одного из последних Гиреев.
Известную запись Пушкина о зашифрованной рассказчице бахчисарайской легенды «К**» и следует читать: «Киселева поэтически описывала мне его» (IV, 176; см. также: VIII, 1, 438; XIII, 252).
Пушкин прямо называл имя этой девушки в связи с «Бахчисарайским фонтаном». 4 ноября 1823 года он писал из Одессы П. А. Вяземскому: «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма... Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай... Припиши к Бахчисараю маленькое предисловие или послесловие — если не для меня, так для Софьи Киселевой» (XIII, 380, черновое). Приведем и примечательный вариант белового текста: «...еще просьба: припиши к Бахчисараю предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой» (XIII, 73).
В одном из следующих писем к Вяземскому из Одессы от 20 декабря 1823 года Пушкин, между прочим, спрашивал: «Ты, кажется, собираешься сделать заочное описание Бахчисарая? брось это. Мадригалы Софье Потоцкой, это дело другое» (XIII, 83).
В первом сообщении Пушкин ставит себя как автора «Бахчисарайского фонтана» рядом с Софьей Киселевой-Потоцкой, очевидно как вдохновительницей поэмы; иначе понять это сообщение нельзя: почему бы предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» нужно было писать для Софьи Киселевой, если бы она не имела никакого отношения к замыслу этой поэмы? Во втором письме Пушкин отговаривает Вяземского описывать заочно, т. е. только со слов Софьи Потоцкой, Бахчисарайский дворец с его преданиями, лучше писать в честь самой рассказчицы мадригалы (в чем уже преуспел Вяземский).8 И здесь снова имя Потоцкой связывается с описанием Бахчисарая. Это как бы ее тема. Она сообщает поэтам старинные предания Крыма и свои личные впечатления о далеком и сказочном Востоке.
При опубликовании поэмы Пушкин нашел особый способ незаметно назвать свою вдохновительницу и в печати. В приложении к «Бахчисарайскому фонтану» он поместил «Выписку из путешествия по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола, которая заканчивалась указанием на «принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких» (IV, 175). Это была явная похвала двум
54
сестрам из этой фамилии — Софье и Ольге, блиставшим в 1818—1819 годах в петербургском свете и при дворе. Сенатор и член Российской академии И. М. Муравьев-Апостол, лично близкий к Александру I, несомненно знал статс-даму С. К. Потоцкую и ее знаменитых красавиц-дочерей. Искушенному читателю намек Муравьева был ясен. Приводя цитату из его «Путешествия», Пушкин не разглашал никакой сердечной тайны, никого не компрометировал и всё же приносил вдохновительнице поэмы дань своего сердечного поклонения и авторской благодарности. Это и могло служить некоторым послесловием в честь Софьи Киселевой, которое Пушкин так настоятельно просил у Вяземского.

Софья Станиславовна Киселева, рожд. Потоцкая. Офорт В. А. Боброва. 1878 (ремарка на портрете П. Д. Киселева).
Это заветное имя Пушкин называл и позже с такой же осторожностью и некоторой неясностью, допускающей различные восприятия и понимания. Так, отсутствующее в первых изданиях поэмы указание на «К**» — рассказчицу сюжета — появилось лишь в 1830 году в третьем издании «Бахчисарайского фонтана», в авторском письме-комментарии, напечатанном до того отдельно от поэмы, в «Северных цветах на 1826 год».
В том же 1830 году в «Путешествии Онегина», через десять-двенадцать лет после возникновения замысла поэмы «Гарем», Пушкин как бы подтверждает, что «воспевал... деву польскую» (VI, 256) не только понаслышке, не в одном только историческом аспекте или легендарном воплощении, а по своим непосредственным жизненным впечатлениям. Обращение к «фонтану Бахчисарая» в черновиках «Евгения Онегина» указывает на близость старинной любовной драмы к личной биографии автора:
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Потоцкую воспоминал...
(VI, 489).
В окончательном тексте: «Зарему я воображал» (VI, 201). Героиню поэмы Пушкин воображает; вспоминает же он реальное лицо — Потоцкую; вместо возможного стиха «Потоцкую воображал» ставится «воспоминал», что может относиться не к легендарной Марии, а к живой и реальной Софье, т. е. рассказчице предания о фонтане слез, которую Пушкин и вспоминает перед этим памятником безнадежной любви.
Для вдохновительницы поэмы был ясен смысл этих строк. Исследователи и читатели могли воспринимать их как свидетельство о поэтической
55
Марии. Так они и воспринимаются уже в течение почти ста тридцати лет. Не пора ли восстановить их подлинный смысл?
О том, что Пушкин в петербургское трехлетье действительно встречался с Софьей Станиславовной Потоцкой, свидетельствует замечание Вяземского в письме к А. И. Тургеневу 6 февраля 1820 года о стихотворении Пушкина «Платоническая любовь»: «Стихи Пушкина — прелесть! Не моей ли Минерве похотливой он их написал?».9
Вяземский был влюблен в Софью Потоцкую, а смелый эпитет, им допущенный, выражал лишь его восхищение внешностью девушки.
«Еще несколько дней погостит с нами Потоцкая с Софьею, которая хороша, как Минерва в час похоти», — писал он А. И. Тургеневу 11 октября 1819 года.10 Богиня мудрости в порыве страсти — такой представлялась Вяземскому Софья Потоцкая. «Всем нашим поклон, — пишет Вяземский ему же 25 октября 1819 года, — да если увидишь и коротко ее знаешь, — владычице моего воображения, Минерве в час похоти, в которой всё не здешнее, кроме взгляда, в котором горит искра земных желаний. Счастлив тот, который эту искру раздует: в ней тлеет пожар поэзии».11
В ответном письме (от 10 декабря 1819 года) А. И. Тургенев подчеркивает тему неприступной красавицы, связанную с личностью Потоцкой: «Как блекнут розы Софии оттого, что она не позволяет никому рвать их».12
В стихотворении «Платоническая любовь» Пушкин, как полагал Вяземский, описывал эту красавицу, отмечая некоторую истому или усталость ее внешности от бесплодных мечтаний любви:
Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый,
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей.
(II, 1, 106).
«Ужель мольба моя напрасна?» — спрашивает в заключении стихотворения Пушкин, выражая свое восхищение этой отступницей от Амура и Гименея. Важен был не легкомысленный эпитет, оброненный Вяземским, а наименование девушки Минервой, олицетворением мышления и творчества, покровительницей поэтов и художников, которую Пушкин воспринимал как «суровую» богиню.13 Всё это проливает свет на известное заявление поэта в письме к брату Льву Сергеевичу от 25 августа 1823 года о вдохновительнице «Бахчисарайского фонтана», как о женщине, в которую он был «очень долго и очень глупо влюблен» (XIII, 67), т. е. любил без взаимности и без надежд.
Вяземский сразу почувствовал сходство героини «Платонической любви» с Софьей Потоцкой и тотчас же запросил об этом А. И. Тургенева. И действительно, пушкинская характеристика «бедной Лиды» поразительно сходится с отзывами Вяземского о его Минерве, сочетающей девственную чистоту с глубоко затаенным огнем страсти; в ней «всё не здешнее», т. е. неземное, райское, небесное, и лишь взгляд ее обнаруживает искру чувственности, способную разгореться в пожар поэзии и любви. Но дева горда и неприступна: в своем томлении она остается одинокой.
56
Так описывает Вяземский пленившую его красавицу-девушку. Такой же предстает и пушкинская героиня, которой доступны лишь «сны воображенья», «неясные мечты», бледное отражение «нежных восторгов», к которым она втайне влечется; Пушкину вторит и общий друг его с Вяземским — А. И. Тургенев: «побледневшие ланиты» у Пушкина напоминают слова Тургенева: «как блекнут розы Софии».14 Таким образом, на вопрос этого почитателя Потоцкой, не к ней ли обращено стихотворение «Платоническая любовь», можно ответить утвердительно. Это один и тот же тип любви, и речь идет, очевидно, об одной и той же девушке, с которой в то время встречались оба поэта.
Таково было и мнение авторитетнейших комментаторов Пушкина. В издании С. А. Венгерова, в котором стихотворения 1819 года редактировались П. О. Морозовым, Б. Л. Модзалевским и Н. О. Лернером, о «Платонической любви» сказано: «Речь идет о графине Софье Потоцкой». Там же указано, что стихотворение печаталось по беловому автографу, который был получен Вяземским от Пушкина и сохранялся в Остафьевском архиве. Это подтверждает посвящение «Платонизма» Софье Потоцкой.15
Таким образом, объектом петербургской любви Пушкина («северной любви», «отверженной любви», «безумной любви»), как и вдохновительницей «Бахчисарайского фонтана», следует признать Софью Станиславовну Потоцкую-Киселеву.
В биографии Пушкина, как и в истории его творчества, она заслуживает хотя бы беглого очерка, который до сих пор не был посвящен ей. Восполним этот пробел.
2
Софья Станиславовна Потоцкая унаследовала замечательную красоту своей матери — гречанки Софьи Константиновны Клавона (Clavona), женщины с необычайной судьбой.
По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, хорошо осведомленного в биографиях и делах своих современников, эта будущая львица александровского Петербурга была на пороге жизни служанкой в константинопольском трактире, где обратила на себя внимание секретаря польского посольства, а затем и самого посланника при Оттоманской Порте Деболи, который и увез ее с Босфора на Вислу.16
По другой версии, посол в Турции Боскамп Лясопольский, проезжая по улицам Константинополя, заметил бедную тринадцатилетнюю девочку-гречанку, которая была им приобретена у матери за 1500 пиастров. По пути в Польшу посланник остановился в Каменце, где в его юную спутницу влюбился сын коменданта крепости майор Иосиф Витт, которому удалось тайно обвенчаться с прекрасной фанариоткой и вскоре увезти ее во Францию. Имеется также вариант о французском после в Стамбуле, доставившем девочку в Париж.17
Всё это окутано налетом легенды, но зато совершенно достоверно, что
57
в начале 80-х годов XVIII века знаменитая французская художница Виже-Лебрен (как она рассказывает в своих воспоминаниях) видела в Париже чрезвычайно юную мадам де Витт, прекраснее которой ничего нельзя было себе представить.18
Оказавшись в Польше, Софья Витт находит путь в русские лагери, стоявшие в то время на границе Речи Посполитой. Екатерининские генералы славились своими празднествами и щедростью. На красавицу обратил внимание сам фельдмаршал Потемкин. Вскоре он доставил Витту генеральский чин русской армии и графский титул Российской империи взамен исключительного права иметь повсеместно своей спутницей его жену. Софья Витт жила в ставке главнокомандующего, а в 1787 году была представлена в Крыму Екатерине II. Завоеватель Тавриды щеголял своей фавориткой как небывалым трофеем, она же гордилась своей властью над повелителем всей России.
Упомянутая французская портретистка Виже-Лебрен, прожившая несколько лет в России, посетила лагерь Потемкина и была поражена щедростью его подношений своим возлюбленным: «Ему всё было нипочем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины». Влюбленный в госпожу де Витт, он «расточал перед нею самые изысканные любезности. Так, однажды, желая подарить ей кашемировую шаль безумно высокой цены, он дал праздник, на котором было до двухсот дам, а после обеда устроил лотерею, но так, что каждой досталось по шали, а лучшая из шалей выпала на долю самой прекрасной из дам» (т. е. госпоже де Витт).19
Об этих празднествах «князя Тавриды», где неизменно царила прекрасная гречанка, имеется ряд характерных свидетельств в воспоминаниях современников.
В «Записках Александра Михайловича Тургенева» сообщается, что во время осады Очакова, когда «войско умирало от холода, голода и житья в землянках», князь Потемкин в главной квартире своей, в лагере «давал балы, пиры, жег фейерверки..., куртизанил с... бывшею прачкою в Константинополе, потом польской службы генерала графа Витта женою, потом купленною у Витта в жены себе графом Потоцким и, наконец, видевшею у ног своих обожателями» министров и королей; «будучи уже в преклонных летах, графиня София Потоцкая была предметом внимания даже Александра Павловича».20
Понемногу она сумела вступить и в политические комбинации своего всевластного покровителя. Это было время, когда Потемкин приступил к осуществлению своего грандиозного «греческого проекта», т. е. восстановления на территории низложенной Турции византийского царства с императором из дома Романовых. Софья Витт была по происхождению фанариоткой. Так назывались потомки знатных греческих фамилий, избежавшие истребления при завоевании турками Константинополя и поселившиеся в предместье Фанаре21 на берегу Золотого Рога. Известные своими знаниями, энергией и изворотливостью, фанариоты были вскоре привлечены
58
оттоманским правительством на государственную службу, где занимали посты драгоманов Порты и господарей дунайских княжеств. Новая подруга Потемкина могла служить ему и для осуществления замысла его политической деятельности. Вскоре она стала исполнительницей его тайных политических поручений и по другому важнейшему заданию тогдашней российской государственности — переустройству распадавшейся Польши. В момент, когда русское правительство было заинтересовано в привлечении на свою сторону одного из крупнейших деятелей Речи Посполитой — магната и коронного гетмана Станислава-Феликса Потоцкого-Щенсного, к нему была направлена в Варшаву на сейм 1788 года Софья Витт.
С первой же встречи этот претендент на польский престол оказался одновременно у ее ног и в русле петербургской политики. После Тарговицкой конфедерации и третьего раздела Польши Потоцкий-Щенсный был вынужден во время восстания Костюшко оставить родину. Зато он получил от царизма чин генерал-аншефа русской службы. После долголетнего матримониального торга он выкупил у Иосифа Витта его жену за два миллиона польских злотых.22
Но обвенчаться с нею Потоцкий всё же не мог, так как его законная жена Жозефина-Амалия Мнишек-Потоцкая, известная художница итальянской школы, не давала мужу развода. Только в начале 1798 года она скончалась. А уже в апреле Софья Витт была обвенчана со своим долголетним возлюбленным. Уличная девочка стамбульских окраин стала обладательницей несметных богатств знаменитого польского рода.
Вигель в своих записках называет фамилию Станислава-Феликса Потоцкого-Щенсного «семейством польских Атридов», не менее преступных, чем их античные прообразы. Он вспоминает по этому поводу историю семьи Борджиа, нравы которой были обычны и в Польше эпохи ее распада, во многом близкой к средневековой Италии с ее вожделениями и злодеяниями. Он называет третью жену Станислава-Феликса, т. е. Софью Витт «новой Федрой», затмившей страстью к своему красавцу-пасынку Юрию Потоцкому знаменитую героиню Эврипида и Расина.23
По свидетельствам польских биографов Софьи Витт-Потоцкой, ее связь с пасынком не могла оставаться долго тайной для мужа. После политической трагедии 1795 года он вынужден был пережить на склоне лет страшную личную и семейную драму. В аналогичном случае герой Байрона феррарский герцог Эсте казнил свою молодую супругу Паризину Малатеста и своего побочного сына Гуго за их любовную связь (таков был подлинный случай, найденный поэтом в итальянской хронике XV века). Станислав-Феликс Потоцкий-Щенсный избрал другой путь. Он уединился, предался мистицизму, подпал под влияние польских «иллюминатов» и вскоре скончался.
59
«С этого момента началась сумасшедшая жизнь в Тульчине. Мачеха в объятиях пасынка была царицей в толпе шулеров и сорви-голов, стекавшихся сюда чуть ли не из целой Европы».24
Юрий Потоцкий проводил дни и ночи за фараоном и, наконец, позабыл о своей страсти к мачехе. Впервые неотразимая красавица увидела себя брошенной. Она рассталась с пасынком, обеспечив ему роскошное существование в Париже, где он вскоре и скончался.
С 1810 года Софья Потоцкая вступает в последний период своей жизни и «нравственно хорошеет». Она всё более озабочена искуплением грехов, благотворительной деятельностью, воспитанием детей. Бурная жизнь, полная увлечений и приключений, отходит в прошлое. «Баядерка от рождения», она становится под старость добродетельной «матроной», старается забыть прежнюю жизнь и сохраняет преданную память только к Потемкину, которого до конца «жалела, как родного брата».
На мрачном фоне таких семейных хроник нередко выступают противоположные натуры. Так, в рядах младшего поколения Потоцких в начале XIX века росла девушка совершенно иных стремлений и запросов, которая осталась одинокой среди распущенных нравов своей семьи, подготовивших ей личную драму и трагическую судьбу. Это была Софья Станиславовна Потоцкая, которая встречалась в Петербурге с Пушкиным незадолго до его ссылки на юг и которой он посвятил свое стихотворение 1819 года «Платоническая любовь».
Она родилась в Тульчине в 1801 году. Через год в семье Потоцких появилась другая дочь — красавица Ольга (впоследствии Нарышкина), тоже ставшая одной из знакомых Пушкина по Петербургу и Одессе.
Девочки росли в юго-западных владениях Потоцких — в Тульчине, где находились два дворца их владетельного рода, и в Умани, где в честь их матери был разбит в 1793—1796 годах знаменитый сад Софиевка; часть года семья проводила в Крыму, где еще Потемкин подарил своей прекрасной гречанке большое греческое селение Массандру,25 которое тянулось от хребта Яйлы до моря, охватывая площадь свыше 800 десятин. В горной части это огромное имение заключало строевые леса, в долинной были вскоре разведены виноградники тончайших французских лоз, а на обрыве над морем разбит роскошный парк с редкими тропическими растениями.26 Владелица Тульчина, Умани, Могилева и многих других населенных мест на Украине, Софья Потоцкая составляла грандиозные проекты о своем южном поместье, мечтая основать здесь новый приморский город Потоцких.
Крымские владения знаменитой фамилии этим далеко не ограничивались. В Симеизе путешественники по молодой Тавриде отмечали «еще одно имение графини Потоцкой» с прекрасным парком и виноградниками; в парке «множество редких южных растений», лесные и лиственные деревья, питомники и оранжереи.27 Из этих южных имений посылались для Царскосельского парка редкие экземпляры итальянских тополей.
60
После смерти С. К. Потоцкой Массандра перешла к ее старшей дочери Софье Станиславовне Киселевой. Сестре ее О. С. Нарышкиной принадлежал Мисхор, а в долине Салгира недалеко от Симферополя она имела «прелестную дачу».28 Сын С. К. Потоцкой от первого брака граф И. О. Витт владел в 30-х годах частью Орианды — верхней, или «малой».29
Так разрешается один из важнейших вопросов нашей проблемы. Как указывали исследователи, для определения неизвестной вдохновительницы Пушкина необходимо доказать, что до рассказа ему бахчисарайской легенды она была в Крыму. Это оставалось недоказуемым в отношении Голицыной, Волконской, Кочубей, Карамзиной, Раевских и др.
Только для Софьи Потоцкой это является неопровержимым биографическим фактом. В детстве и юности она проводила ежегодно по несколько месяцев на берегу Крыма в имении, принадлежавшем ее матери еще с середины 80-х годов XVIII века. Обе девушки рано полюбили солнечный полуостров с его польскими виллами и памятниками ханской Тавриды. Старшая отличалась, по словам Пушкина, «поэтическим воображением» (VIII, 2, 1000), и легенды Крыма живо воспринимались ею, как, вероятно, и ее младшей сестрой. Столица Гиреев Бахчисарай с его дворцом и садами должна была особенно привлечь их внимание, тем более, что живописной местности и историческому городу вполне соответствовала услышанная ими здесь прелестная легенда об одной из представительниц их прославленного рода — Марии Потоцкой, пережившей беспримерную трагедию в гареме крымских повелителей. Эти именно польские девушки окрестили мемориальный водомет, призванный символически выражать скорбь безутешного Керима; они назвали его «фонтаном слез», т. е. создали образ, увековеченный в русской поэзии Пушкиным. Этих юных мечтательниц он и имеет в виду, воздавая хвалу ранним посетительницам Бахчисарая, растроганным необычайной судьбой их праматери и живым памятником скорби, воздвигнутым ей:
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.
(IV, 169).
Стихи эти могли относиться только к сестрам Потоцким. Софья Станиславовна гордилась своим историческим родом и чтила его предания. Война, наука и поэзия были отличительными признаками знаменитой фамилии. Участники героических битв, ученые, поэты и публицисты, они внушали восхищение и гордость своей одаренной и смелой правнучке. Интересно ее письмо, написанное в 1845 году великому князю Михаилу Павловичу с просьбой исходатайствовать у Николая I облегчение участи ее арестованного брата — Мечислава Потоцкого. Культом великих предков и вызовом современным властителям звучит конец этого необычайного прошения:
«Этот человек носит историческое имя и принадлежит к роду, члены которого гордятся этим именем. Я заявляю это Вам, князь, ибо не умею скрывать своих чувств. Ваше императорское высочество может считать
61
меня чересчур смелой, но оно не откажет мне в обладании духом моей семьи в высочайшей степени».30
Дух семьи — это означало для нее героизм ратных подвигов и величие духовных деяний.
Вот почему идеальная душевная чистота Марии Потоцкой представлялась ей великой эпической темой, драгоценной для подлинного поэта, которому она и мечтала сообщить ее.
Вскоре он появился на ее пути — двадцатилетний юноша, вчерашний лицеист, но уже первый среди русских поэтов.
3
В зимний сезон 1818—1819 года семнадцатилетняя Софья Станиславовна впервые стала выезжать на петербургские балы. Ее красота, сочетавшая яркую солнечность эллинского типа ее матери с утонченной задумчивостью славянского облика ее родственниц по отцу, вызвала всеобщее восхищение. Пушкин, всегда ценивший, по его собственному свидетельству, законченную красоту женских лиц, не мог пройти без внимания мимо молодой Потоцкой, уже вызвавшей поклонение его друга Вяземского. Девушка с поэтическим воображением и вольнолюбивой душой должна была заинтересоваться автором «Вольности», «Руслана», «Любви, надежды, тихой славы».
Мы не можем внести с календарной точностью в хронологическую канву жизни Пушкина дату того дня или вечера, когда Софья Потоцкая рассказала ему свою любимую крымскую легенду. Но факты творческой истории «Бахчисарайского фонтана» не оставляют сомнений, что в 1818—1819 годах между ними происходила такая беседа, отметившая важную веху в литературной летописи поэта.
Несмотря на сильное впечатление Пушкина от этого «предания любви», он еще не был готов к его воплощению. Он только высоко оценил его драматизм и неизгладимо запечатлел его образы в своей творческой памяти. Это вызвало и новое отношение к даровитой девушке, плененной западно-восточной легендой с ее преданиями католической Польши и мусульманского Крыма. Вместе с прелестным замыслом возникло и важнейшее событие его душевной жизни.
Пушкин назвал свою петербургскую любовь «отверженной». Это обращает нас к внутренней биографии Софьи Потоцкой на исходе ее юности.
С 1817 года в их доме постоянно бывает один из самых блестящих молодых представителей гвардии — Павел Дмитриевич Киселев. Ему еще не было тридцати лет, но он уже прожил блестящую молодость. Служа в кавалергардском полку, он участвовал в прусской кампании 1807 года, сражался в 1812 году под Смоленском и Бородиным, был адъютантом Милорадовича и прошел путь до Парижа. В 1814 году Александр I назначил его своим флигель-адъютантом и взял в свою свиту на Венский конгресс. В 1817 году он был произведен в генералы, а в 1819 году назначен начальником штаба второй армии.
Выходец из высшего московского общества, он знал с детства Карамзина и Дмитриева, был другом Вяземского, Михаила Орлова, Дениса
62
Давыдова, Александра Тургенева, Сергея Волконского. По позднейшим сообщениям его сослуживцев и товарищей, это был выдающийся представитель своего замечательного поколения. Он отличался живостью своих черных глаз и властью над умами, свидетельствуют современники. «С прекрасною наружностию он соединяет светское обхождение». У него «речь ясная и точная, иногда пылкая и увлекательная... Он горд, честолюбив, нетерпелив, жив и страстен».31 «Он баловень дам, самый любимый, самый модный гость между всеми нашими вельможами».32
В обществе он оказывал особое внимание Софье Станиславовне Потоцкой. Не удивительно, что девушка полюбила его сильно и горячо. Ни о каком другом чувстве не могло быть и речи. Горячие жалобы «Платонической любви» Пушкина, как, вероятно, и аналогичные устные признания ее автора, не могли найти ни ответа, ни отзвука. Любовь поэта осталась неразделенной.
В апреле 1821 года Софья Потоцкая была объявлена невестой Павла Дмитриевича Киселева. Жених извещает об этом императора, который в ответном письме с Лайбахского конгресса выражает ему свои лучшие пожелания и просит передать свои поздравления «à la belle comtesse Sophie».33 25 августа 1821 года состоялось в Одессе бракосочетание Софьи Потоцкой и П. Д. Киселева при свидетелях градоначальнике графе А. Ф. Ланжероне и генерал-майоре Михаиле Орлове.34
Софья Станиславовна Потоцкая отличалась выдающимся умом, независимостью убеждений, художественной фантазией и патриотическими идеалами. В ней таился целый «пожар поэзии», по выражению Вяземского.35 Для нее уже в молодости были характерны «возвышенность души и принципов» (как писал в 1829 году П. Д. Киселев)36 — черты, которые внушили ему «доверие и привязанность» к ней.
Письма Софьи Станиславовны к жениху и мужу в начале 20-х годов свидетельствуют о живости мысли, богатстве впечатлений, искренности и непосредственности ее эпистолярного стиля. Она не позирует, не приукрашивает себя, не претендует на изящество и блеск, напротив — она откровенна и прямодушна. В этом чувствуется своеобразная человеческая одаренность, быть может, именно потому, что здесь не ощущается никакого стремления к позе и фразе. Между тем она любит книги, интересуется отвлеченными вопросами, читает мемуары знаменитых деятелей, основательно знакомится с Вольтером. Сквозь сообщения о личной жизни и семейном быте ощущается серьезная умственная заинтересованность в духовных проблемах вместе с культурным складом утонченного характера и поэтичность души. Не случайно ее биография переплетается с именами поэтов — Вяземского, Пушкина, Мицкевича. Декабрист Н. В. Басаргин, адъютант ее мужа и завсегдатай в их доме, писал, что «супруга Киселева,
63
Софья, была олицетворенная доброта, очень умна, веселого, открытого характера, но с тем вместе неимоверно рассеяна и не обращала внимания ни на какие светские условия».37
Это ценное свидетельство. Пренебрежение к чопорным регламентам великосветского круга свидетельствовало в то время о вольнолюбивости натуры. Молодая Потоцкая открыто пренебрегала уставами и предрассудками петербургских салонов. Вращаясь в мире официальных властей и сил, она выступала защитницей несправедливо гонимых.
П. А. Вяземский рассказывает о своем друге Александре Тургеневе, известном заступнике всех обездоленных: «Помню, как за обедом у графини Потоцкой живо схватился он с гр. Милорадовичем, бывшим тогда с.-петербургским военным генерал-губернатором, и упрекал его за нерасположение к одному из чиновников, при нем служивших... Милорадович оправдывался, как мог и как умел; многочисленные гости за столом в молчании и с удивлением присутствовали при этой тяжелой распре. Правда, что Тургенев, как ловкий военачальник, призвал в союзницы себе двух красавиц-дочерей хозяйки, и победа осталась за ним».38
Очевидно, Софья Потоцкая, как старшая и наиболее одаренная из сестер, и выступила в благородной роли заступницы маленького человека, оказав, быть может, благотворное воздействие на всю его судьбу.
В духе таких передовых воззрений рано сказывается в письмах этой девушки-аристократки ее неожиданная приверженность к национально-освободительному движению в мировой политике. Весьма показательны в этом отношении ее письма из Одессы весной 1821 года об отзвуках греческого восстания в южнорусском городе. Они как бы перекликаются с известным кишиневским письмом Пушкина в марте 1821 года о событиях в Греции, в котором описано и одесское возбуждение соотечественников Ипсиланти.
Такие черты натуры заметно выделяли независимую и смелую девушку в кругу ее «верноподданных» подруг, как и она, фрейлин императорского двора и невест флигель-адъютантов Александра I. Ум и вольнолюбивый характер Софьи Потоцкой усиливали ее внешнее очарование в глазах талантливых и прогрессивных деятелей молодого поколения в эпоху становления первых тайных обществ в России. Умный Киселев, как мы видели, ценил возвышенные воззрения и этические идеалы своей жены. Всё, казалось, обещало одесским новобрачным 1821 года прочное и длительное счастье. На самом деле оно оказалось хрупким и кратковременным.
Молодые поселились в Тульчине, городке Потоцких, где находилась и главная квартира, или штаб второй армии. В 1822 году скончалась в Берлине Софья Константиновна Потоцкая, поручив младшую дочь Ольгу попечению Киселевых. Девушка, по словам Басаргина, отличалась более положительным характером, чем ее старшая сестра, и, как и та, «славилась своею красотою».39
Красота младшей Потоцкой в сочетании с ее практицизмом сыграла печальную роль в жизни ее сестры. В глазах генерала Киселева Ольга вскоре затмила очарование его молодой жены, и возникший роман шурина со свояченицей превратился в прочную пожизненную связь, разбившую счастье Софьи Станиславовны. В условиях быта маленького городка это не могло долго оставаться тайной, и враги Киселева вскоре воспользовались
64
компрометирующими его слухами для осуществления своих жестоких интриг, угрожавших самой жизни их ненавистного начальника.
Как сообщает его биограф, «Киселев имел во 2-й армии тайных врагов, которые распускали про него сплетни, запутывая в них, между прочим, имя графини Ольги Потоцкой, сестры жены Киселева; сплетни эти доходили до Петербурга, а стало быть и до двора. Не довольствуясь этим, враги искали случая устроить скандал, который, компрометируя Павла Дмитриевича, заставил бы его удалиться из армии».40
Случай вскоре представился. Против командира Одесского пехотного полка подполковника Ярошевицкого, человека грубого и злого, составился заговор офицеров. По выпавшему жребию штабс-капитан Рубановский на инспекторском смотру в присутствии начальника дивизии генерал-лейтенанта Корнилова намеренно вызвал к себе резкие замечания Ярошевицкого и в ответ на них стащил его с лошади и избил до крови. Рубановский был разжалован и сослан на каторгу. Следствие обнаружило при этом неправильные действия бригадного командира генерал-майора Мордвинова, который знал о заговоре офицеров Одесского полка, но не принял никаких мер к его пресечению. Киселев удалил Мордвинова с его поста. Этим воспользовались враги начальника штаба, которые убедили отстраненного генерала потребовать сатисфакции от Киселева. Тот принял вызов, и дуэль состоялась 24 июня 1823 года в местечке Ладыжине в 40 верстах от Тульчина, на восьми шагах расстояния. Мордвинов был ранен в живот и к утру скончался. Пуля его пролетела у самого виска Киселева, не задев его.
Это событие раскрывает нам и отношение молодой Киселевой к мужу в первые годы их брака. В день дуэли, отговорившись неотложной служебной поездкой, Киселев нежно простился с женой, ни о чем не подозревавшей.
«Наступил вечер, собрались гости, загремела музыка и начались танцы, — рассказывает в своих воспоминаниях Басаргин. — Мне грустно, больно было смотреть на веселившихся и особенно на молодую его супругу, которая так горячо его любила и которая, ничего не зная, так беззаботно веселилась». Но в полночь поднялась тревога. «Подъезжая с Киселевым к Тульчину, мы встретили жену в дрожках, растрепанную и совершенно потерянную. Излишним нахожу описывать сцену свидания ее с мужем».41
1 ноября 1823 года Ольга Потоцкая обвенчалась со Львом Александровичем Нарышкиным, кузеном М. С. Воронцова; она поселилась в Одессе. В ноябре — декабре этого года у нее гостят Киселевы. Как раз в это время, осенью 1823 года, Пушкин заканчивает в Одессе «Бахчисарайский фонтан».42 В эти месяцы пишутся знаменитые строки, которые сам поэт называл «любовным бредом».
Пушкин с весны 1819 года стремится из Петербурга в Тульчин, а в свои южные годы посещает дважды этот дальний украинский городок. Согласно новейшим разысканиям, он был здесь в начале 1821 года, на что есть указание в записках Басаргина («В Одессе <в 1823 году> встретил я также нашего знаменитого поэта Пушкина... Я еще прежде этого имел
65
случай видеть его в Тульчине у Киселева»),43 и, видимо, в ноябре 1822 года, на что указывал уже П. И. Бартенев в работе «Пушкин в южной России». Автор новейшей статьи на эту тему Т. П. Ден объясняет это влечение поэта в Тульчин намерениями его: 1) поговорить с Киселевым об устройстве на военную службу брата Льва, 2) побеседовать с начальником штаба об арестованном Владимире Раевском, 3) попрощаться с уезжающим за границу Киселевым, 4) встретиться с К. А. Охотниковым.44 Всё это не более как гипотезы чересчур гадательные и малоубедительные. Слишком предположительны и заключения: «Пушкин должен был хотеть видеть (!) и Пестеля и Киселева. Видел ли он их — мы не знаем» и т. д.45
Но есть реальные факты, проливающие свет на этот эпизод южной биографии Пушкина. Тульчин был родным городом Софьи Потоцкой и владением ее родителей: здесь находились два знаменитых замка Потоцкого-Щенсного, напоминавших королевские дворцы, какими мог похвастать не каждый немецкий владетельный герцог. Это была главная резиденция семьи Потоцких, откуда члены ее лишь на время выезжали в Петербург и другие места России. Это было основное место жительства Софьи Станиславовны Потоцкой, которая с лета 1821 года поселилась в нем уже как жена начальника штаба второй армии, чья главная квартира находилась в ее родном укрепленном бурге, где в польскую войну 1794 года стоял с войсками Суворов.
Киселева жила в этом историческом городке, среди ласковой украинской природы,
...там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина —
как вспоминает в своей политической хронике автор десятой главы «Евгения Онегина» (VI, 525). Можно быть уверенным, что его влекли сюда не хлопоты о военной карьере Льва Сергеевича и не потребность проститься перед долгой разлукой с Киселевым, которого он терпеть не мог. Их личные отношения были сдержанно неприязненны. Уже в 1819 году Пушкин пишет в послании к одному из лучших друзей Киселева Михаилу Орлову по поводу своих стремлений на военную службу:
На генерала Киселева
Не положу своих надежд...
Поэт признает его прогрессивный образ мыслей и ораторский дар,
Но он придворный: обещанья
Его не стоят ничего.
(II, 1, 85).
Киселев в свою очередь не переносит Пушкина. Начальник штаба второй армии мог считать автора ноэлей и «Вольности» неподходящим кандидатом в вверенные ему войска и не собирался осуществлять великосветских вежливостей, вероятно оброненных на запросы поэта.
Но это была не единственная причина вражды Пушкина к блестящему фавориту фортуны на всех поприщах жизни. В 1823 году «дуэль Киселева
66
с Мордвиновым очень занимала его, — рассказывает И. П. Липранди, — в продолжение нескольких и многих дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других, что на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения и т. п.? Он предпочитал поступок И. Н. Мордвинова, как бригадного командира, вызвавшего лицо выше себя по службе». Липранди и кишиневский приятель Пушкина Н. С. Алексеев высказывались за Киселева, но не могли переубедить поэта. «Пушкин не переносил, как он говорил, „оскорбительной любезности временщика, для которого нет ничего священного“».46 Это предвещает отчасти отношение Пушкина к М. С. Воронцову, о котором он отзывался через год в сходных выражениях.
Но в феодальных замках Тульчина Пушкин имел и дружескую душу. Упоминания его имени в письмах Киселевой немногочисленны, но всегда значительны. Они свидетельствуют о симпатии и уважении. Так, в письме к мужу в Петербург от 21 марта 1827 года Софья Станиславовна сообщает о своих чтениях и просит доставить ей ряд интересующих ее книг: «Apporte aussi les deux nouveaux romans de Walter Scott et quelques Poésies russes de Pouchkin comme par exemple le Bakchisaraiski fontan — Onéguin — sa nouvelle Tragédie et si vous le voyez dites-lui que j’apprends le russe pour lire ses vers».47 Последняя фраза — чрезвычайно лестный привет поэту.
Весьма знаменательно, что список творений Пушкина здесь возглавляет «Бахчисарайский фонтан», очевидно особенно интересующий корреспондентку. Другие южные поэмы даже не упомянуты, заглавие «Евгения Онегина» дано в сокращении, титул «трагедии» и вовсе не приводится. Но поэма о Марии Потоцкой названа полностью в ее точном русском заглавии и лишь в его латинской транскрипции. Не дозволительно ли видеть здесь подтверждение того, что было нам и раньше известно со слов самого Пушкина (необходимость предисловия к поэме в честь Софьи Киселевой), т. е. участие этой девушки в создании знаменитой «крымской поэмы», которая поэтому особенно и влечет ее к себе.
Следующее упоминание о Пушкине в этих письмах относится к лету 1828 года, когда уже идет турецкая война. Короткий вопрос корреспондентки полон тревоги и поистине мог бы порадовать ее тайного поклонника: «Odessa, le 22 juin 1828. Dis moi si Pouchkin est effectivement à l’armée, comme on le disait».48
67
Отношение Киселевой к Пушкину было, видимо, иным, чем предполагал сам поэт, которому оставались неизвестны эти явные знаки искреннего сочувствия и душевного внимания к его личности и творчеству.
Несколько позже она выказала и свое верное понимание трагической судьбы русского поэта. Когда в 1845 году был арестован и сослан брат Киселевой Мечислав Потоцкий, она самовольно приехала в Россию хлопотать о его освобождении, но была выслана за свои известные выступления против петербургских властей и за связи с революционной Польшей. Возмущенная действиями III Отделения и беззаконными методами николаевского правительства, она пишет мужу о своем душевном потрясении и вспоминает по этому поводу стихи Пушкина: «Je me sens toute brisée, rompue... je ne respire plus librement, mon someil est un cochemar continuel et je pense souvent... aux vers de Pouchkin qui étouffe et qui demande à respirer l’air des bois».49
4
Семейная жизнь Киселевых слагалась неудачно. В 1822 году у них родился сын Владимир, скончавшийся в двухлетнем возрасте. Других детей они не имели. Расхождение супругов в области их политических симпатий и убеждений не переставало углубляться. Канун 14 декабря неуклонно и остро ставил ряд важнейших общественных и государственных вопросов, разводивших близких людей в противоположные стороны. Супруги Киселевы не находили общих путей в напряженной атмосфере последних лет царствования Александра I. Это вносило всё большее охлаждение в их личные отношения.
Тульчин был центром южного декабризма. При штабе Киселева, в руководимой им армии служили виднейшие из деятелей движения — П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский и менее известные — И. Г. Бурцев, Н. В. Басаргин, А. П. Юшневский. Из таких культурных представителей военной молодежи составлялось общество Киселевых. Интересно свидетельство одного из этой славной плеяды — Сергея Григорьевича Волконского, который зимой 1819 года на киевских контрактах познакомился «с семейством графини Потоцкой-Тульчинской». «Я был приглашен, как и многие другие, посетить Тульчин во время обычного туда съезда на маслянице, — вспоминает он в своих записках. — Это пребывание в Тульчине ввело меня в круг людей, мыслящих и мечтавших о преобразовании политического внутреннего быта в России. Эти мечты нашли теплый отголосок и в моих чувствах и думах».50 Волконский вступает в Союз благоденствия.
По-иному относился к оппозиции и революции Киселев. Чуждый всякого радикализма, верный слуга царизма, он был лишь противником эксцессов реакции — «аракчеевщины», но оставался несомненным консерватором с претензией на некоторый западноевропейский либеральный оттенок своей охранительной программы. Характерно его письмо к Михаилу Орлову о бесплодности народных движений: ведь французская революция привела к тирании Наполеона, ведь мятежи ведут лишь к усилению самовластия. «Оставь шайку крикунов и устреми отличные качества свои
68
на пользу общую», т. е. на государственную службу. Один намек в этом письме явно метит в поэта-вольнодумца Пушкина:
«Я знаю, что мысли мои с духом времени не сходны..., что ряд пылких учеников лицея и громада тунеядцев московских провозгласят <меня> недостойным гасителем; другие назовут рабом власти, но я суждения их презираю и мыслей своих не переменю».51
Следует всё же отметить, что Киселев проводил в армии передовые мероприятия — отмену телесных наказаний, повышение грамотности. Он был противником крепостного права как института, порочащего честь российской государственности и накопляющего порох для народной революции, но считал, что оно подлежит отмене лишь путем медленной правительственной реформы, прежде всего в интересах власти и дворянства.52
В совершенно других направлениях развивалась мысль Софьи Станиславовны. Ее с юных лет интересовали поэты — Вяземский, Пушкин, несколько позже Мицкевич. Как польская патриотка, она не питала никакой «верноподданности» к русскому самодержавию. У нее вырабатывалось свое отношение к освободительному движению в среде молодых военных ее круга.
В тульчинской библиотеке П. Д. Киселева наряду с научными сочинениями имелись и передовые мыслители-художники и великие писатели: Плутарх и Ювенал, Рабле, Вольтер и Руссо, Вальтер Скотт и Байрон, Шатобриан и Бенжамен Констан.53 Полагаем, что этим разделом домашнего книгохранилища пользовалась и владелица замка и что многие из этих знаменитых авторов поддерживали и воспитывали в ней идеи справедливости и свободы, которые ощущаются и в ее поздней биографии.
Декабрьское восстание углубило политические разногласия супругов. Оно застало Киселева на высших командных позициях. Полагают, что он не подозревал о существовании тайного общества, но этому трудно поверить: осведомленность начальника штаба армии исключает возможность такого неведения важнейших событий, происходящих в ее рядах и угрожающих государственному строю. Естественнее предположить, что он до времени молчал, как это делала и петербургская власть. Активность в этой сфере вызвали, как известно, только декабрьские события 1825 года.
Адъютант Киселева, декабрист Басаргин, возвратился из отпуска на место службы в Тульчин 27 декабря 1825 года. По пути он узнал в Москве о смерти Александра I, а в Могилеве — о восстании в Петербурге. В Бердичеве Басаргин встретился с арестованным Пестелем. Явившись к Киселеву, он услышал: «Вы принадлежите к тайному обществу... Правительству всё известно». «В гостиной, — продолжает мемуарист, — я застал одну его супругу». Киселевой уже была указана мужем ее позиция в развертывающихся важнейших событиях. «Господин Басаргин, — взволнованно сказала она, — вам хорошо известна моя симпатия к вам; итак, вам необходимо принять решение о вашей участи. Я присутствовала при всех
69
объяснениях мужа с генералом Чернышевым; и я могу уверить вас, что все желающие для себя спасения должны только броситься к ногам императора и открыто признаться в своей принадлежности к тайному обществу. — „Сударыня, — отвечал я, — вы мне советуете сделать то, что противоречит моей совести и что я считаю низостью“. — „Я ожидала такого ответа от вас,—сказала она, — вы погибнете, но погибнете, как человек чести и, поверьте, мое уважение к вам только возрастет от этого“».54
Связь южных декабристов с польскими тайными обществами вызывала к их деятельности симпатию таких патриотов Польши, как Софья Киселева (о чем имеется ряд свидетельств в ее письмах). Отсюда углубление ее политических разногласий с мужем. Русский генерал не мог снести, чтоб его жена общалась с польскими инсургентами. «Я не создан, чтобы... в моей домашней жизни препираться о политических мнениях», — писал он в начале 30-х годов. С. С. Киселева объясняла причины своего политического настроения тем, что «она полька и забыть этого не может».55
Но на разрыв с мужем она всё же не хочет идти и, видимо, всячески стремится спасти их отношения. Характерен и полон драматизма документ, выданный ею мужу 20 ноября 1834 года: это — обязательство С. С. Киселевой предоставить Павлу Дмитриевичу полную свободу, если в течение двух лет не состоится их примирение. Позиция мужа непоколебима, но жена продолжает надеяться.
Ни одной из ее иллюзий не суждено сбыться. Все они разбиваются о суровый характер ее мужа. М. А. Корф (товарищ Пушкина по лицею), признававший большие государственные дарования П. Д. Киселева, отказывал ему в общечеловеческой способности к простым и добрым чувствам. В его характеристике Киселев — человек бессердечный, не способный кого-либо любить. Мозг заменяет ему сердце. Единственные пружины его деятельности — «ум, честолюбие и расчет».56
Это сказалось полностью в его отношениях к жене. Временные разлуки сменяются полным разрывом. Софья Станиславовна покидает Россию и поселяется навсегда за границей.
В эти годы Киселев делает блестящую государственную карьеру. В 1837 году он назначен министром государственных имуществ и приступает к реформе состояния казенных крестьян, подготовляя отмену крепостного права.57
В 1832 году с Киселевой встречается в Мариенбаде Александра Осиповна Смирнова-Россет, т. е. пушкинская «черноокая Россети» (III, 1, 225). В своих воспоминаниях она рассказывает: «Киселева была давнишней приятельницей моей матери. Она меня очень полюбила и поведала мне все свои горести».58 Разрыв с мужем она объясняла его неверностью. Некоторые сообщения старинной приятельницы Пушкина представляют интерес и для его биографии. Так, она пишет по поводу П. Д. Киселева и его
70
жены: «Я была хорошо осведомлена об этой замечательной семье. Я знала от Пушкина, что у него <П. Д. Киселева> был брат, по имени Сергей, который был женат на хорошенькой барышне из Москвы, по фамилии Ушакова. Они жили на Арбате... Я не знала, что у Киселевых был еще третий брат и что от этого брата будет зависеть моя судьба».59
В то время московская приятельница Пушкина Елизавета Николаевна Ушакова была невестой второго брата П. Д. Киселева — Сергея Дмитриевича, за которого вскоре и вышла замуж. Она была обладательницей альбома, в который Пушкин в 1829 году внес перечень имен девушек и женщин, которыми увлекался. Отметим, что в списке имеется и имя Софья. Эту запись относили к Софье Пушкиной, но полагаем, без достаточного основания и едва ли не потому, что Софья Киселева по явному недосмотру не входила в кругозор биографов Пушкина.
В начале 30-х годов разрыв Киселева с женой становится окончательным. С. С. Киселева живет в Париже, бывает в Гамбурге, Баден-Бадене, Мариенбаде, Риме, Вене, Ницце, совершает поездку в Палестину, иногда приезжает в Россию, навещает родные юго-западные поместья, бывает и в любимом Крыму (например, в августе 1846 года). Ее путешествия по столицам мира и модным курортам Европы кажутся метаниями тоскующей души, нигде не находящей себе места.
Отношений с О. С. Нарышкиной Софья Киселева не прекратила. По свидетельству А. О. Смирновой-Россет, они продолжали встречаться. Глубокую рану, нанесенную ей сестрой, Киселева стремилась простить, ценя желания Нарышкиной загладить свою вину. «Ольга поднесет вам яду и сама же будет бегать за противоядием», — говорила она Смирновой.60
По письмам Александра Тургенева и другим свидетельствам современников мы знаем, что С. С. Киселева живо интересовалась общественной и культурной жизнью Парижа. Она следила за крупными процессами и «целые дни и ночи просиживала в Palais de Justice».61 Она знакомится с знаменитостями Франции, и в частности с Бенжаменом Констаном, которым интересовалась в молодости. Через французского посла в России барона Баранта она посылает Вяземскому сборник стихотворений Виктора Гюго «Les Crépuscules».61
Основным духовным содержанием жизни Киселевой остается любовь к Польше и мечта о ее освобождении. «Перейдя границу, — писал Герцен, — поляки, вопреки Дантону, взяли с собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету».62 Софья Киселева в меру сил участвовала в этом движении. Величайший среди изгнанников Мицкевич бывает у этой энтузиастки польского возрождения. Брат П. Д. Киселева, Николай Дмитриевич, служивший в 30—40-е годы в русском посольстве в Париже, говорил Смирновой-Россет: «Мицкевич теперь в Париже, и мы можем его встретить у Софьи Станиславовны. У нее собирается вся польская эмиграция».63
71
Но около 1846 года происходит размежевание внутренних сил зарубежной Польши, и Киселева отходит от группы политических изгнанников, объединившихся вокруг Мицкевича и Товянского. Когда же началось польское восстание 1863 года, Софья Станиславовна, которой шел уже седьмой десяток, собралась ехать в Краков, чтоб принять участие в происходивших событиях.
Так же сочувствует она и проявлениям национального освободительного движения в других странах. Она восторженно встречает июльскую революцию и с восхищением пишет в своих письмах из Парижа о баррикадных боях 1830 года. Воцарившийся «король-буржуа» Луи-Филипп и всё его правительство вызывают ее резкие оценки.
Личная жизнь Киселевой остается безотрадной и одинокой. Разрыв с мужем растет и углубляется, несмотря на ее неизменную преданность любимому человеку. Яркий эпизод, характеризующий верность Киселевой своему чувству, произошел уже после многих лет ее разлуки с П. Д. Киселевым. 16 мая 1846 года он получил пакет с кредитными билетами на сумму 138 996 руб. и с анонимной запиской, в которой эта сумма называлась возвращением долга. Автор в свое время якобы помешал Александру I наградить Киселева и стремится через двадцать пять лет искупить свою вину возмещением ему отнятой когда-то суммы.
Начальник III Отделения А. Ф. Орлов, как и сам адресат этой наградной грамоты, пришли к заключению, что деньги посланы Киселеву его женой, которая избрала такой тонкий способ, чтобы отблагодарить мужа за бескорыстие, какое он проявил к ней в момент их разрыва.64 Анонимный дар политического врага выражал на самом деле благодарность неизменно преданной женщины.
5
1 июля 1856 года граф Киселев (получивший этот титул в 1839 году) был назначен послом в Париж. В разговоре с Александром II он, между прочим, сообщил, что считает свое семейное положение и отношение к жене несогласными с высоким званием представителя великой державы.65 16 июля он писал своему брату Николаю Дмитриевичу: «Одно из самых щекотливых затруднений для меня это пребывание в Париже Софьи, с ее надменным и иногда отважным характером; я опасаюсь столкновений, которые, при моем официальном положении, могут быть более чем неприятны. После 25 лет разлучения всякое сближение между нами невозможно и я решительно его не хочу». Киселев поручил передать своей жене: «...всякий шум с ее стороны не по времени..., если она не хочет сообразоваться с моими мнениями, я буду обязан предоставить правительству принять меры, которые мне были предложены (отказ в паспорте для пребывания ее во Франции)».66 Отношения, как видим, настолько обострились, что Киселев не гнушается угрожать жене административной высылкой за пределы Франции.
В 1860 году она написала и собиралась публиковать во французской печати резкий политический памфлет, направленный против царского правительства
72
по поводу ссылки ее брата Мечислава Потоцкого.67 Узнав об этом, Киселев составляет целый меморандум, протестуя против такого выступления своей бывшей жены, компрометирующей его как представителя Российской империи во Франции.
Мы приблизились к эпилогу жизни сестер Потоцких и любимого ими человека.
Ольга Нарышкина овдовела в 1846 году. Она поселилась в семье своей единственной дочери — графини Софьи Львовны Шуваловой. В конце 50-х годов Нарышкина уехала за границу, очевидно для последней встречи с П. Д. Киселевым. Она умерла в Париже 7 октября 1861 года. По свидетельству А. П. Заблоцкого-Десятовского, «граф Киселев... был очень опечален кончиною Ольги Станиславовны Нарышкиной, с которою он был в самых дружеских отношениях около 40 лет. Когда она приехала из Гейдельберга в Париж, Павел Дмитриевич посещал ее каждый день. Он был у ней за час до ее кончины, и последние обращенные к нему слова ее... долго не могли изгладиться из его памяти. Кончина эта очень расстроила графа».68
Чувствуя свои силы подкошенными и расходясь в своих франкофильских воззрениях с Александром II и новым вице-канцлером Горчаковым, сторонниками прусской ориентации, Киселев в 1862 году подает в отставку. Он решает не возвращаться в Россию и поселяется навсегда в Париже.
В последнее десятилетие своей жизни он живет на покое, встречаясь со своим стариннейшим знакомцем по родной Москве Николаем Тургеневым, следя издалека за проведением крестьянской реформы, к участию в которой он не был призван, хотя считал себя до конца ее провозвестником и первым деятелем.
П. Д. Киселев умер 14 ноября 1872 года в возрасте восьмидесяти четырех лет. На отпевание его собралась вся парижская колония русских аристократов и несколько знаменитостей французского политического мира. Тело его погребено в Москве.
Его жена, до конца сохранявшая свое супружеское звание, несмотря на сорокалетний разрыв с мужем, скончалась 2 сентября 1875 года в Париже в своей квартире (улица Прессбурга, 1) в возрасте семидесяти четырех лет, видимо в полном одиночестве. Свидетельство о смерти Софьи Станиславовны Киселевой не называет никого из ее родственников, кроме давно скончавшейся матери.69
Такова была эта долгая, незаметная и горестная жизнь. Она была бы забыта навсегда, если бы ее не озаряла ранняя встреча Софьи Потоцкой с Пушкиным, посвятившим ей одну из своих самых оригинальных элегий, в которой прорывается сквозь улыбчивую интонацию интимной беседы мучительная мольба поэта, вскоре прозвучавшая со всей силой в его третьей южной поэме.
Это дает нам основание пересмотреть и наново поставить вопрос об источниках «Бахчисарайского фонтана» и его затаенном автобиографическом смысле.
73
Глава вторая
Какое же «преданье старины», связанное с «фонтаном слез», узнали «Младые девы в той стране», сестры Потоцкие, в столице ханского Крыма, притом не позже лета 1817 года, т. е. перед наступлением того петербургского трехлетья Пушкина, когда он сам услышал от одной из них эту поэтическую быль?
Таков вопрос о первоисточнике «Бахчисарайского фонтана», подлежащий нашему рассмотрению.
1
Когда вскоре после падения татарского ханства в Крым приехала одна английская путешественница, некая миледи Крэвен, она посетила столицу низложенных Гиреев и остановилась в их дворце.
«Я увидела из моих окон здание вроде часовни, вызвавшее мое любопытство, — сообщала она в своем письме из Бахчисарая 8 апреля 1786 года, — мне объяснили, что это был памятник, воздвигнутый ханом своей супруге-христианке, которую он любил так нежно, что был безутешен, потеряв ее; он поместил здесь ее гробницу, чтобы чаще видеть место, в котором были заключены эти дорогие для него останки. Я вывела отсюда заключение, что этот татарский хан обладал сердцем, достойным любви».70
Так впервые зазвучала тема, которая через четыре десятилетия воплотится в великую лирическую поэму Пушкина.
Ученые муллы и грамотеи-татары, разъяснявшие почетным посетителям хан-сарая его исторические реликвии и арабские надписи, называли и имя того мусульманского повелителя и воинствующего провозвестника ислама, который воспылал страстью к «гяурке» и возвел эту «нечестивую» в ранг своих жен.
Это был один из последних крымских ханов, которого хорошо помнили его недавние верноподданные — проводники по дворцу. Звали его Керим-Гиреем. Пушкин несомненно знал его бурную и трагическую биографию.
В 1758 году этот молодой султан был впервые опоясан ханским мечом. По рассказу французского посланника при крымском дворе барона Ф. Тотта, Керим-Гирей любил искусства и науки. Большой оркестр и целая труппа комедиантов с танцовщицами разнообразили по вечерам его развлечения. Он интересовался Мольером и расспрашивал о нем Тотта, охотно беседовал на философские темы. «Я должен признать дарования и ум этого правителя, — замечает французский посол, — ибо я не раз слышал его рассуждения о действиях различных климатов на человека, о злоупотреблениях свободой, но и о преимуществах ее, о принципах чести, о государственных законах и девизах — и всё это в той манере, которая оказала бы честь самому Монтескье».71 По свидетельству историка Таврии С. Сестренцевича-Богуша, хан имел познания в астрономии, физике и фортификации. Он любил роскошь и проявлял щедрость.72 Хвалебные надписи на карнизах золотого кабинета прославляют его за восстановление ханского дворца и обогащение города новыми водными притоками. По
74
разысканиям русского ориенталиста 40-х годов Ф. М. Домбровского, Керим-Гирей готовился к освобождению полуострова из-под власти Оттоманской Порты. За это он был лишен стамбульским диваном ханского престола в 1764 году и сослан на остров Родос. Война Турции с Россией освободила его из заточения. Как отличный полководец, он снова возводится на крымский престол в 1768 году. Он одерживает ряд побед, опустошает Новую Сербию и сжигает крепость св. Елизаветы. Но Оттоманская Порта продолжает опасаться хана, мечтавшего о независимости Крыма. К нему был подослан в Бендеры в 1769 году врач, политический агент валашского князя, грек Сирополь, который под видом лечения отравил «великого хана».73
Этот идеализированный образ не во всем соответствовал действительности. По известному исследованию Сестренцевича, Керим-Гирей был вспыльчив, гневен и мстителен. Он вел жестокие войны. Как сообщал 7 октября 1764 года московскому правительству российский резидент при крымском дворе Никифоров, хан производил для себя строительные работы руками своих подданных, которым «ни единой аспры» за то не платил, захватывал силой рабов и невольниц, от Польской республики угрозами и вымогательством получал многие тысячи.
Драматичной была и личная жизнь этого знаменитого стратега и дипломата. Обычно романическая биография повелителей Тавриды исчерпывалась их гаремом. Но Керим-Гирей испытал великую и печальную любовь. В свое первое ханство между 1758 и 1764 годами он полюбил пленницу своего гарема — девушку-христианку. Устные предания называют различно ее национальность — то как грузинку, то как польку. Ученые склоняются к первому свидетельству, поэты — ко второму. Как записал в 1820 году в своих путевых письмах И. М. Муравьев-Апостол, «новая Заира, силою прелестей своих, она повелевала тому, кому всё здесь повиновалось; но не долго: увял райский цвет в самое утро жизни своей, и безотрадный Керим соорудил любезной памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешаться слезами над прахом незабвенной».74
Предание и гробница неизменно привлекали внимание путешественников и археологов с конца XVIII века. Знаменитый Паллас описал нарядный мавзолей со сводом в форме купола, увенчанного золотым шаром, воздвигнутый «доблестным ханом» в память своей супруги. Паллас называет ее грузинкой.75
Имя ее было начертано в мемориальной надписи этой «ротонды», или «тюрбе»: «Молитву за упокой души усопшей Дилары-бикечь». Это было восточное наименование. По-турецки Дилара — услаждающая душу, бикечь — княжна (от бек — князь). Но это обозначение могло идти от завоевателей-татар и заменять ее настоящее польское имя; титул же, видимо, верно передавал ее подлинное звание. Пушкин называет ее «польской княжной».
Путешествовавший почти одновременно с нашим поэтом по Крыму И. М. Муравьев-Апостол записал показания ученых мулл, но прислушался и к народной молве о любви хана к его погибшей супруге. «Странно очень, — писал он в своем «Путешествии», — что все здешние жители
75
непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек, все доводы мои остались бесполезными: они стоят в одном: красавица была Потоцкая».76
Так официальной версии противостояла народная молва; свидетельство надписей опровергалось фольклором. В историю династии проникала народная легенда, имеющая свои права на существование, свое углубленное внутреннее значение и художественную красоту.
Муравьеву-Апостолу возражал Мицкевич: «Не знаем, на чем он основывает свое мнение, — писал он в примечании к своему сонету «Могила Потоцкой», — ибо утверждение его, что татарам в половине XVIII столетия не легко было бы захватить невольницу из рода Потоцких, неубедительно. Известны последние волнения казаков на Украине, когда немалое число народа было уведено и продано соседним татарам. В Польше много шляхетских семейств, носящих фамилию Потоцких, и невольница могла и не принадлежать к знаменитому роду владетелей Умани, который был менее доступен для татар и казаков».77
У гробницы Дилары был воздвигнут по мусульманскому обычаю памятный фонтан. «Владыки Крыма и по смерти хотели у гробов своих иметь журчащую воду», — сообщает исследователь таврических древностей.78 Источник струился и бил здесь двадцать пять лет. Но с иссякновением питавшего его горного ручья его мраморная облицовка с надписями была перенесена в 1787 году, т. е. перед самым приездом Екатерины, в маленькую аванзалу дворца и вделана в новое основание. Это и был фонтан, прославивший Бахчисарай. Он был построен в 1176 году геджры, т. е. в 1763 году. Надписи в кабинете хана и на фонтане прославляли Керим-Гирея за его дворцовое строительство и гидротехническое искусство:
«Смотри! этот увеселительный дворец, созданный великим умом хана, оправдывает мою хвалебную песнь.
«Это здание, подобно солнечному сиянию, озарило Бахчисарай...
«Окрест дворца свежие лилии, розы, гиацинты. Сад, разумно расположенный, словно изъясняется живой речью. Новая мысль эта расцвела в цветнике души Крым-Гирея...
«Его заботами открыт этот прозрачный источник вод. Видели мы Дамаск и Багдад, но нигде не встретили подобного фонтана».79
76
С первого взгляда этот памятник любви мог смутить юных зрительниц из рядов нового романтического поколения.
Это не был сноп струй, устремленный ввысь и рассыпающийся брызгами над широким бассейном. Приземистое и грузное сооружение, напоминающее камин, было вделано в стену полутемного крытого дворика, как небольшая молельня или усыпальница. Оно было сложено из простого камня и окрашено в темную краску. Но спереди этот странный монумент включал в свой мраморный фасад целую систему миниатюрных консолей, по которым из-под каменной розы тонкими струйками стекала вода на низлежащие выступы, образуя бесконечную водяную вязь и вызывая образ вечного плача. Символ неиссякающей любви возвещал своим кристальным узором о безысходности человеческой тоски по утраченному любимому существу. Таков был этот мавзолей, носивший попеременно несколько наименований: Сельсебийль, или райский источник, фонтан слез и водомет Марии Потоцкой.
Пушкин называл его фонтаном уединенным, фонтаном печальным, даже «мрачным памятником», но в то же время и фонтаном любви и ключом отрадным, журчащим поэту свою таинственную быль.
О чем же поведал певцу «Руслана» этот живой мемориал Гиреевой скорби?
2
«Предание, известное в Крыму и поныне, служит основанием поэме, — писал в 1823 году Вяземский, несомненно услышавший крымскую легенду, как и сам Пушкин, от Софьи Киселевой. — Рассказывают, что хан Керим Гирей похитил красавицу Потоцкую и содержал ее в Бахчисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан с нею».80
Из известного рассказа Пушкина явствует, что Потоцкая сообщила ему и окончание легенды — о гибели героини и об отчаянии ее супруга, который «в память горестной Марии Воздвигнул мраморный фонтан, В углу дворца уединенный» (IV, 169).
Этот уникальный памятник с его необычайным устройством и аллегорическим смыслом был описан Софьей Потоцкой друзьям-поэтам — Пушкину, Вяземскому, Мицкевичу.81 Она называла его «источником слез». Начало поэмы Пушкина (влюбленность хана в польскую пленницу) и финал драмы (смерть Марии, в память которой был сооружен мавзолей из горных вод) соответствуют рассказу девушки. «Как бы то ни было, сие предание есть достояние поэзии..., — продолжает Вяземский, — и наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии бахчисарайское предание и обогатив его правдоподобными вымыслами».82
77
Таков был первоисточник поэмы, зарождение «Бахчисарайского фонтана», момент переключения народного сказания в новое искусство лиро-эпического повествования. Но это произошло не сразу и потребовало для своего завершения нескольких лет. В первый же момент Пушкин был глубоко взволнован этим преданием о любви и смерти:
Мне стало грустно, пылкий ум
Был омрачен невольной думой,
Но скоро пылких оргий шум
[Развеселил мой сон] угрюмый...
*
О возраст ранний и живой,
Как быстро легкой чередой
Тогда сменялись впечатленья:
Восторги — [тихою] тоской,
Печаль — порывом упоенья!
(IV, 401—402).
Но не ликование пиршеств и не вихрь сменяющихся впечатлений помешали Пушкину взяться в 1818 году за разработку поэмы. Ему мешало другое: отсутствие цельного душевного опыта для творческой разработки такой темы и незнакомство с верным жанровым ключом для ее поэтического оформления. Возникшее чувство к Софье Потоцкой еще не развернулось и не завершило цикла своего драматического развития. Работа над «Русланом и Людмилой» еще ограничивала понимание жанра поэмы традиционными законами ариостовой эпопеи или вольтеровой сатиры, совмещавших «достоинство» и «шутливость», великолепное и забавное.
Но пройдет всего год или два, и эта стадия его внутреннего роста сменится другой. Любовь его станет «отверженной и вечной», вынужденная разлука оборвет личные отношения или же сделает их случайными и редкими, обручение и замужество героини закроет все перспективы и убьет последние надежды.
Одновременно в творческой эволюции поэта произойдет глубокий кризис. Летом 1820 года он прочтет на Кавказе с Николаем Раевским «Чайльд-Гарольда», а в Крыму в обществе его сестер — ряд других поэм Байрона — «Корсара», «Гяура», «Абидосскую невесту», «Осаду Коринфа», «Лару», «Шильонского узника», «Паризину» и «Мазепу». Это и вызовет целый переворот в его мировоззрении, поэтике и творчестве. Байрон окажется таким же событием этого памятного лета, как Эльбрус и Черное море.
Новейшая короткая трагическая поэма о страсти и смерти, о гибели героини и отчаянии героя, о могучей, всепобеждающей силе любви откроет неведомые горизонты. Пушкин говорил впоследствии Мицкевичу, что, прочитав «Корсара», он стал поэтом. Байроническая повесть обращала от нескончаемой цепи приключений к сосредоточенной внутренней драме. Трагический фрагмент о душевном взрыве был целым откровением для выученика классицистов с их планомерной и расчисленной поэтикой. Вековые навыки и каноны смещались и рушились. Байронизм был величайшим землетрясением в поэтическом сознании человечества. Байрон с его «преувеличенной экспрессивностью в описаниях» стремится, по словам В. М. Жирмунского, и в изображении душевных состояний «к лирической эмфазе и гиперболе». «Если изображается любовь, поэт настаивает на том, что это любовь всепоглощающая, бесконечно страстная, единственная; если ненависть, то — непримиримая и губительная».83
78
Это особенно сказалось на тех поэмах, которыми Пушкин увлекся летом 1820 года. «Корсар» — история исключительной любви Конрада к Медоре и бурной страсти Гюльнары к самому пирату. «Гяур» — повесть о безудержном увлечении Лейлы чужеземцем и о мести ее оскорбленного мужа, погибшего в борьбе с соперником. «Абидосская невеста» — рассказ о несчастной влюбленности турецкой девушки Зюлейки в юношу Селима, которого она ошибочно считает своим братом. Но страсть к нему бурно перерастает нежность сестры и ведет к гибели обоих. Трагизм «Лары» — в таинственной вине героя перед женщиной, которую он любил высочайшей любовью, доступной лишь избранникам, но за которую его возлюбленной пришлось уплатить жизнью. Наконец, «Паризина» воссоздает фрагмент из итальянской хроники XV века о связи молодой супруги старого феррарского герцога с его побочным сыном, за что по приказу оскорбленного мужа оба любовника были обезглавлены. В поэме звучит апология могучего чувства, осужденного лицемерной моралью за его «преступность»:
И что для них весь мир вокруг
Со сменой снов, минут и мук?..
Их вздох таит такую страсть,
Что, если б длилась без конца, —
Безумного восторга власть
Сожгла б счастливые сердца.
Что им опасность, что вина
В смятеньи сладостного сна?84
Так раскрывался новый тип поэмы — сжатая повесть о всепоглощающей страсти в ее неисследимых психологических глубинах и предельной словесной напряженности.
Жанр замечательно отвечал внутренней настроенности и творческим поискам Пушкина. Не удивительно, что он с таким восхищением писал о «пламенном изображении страстей» в «Гяуре», о «трогательном развитии сердца» в «Осаде Коринфа» и «Шильонском узнике», о «трагической силе» «Паризины», которую он ставил выше расиновой «Федры» по непосредственному выражению могучей силы чувств (XI, 64). В пору своей душевной драмы — «Любви таинственной, унылой» (IV, 398), Пушкин высоко оценил ведущую тему байронической поэмы — безграничную и безысходную любовь, полную бунтарства и неуклонно устремляющую судьбы героев к финальной катастрофе.
На этой основе, столь соответствующей новым духовным запросам поэта в начале 20-х годов, он и строил свои южные поэмы: в центре их — гибель влюбленной черкешенки, убийство страстной Земфиры, трагедия двух любовниц атамана (по плану «Братьев разбойников»). Но с наибольшей силой эта тема была им воплощена в «Бахчисарайском фонтане».
3
Пушкин впервые увидел источник Марии Потоцкой 7 сентября 1820 года.
В помещение главного дворцового корпуса вел внутренний дворик, или «фонтанная». Здесь были помещены два водомета с небольшими бассейнами: один — «золотой», названный так по яркой металлической окраске своих плит, другой — «фонтан слез», о котором Пушкин слышал еще в Петербурге как о символическом и легендарном памятнике одной безнадежной любви.
79
Фонтан был испорчен, но в таком виде он наиболее оправдывал свое наименование: вода по капле сочилась и медленно скатывалась с его мраморных уступов, осененная арабскими и турецкими литерами архаических изречений:
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
(IV, 169).
Пушкин любил воспринимать источники задуманных поэм отчетливо и с исчерпывающей полнотой. Он хотел знать смысл непонятных эпитафий, иссеченных на фронтоне мавзолея. Не в них ли разгадка легенды о Марии Потоцкой, оплаканной безутешным ханом? В своем обходе дворца и кладбища поэт несомненно пользовался услугами проводников. Об этом свидетельствует его позднейшая строфа:
Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...
(II, 1, 343).
Вопрошать мрамор Пушкин мог только через своего путеводителя-татарина; прочесть хвалу дальной стране, т. е. Дамаску и Багдаду, поэт мог лишь в устном переводе своего ученого спутника; только от него автор «Бахчисарайского фонтана» мог узнать, что этот ханский памятник польской княжне не называет ее имени. Это была тоже утаенная любовь.
Разгадку предстояло искать дальше. Среди чертогов дворца выделялся своей роскошью «Золотой кабинет», или «Зала Совета», где происходили совещания дивана, приемы послов, аудиенции ханов. Здесь по темному фону карниза змеилась золотящимися турецкими литерами хвала Керим-Гирею, чья «звезда взошла на горизонте славы и осветила целый мир».85 Потолок зала был покрыт вызолоченной решеткой на лаковом грунте густого красного цвета. Вокруг стен были протянуты диваны из шелковых подушек. Именно здесь, по рассказу Пушкина, «Гирей сидел, потупя взор», окруженный своим «раболепным двором» (IV, 155).
За анфиладой палат следовал ряд небольших помещений, получивших впоследствии название «комнат Марии Потоцкой». Они были тенисты и прохладны. Над камином был нарисован крест — вероятно, позднейшее украшение.86 «В горницах было не очень светло, — описывает один из свиты Екатерины II в 1787 году, — так как стекла окон были цветные; но и когда их отворяли, солнце с трудом пробивалось сквозь многочисленные ветви розовых, лавровых, жасминовых, гранатных и апельсиновых деревьев, которые, заменяя жалюзи, обволакивали окна своей листвой».87
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
80
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.88
(IV, 169).
Особенно могла интересовать Пушкина женская темница ханского дворца, где томилась в заточении Мария Потоцкая, — гарем, средоточие бесчисленных и безвестных драм. По мемуарам, путешествиям и исследованиям было известно, что крымские властители «никогда не обременяли себя законными женами, а набирали себе по желанию грузинок и черкешенок..., от которых прижитые сыновья и дочери пользовались титулами султанов и султанш». Многочисленны были здесь и девочки-подростки, не знавшие «ни слова по-татарски».89 Грузинское происхождение Заремы, как видим, исторически достоверная черта, как и затворничество среди одалисок юной польской девушки: «...восточные жители с жадностью ищут себе в жены <славянских> пленниц..., через этот женский элемент мусульманство количественно и качественно усиливалось».90
В сентябре 1820 года по только что прочитанным ранним поэмам Байрона Пушкин почувствовал, какое огромное значение может иметь драматический быт сераля для психологической и сюжетной композиции новейшей повести в стихах. «Показательно, что гарем является местом действия в „Гяуре“, „Корсаре“ и „Абидосской невесте“, причем первые две поэмы изображают трагедию гаремной пленницы (Леила, Гюльнара)».91 В этом смысле характерны «сильные страсти Заремы на ярком фоне ханского Крыма»,92 как и гибель обеих героинь в финале пушкинской поэмы.
Жилой корпус, предназначенный для ханских наложниц, состоял при последних Гиреях из семидесяти комнат. Но ко времени посещения дворца Пушкиным он был почти весь в развалинах. «Время сокрушило узилище», — писал И. М. Муравьев-Апостол.93 От роскошного гинекея остался лишь один маленький домик с семью покоями и воздушный стеклянный киоск с неумолчно журчащим фонтаном. Помещение гарема находилось в дальнем дворе, обнесенном со всех сторон высочайшей стеною. «Судя по этому зданию, должно думать, несчастные затворницы пользовались не слишком просторным помещением и не большим раздольем для прогулок».94 Из этих скудных остатков мрачного «памятника невольничества» предстояло воображению поэта реконструировать «заветную обитель» жен, «где бич народов... В роскошной лени утопал» (IV, 169).
Одним из драгоценнейших памятников татарского Крыма считалось ханское кладбище. Гробницы Гиреев были украшены поэтическими эпитафиями и скульптурными орнаментами. Плиты мужских гробниц венчались изваянной чалмою, женских — клобуком. И здесь, как во всем дворце, древневосточный стиль сочетается с пластическими началами итальянского
81
ренессанса, а кое-где и с элементами рококо. Иссеченные надписи представляли высокие образцы народной поэзии в прославлении воителей и владык, в афоризмах житейской мудрости, в элегических образах восточной фантазии.95
Имелась надпись и на памятнике таврического повелителя, чье имя связывалось преданием с судьбой Марии Потоцкой: «Аллах всегда жив, вечен. Война была ремеслом знаменитого Крым-Гирей-Хана; глаза голубого неба не видали ему равного... Я, Эдиб (имя поэта), с молитвою написал перл его хронограммы: да царствуешь ты, Крым-Гирей, в вечности. 1183 г.» (1769).96
Во многих эпитафиях, как и в этой, называлось имя поэта-автора. На мраморных плитах развертывалась целая антология татарской поэзии с отголосками других национальных мотивов Востока. Не приходится сомневаться, что ученые муллы, сопровождавшие в обходе хан-сарая знаменитого русского генерала с его молодыми любознательными спутниками, переводили и толковали им эти восхваления и раздумья — «Прозрачной лести ожерелья И четки мудрости златой», — как скажет Пушкин в стихотворении 1828 года (III, 1, 129).
В поэме имеется свидетельство об интересе поэта к поэтическим эпитафиям:
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
(IV, 170).
Пушкину раскрылся в этой внятной каменной молве особый мир высших художественных ценностей — искусство ритмической речи татарских поэтов в их перекличке с знаменитыми лириками Персии, Индии, Аравии.
Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.
Его рассказы расстилались,
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры.
(III, 1, 129).
Это был поздний отголосок художественных восприятий поэта в день 7 сентября 1820 года, запечатленных в поэме о Марии Потоцкой, в посвящении «Фонтану бахчисарайского дворца» и, наконец, в наброске 1828 года о сладкозвучном восточном песнопевце, удивлявшем Бахчисарай «Стихов гремучим жемчугом» (III, 1, 129).
«Дворец в садах» запомнился Пушкину и отразился в полихромной живописи его поэзии. Но так же, как фонтан слез, он молчал о Марии. Только в домашней ханской мечети сохранился, как на фронтоне Сельсебийля, крест над двурогой луною. Это был смутный намек на драму заточенной христианки. Он не разъяснял и не иллюстрировал ее печальную
82
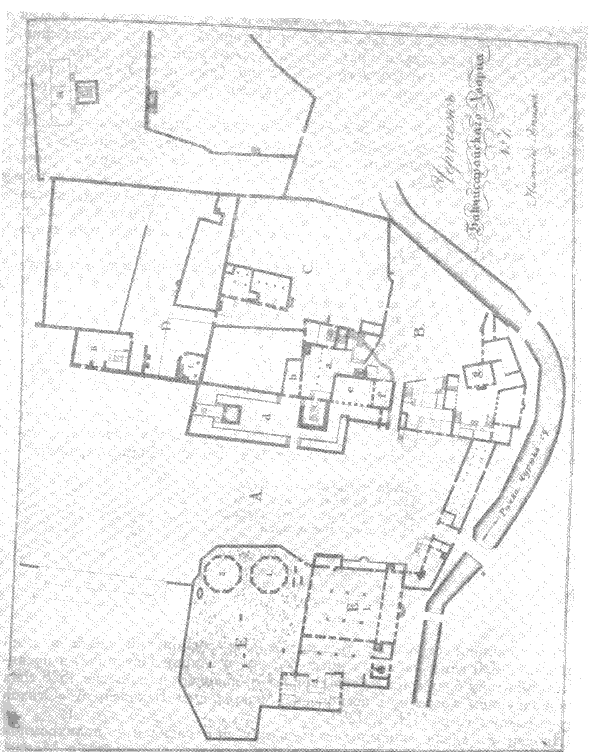
Чертеж Бахчисарайского дворца. № 1. Нижний этаж.
83
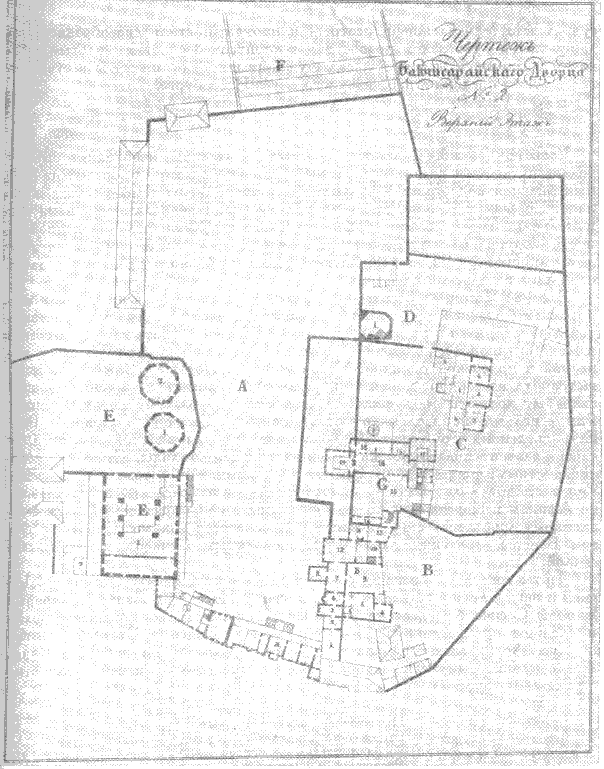
Чертеж Бахчисарайского дворца. № 2. Верхний этаж.
А — внешний двор, B — внутренний двор, C — двор гарема с домиком о шести покоях и беседкой с фонтаном, D — персидский двор, E — мечеть с кладбищем ханов, F — фруктовый ханский сад, G — главный корпус дворца: a — флигель и b — малый корпус — для помещения придворных служителей, 1 — решетчатый коридор, 2 — проходная комната, 3 — ванная, 4 — проходная в кухню, 5 — буфет, 6 — проходная в диванную, 7 — проходная в беседку, 8 — решетчатая беседка, 9 — столовый зал, 10 — гардеробная Екатерины II, 11 — опочивальня, 12 — уборная, 13 — прихожая, 14 — ложа за решеткой, 15 — комната при лестнице, 16 — цареградский коридор, 17 — ханская опочивальня, 18 — маленькая диванная, 19 — золотая диванная. (Составлено по статье Н. Мурзакевича «Поездка в Крым в 1836 году» — «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, № 3, стр. 631—636).
84
судьбу. Но весь сложный, пестрый и нарядный стиль своеобразного палаццо ханов с его залом правосудия и корпусом бесправья, золотым кабинетом и темницей жен раскрывал Пушкину широкие просветы в сущность загадочного предания, рассказанного ему в Петербурге.
4
Чтоб понять значительность этой устной легенды, необходима была не только чуткость к поэзии и влечение к романтическому стилю, нужна была и жизненная подготовка к углубленному восприятию темы Востока и Запада, Польши и Крыма, креста и полумесяца. Предполагаемая нами слушательница и рассказчица бахчисарайского сказания была по национальности полуполька-полугречанка и лучше других могла понять антитезу двух мировоззрений, породившую трагизм любовного предания о татарском хане и польской пленнице.
В семье Потоцких всегда ощущалась тема Востока. Они считали себя потомками знатных византийцев и называли своими предками аристократов Маврокордато в их младшей ветви де Челиче.97 Мать семьи, выросшая в Константинополе, неизменно сохраняла внутреннюю связь со своей солнечной и красочной родиной. Новая жизнь в Польше и России не могла вытравить из сердца фанариотки этих ранних впечатлений. Общеевропейский быт польских магнатов, близость к петербургскому двору, Париж и Рим — всё это не заслоняло воспоминаний о Босфоре и Золотом Роге. Есть сведения, что Софья Клавона, уже ставшая знатной графиней, не переставала тосковать по живописным городам Эллады, Стамбулу с его кипарисовыми рощами, коринфскими колоннами, минаретами и обелисками. Через тридцать лет Станислав Потоцкий решил рассеять ее ностальгию по Афинам и Константинополю, создав под Уманью сказочный парк с изваяниями мифологических божеств и древнегреческих мыслителей, с гротом Венеры, критским лабиринтом, подземным Стиксом и Тарпейской скалой.98
Черты восточной роскоши сохранялись в богатом быту Потоцкой-Щенсной и ощущались в жизни ее полек-дочерей. Из столиц Запада и курортов Европы Софью Киселеву влечет в Палестину, куда она совершает долгое и сложное путешествие в 1846 году, задерживаясь в Стамбуле, огибая острова Архипелага, проникаясь поэзией ориентальной жизни в Каире, Александрии, Смирне и, наконец, Иерусалиме. Только к ней могли относиться следующие строки в «Евгении Онегине»:
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
(VI, 18).
Крым был дорог Потоцким всем своим турецким и эллинским колоритом, восточными древностями, живыми воспоминаниями о греческой мифологии
85
и оттоманском владычестве, преданиями о Митридате и Ифигении в Тавриде.99 Это соответствовало какой-то скрытой и явственной тональности их смешанной национальной психологии.
По-особому воспринимали они и сложную архитектуру Бахчисарайского дворца, возникшую под сильнейшим влиянием мусульманской культуры Стамбула.100 Обиталище крымских Гиреев воссоздавало в целом константинопольский сераль. Фрески цареградской комнаты, или кофейной, изображали виды турецкой столицы. Всё сверкало яркими красками и ослепительными отливами драгоценных металлов. Упомянутая выше английская путешественница, попавшая в молодой русский Крым в 1786 году, леди Крэвен восхищалась убранством хан-сарая: «Я никогда не видела большего смешения цветов и такого количества разных оттенков золота и серебра».101 Для европейцев, посещавших Бахчисарай, он неизменно представлялся такой многогранной ориентальной драгоценностью. Так зазвучала эта тема и в поэме Пушкина:
Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!
(IV, 163).
Сады и гаремы, фонтаны и бассейны, прохлада тополей и дыхание роз, шелковые ковры и золотые арабески, мраморные чалмы и янтарные четки, поэтические эпитафии и татарские песни — вот что в своей конкретной археологичности и фольклорности отличает Пушкина от «чересчур восточного Мура», как и от более обобщенного и лаконичного в своих греко-турецких картинах Байрона. «Бахчисарайский фонтан» остается шедевром того поэтического ориентализма, который, по мнению его автора, наиболее отвечал представлениям и вкусам современного европейского читателя.
5
Только через полгода после осмотра ханского дворца Пушкин начал записывать первые стихи о нем:
Бахчи-Сарай! обитель гордых ханов,
Я посетил пустынный твой дворец...
(IV, 382).
86
Осенью 1821 года он, видимо, изучает научные источники своей темы. К самому концу этого года (или к началу 1822) редакторы относят его записку к В. Ф. Раевскому, кишиневскому приятелю: «Пришли мне, Раевский, Histoire de Crimée, книга не моя, и у меня ее требуют» (XIII, 36).
Речь шла об исторической монографии С. Сестренцевича-Богуша,102 которую Пушкин, вероятно, получил из библиотеки И. П. Липранди, специалиста по Турции. Это полное историческое обозрение Тавриды со времен тавров и скифов до присоединения Крыма к России. Здесь подробно излагалось ханствование Керим-Гирея (1758—1764 и 1768—1769). Имелись и общие сведения о правлении и власти ханов, их дипломатической переписке, доходах, военных силах, правосудии, семейном укладе, воспитании султанов и татарском языке.
Пушкин нашел здесь обстоятельную характеристику Керим-Гирея и ряд сведений о военных столкновениях татар с Польшей в конце XV века при Менгли-Гирее, в 1672 году при Селим-Гирее против короля Михаила Вишневецкого и великого коронного гетмана Яна Собеского. В середине XVII века Магомет-Гирей предпринял поход против казаков совместно с польской армией под командованием великого гетмана Потоцкого, но Богдан Хмельницкий принудил их к отступлению.
Примечательны были в «Истории Таврии» и личности отдельных ханов. Так, Гази-Гирей, вступивший на престол в 1704 году, славился такой красотой, резко отличавшей его от татар, что его считали сыном европейской женщины. В этом красавце-хане замечали великую благожелательность к христианским невольницам и столь широкую веротерпимость, что иезуиты с его разрешения прибыли в Крым для отправления католических служб.
Изученные Пушкиным научные и художественные источники — историки, Байрон, Хан-Сарай, восточные надписи — чрезвычайно расширили его первоначальное представление о царстве Гиреев и дали ему возможность щедро обогатить крымскую легенду. Пушкин не только простодушно подчинял «нежным законам стиха» голос любимой девушки, т. е. покорно рифмовал услышанный рассказ. Он щедро обогатил лаконичный сюжет, прибавив к нему мотив ревности, тему двух героинь, убийство прекрасной полячки ее соперницей-грузинкой и, наконец, душевную драму хана, страсть которого отказывается разделить его пленница. Пейзажи Крыма, быт гарема, лирические признания в «любви несчастной» дополняют новую, увлекательную фабулу, созданную Пушкиным.
На таком фоне неясный образ полуисторического сказания приобретал живые черты поэтического характера. Польская княжна в ханском гареме — воплощение невиданной культуры человеческой личности среди мрачного угнетения и разнузданных инстинктов. Мария — это сердечная тишина, это жизнь в искусстве, любовь к мелодической музыке, к струнному рокоту арфы, это благоговейная память о готической каплице замка, где высится скульптурная гробница старого князя, жертвы татарского набега. Это католический образ Мадонны среди узорных эмблем воинствующего ислама. Это высокое моральное превосходство одинокой девушки, преображающей своим душевным строем мрачную душу «буйного татарина».
87
Первоначально Пушкин назвал свою поэму «Гаремом», но его соблазнил меланхолический эпиграф из Саади Ширазского: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече». Слова о фонтане исключали заглавие «Гарем»; Пушкин решил сберечь прелестный афоризм персидского поэта на фронтоне своей восточной повести и назвал ее «Бахчисарайским фонтаном».
Бурные события старинной гаремной трагедии нашли свое глубокое отражение в этой непревзойденной лирической песне. Вопреки мнению самого автора, Белинский правильно считал, что крымская поэма — значительный шаг вперед по сравнению с кавказской: «стих лучше, поэзия роскошнее, благоуханнее», основная мысль глубже и величественнее. Огромная тема перерождения жестокого завоевателя высоким чувством любви поднимает поэтическую новеллу на исключительную проблемную высоту. Дикий восточный деспот, пресыщенный наслаждениями, беспощадный в своих нашествиях и опустошениях, неожиданно склоняется перед величием этой «беззащитной красоты»:
Гирей несчастную щадит...103
Таким глубоким истолкованием идеи «Бахчисарайского фонтана» Белинский раскрыл в этой лирической поэме предвестие позднейшего психологического романа. Высокая этическая идея здесь развертывается на фоне борьбы двух мировоззрений и уводит в глубокую историко-философскую перспективу духовного противоборства Востока и Запада. Мария, по Белинскому, это высокая культура романтизма, покорившая азиатское варварство. При таком прочтении становится понятным желание гениального критика написать целую книгу об этом «великом, мировом создании».104
Глубине замысла соответствовало необычайное богатство формы. Читатели увидели в поэме «торжество русского языка» (свидетельствует П. В. Анненков105) и были поражены неслыханной звуковой гармонией ее описаний. Как царскосельские парки и памятники в ранних строфах Пушкина, как романтический замок Баженова в оде «Вольность», садовый дворец крымских ханов запечатлелся в «Бахчисарайском фонтане»:
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.
(IV, 169).
Словесная живопись Пушкина открывала новые горизонты русской поэтической речи. Необычайно обогащались сравнения («Так аравийские цветы Живут за стеклами теплицы»; «Как пальма, смятая грозою, Поникла юной головою»; «Так плачет мать во дни печали О сыне, падшем на войне»; IV, 156, 159, 169). Высшую выразительность приобретали эпитеты («сладкозвучные фонтаны», «едкие года», «зеленеющая влага», «козни Генуи лукавой»). Стих получал широкую и ласкающую плавность новых лиро-эпических ритмов:
88
Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец.
(IV, 169).
Но и здесь, как и в первых южных повестях о военном пленнике и скованных разбойниках, слышался мотив затворничества, темницы, заточения. По безысходной судьбе главной героини история о ней могла бы элегически называться «Бахчисарайская пленница». Неприступные стены ханского сераля, столь похожие на тюремные ограды, запомнились ссыльному поэту и отбросили свою глубокую тень на узорную ткань его крымской поэмы.
6
«Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую?» — спрашивал Пушкин в письме к Дельвигу (XIII, 252).
На этот вопрос нам отвечает творческая история «Бахчисарайского фонтана». Неизъяснимая прелесть Тавриды — это прежде всего трагическая история о фонтане слез, которая была рассказана поэту любимой женщиной около 1818 года.
Изучение источников приводит к выводу, что это не могла быть двенадцатилетняя Мария Раевская, которую Пушкин узнал лишь в 1820 году; он любовался милым подростком, а с 1826 года преклонялся перед героической спутницей декабристов. Но не к ней относятся страстные выражения безумной, бурной и мучительной любви, которые отразились в южной лирике, романтических поэмах и особенно в «Бахчисарайском фонтане»:
Безумец! полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?
(IV, 170—171).
Невозможно относить к «некрасивому подростку», к «непригожему ребенку»,106 окруженному гувернантками и боннами, эти вопли безумной страсти и восхищенные возгласы о торжествующей «земной красоте». Не к русской девочке относится и ряд характерных черт западно-славянской, римско-католической, польской культуры, отличающих пушкинскую героиню.
Русской женщине Марии Волконской посвящена, как это доказано исследователями, другая эпопея Пушкина — гимн торжествующей России: «Полтава». В посвящении этой поэмы расстилается «Сибири хладная пустыня» (V, 324), поглотившая мятежников 1825 года, в кульминации прославляется великий ратный подвиг петровской армии и, наконец, в центре
89
драмы — семейный разлад, столь напоминающий конфликт Раевских в 1826 году: «отец или супруг Тебе дороже?» (V, 37).
Но «Бахчисарайский фонтан» — поэма о польской деве, вдохновленная польской девой и для нее написанная. Это баллада о Потоцкой, посвященная Потоцкой. Образу этой знаменитой красавицы поэт и воздвиг свой «Фонтан любви, фонтан живой» (II, 1, 343), создал свою чудесную поэму о «Любви таинственной, унылой», «Любви отверженной и вечной» (IV, 398, 399), лучшую из лирических поэм всей русской поэзии — «Бахчисарайский фонтан». Это тоже памятник безутешной любви, запись об огромном событии духовной жизни автора, высокая хвала прекрасной и гордой девушке, от которой он впервые услышал о чарующей поэзии Крыма и о красоте безнадежной любви.
У нас нет, как мы видели, оснований полагать, что молодые Раевские рассказали Пушкину несчастный роман Керим-Гирея. Напротив, всё противоречит этому. У них не было предпосылок для повышенного интереса к преданиям королевской Польши и ханской Тавриды. Принадлежавшие по древним первоистокам своего рода к польскому гербу «Лебедь», они совершенно обрусели уже в XV веке, горячо любили Россию, проливали за нее свою кровь и открыто демонстрировали свои антипольские убеждения.
Между тем интерес к бахчисарайскому сказанию как лиро-эпической теме вызывался военно-политической историей Польши и восторженным представлением молодого поколения поверженной страны о неумирающем значении ее духовной культуры.
Немногие из петербургских приятелей Пушкина могли указать ему на эту богатую творческую тему. Бахчисарай стал знаменит лишь с 1824 года, когда появилась в печати поэма о Марии и Зареме. До этого мало кто помнил этот заштатный городок Симферопольского уезда Таврической губернии, название которого еще не звучало пленительной музыкой пушкинского заглавия. Оно еще казалось прозаическим и обыкновенным, связанным с русскими корнями своего составного восточного наименования — бахчами и сараями дальней южной окраины. Только сквозь волшебные стихи романтической поэмы оно зазвучало в своем подлинном значении и стало «дворцом среди парков», полных яворов и роз, поверий и песен.
Творческий путь к Бахчисараю лежал через родословную Потоцких. Представительница знаменитого рода воителей с татарами и турками, столь ценившая славные предания своей исторической фамилии, не могла пройти и мимо одного из самых поэтических сказаний, затерявшихся в генеалогии ее предков. Оно зазвучало для нее как хвалебная песнь в честь одной из героических женщин ее рода, одержавшей небывалую моральную победу над азиатским варварством, с которым боролись огнем и мечом ее рыцарственные предки. Она рассказала эту дивную легенду молодому русскому поэту, уже озаренному лучами восходящей славы. Пушкин ответил ей «утаенной любовью» и бессмертной поэмой.
ПРИЛОЖЕНИЕ
РАЕВСКИЕ И «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»
Выдающаяся роль семьи Раевских в жизни и творчестве Пушкина разносторонне освещена его исследователями. Многие вопросы, связанные с его литературной и личной биографией, получили удачное разрешение от пристального изучения взаимоотношений поэта с представителями младшего поколения этой замечательной русской семьи, особенно в лице Александра,
90
Николая и Марии Раевских. В 1911 году было опубликовано исследование П. Е. Щеголева, широко поставившее этот вопрос и развернувшее детальную аргументацию в обоснование тезиса об исключительной роли молодых Раевских в создании ряда поэм Пушкина, его лирики и «Евгения Онегина».107 Многие положения автора, опиравшиеся подчас на довольно длительную традицию, были приняты наукой о Пушкине и до сих пор живут в ней. Это особенно относится к роли Марии Раевской в духовной эволюции великого поэта. Роль эта была, несомненно значительной и исключительно плодотворной. Тем не менее далеко не все положения П. Е. Щеголева оказались доказанными и убедительными. Иные из них вызывали серьезные сомнения. Так, утверждения о решающем значении М. Н. Раевской в истории «Бахчисарайского фонтана» и отнесение к ней ряда лирических признаний в «безумной» и «мучительной» любви их автора оставляли эти вопросы открытыми. Как правильно указывал В. А. Мануйлов в своей обстоятельной статье о крымской поэме, концепция П. Е. Щеголева не дала окончательного разрешения вопроса о «таврической любви» Пушкина: «Этот вопрос требует привлечения новых материалов и нового пересмотра в специальной литературе».108 В плане изучения творческой истории «Бахчисарайского фонтана» мы привлекаем некоторые малообследованные документы и формулируем свои критические соображения по сложному вопросу о Пушкине и Раевских.
Кто же рассказал поэту легенду о влюбленном хане? По Щеголеву — Мария Николаевна Раевская. Укажем на факты, опровергающие эту гипотезу.
1
Мария Раевская уже потому не могла рассказывать таврического предания автору «Бахчисарайского фонтана», что в петербургские годы Пушкина ей исполнилось всего десять — двенадцать лет или по другим, менее надежным источникам — двенадцать — четырнадцать лет.109 В обоих случаях она не могла сообщать молодому человеку романических историй
91
о гаремных пленницах, о муках ревности, сладострастии и убийстве соперницы.110
Это было невозможно и потому, что семья Марии Раевской жила в те годы не в Петербурге, а в Киеве,111 где отец ее с 1816 по 1825 год командовал одним из корпусов второй армии. Отдельные члены семьи бывали в столице, но младших детей — Марию и Софью — возили довольно редко. Возможно, что они были здесь с матерью в октябре 1818 года, когда Марии Раевской было не более двенадцати лет, что делает весьма сомнительным ее знакомство с Пушкиным и едва ли не исключает версию о сообщении ему этой девочкой сюжета для поэмы «Гарем». В 1820 году младшие дочери в Петербург с матерью не ездили, как это видно из писем генерала Раевского к старшим дочерям: «Машенька и Сонюшка» находятся с ним в Киеве или Болтышке.112 Есть все основания полагать, что Пушкин познакомился с младшими дочерьми генерала Раевского только в Екатеринославе в конце мая 1820 года.
Предполагаемое сообщение Марией Николаевной сказания о «фонтане слез» Пушкину исключается и фактом ее незнакомства в то время с Бахчисараем. Первым путешествием семьи Раевских на Кавказ и в Крым была их летняя поездка 1820 года.113 До этого никто из них не мог вдохновлять
92
Пушкина на поэму «Гарем» (первоначальное заглавие его крымской повести). Семейство Раевских впервые посетило резиденцию крымских ханов 7—8 сентября 1820 года вместе с Пушкиным (генерал и его сын Николай) и даже позже —19 и 20 сентября 1820 года (мать с четырьмя дочерьми, в том числе и Марией);114 устную легенду о бахчисарайской пленнице можно было узнать только на месте, поскольку она нигде не была опубликована, а описать редкий и уникальный фонтан нельзя было заочно.
В литературе о Пушкине мелькало сообщение о том, что старик Раевский якобы владел в то время в Крыму имением. Это сведение ошибочно. Никаких поместий или дач на Таврическом полуострове генерал Раевский никогда не имел. Он был помещиком Киевской губернии, где владел имением Болтышская экономия (в просторечии — селом Болтышка),115 где и скончался в 1829 году. Во время путешествия по Крыму в 1820 году никаких своих владений Раевские не посещали, поскольку их и не было. Только в 1838 году Н. Н. Раевский-младший приобрел здесь имение Карасан.116
В своих воспоминаниях М. Н. Волконская, рассказывая о важнейших моментах своей дружбы с Пушкиным, ничего не говорит о сообщении ею поэту фабулы его знаменитой южной поэмы. К чему было скрывать этот факт, столь примечательный, столь невинный и столь лестный для нее? О южном путешествии 1820 года Волконская лично рассказывала биографу Пушкина П. И. Бартеневу, но о своем участии в истории создания «Бахчисарайского фонтана» ничего ему не сообщила.
Литера К**, которой Пушкин обозначил рассказчицу предания, не имеет ничего общего с инициалами М. Н. Раевской.117
Нам необходимо отвести еще один довод, на котором особенно настаивал П. Е. Щеголев, как на единственном документальном основании всей гипотезы о творческой связи Раевских с автором «Бахчисарайского фонтана».
В одном из черновиков посвящения к поэме имелись инициалы «Н. Н. Р.» и вариант: «Давно печальное преданье Ты мне поведал в первый раз» (IV, 401). Естественно отнести это к Н. Н. Раевскому.
Но всё это было густо зачеркнуто Пушкиным как нечто неверное, случайно попавшее под перо; поэма 1823 года не была посвящена Раевскому; вариант, условно приписывающий другу первое возбуждение замысла, был выдержан в тоне того преувеличенного литературного восхваления, которое
93
Пушкин так щедро расточал своим друзьям («гений» Дельвига, «волшебный рассказ» Кюхельбекера и пр.). Так и Николай Раевский был лестно признан вдохновителем «Бахчисарайского фонтана».
Но это воображаемое и нереальное было немедленно же отменено чувством творческой правды, столь свойственным Пушкину. Николай Раевский последовательно удалялся автором из задуманного эпилога: стих «Мой друг, я кончил свой рассказ» заменяется стихом «Он кончен, верный мой рассказ», «Исполнил я твое желанье» — строкой «Исполнил я друзей желанье», «Ты мне поведал» — вариантом «Давно я слышал» и пр. (IV, 394).118
Восстанавливалась подлинная картина возникновения «Бахчисарайского фонтана», к которой Николай Раевский никакого отношения не имел. Утверждалась новая формулировка: «Давно, когда мне в первый раз Поведали сие преданье» и пр. (IV, 400).119
Как рассказчика легенды Николая Раевского отводит и прямое указание Пушкина на то, что он услышал историю Марии Потоцкой от одной «молодой женщины» (XIII, 88). Отметим кстати, что этим термином Пушкин не мог назвать двенадцатилетнюю девочку.
Нам остается решить последний вопрос многосложной проблемы о Раевских и Пушкине.
В письме к А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 года из Одессы поэт писал (XIII, 88):
«Радуюсь, что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины:
Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimadle et naïve».120
Бестужев показал это письмо Булгарину, который и перепечатал слова Пушкина о его новой поэме в своих «Литературных листках» при извещении о предстоящем выходе «Бахчисарайского фонтана» («Автор сей поэмы писал одному из своих приятелей в Петербурге» и пр.121). Пушкин был возмущен таким разглашением его интимной корреспонденции. Он даже собирался напечатать в «Вестнике Европы», что «Булгарин не был вправе пользоваться перепискою двух частных лиц, еще живых, без согласия их собственного» (XIII, 101).
Вскоре Бестужев допустил вторую ошибку. Он напечатал полностью в «Полярной звезде» на 1824 год стихотворение Пушкина «Редеет облаков
94
летучая гряда» вопреки запрету автора публиковать последние стихи этой элегии о «деве юной», называющей своим именем «Таврическую звезду».
Это вызвало новый протест Пушкина. В письме от 29 июня 1824 года он обвиняет друга в двукратном оглашении его частных писем. Для усиления обвинения и необходимой в таком деле краткости Пушкин объединяет в одном лице двух героинь своей личной жизни — вдохновительницу «Бахчисарайского фонтана» и героиню «Таврической звезды». Рассказывать порознь о каждой, т. е. о двух случаях «влюбленности без памяти», было бы неудобно и явно ослабило бы обвинение. Совершенно по-иному звучало осуждение нескромному товарищу, дважды скомпрометировавшему его в глазах той единственной и несравненной, одной мыслью которой поэт дорожит «более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики» (XIII, 101).
Этот полемический прием дал основание комментаторам считать одним лицом «деву юную», называвшую своим именем вечернюю звезду над Гурзуфом, и «молодую женщину», рассказавшую поэту в Петербурге легенду о необычайной драме страсти и ревности в ханском гареме. Приведенные выше материалы о Раевских исключают реальность такого слияния. Это были два объекта увлечений поэта, две разные главы его интимной биографии, искусственно слитые в его полемике с Бестужевым. В жизни, как и в творчестве Пушкина, они были разъединены.
Таким образом, и после исследования П. Е. Щеголева осталось недоказанным, что Мария Николаевна Раевская до своей встречи с Пушкиным была в Бахчисарае и действительно могла сообщить ему сказание о «странном памятнике влюбленного хана» (IV, 176).
В цикл произведений, связанных с Марией Раевской, П. Е. Щеголев вносит «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», ряд мест в «Цыганах» и «Онегине», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Тавриду», замысел которой, по его словам, «вызван любовными воспоминаниями о М. Н. Раевской»,122 элегию «Редеет облаков летучая гряда» и «Полтаву» с ее знаменитым посвящением. Другие исследователи относят к этому же циклу «Ненастный день потух...», «Не пой, красавица, при мне», «На холмах Грузии...», «Бурю» («Ты видел деву на скале...»). Сама Волконская считала, что о ней говорится в начале XXXIII строфы первой главы «Евгения Онегина» («Я помню море пред грозою») и в двух строках «Бахчисарайского фонтана»: «...ее очи Яснее дня, Темнее ночи» (так стихи неточно процитированы в ее записках).123
Часть этих атрибуций следует принять. Но многие из них не обоснованы и требуют детального разбора и тщательной критики.
Начнем с показаний самой Волконской. В воспоминаниях она рассказывает о своей шаловливой игре с прибоем Таганрогского залива — преследование убегающей волны и побег от наступающего прилива. «Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах... „Как я завидовал волнам“».124
Это указание Волконской широко принято комментаторами. Между тем оно явно ошибочно. В названной строфе нет никакого описания игры девочки с морским прибоем. Грациозная картинка, запечатленная Марией Николаевной в ее мемуарах и изображающая подростка в ясный день у Азовского моря, не имеет ничего общего с байронической черноморской
95
«мариной», зарисованной в XXXIII строфе «Евгения Онегина»: «море пред грозою», волны, бегущие «бурной чередою», по первоначальному варианту — «С любовью пасть к ее ногам», к ногам женщины, которая «стояла под скалами» (вариант: «над волнами»; II, 2, 762), что исключает тему бега девочки наперегонки с волнами. Так же противоречит идиллическая зарисовка Волконской и последующей распаленной картине столичных оргий и наслаждений: предельно страстное эротическое признание в мучительной жажде лобзать «милые ноги» (Марии Раевской?), как «уста младых Армид, Иль розы пламенных ланит, Иль перси, полные томленьем». К тринадцатилетней ли девочке можно отнести и завершающий возглас, полный чувственной муки:
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!
(VI, 19).
Это относится, конечно, к женщине, страстно любимой поэтом, описанной им и в незаконченной элегии 1822 года «Таврида», откуда ряд стихов был перенесен в названную онегинскую строфу и где имелся стих: «Пью томно воздух сладострастья» (II, 1, 256).125
Могла ли это быть Софья Станиславовна Потоцкая? Напомним: имение ее матери Массандра находилось в ближайшем соседстве с Гурзуфом, на расстоянии простой пешеходной прогулки. Август—сентябрь был временем обычного пребывания здесь владельцев крымских вилл. Нет ничего невозможного в том, что Пушкин, живя в Гурзуфе, посетил в Массандре Софью Потоцкую, с которой виделся за несколько месяцев перед тем в Петербурге, где посвятил ей любовную элегию.
Новая встреча в Крыму могла бы объяснить загадочные по своей страстности стихи «Тавриды», которые невозможно отнести ни к одной из сестер Раевских:
Холмы Тавриды, край прелестный,
Я снова посещаю вас,
Пью жадно воздух сладострастья,
Как будто слышу близкий глас
Давно затерянного счастья...
За нею по наклону гор
Я шел дорогой неизвестной,
И примечал мой робкий взор
Следы ноги ее прелестной.
Зачем не смел ее следов
Коснуться жаркими устами...
Нет, никогда средь бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых Цирцей
И перси, полные томленьем.126
96
Последние стихи вошли с незначительными изменениями в XXXIII строфу первой главы «Евгения Онегина». Если наша догадка верна, то и первые стихи этой онегинской строфы («Я помню море...») относились бы к Софье Потоцкой, которую Пушкин мог тогда же наблюдать у волн и скал черноморского берега. Всё это, конечно, не выходит из сферы соображений. Едва ли какие-нибудь документальные данные придут на помощь нашему предположению о возникновении «Тавриды». Но ведь гипотезы живут и действуют помимо документов и часто бывают сильнее их.
П. Е. Щеголев связывает с образом М. Н. Раевской и «Кавказского пленника». Дело в том, что поэт В. И. Туманский, который встречался с Пушкиным в Одессе, сообщал в своих письмах: «Мария <Раевская> идеал пушкинской черкешенки (собственное выражение поэта)».127 Под «идеалом» здесь имеется в виду прототип. Но почему же к подростку семьи Раевских нужно возводить «деву страстную» из первой южной поэмы Пушкина, чей «взгляд безумный» выражал «порыв любви», — ту, которая превыше всего ставила счастье «немых лобзаний» («Склонись главой ко мне на грудь, Свободу, родину забудь»; IV, 104)? Очевидно, никаких точек соприкосновения между героиней и ее названным «прообразом» в этом плане не было и свое высокое чувство к Раевской автор «Кавказского пленника» не изобразил в «радостных ночах» русского офицера с «девой гор».
Еще менее убедительна гипотеза П. Е. Щеголева о связи с Марией Раевской образа Заремы. Это толкование строится на двух предпосылках:
1) В. И. Туманский мог ошибиться и назвать черкешенку вместо грузинки, тогда Марию Раевскую можно признать не прототипом героини «Кавказского пленника» (что действительно никак не вяжется), а прообразом «красы гарема» в «Бахчисарайском фонтане», т. е. пламенной и преступной одалиски (что еще менее соответствует биографии прообраза);
2) сама Волконская признала обращенными к ней стихи об очах Заремы. Этого достаточно, по Щеголеву, для отождествления Марии Раевской с страстным образом ревнивой грузинки.128
Ответим на эти утверждения.
Туманский, как мы знаем, относился к Пушкину и его поэзии с глубочайшим уважением и предполагать ошибку в его уверенных письменных свидетельствах у нас нет никаких оснований. Можно пожалеть, что он не досказал и не разъяснил своего интересного сообщения (имел ли в виду Пушкин только внешность черкешенки? или, может быть, исключительно ее участие к страданиям пленника?), но сомневаться в достоверности самого факта (т. е. приведенных слов Пушкина), особенно для построения еще более сомнительных гипотез, никак не приходится.
Стихи же, приведенные Волконской, представляют собой лишь краткое введение художника к единому и цельному портрету совершенно иного стиля. За ними непосредственно следует четверостишие:
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
(IV, 159).
Казалось бы, всё это исключает безгрешное романтическое чувство, которое сам поэт называл «чистым упоением Любви», воплощением «поэзии
97
святой». Но, по мнению Щеголева, поэт мог чувствовать уже в юной Раевской женщину «великих страстей»129 (это в тринадцатилетней девочке!) и дать ее изображение в страстном образе преступной Заремы. Всё это едва ли нуждается в опровержении. Пушкин мог, конечно, читать Марии Николаевне эти стихи и даже применять к ней полушутя в разговоре эти лестные строки, как это широко принято в отношении своих и чужих строф, но портрет Заремы он списывал не с нее и не ей посвящал «Бахчисарайский фонтан». Поэма «вдохновений сладострастных» не могла относиться к этой чистой девушке с большими моральными запросами.
Есть, правда, сообщение Олизара: «Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской».130 Можно ли принимать это свидетельство без проверки, как это обычно делается (в том числе и в статье П. Е. Щеголева «Утаенная любовь»)?131 Действительно ли Пушкин сообщил Олизару свою заветную творческую тайну, т. е. рассказал ему, для кого он писал «Бахчисарайский фонтан» (то, что так тщательно скрывалось им даже от ближайших друзей)?
Взаимоотношения двух поэтов — русского и польского — не дают никаких оснований для такого заключения. Их связи были внешне безупречными, но внутренне настороженными и недружелюбными. Долгое время они были скрытыми соперниками в любви к Марии Раевской. В начале 20-х годов Олизар постоянно бывает в доме генерала, сопровождает его семью в разъездах (в путешествии в Кишинев в 1821 году), становится подлинным другом молодого поколения и даже претендентом на руку третьей из дочерей — Марии. Но в решающий момент обнаруживается непреодолимая преграда к дальнейшему родственному сближению.
Молодые Раевские, духовно сформировавшиеся в годы борьбы России с Наполеоном, были горячими патриотами, как и их родители — герой знаменитых сражений, прославленный Жуковским, и жена его, внучка Ломоносова, нередко следовавшая за мужем по путям войны. Полюбивший Марию Раевскую Олизар вскоре убедился, что девушка чуждается его исключительно из-за различия их национальностей и вероисповеданий. Вскоре генерал Раевский написал Олизару, что был бы счастлив видеть его своим сыном, но что разница их религий и национальностей препятствует этому.132
Олизар уединяется в своем крымском имении. Летом 1824 года он встречается в Одессе с Пушкиным, и Пушкин в своем послании к нему декларативно поддерживает точку зрения семьи Раевских.
Сложным было отношение Олизара к Пушкину. Польский поэт преклонялся перед гением певца «могучего Севера», но отвергал его позиции в польском вопросе. На посвященное ему стихотворение Пушкина Олизар ответил сильными и смелыми строфами. Он восхищается человечностью поэмы «Разбойники» и верит, что «искра гения возрождает народы и переделывает минувшие столетия». Но в отличие от большинства современников Олизар считает, что лира молодого Пушкина окутана трауром и что глубокая скорбь пожирает его сердце. Польский поэт призывает своего русского собрата к душевному подъему и возрождению.133
При таких отношениях Пушкин не мог открыть свое чувство к М. Н. Раевской влюбленному в нее Олизару. А сообщение о посвящении ей «Бахчисарайского фонтана» и означало бы такое признание.
98
Можно с уверенностью считать, что приведенное заявление Олизара выражает только его личное предположение, к тому же явно ошибочное. Тема польской героини находится в центре поэмы и определяет всё ее развитие. Никакого отношения к русской деве она не имеет.
Так же неубедительно и приурочение к Марии Раевской «Цыган». Но для этого уже потребовался силлогизм, близкий к софизму. Любовь поэта была отвергнута, пишет П. Е. Щеголев. Почему так случилось? На это отвечает старый цыган: «Кто сердцу юной девы скажет: Люби одно, не изменись» (IV, 193). Предполагается, что Раевская любила Пушкина, но изменила ему, как Земфира Алеко. Так якобы возник замысел «Цыган». Дальше произвол в гипотезах уже не может идти.
Ряд исследователей — Н. Ф. Сумцов, П. О. Морозов, Б. М. Соколов — относит к Раевской еще одну элегию «страстного» пушкинского цикла «Ненастный день потух...». Здесь имеются стихи:
...ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных,
(II, 1, 348).
т. е. по смыслу: как предавала их прежде поэту. Это, по мнению названных ученых, всё та же крымская любовь, Мария Раевская!134 Никто из комментаторов не желает считаться с возрастом этой оклеветанной девушки.
Традиция прочно относит к Марии Раевской стихотворение «Таврическая звезда» («Редеет облаков летучая гряда»). «Дева юная» называет вечернюю звезду своим именем, — каким? Исследователи доискались, что в средневековых католических гимнах планета Венера называлась «звездой девы Марии». Отсюда почти уверенность, что элегия изображает Марию Раевскую.
Это вполне возможно. Но не менее убедительно и другое толкование. Имеется древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской. Пушкин должен был знать и известный стих Горация: «fratres Helenae, lumina sidera» («братья Елены, сияющие светила»). По этим соображениям «Таврическая звезда» может быть относима к Елене Раевской.135
В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» имеется отрывок, который правильно, как полагаем, относят к Марии Раевской:
Одна была... пред ней одной
Дышал я [чистым] упоеньем
Любви поэзии святой...
(II, 2, 843).
Далее следуют черты сияющего крымского пейзажа и образы безгрешной любви, равнодушной к «земным восторгам» и недоступной для них.
Этому выражению отрешенного и светлого чувства предшествует другой фрагмент об иной любви — тревожной и траурной. Это «сердца тяжкий
99
сон», который «Бесплодно память мучит» и нашептывает страшные признанья:
[Тоской ли долгой] изнуренный,
Таил я слезы в тишине?..
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?..
Слова об этом чувстве звучат
Безумца диким лепетаньем —
Там — сердце их поймет одно
И то с печальным содроганьем.
(II, 2, 842, 843).
Любви мечтательной противопоставлена любовь трагическая. Два чувства, два женских образа, «Две тени милые» (как скажет в 1828 году Пушкин; III, 2, 654). Есть в «Бахчисарайском фонтане» очень значительный, хотя совершенно незамеченный вариант:
Тебя никто не понимает —
Два сердца в мире может быть...
(IV, 399).
Сильным и важным в установлении цикла стихов, обращенных к Марии Раевской-Волконской, явилось новое прочтение П. Е. Щеголевым посвящения «Полтавы» с опубликованным им впервые стихом: «Сибири хладная пустыня». Это несомненно относило поэму к знаменитой «русской женщине», томившейся в то время в остроге под Читой.
Но именно эта прекраснейшая элегия Пушкина утверждала отрешенность и бесстрастность его духовной любви. Он обращался к женщине с «душою скромной», чуждой увлечений, оставившей без ответа его «стремленье сердца», ценившей в нем только его поэтический дар («Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе»; V, 17).136
Так оно и было в действительности.
Из поздней лирики Пушкина к М. Н. Раевской следует отнести два его «кавказских» стихотворения. Н. О. Лернер и М. А. Цявловский137 правильно относили к этой группе и знаменитый романс «Не пой, красавица, при мне». Ряд образов здесь вполне соответствует облику и судьбе Волконской, как и характеру чувства к ней Пушкина. Песни Грузии печальной напоминают поэту «Кавказа гордые вершины», «закубанские равнины» и «Черты далекой, бедной девы», которая предстает перед ним, как «призрак милый, роковой» (III, 659, 109). Таков и был стиль этой призрачной любви и порожденной ею бестелесной поэзии.
Об этом же свидетельствует последнее посвящение Пушкина Марии Николаевне — знаменитое стихотворение 1829 года «На холмах Грузии...»; в черновой редакции указывается на давность воспоминания («сокрылось много лет») и на высшую красоту одухотворенной и безгрешной влюбленности:
100
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний,
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.138
(III, 2, 723).
Это выражает высшую доминанту чувства Пушкина и окончательно отводит от Марии Раевской все безумные, страстные, неистовые, «слишком человеческие» признания молодого поэта, которые не могут иметь к ней никакого отношения. А вместе с ними отпадает и приписанная ей выдающаяся роль в творческой истории «Бахчисарайского фонтана».
—————
Сноски к стр. 49
1 Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии наук СССР, 1937—1949.
Сноски к стр. 50
2 П. И. Бартенев. Пушкин в южной России. «Русская речь», 1861, № 85 и сл.: отдельное издание — М., 1862. Цитируем по изданию «Русского архива», М., 1914. стр. 40—41.
Сноски к стр. 51
3 М. Н. Волконская. Записки. СПб., 1904, стр. 22, 24.
4 А. Блок, Собрание сочинений, т. III, Л., 1932, стр. 77.
Сноски к стр. 52
5 М. Н. Волконская. Записки, стр. 24.
6 «Русский вестник», 1893, № 9, стр. 102, 104.
Сноски к стр. 53
7 Краткое изложение разделов 1—5 этой главы приведено в моей книге «Пушкин» (М., 1958, стр. 229—232).
8 В Академическом издании «Софья Потоцкая» в письме к Вяземскому от 20 декабря 1823 года толкуется как Потоцкая-мать, т. е. Софья Константиновна («гречанка») (XIII, 608). Это несомненно ошибка: Софьи Константиновны уже более года не было в живых (она умерла 24 ноября 1822 года), и писать ей мадригалы было невозможно. К тому же четверостишие Вяземского «К двум красавицам — матери и дочери» было обращено, как правильно указал Б. Л. Модзалевский, к Софье Станиславовне Киселевой, рожденной графине Потоцкой, которою Вяземский был тогда увлечен («Мать несравненная! А дочь Сравнялась с матерью одною») (Пушкин. Письма, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 297).
Сноски к стр. 55
9 Остафьевский архив, т. II. СПб., 1899, стр. 14; см. также: т. I, 1899, стр. 371, 377.
10 Там же, т. I, стр. 326.
11 Там же, стр. 338.
12 Там же, стр. 371.
13 «Воспитанный суровою Минервой» («19 октября», 1825; II, 2, 969).
Сноски к стр. 56
14 Остафьевский архив, т. I, стр. 371.
15 Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. I. СПб., 1907, стр. 560 (комментарий П. О. Морозова); ср.: Пушкин, II, 2, 1061—1062.
16 См.: Ф. Ф. Вигель. Записки, т. II. Изд. «Круг», М., 1928, стр. 219—222.
17 См.: Ян Дуклан Охотский. Рассказы о польской старине. Записки XVIII века, т. II. СПб., 1874, стр. 282—284; Судьба красавицы (София Глявоне-Витт-Потоцкая). Перевод с польского. Из исторических рассказов д-ра Антония И. «Киевская старина», 1887, № 1, стр. 99—138.
Сноски к стр. 57
18 L.-E. Vigée-Lebrun. Souvenirs, t. II. Paris, 1835, стр. 285.
19 «Древняя и новая Россия», 1876, т. III, № 10, стр. 192, 193.
20 «Русская старина», 1886, № 11, стр. 259—260.
21 Теофиль Готье в своей книге «Константинополь» так описывает предместье Фанар: «Сюда удалилась древняя Византия, здесь скрываются в полумраке потомки Комненов и Палеологов, князья без княжеств, но чьи предки носили порфиру... Фанариоты долго славились своим дипломатическим искусством: в свое время они распоряжались всеми международными делами Порты» (Théophile Gautier. Constantinople. Paris, 1853, стр. 234, 235).
Сноски к стр. 58
22 Приведем сведения о нем из наиболее авторитетного источника — «Генеалогии родов польских» Дунина-Борковского: Станислав-Феликс Потоцкий-Щенсный родился в 1752 году, умер в Тульчине 14 марта 1805 года; владелец Тульчина, Браилова, Могилева на Днестре и многих других населенных мест, автор политических трактатов, ротмистр кавалерии в 1764 году, генерал-поручик в 1784, воевода русский в 1782—1791, генерал от артиллерии в 1789—1792, маршалок Тарговицкой конфедерации в 1792, генерал-аншеф русской армии в 1797, кавалер ордена белого орла; женат третьим браком на гречанке Софье Клавона, умершей 24 ноября 1822 года в Берлине (J. S. Dunin-Borkowski. Genealogie żyjacych utytulowanych rodów polskich. Lwów, 1895, стр. 487, 488). Обычное начертание фамилии его третьей жены Глявонэ неправильно.
23 Ф. Ф. Вигель. Записки, т. II, стр. 220.
Сноски к стр. 59
24 «Киевская старина», 1887, № 1, стр. 126.
25 «Массандра, деревня, принадлежащая г-же Киселевой, урожденной гр. Потоцкой» (П. Свиньин. Знакомства и встречи на южном берегу Тавриды. «Отечественные записки», 1825, ч. 24, стр. 127); см. также: Новый энциклопедический словарь, т. XXV, стлб. 882.
26 См.: Краткое обозрение южного берега и горной полосы Крыма. В кн.: Памятная книга Таврической губернии, вып. 1. Симферополь, 1867, стр. 46.
27 Ф. Домбровский. Обозрение южного берега Крыма (Пособие для путешествующих). В кн.: Новороссийский календарь на 1851 год, издаваемый от Ришельевского лицея. Одесса, 1850, стр. 368.
Сноски к стр. 60
28 Н. Сементовский. Путешественник (Южный берег Крыма). СПб., 1846, стр. 18.
29 Барон А. Корф. Пребывание в Крыму. «Сын отечества и северный архив», 1834, т. XLI, № 4, стр. 256; Ю. Н. Бартенев. Жизнь в Крыму. «Русский архив», 1899, кн. III, № 8, стр. 549.
Сноски к стр. 61
30 Прошение С. С. Киселевой на имя великого князя Михаила Павловича от 1 сентября 1845 года. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 129, к. 13, № 25. Оригинал на французском языке.
Сноски к стр. 62
31 Из записок генерала Левенштерна, находившегося при Киселеве в Дунайских княжествах. В кн.: А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III. СПб., 1882, стр. 426.
32 Из записок М. А. Корфа. В кн.: А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 427.
33 А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV. СПб., 1882, стр. 16.
34 Венчальный обряд совершался дважды — в лагере близ города и в городском костеле (см.: Метрическое свидетельство на русском языке и матримониальный акт на латинском. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 129, к. 4, № 15).
35 Остафьевский архив, т. I, стр. 338.
36 А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 435.
Сноски к стр. 63
37 Н. В. Басаргин. Записки. Изд. «Огни», Пгр., 1917, стр. 23.
38 П. Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 181.
39 Н. В. Басаргин. Записки, стр. 23.
Сноски к стр. 64
40 А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. I. СПб., 1882, стр. 174.
41 Н. В. Басаргин. Записки, стр. 20, 22.
42 К сентябрю — ноябрю 1823 года относится окончательная отделка поэмы. 4 ноября Пушкин посылает «Бахчисарайский фонтан» Вяземскому (см.: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, стр. 407, 414).
Сноски к стр. 65
43 Н. В. Басаргин. Записки, стр. 24—25; см. также «Летопись» М. А. Цявловского, стр. 277—278, 758—759.
44 Т. П. Ден. Пушкин в Тульчине. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М.—Л., 1956, стр. 225.
45 Там же, стр. 228.
Сноски к стр. 66
46 И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. «Русский архив», 1866, № 10, стлб. 1454.
47 «Привези также оба новых романа Вальтера Скотта и несколько русских стихотворений Пушкина, как например „Бахчисарайский фонтан“, „Онегина“, новую его трагедию; а если увидишь его, передай ему, что я учусь русскому языку, чтоб читать его стихи» (франц.) (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 129, к. 12, № 49). Краткое изложение содержания писем С. С. Киселевой к П. Д. Киселеву содержится в статье Ю. И. Герасимовой «Архив Киселевых» в «Записках Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина» (вып. 19, М., 1957, стр. 65—68). Укажем публикации Пушкина, которые могли быть известны С. С. Киселевой в момент написания ее письма: «Бахчисарайский фонтан» вышел первым изданием в 1824 году, речь в письме могла идти только о первом издании (так как второе вышло в самом конце 1827 года); «Евгений Онегин» был к тому времени опубликован лишь двумя главами: первая вышла 18 февраля 1825 года, вторая — в октябре 1826 года; «Борис Годунов» был издан полностью лишь в 1830 году, отрывками же в 1827 и сл., но осенью 1826 года Пушкин читал свою трагедию у Веневитиновых, Дельвигов и др.
48 «Сообщи мне, действительно ли Пушкин находится в действующей армии, как говорили здесь» (франц.) (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. ф. 129, к. 12, № 50).
Сноски к стр. 67
49 «Я чувствую себя совершенно разбитой и сломленной... Я более не дышу свободно, мой сон — непрерывный кошмар, и я часто... вспоминаю стихи Пушкина, который задыхается и стремится дохнуть воздуха лесов» (франц.) (там же, к. 13, № 20; стих из «Братьев разбойников» — «Мне душно здесь, я в лес хочу»).
50 С. Г. Волконский. Записки. СПб., 1902, стр. 403.
Сноски к стр. 68
51 «Русская старина», 1887, № 7, стр. 233, 232.
52 Уже в 1816 году молодой Киселев подает Александру I записку под характерным заглавием «О постепенном уничтожении рабства в России», в которой призывает правительство приступить к немедленному освобождению крепостных в целях предупреждения крестьянских требований, «которым отказать будет уже трудно или невозможно», как это доказывает «кровью обагренная французская революция» (А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV, стр. 197—198).
53 Сохранившиеся каталоги библиотеки Киселева описаны в исследовании Н. М. Дружинина «Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева» (т. I. М.—Л., 1946, стр. 262—263).
Сноски к стр. 69
54 Н. В. Басаргин. Записки, стр. 38, 39—40 (в подлиннике разговор по-французски).
55 А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 435.
56 Там же, стр. 428.
57 По заключению советского историка Н. М. Дружинина, реформа Киселева охватывала многообразные прослойки великорусского крестьянства единым упорядоченным управлением с тенденциями к большей законности. Но это прогрессивное антифеодальное направление не было выражено с достаточной последовательностью и фактически закрепляло систему «государственного феодализма»: земля есть собственность казны, крестьянин остается во власти самодержавия (Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. I, стр. 628 и сл.).
58 А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. Изд. «Мир», М., 1931, стр. 128.
Сноски к стр. 70
59 Там же, стр. 129. «Третий брат» — Николай Дмитриевич Киселев (1800—1869), дипломат, занимавший видные посты в Париже, Лондоне и Риме, знакомый Пушкина, вероятно, по семье Ушаковых. В 1828 году поэт посвятил ему четверостишие «Ищи в чужом краю здоровья и свободы».
60 А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. Изд. «Федерация», М., 1929, стр. 262.
61 Остафьевский архив, т. III, 1899, стр. 199.
62 А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. XI, Изд. Академии наук СССР, М., 1957, стр. 126.
63 А. О. Смирнова-Россет. Автобиография, стр. 175.
Сноски к стр. 71
64 См.: А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV, стр. 348—352.
65 Там же, т. III, стр. 6.
66 Там же, стр. 7—8.
Сноски к стр. 72
67 Запись устного сообщения П. Д. Киселева, сделанная графиней Ал. Вас. Браницкой для передачи С. С. Киселевой, о недопустимости опубликования ею антиправительственного памфлета (Париж, 9 мая 1860 года). Государственная библиотека СССР имени В И. Ленина, ф. 129, к. 4, № 18.
68 А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 263.
69 Extrait des actes de décès du XLI-e arrondissement de Paris, année 1875, Préfecture du Département de la Seine. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 126, к. 4, № 17.
Сноски к стр. 73
70 Milady Craven. Voyage en Crimée et à Constantinople en 1786. Londers, 1789, стр. 246—247.
71 Mémoires du baron de Tott sur les turcs et les tartares, t. II. A Amsterdam, 1785, стр. 113—114, 115—116, 133—134.
72 S. Siestrzencewicz de Bohusz. Histoire du royaume de la Chersonèse Taurique. Изд. 2, СПб., 1824, стр. 409—416.
Сноски к стр. 74
73 Ф. Домбровский. Дворец крымских ханов в Бахчисарае. «Современник», 1849, т. XV, № 6, отд. V, стр. 21—22.
74 И. М. Муравьев-Апостол. Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб., 1823, стр. 118; Пушкин, IV, 174.
75 Second voyage de Pallas ou voyages entrepris dans les gouvernements méridionaux de l’Empire de Russie pendant les années 1793 et 1794 par m. le professeur Pallas, t. III. Paris, 1811, стр. 36.
Сноски к стр. 75
76 И. М. Муравьев-Апостол. Путешествие по Тавриде в 1820 году, стр. 118—119; Пушкин, IV, 175. Отметим, что первое упоминание о «польской княжне» связано с ханствованием Фетх-Гирея I, правившего Крымом в XVII веке. Этому хану досталась в подарок пленная дочь польского шляхтича, в которой исследователи предполагают прославленную в народной молве и поэзии Марию Потоцкую (см.: В. Д. Смирнов. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887, стр. 499—501). Никакого отношения к «фонтану слез», воздвигнутому в 1763 году, эта героиня, конечно, не имеет. Но примечательно отнесение преданием события к XVII веку, столь богатому польско-татарскими войнами.
77 Адам Мицкевич, Собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, М., 1948, стр. 490.
78 Н. Мурзакевич. Поездка в Крым в 1836 году. «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, ч. XIII, № 3, стр. 635.
79 Бахчисарайские арабские и турецкие надписи. «Записки Одесского общества истории и древностей», т. II, 1848, стр. 496, 493—494. (Перевод, опубликованный в 1848 году, в настоящее время во многом устарел. Мы пользовались позднейшими версиями, например, приведенными в исследовании В. Гернгросса «Ханский дворец в Бахчисарае» (СПб., 1912, стр. 3) и в книге Ф. Домбровского «Дворец крымских ханов в Бахчисарае» (Симферополь, 1863, стр. 40, 23, 24), допуская в некоторых случаях незначительные стилистические варианты). Статья анонимная, но в начале ее указано, что переводы надписей были выполнены переводчиком восточных языков А. А. Борзенко и одобрены в 1842 году «старейшиной русских ориенталистов» академиком X. Д. Френом. Большое количество надписей дополнительно было переведено востоковедами Ф. М. Домбровским и А. Ф. Негри и приготовлено к печати профессором восточных языков при Ришельевском лицее В. Н. Кузьминым. Это ценный труд, положивший начало филологическому изучению поэмы Пушкина. Надписи о Кериме сочинены «на изысканном литературном турецком языке (фарси) в стихах, где турецкие слова и фразы пересыпаны множеством арабских и персидских слов» (Ф. Домбровский. Дворец крымских ханов в Бахчисарае, 1863, стр. 39).
Сноски к стр. 76
80 П. А. Вяземский. Разговор между издателем и классиком. В кн.: А. Пушкин. Бахчисарайский фонтан. М., 1824, стр. XIII.
81 Мицкевич познакомился с С. С. Киселевой в Одессе в 1825 году у ее сестры О. С. Нарышкиной.
82 П. А. Вяземский. Разговор между издателем и классиком. В кн.: А. Пушкин. Бахчисарайский фонтан, стр. XIV.
Сноски к стр. 77
83 В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Изд. «Academia», Л., 1924, стр. 138.
Сноски к стр. 78
84 Д. Байрон. Поэмы. Перевод Г. Шенгели, т. II. Гослитиздат, М., 1940, стр. 8.
Сноски к стр. 79
85 «Записки Одесского общества истории и древностей», т. II, 1848, стр. 496.
86 См.: Ф. Домбровский. Обозрение южного берега Крыма (Пособие для путешествующих). В кн.: Новороссийский календарь на 1851 год, издаваемый от Ришельевского лицея, стр. 376.
87 Comte de Ségur. Mémoires, t. III. Paris, 1827, стр. 150.
Сноски к стр. 80
88 «Вьющиеся по стенам и колоннам виноградные ветви, при прохладе и журчании вод в знойное время, представляют роскошное убежище и негу» (Н. Мурзакевич. Поездка в Крым в 1836 году. «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, ч. XIII, № 3, стр. 633).
89 В. X. Кондараки. Универсальное описание Крыма, ч. X. СПб., 1875, стр. 39, 58.
90 М. Н. Бережкова. Русские пленники и невольники в Крыму. «Труды VI археологического съезда в Одессе (1884 г.)», т. II, Одесса, 1888, стр. 362.
91 В. А. Мануйлов. «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. Л., 1937, стр. 45.
92 Там же.
93 И. М. Муравьев-Апостол. Путешествие по Тавриде в 1820 году, стр. 114.
94 Н. Мурзакевич. Поездка в Крым в 1836 году. «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, т. XIII, № 3, стр. 634.
Сноски к стр. 81
95 См.: В. Гернгросс. Ханский дворец в Бахчисарае, стр. 22—23; Бахчисарайские арабские и турецкие надписи. «Записки Одесского общества истории и древностей», т. II, 1848, стр. 499 и сл.
96 В. Гернгросс. Ханский дворец в Бахчисарае, стр. 23.
Сноски к стр. 84
97 Фамилии эти, как указывают источники, были придуманы для придания безродной красавице ореола мнимой знатности.
98 См.: X. П. Ящуржинский. Город Умань. Краткий исторический очерк. Умань, 1913, стр. 27. По свидетельству современников, Потоцкий приказал «соорудить <в парке под Уманью> каскады и водопады с великолепием, достойным садов Востока» (Th. Themery. Guide de Sophiowka surnommé la merveille de l’Ukraine... Odessa, 1846, стр. 9; см. также: И. А. Косаревский. Государственный заповедник Софиевка. Киев, 1951, стр. 7).
Сноски к стр. 85
99 Следует отметить, что и среди коренных польских Потоцких замечался интерес к Востоку. Видный ученый Ян Потоцкий (1761—1815) посетил в молодости Тунис, Египет, Константинополь и напечатал известную в свое время книгу «Voyage en Turquie, en Egypte, fait en 1784» (1788). В библиотеке Пушкина имелись его книги (на французском языке): «Путешествие по астраханским степям и по Кавказу» (1829), «Авадоро, испанский роман» (1813), «Десять дней из жизни Альфонса ван Вордена» (1814) («Пушкин и его современники», вып. IX—X, 1910, стр. 313—314). «После смерти его, — рассказывает П. А. Вяземский, — напечатан был, также на французском языке, фантастический роман его „Les trois pendus“... Пушкин высоко ценил этот роман, в котором яркими и верными красками выдаются своенравные вымыслы арабской поэзии и не менее своенравные нравы и быт испанские» (Сборник Русского исторического общества, т. I. СПб., 1867, стр. 205).
100 Посетившая Бахчисарай в 1841 году французская путешественница Адель Омер де Гелль отметила, что узкие улицы этого города с его мечетями, лавками, кладбищами поразительно напоминают старые кварталы Константинополя. «Но особенно дворики, сады, киоски, гарем старого дворца переносят путешественника в сказочные уголки Алеппо и Багдада» (см. ее статью «Fragment d’un voyage en Crimée», помещенную в парижском журнале «Revue de l’Orient», 1844, t. V; в статье упоминается Пушкин, «российский соловей», воспевший Бахчисарай, его дворцы и фонтаны. Сравнение Бахчисарая с Константинополем находится на стр. 229).
101 Milady Craven. Voyage en Crimée..., стр. 245—246.
Сноски к стр. 86
102 S. Siestrzencewicz de Bohusz. Histoire du royaume de la Chersonèse Taurique. Первое издание: Брауншвейг, 1800; второе — СПб., 1824. Русский перевод: История царства Херсонеса Таврийского, сочиненная Станиславом Сестренцевичем-Богушем, тт. I—II. СПб., 1806. Пушкин пользовался первым изданием.
Сноски к стр. 87
103 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, М., 1955, стр. 378, 379.
104 Там же, т. XI, 1956, стр. 473.
105 П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки его произведений. СПб., 1873, стр. 97.
Сноски к стр. 88
106 Г. Ф. Олизар, познакомившись с Марией Раевской в 1821 году, описывает ее как «непривлекательного смуглого подростка», как «непригожего ребенка» (G. Olizar. Pamiętniki. 1798—1865. Lwów, 1892, стр. 155—156), а В. И. Туманский и в 1824 году находит, что Мария «дурна собой» (Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов, 1891, стр. 54).
Сноски к стр. 90
107 Первоначально напечатано под заглавием «Из разысканий в области биографии и текста Пушкина» в издании: «Пушкин и его современники», вып. XIV, 1911, стр. 53—193; перепечатано под заглавием «„Утаенная любовь“ А. С. Пушкина» в сборнике П. Е. Щеголева «Пушкин. Очерки» (СПб., 1912, стр. 35—195) и вновь под первоначальным заглавием в сборнике П. Е. Щеголева «Из жизни и творчества Пушкина» (изд. 3, Гослитиздат, М.—Л., 1931, стр. 150—254).
108 В. А. Мануйлов. «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. В кн.: В. А. Мануйлов, Н. Д. Волков, В. Богданов-Березовский. Бахчисарайский фонтан. Музыка Б. В. Асафьева. Л., 1934, стр. 13.
109 Год рождения Марии Николаевны Раевской указывается в источниках различно. Олизар, познакомившийся с ней в 1821 году, называет ее «подростком» и даже «ребенком», считая, что лишь через два — три года, т. е. в 1823—1824 году, она превратилась в пленительную девушку. В это время, т. е. осенью 1824 года, она стала невестой С. Г. Волконского. Всё это позволяет считать наиболее вероятным годом ее рождения 1807 год, как это указано в «Архиве Раевских» (т. I, СПб., 1908, стр. 43) и подтверждено сыном Марии Николаевны М. С. Волконским (см.: М. Н. Волконская. Записки, стр. XI; ср. стр. 120). Во время ее путешествия на Кавказ и в Крым ей, стало быть, шел тринадцатый год, вышла же замуж она семнадцати лет (обычный в то время возраст невест). «Раевской было 17 лет, ему <Волконскому> 36», — сообщает об их свадьбе в январе 1825 года М. О. Гершензон (История молодой России. М., 1908, стр. 45), изучавший семью Раевских по неизданным фамильным документам. В момент предполагаемого рассказа ею Пушкину бахчисарайской легенды, т. е. в 1817—1819 годах, возраст ее определился бы десятью — двенадцатью годами. Вариации к этим цифрам возможны лишь в пределах двух лет; имеются аргументы и в пользу 1805 года, но это ничего не меняет по существу вопроса.
Сноски к стр. 91
110 Напомним характерный эпизод из быта семьи Раевских. Когда П. В. Анненков в 1874 году сообщил в печати, что Пушкин учился английскому языку по поэмам Байрона под руководством Екатерины Николаевны Раевской, последняя решительно опровергла это: по ее словам, ей было в то время двадцать три года, а Пушкину двадцать один, и это одно по тогдашним понятиям о приличии служило препятствием к такому сближению; всё дело могло состоять разве в том, что Пушкин с помощью ее брата Николая читал Байрона и когда они не понимали какого-нибудь слова, то, не имея лексикона, посылали к ней за справкой (Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2, СПб., 1899, стр. 52—53).
111 См.: «Русский архив», 1866, № 7, стлб. 1115. В Киеве у Раевских бывали: Анна Петровна Керн, посетившая в ноябре 1817 года эту «бесподобную семью» (А. П. Керн. Воспоминания. Изд. «Academia», Л. 1929, стр. 55); Михаил Федорович Орлов, назначенный в 1817 году начальником штаба при корпусе Н. Н. Раевского и помолвленный в феврале 1821 года с его старшей дочерью Екатериной Николаевной (М. Гершензон. История молодой России, стр. 4, 21); предводитель дворянства Киевской губернии граф Г. Олизар, впоследствии неудачно посватавшийся к Марии Николаевне (G. Olizar. Pamiętniki, стр. 156—162); С. Г. Волконский, посещавший семью Раевских в Киеве с 1819 года и обручившийся с М. Н. Раевской осенью 1824 года. Свадьба их состоялась в Киеве в январе 1825 года (С. Г. Волконский. Записки, стр. 402 и сл.). В январе — феврале 1821 года у генерала Раевского в Киеве гостил Пушкин (М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, стр. 275; см. также стр. 220). Тогда же Д. В. Давыдов сообщал в одном из своих киевских писем: «Николай Николаевич Раевский переменил дом и живет в прекраснейшем, подлинно барском доме. У него готовятся вечера по-прежнему, здесь множество съехалось артистов» и пр. (там же, стр. 758).
112 Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ф. 244, М. 3612, № 4). В самый момент высылки Пушкина в Екатеринослав, в мае 1820 года, Софья Алексеевна Раевская с двумя старшими дочерьми — Екатериной и Еленой — находилась в Петербурге. Отсюда Екатерина Николаевна, посылая брату Александру письмо в Киев 7 мая, сообщала: «...мама забыла послать его с Пушкиным» («Былое», 1906, № 10, стр. 302) (вероятно, конспиративное указание на высылку поэта).
113 На всем протяжении детства и отрочества своих детей генерал Раевский был поглощен военными событиями, потрясавшими Россию и Европу. Сторонник боевой службы, он был участником войн с Наполеоном в 1805—1807 годах, с Швецией в 1808—1809, с Турцией в 1810—1811, с Францией в 1812—1815. В течение целого десятилетия непрерывных походов и битв он не мог развозить своих малолеток или подростков по дальним курортам или по живописным уголкам России. Без него семья не могла предпринимать таких трудных и длительных путешествий, где только знаменитому генералу предоставлялись казачья охрана, военный бриг, замок Ришелье, покои крымских ханов и пр. Всё это исключает из числа рассказчиков бахчисарайской легенды семью Раевских. Отметим, что Екатерина Николаевна Орлова, датировавшая в старости письма своего отца к ней, кратко указывает: «Voyage de mon père Caucase Crimée». Такое путешествие было, очевидно, единственным в жизни ее отца, а потому и не требовало дальнейшего календарного уточнения.
Сноски к стр. 92
114 См.: Г. В. Гераков. Продолжение путевых записок. СПб., 1830, стр. 24, 29.
115 Имение выделено Н. Н. Раевскому его матерью Е. Н. Давыдовой в 1805 году (см.: А. Т. Борисевич. Генерал от кавалерии Н. Н. Раевский. Историко-биографический очерк, ч. I. СПб., 1912, стр. 150—153). При служебном формуляре Н. Н. Раевского-старшего в родословной Раевских он назван помещиком Чернского, Каширского, Черкасского, Чигиринского, Устюжского и Землянского уездов; Крым в его владения не входил. Сын же его, Н. Н. Раевский-младший, владел (помимо других поместий) имениями и в Симферопольском и Ялтинском уездах Таврической губернии, приобретенными в конце 30-х годов (см.: Б. Л. Модзалевский. Род Раевских герба Лебедь. СПб., 1908, стр. 55, 72).
116 См.: Б. В. Томашевский. Пушкин, кн. I. Изд. Академии наук СССР, М.— Л., 1956, стр. 484.
117 Попытка П. Е. Щеголева объяснить эту неожиданную букву «К» вместо «Р» желанием Пушкина отвести любопытствующих с верного пути малоубедительна. «Трудно допустить, — правильно указывал в свое время А. М. Лобода, — чтобы Пушкин в частном письме к другу умышленно выбрал инициал, не соответствующий имени своей героини: проще было бы вовсе не упоминать о нем» (Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. II. СПб., 1908, стр. 107).
Сноски к стр. 93
118 Черновой вариант: «К*** поэтически описал мне его и называл» (VIII, 2, 1000) — подвергся такой же быстрой и категорической отмене, подтверждая, что «здесь — несомненная литературная выдумка Пушкина», как говорит по другому поводу Б. В. Томашевский (Пушкин, кн. I, стр. 500). Б. Л. Недзельский справедливо полагает, что этот неожиданный мужской род глагольной формы в письме к Дельвигу вызван желанием поэта устранить неприятные для него толки о женщине, сообщившей ему бахчисарайскую легенду (Б. Л. Недзельский. Пушкин в Крыму. Симферополь, 1929, стр. 77).
119 В формулярном списке Н. Н. Раевского-младшего до 1820 года нет никаких указаний на его служебные командировки, отпуска или военные действия на Таврическом полуострове (на военной службе он находился с 10 июня 1811 года) (Б. Л. Модзалевский. Род Раевских герба Лебедь, стр. 69—72). Никаких писем членов семьи об их пребывании в Крыму за интересующий нас период в архиве Раевских не сохранилось (ср. подробные корреспонденции генерала Раевского к его старшей дочери о путешествии по Кавказу — Архив Раевских, т. I, стр. 516—525).
120 «К нежным законам стиха я приноровил звуки Ее милых и бесхитростных уст» (франц.).
121 «Литературные листки», 1824, ч. I, № 4, стр. 147.
Сноски к стр. 94
122 П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3, стр. 232.
123 М. Н. Волконская. Записки, стр. 22, 24.
124 Там же, стр. 22.
Сноски к стр. 95
125 В известном комментарии Н. Л. Бродского к «Евгению Онегину» (М., 1950, стр. 93) XXXIII строфа первой главы романа даже иллюстрируется портретом М. Н. Волконской. Но в примечании автор бегло ссылается на критические замечания Б. Л. Недзельского в указанной его книге «Пушкин в Крыму». Приведем это место из исследования Недзельского: «...в том же самом черновике находится и другая строка: „стояла над волнами над скалой“, которая рисует крымскую обстановку и вскрывает, что в рассказе М. Раевской и в отрывке Пушкина идет речь о разных фактических событиях... Естественно является вопрос: не ошиблась ли Мария Раевская, относя к себе XXXIII строфу?» (стр. 85).
126 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. II, Изд. Академии наук СССР, М., 1956, стр. 112—113.
Сноски к стр. 96
127 Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения, стр. 54.
128 П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, стр. 224.
Сноски к стр. 97
129 Там же, стр. 225.
130 G. Olizar. Pamiętniki, стр. 173—174.
131 П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, стр. 222—223.
132 См.: «Русский вестник», 1893, № 9, стр. 103.
133 См.: Литературный архив, т. I. М.—Л., 1938, стр. 143—148.
Сноски к стр. 98
134 См.: Н. Ф. Сумцов. Исследования о Пушкине. «Харьковский университетский сборник. В память А. С. Пушкина. 1799—1899», Харьков, 1900, стр. 212; П. О. Морозов — Пушкин, Сочинения, т. III, изд. Академии наук, СПб., 1912, стр. 314—315; Б. М. Соколов. М. Н. Раевская — кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М., 1922, стр. 25—28. Отметим к чести П. Е. Щеголева, что он признал невозможным относить эту элегию к М. Н. Раевской (П. Е. Щеголев. 1) Пушкин. Очерки, стр. 206; 2) Из жизни и творчества Пушкина, стр. 262).
135 См.: П. К. Губер. Дон-Жуанский список Пушкина. Пгр., 1923, стр. 77.
Сноски к стр. 99
136 Интересно замечание М. Н. Волконской в ее письме из Сибири от 20 марта 1831 года: «„Борис Годунов“ вызывает наше общее восхищение: в нем раскрывается талант нашего великого поэта, достигший полной зрелости; образы очерчены с высшей энергией и силой, сцена летописца великолепна, но, признаюсь, я не нахожу в этих стихах той поэзии, которая чаровала меня когда-то, той неподражаемой гармонии, несмотря на всю силу его теперешнего творчества» (оригинал по-французски; Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М.—Л., 1956, стр. 266).
137 Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. IV. СПб., 1910, стр. LXVIII; М. Цявловский. Два автографа Пушкина. М., 1914, стр. 8.
Сноски к стр. 100
138 Стихотворение «На холмах Грузии...» стало известно М. Н. Волконской в 1830 году в его краткой редакции (без приведенной нами строфы). Оно заканчивалось стихами: «И сердце вновь горит и любит — оттого, Что не любить оно не может». Приславшая Марии Николаевне это стихотворение В. Ф. Вяземская сообщила ей, что оно якобы посвящено невесте поэта — Н. Н. Гончаровой. Но Волконская, видимо, почувствовала, что эти строфы обращены к ней, и отвечала Вяземской необычным критическим замечанием: конец стихотворения напомнил ей условную концовку старинного французского мадригала, лишенного подлинного чувства и только свидетельствующего, «насколько поэт увлечен своей суженой» (оригинал по-французски; Пушкин. Исследования и материалы, т. I, стр. 262 и сл.). О тексте стихотворения и его композиции см.: С. Бонди. Новые страницы Пушкина. Изд. «Мир», М., 1931, стр. 27—28.