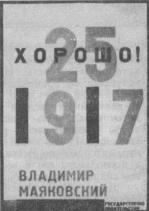- 363 -
Обложка первого издания поэмы «Хорошо!» работы Л. Лисицкого
1927
1 января в газете «Известия» напечатано стихотворение «Наше новогодие».
В начале января вышел № 1 журнала «Новый Леф» под редакцией Маяковского, с его передовой статьей «Читатель!» и стихотворением «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому».
«Леф — журнал — камень, бросаемый в болото быта и искусства, болото, грозящее достигнуть самой довоенной нормы!.. Ново в положении Лефа то, что несмотря на разрозненность работников Лефа, несмотря на отсутствие общего спрессованного журналом голоса, — Леф победил и побеждает на многих участках фронта культуры. Многое, бывшее декларацией, стало фактом. Во многих вещах, где Леф только обещал, Леф дал. Завоевания не сделали лефов академиками. Леф должен идти вперед, используя завоевания только как опыт...
Леф — видит своих союзников только в рядах работников революционного искусства. Леф — объединение только по линии работы, дела...
Мы будем бороться и с противниками новой культуры, и с вульгаризаторами Лефа, изобретателями «классических конструктивизмов» и украшательского производственничества.
Наша постоянная работа за качество, индустриализм, конструктивизм (т. е. целесообразность и экономия в искусстве) является в настоящее время параллельной основным политическим и хозяйственным лозунгам страны и должна привлечь к нам всех деятелей новой культуры» (см. т. 12).
3 января — выступление на диспуте о постановке «Ревизора» в театре Мейерхольда.
- 364 -
«Величайших произведений искусства очень у нас мало. «Ревизор», несомненно, относится по тексту и по авторскому заданию к величайшим произведениям, которые у нас есть. Но, к величайшему огорчению, величайшие произведения искусства со временем умирают, дохнут, разлагаются и не могут иметь того действия на аудиторию, не могут выпячивать так, как выпячивали бы при жизни. И величайшая заслуга человека, которому по тем или иным причинам приходится взбадривать покойников и ставить этот спектакль, — если он ставит так, чтобы усопший десять раз перевернулся в гробу от удовольствия или от недовольства... И для меня вся ценность в этом спектакле — в режиссерском ухищрении, авторской перемене, стремлении тем или иным способом взбодрить спектакль и преподнести его в острейшей сатире, в той же режущей прямолинейности, в том содрогающем величии, в каком это сделал Гоголь...
Достаточно ли Мейерхольд переделал этого «Ревизора»? Тут уже начинается вопрос трезвого учета тех или иных мест. Есть места замечательно переделанные, то есть не переделанные, а замечательно введенные, как говорил Всеволод Эмильевич, по черновым спискам. Например, место о покойницах, всплывающих на Неве, когда Хлестаков начинает хвастать, что из-за него с собой кончают и покойницы всплывают... Оставлены Бобчинский и Добчинский. Но разве Бобчинский и Добчинский — фигуры древнего прошлого, разве у нас сейчас нет таких парных Бобчинских и Добчинских? Разве Герасимов не ходит всегда с Кирилловым, разве Жаров с Уткиным не ходят обязательно парой? Это современные Бобчинские и Добчинские. И если бы он (Мейерхольд) ввел Жарова и Уткина, я бы приветствовал еще больше. И не удивился бы, потому что не предугадал их по фамилии Гоголь, а предугадал по характеру.
Второе — это вообще о постановке Гоголя: нужно ли ставить «Ревизора»? Наш ответ — лефовский ответ — конечно, отрицательный. «Ревизора» ставить не надо. Но кто виноват, что его ставят? Разве один Мейерхольд? А Маяковский не виноват, что аванс взял, а пьесу не написал? Я тоже виноват. А Анатолий Васильевич Луначарский не виноват, когда говорит «Назад к Островскому»? Виноват. А когда говорят о новаторстве и осознается как недостаток, невозможность ставить такие спектакли, когда все ушли? Может, то, что все ушли, и есть настоящий критерий того, что спектакль хорош? Мы чересчур мало оставляем места для новаторства...
И когда мне говорят, что Мейерхольд сейчас дал не так, как нужно дать, мне хочется вернуться к биографии Мейерхольда и к его положению в сегодняшнем театральном мире. Я не отдам вам Мейерхольда на растерзание... Товарищ Мейерхольд прошел длительный путь революционного и лефовского театра. Если бы Мейерхольд не ставил «Зорь», если бы Мейерхольд не ставил «Мистерии-буфф», не ставил «Рычи, Китай!», — не было бы режиссера на территории нашей, который взялся бы за современный, за революционный спектакль. И при первых колебаниях, при первой неудаче, проистекающей, может быть, из огромности задачи, собакам пошлости мы Мейерхольда не отдадим!» (см. т. 12)*.
В первых числах января написано заявление от имени группы Леф (подписанное Маяковским) в Отдел печати ЦК ВКП(б), в Комиссию по улучшению быта писателей, в Федерацию объединений советских писателей.
«Писатели Лефа настаивают на включении в «Федерацию объединений советских писателей» объединения Леф на равных основаниях с 3 уже вошедшими союзами (ВАПП, Союз писателей и Союз крестьянских писателей); и на предоставлении Лефу 7 мест в совете Федерации. Леф является объединением наиболее квалифицированной части новой советской литературы. Без представителей Лефа невозможно никакое разрешение поставленных Федерацией задач: укрепление и развитие литературы, вовлечение писателя в советское строительство и проведение ряда мер для удовлетворения правовых и экономических нужд писателей. Мы считаем печальным недоразумением, что
- 365 -
Леф не был привлечен в самом начале организации Федерации, т. к. работа Лефа с первых дней революции хорошо известна всем работникам литературы» (см. т. 13).
Это заявление Маяковский лично вручил Г. М. Кржижановскому (председателю комиссии по улучшению быта писателей) и имел с ним по этому поводу беседу. В начале февраля Леф вошел в Федерацию писателей (см. 9 февраля)*.
11 января нарком просвещения А. В. Луначарский выдал Маяковскому удостоверение, что он отправляется в Казань, Самару, Саратов, Нижний, Пензу, Ташкент, Баку, Тифлис, Кутаис, Батум для чтения лекций по вопросам искусства и литературы.
14 января — выступление в Большой аудитории Политехнического музея с докладом «Даешь изящную жизнь» и чтением стихов*.
«I. Темы: Чем вы занимались до 17-го года? 2. А ночью дан был бал в честь юной королевы. 3. Озерзамок Мирры Лохвицкой. 4. Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма. 5. Мы сами знаем, что нам красиво и что нам изящно. 6. Шоколад Миньон жрала. 7. Возвышенный удел — докладом занимать сердца. 8. Курящийся Вересаев. 9. В Париж, а пока в кружок. 10. Последний крик Петровки.
II. Новые стихи: 1. Красивое стихотворение. 2. Моя речь на показательном процессе. 3. Молодежи. 4. Письмо Горькому. 5. Мочала а ля Качалов. 6. Наш паровоз. Как втирают очки и др.
III. Ответы на записки» (афиша).
«Маяковский довольным взором обвел переполненный зал Политехнического музея и сразу же, потрясая своим огромным кулаком, обрушился на «изящную жизнь».
— Мне ненавистно все то, что осталось от старого, от быта заплывших жиром людей «изящной жизни». «Изящную жизнь» в старые времена поставляла буржуазная культура, ее литераторы, художники, поэты. Старые годы шли под знаком дорогостоящей моды, и все то, что было дешево и доступно, считалось дурным тоном, мещанством.
Сам Маяковский неоднократно сворачивал головы «канарейкам», громил кисейные занавески и пыхтящий самоварчик. Но теперь...
— Я за канареек, я утверждаю, что канарейка и кисейные занавески — большие революционные факты. Старые канарейки были съедены в 19-м году, теперь канарейка приобретается не из-за «изящной жизни», она покупается за пение, покупается населением сознательно.
Мы стали лучше жить, показался жирок, и вот снова группки делают «изящную жизнь». В нотных магазинах появились приятные, изящные романсы. Их пишут специальные поставщики.
Маяковский, вызывая всеобщий смех, демонстрирует любопытный экспонат:
Романс «А сердце в партию тянет».
Слова этого изящного произведения не уступают заголовку:
У партийца Епишки
Партийные книжки,
На плечиках френчик,
Язык, как бубенчик....Так стараются выполнить «заказ» старые специалисты.
Маяковский против них.
— Пролетариат сам найдет то, что для него изящно и красиво» (см. т. 12)*.
Выступление Маяковского транслировалось по радио.
- 366 -
В январе в журнале «Пионер» (№ 1) напечатано стихотворение «История Власа, лентяя и лоботряса».
В журнале «Бузотер» (№ 3) — стихотворение «Бумажные ужасы».
16 января в газете «Известия» напечатано стихотворение «Стабилизация быта».
16 января выехал в лекционную поездку в Нижний Новгород, Казань, Пензу, Самару, Саратов.
17 января — выступление в Нижнем Новгороде, в Гостеатре*.
Афиша: «I. Доклад. Лицо левой литературы. Темы: Что такое левая литература? Как выучиться в 5 уроков писать стихи? Стихийное бедствие. Поп или мастер. Можно ли рифму забыть в трамвае? Львицы с гривами и марш с кавычками. Поэты, зубные врачи и служители культа. Как нарисовать женщину, скрывающую свои годы? Асеев, Кирсанов, Пастернак, Сельвинский, Каменский и др. Что такое новый Леф? Есенинство и гитары.
II. Стихи и поэмы: Разговор поэта с фининспектором. Сергею Есенину. Письмо Максиму Горькому. Критикам. Строго воспрещается. О том, как втирают очки. Собачки. Приговор. Ненависть к бумаге. Теодор Нетте. III. Ответы на записки».
18 января (днем) — второе выступление в Нижнем Новгороде, на собрании литературной группы «Молодая гвардия».
«Литературная группа «Молодая гвардия», объединявшая литературный молодняк, решила просить Владимира Владимировича прийти на собрание группы. Не без волнения отправилась делегация группы в гостиницу «Россия», где остановился поэт. Робко вошли мы — Б. Рюриков, Ф. Жиженков и я — в номер, занимаемый Маяковским. Владимир Владимирович встретил нас тепло и обещал прийти. За пять минут до начала собрания (оно было назначено в 4 часа дня) Маяковский явился в редакцию газеты «Молодая рать». Мы думали, что он будет делать доклад о литературе, но он отказался.
— Пусть товарищи почитают, а я послушаю» (М. Шестериков, 1940)*.
«...Так и сделали — и не пожалели. Это был замечательный урок, данный большим поэтом литературному молодняку. Один из наших товарищей читал стихи, — стихи были о любви, и в них поэт обращался к любимой с традиционным вопросом: «Ты скажи кудрявому поэту, любишь иль не любишь ты его». Маяковский стоял и внимательно слушал. А когда кончилось чтение, он вдруг шагнул к поэту и быстрым движением руки сдернул с него кепку. Мы увидели наголо остриженную голову:
— Ну, зачем же вы, — бас Владимира Владимировича звучал укоризненно, — зачем вы пишете о кудрявом поэте? Раньше, до вас, так писали, а вы повторяете.
...Кто-то задал ему вопрос:
— Почему, Владимир Владимирович, вы все пишете о недостатках, о грязи, не пишете о прекрасном, о розах?
— Я не могу не писать о грязи, об отрицательном, потому что в жизни еще очень много дряни, оставшейся от старого. Я помогаю выметать эту дрянь. Уберем дрянь, расцветут розы, напишу и о них...» (Б. Рюриков. 1940)*.
В тот же день (вечером) — третье выступление в Нижнем Новгороде, в Гостеатре.
Афиша: «I. Доклад-путешествие. Идем путешествовать! Германия, Франция, Соединенные Штаты, Испания, Гавана, Атлантический океан. II. Темы: Поэт и Рапалло. Негритянки в воде. Почему вы там не остались?
- 367 -
Тореадор. Что такое океан? Картошка и ананас. Классовая борьба на пароходе. Живые индейцы. Буря. Тропический лес. Нью-Йорк и Винница. Американская мораль.
III. Стихи и поэмы: Как собаке здрасите. Немцам. По воздуху. Берлин — Париж. Собор Парижской богоматери. Версаль. 6 монахинь. Негр Вилли. Тропики. Мать моя, мамочка. Барышня и Вульворт. Кемп Нит гедайге. Прощание.
IV. Ответы на записки».
20 января — выступление в Казани в Оперном театре с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.
«Такой большой и мощный, как его образы. Над переносицей — вертикальная морщина. Тяжелый, слегка выдающийся подбородок. Фигура волжского грузчика. Голос — трибуна. Юмор почти без улыбки. Одет в обыкновенный совработничий пиджак. На эстраде чувствует себя дома. К аудитории относится дружески-покровительственно. Начиная доклад, В. В. Маяковский напомнил слушателям, что он уже выступал в Казани 13 лет назад вместе со своими соратниками по искусству В. Каменским и Д. Бурлюком. «Это было в те далекие времена, когда «помощники присяжных поверенных» говорили про нас, что этих-де молодых людей в желтых кофтах хватит не более как на две недели. Но пророчества эти, как видите, опровергнуты уже тем, что я по прошествии 13 лет опять стою перед казанской аудиторией...» Второе и третье отделения были посвящены чтению стихов и ответам на записки. В ответах на записки Маяковский, не скупясь, сыпал блестки своего юмора, которые, вероятно, когда-нибудь будут подобраны, как подобраны и изданы шутки Тютчева, прозвучавшие людям более полстолетия тому назад.
Касаясь положения в литературе, Маяковский сказал: «Левый фронт является в настоящее время наиболее ярким крылом в искусстве и представители его завоевывают все большее и большее место в поэзии, драматургии, живописи, архитектуре и даже кино.
С другими литературными течениями нам не по пути по многим причинам. От ВАППа нас отталкивает его убогая неквалифицированная литературная продукция. Небрежное отношение большинства поэтов к литературной работе вообще очень характерно для нашего времени». («Красная Татария» (Казань), 1927, 22 января)*.
21 января (днем) — второе выступление в Казани, в университете*.
«Студенты еще в театре пытались договориться с Маяковским о выступлении в университете. Они пришли на следующий день утром. Выступление было назначено на два часа дня. И хотя объявить об этом они смогли, вероятно, только за час или за два до начала, аудитория была так же переполнена, как театр накануне.
Было 21 января, третья годовщина со дня смерти Ленина. И Маяковский читал отрывки из поэмы «Ленин» перед молодежной аудиторией с каким-то особенным чувством, оттеняя каждое слово — строго и вместе с тем любовно, просто и вдохновенно» (П. Лавут, 1940).
В тот же день (вечером) — третье выступление в Казани, в Оперном театре: «Доклад-путешествие «Идем путешествовать!».
«Я путешествую для того, чтобы взглянуть глазами советского человека на культурные достижения Запада. Я стремлюсь услышать новые ритмы, увидеть новые факты и потом передать их моему читателю и слушателю. Путешествую я, следовательно, не только для собственного удовольствия, но и в интересах всей нашей страны». ...Далее тов. Маяковский переходит к чтению стихов, посвященных перелету и французским и испанским впечатлениям... Последними тов. Маяковский прочел стихи «Барышня и Вульворт» и «Домой!» («Красная Татария», 1927, 26 января).
- 368 -
22 января — четвертое выступление в Казани, для татарских поэтов и писателей в Татарском театральном техникуме*.
«Маяковский провел беседу с писателями и театральной молодежью. Эта теплая дружеская беседа была в бывшем здании Татарского театрального техникума. Здесь он говорил о задачах, стоящих перед советскими поэтами, учил, как надо работать над стихом.
Непревзойденный чтец, Маяковский читал не только свои стихи. Так, например, впервые в Казани прозвучала ставшая потом популярной «Гренада» комсомольского поэта Михаила Светлова. Помню, об этом стихотворении Маяковский отозвался как о талантливом». (А. Кутуй, 1940)*.
24 января (днем) — выступление в Пензе, в номере гостиницы для рабкоров*.
«Утром пришли рабкоры, просят выступить у них. Времени нет, но Маяковский предлагает единственно возможное: собраться у него в номере в пять. Администрация гостиницы смущена количеством гостей: около пятидесяти рабкоров всеми правдами и неправдами размещаются в номере. Натаскали стульев, но их не хватило, садятся по двое, переполняют диваны, усаживаются просто на полу. Только Маяковский не садится, утесом возвышаясь над всеми. Необычное собрание ему очень импонирует. Гости интересуются проблемами его творчества, проблемами советской литературы. Маяковский охотно и приветливо дает подробные ответы. Постепенно отбрасывая смущение, рабкоры наперебой забрасывают Маяковского вопросами и уходят только тогда, когда ему пора идти в театр» (П. Лавут, 1940)*.
В тот же день (вечером) — второе выступление в Пензе, в Народном доме им. Луначарского: «Идем путешествовать!»
Вокруг имени Маяковского до сих пор еще не остыли горячие споры и литературные пересуды. И думается, что в связи с поездками поэта по Союзу они еще ярче зажгутся в литературно-критической среде и на этот раз вовлекут в свою орбиту более широкие слои читательской массы. Тому порукой, в частности, пример пензенского выступления тов. Маяковского, вызвавшего несомненный интерес у слушателей» («Трудовая правда» (Пенза), 1927, 27 января).
26 января — выступление в Самаре, в партийном клубе с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.
«Зал губкома переполнен. На эстраде — громадный Маяковский. Голосищем своим, рожденным, чтобы перекликаться с громами, он бросает в зал слова вступительного доклада. Каждое слово, как громыхающий поезд, наезжает на толпу. Маяковский говорит о «лице левой литературы».
Леф ставит своей задачей максимальное внимание к форме, резкое отмежевание от старых навыков. Даже такие поэты, как Жаров и Уткин, небрежным отношением к форме уродуют свои стихи... Но все же и у пролетарских поэтов Маяковский находит безукоризненные произведения, как, например, поэма М. Светлова «Гренада», несколько строк из которой Маяковский приводит... Борьба за квалификацию литературы — борьба за ее существование и за существование поэта. Мало только писать и читать книжки. Надо говорить о трудностях писательского ремесла. Иначе расплодятся тучи поэтов — бездельников и дармоедов, ничего не имеющих общего с настоящим мастерством.
Во второй половине вечера Маяковский читает свои стихи, перемежая их с ответами на записки. На столе груда записок. Маяковский кладет на них свою громадную руку и говорит, что наверняка большой процент вопросов — об его отношении к Есенину. Есенин, по мнению Маяковского, не был идеологом
- 369 -
хулиганства, как теперь пытаются его изобразить некоторые критики. Он перепевал старую лирику. Цыганщина, «семиструнная гитара», звучавшая в русской поэзии еще со времени Аполлона Григорьева, перепевалась Есениным на тысячи ладов. Пьяный угар, кликушество, распутиновщина под маской кудрявого Леля — вот что вредно в поэзии Есенина. Он шел по линии наименьшего сопротивления...» («Коммуна» (Самара), 1927, 28 января).
«Стихи свои читает Маяковский мастерски: без тени актерства, с мощной простотой, углубляя и слегка растягивая ударные слова встряхивающим стены неиссякаемым своим голосом.
Были прочитаны: «Стихи о солнце», «Сергею Есенину», «Теодору Нетте — пароходу и человеку», «Юбилейное — Пушкину», «Левый марш», «Севастополь — Ялта», «Замок Тамары» и «Письмо писателя В. В. Маяковского писателю М. Горькому», последнее по времени написания стихотворение» («Коммуна» (Самара), 1927, 30 января).
27 января (днем) — второе выступление в Самаре — для членов союза работников просвещения, в зале рабфака, с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.
В тот же день (в 7 часов веч.) — третье выступление в Самаре, в клубе рабкоров.
«Вчера В. Маяковский, желая познакомиться с самарскими рабкорами, заглянул в их клуб. В приветственном слове Маяковский отметил, что рабкоры есть база, откуда должны черпаться литературные силы. Маяковским было прочитано несколько стихотворений. Рабкория тепло приветствовала московского гостя» («Коммуна» (Самара), 1927, 28 января).
В тот же день — четвертое выступление в Самаре, в партийном клубе: «Идем путешествовать!»
«Сегодня вечер путешествий. Москва — Кенигсберг по воздуху с летчиком Шебановым, участником известного перелета в Китай.
...Маяковский очень сжато рассказывает, даже скупо, но подбирает такие реалистические подробности, которые приближают к самому лицу невиданную страну. В Испании он останавливался всего на два часа и успел увидеть только вывеску на каком-то складе с большой испанской надписью и двух ослов, спускающихся с горы... Великолепно передан океан и океанский пароход, словно вы сами там побывали и почувствовали вокруг себя громадную пустыню воды... Каждый этап путешествия ознаменован стихотворением... В каждом заграничном стихотворении Маяковского просвечивает связь его с Россией, с революцией» («Коммуна» (Самара), 1927, 30 января).
28 января выехал через Пензу в Саратов.
29 января — выступление в Саратове, в зале Народного дворца с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.
«Вчера, при переполненном зрительном зале Народного дворца, состоялась первая лекция Вл. Маяковского — «Лицо левой литературы». Маяковский — блестящий лектор и оратор. Он умеет заинтересовывать слушателя, держа в напряжении его внимание до конца, зажечь его. Умеет ставить вопросы — иногда парадоксально, но всегда в заостренном виде и всегда интересно. Такой была и настоящая лекция, после которой слушатели устроили лектару-поэту шумную и продолжительную овацию. После лекции Маяковский прочитал ряд своих произведений — и в них он также оказался большим мастером слова, умеющим подняться до настоящего художественного пафоса» («Известия» (Саратов), 1927, 30 января).
- 370 -
«На эстраде большая монументальная фигура. Почти на голову выше высокого человека. Голос — способный заглушить рев шторма, покрыть сотни других голосов — дружеских и враждебных. Большие размашистые руки. Такой же, размашистый, смелый жест, увеличивающий силу и выразительность речи.
Маяковский по натуре — боец, а боец должен быть и смелым и дерзким и беспощадным в борьбе. Отсюда — «все его качества». Портрет Маяковского надо рисовать не «киселем и молоком» (выражение друга его Бурлюка), а лепить из цемента, замешенного на купоросе: Маяковский разрушает, разъедает то, что ему ненавистно, и одновременно строит — правильнее: хочет строить новую жизнь и новую «левую» литературу.
Нашей литературе угрожает опасность: ее захлестывает безграмотность. Писатели, особенно поэты, плодятся с быстротой бактерий. Человек часто становится писателем еще до написания им книги и «знаменитостью» — по выходе ее. Возведению в сан «знаменитости» обыкновенно помогают друзья-критики, забывая, что литературная работа — работа трудная, ответственная, требующая высокой квалификации.
От пренебрежения формой несвободны и поэты, несомненно даровитые и популярные, как, например, А. Жаров или Уткин. Маяковский приводит примеры неряшливого их обращения со стихами — например, у Жарова: «бескрайный непочатый ломоть»; это бессмысленный набор слов, ибо ломоть не может быть непочатым, — он всегда початый кусок хлеба. Хуже всего то, что появились даже специальные «пособия», содействующие распространению литературной безграмотности, вроде книжки Шенгели. Оказывается, рецепт писания стихов очень прост — он заимствован из пресловутого, изданного еще до революции «Словаря рифм» Абрамова. Рифмуй примерно слова боа, амплуа, профессион-де-фуа — и будешь поэтом! Книжку Шенгели правильнее было бы назвать не как сделаться поэтом, а как сделаться дураком... Настоящий поэт лучше с голоду умрет, чем пустит в обращение стихотворение с плохой или неряшливой рифмой.
Каково отношение Лефа к другим литературным группировкам. Политически наиболее близкая Лефу группировка это — ВАПП — Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей. Почему же, говорит Маяковский, мы не сливаемся с ней? Разница — в формальном подходе к литературе: вапповцы ради содержания пренебрегают формой, изощренным мастерством, без которого нет настоящей литературы, нет искусства» («Известия» (Саратов), 1927, 2 февраля).
30 января — второе выступление в Саратове, в зале Народного дворца: «Идем путешествовать!»*.
«Второй вечер собрал еще больше публики, чем предыдущий, и прошел при повышенном интересе к докладу и особенно к прениям, возникшим при оглашении записок. Обмен мнениями минутами подымался до предельных градусов полемического термометра... Это объясняется тем, что были подняты вопросы большого принципиального и практического значения в творчестве писателя» («Известия» (Саратов), 1927, 1 февраля).
«Передавая впечатления с острова Кубы, Маяковский рисует положение негров и вообще людей цветных рас.
— Помните, — обратился Маяковский к аудитории, — что в случае интервенции из нас сделают таких же рабов. Поэтому не выпускайте из рук винтовки!
Эти слова были покрыты громом аплодисментов.
...На обоих вечерах Маяковский буквально был засыпан записками. В ответах и в возникших по поводу их прениях Маяковский показал себя превосходным полемистом: находчивым, остроумным, смелым, едким и виртуозно-изворотливым, подчас с убийственной меткостью парирующим удары.
...Один из присутствующих бросил по адресу Маяковского:
— Ваши стихи непонятны!
— Кто их не понимает?
- 371 -
— Да я, например.
— Хорошо. Стихи должны быть понятны, но и читатель должен быть понятлив!
— А если вы пишете так, что нельзя понять?
— Научитесь понимать! Нельзя же так ставить вопрос: если я не понимаю, — значит, дурак писатель, а не кто другой.
...На эстраде появляется рабочий и заявляет:
— В нашем клубе часто читают стихи Маяковского, и рабочие их любят и хорошо понимают.
Снова разгорается продолжительный спор, так и не получивший, конечно, разрешения...» («Известия» (Саратов), 1927, 2 февраля).
2 февраля Маяковский вернулся в Москву.
В конце января — начале февраля написано стихотворение «По городам Союза»*.
4 февраля — письмо ВОКС в административный отдел Московского Совета по поводу заграничного паспорта Маяковского в связи с предстоящей поездкой в Польшу, Чехословакию и Францию.
«В. В. Маяковский делегируется обществом культурной связи с заграницей в Варшаву, Прагу и Париж для прочтения докладов. Левые писательские круги как Польши, так и Чехословакии приветствуют приезд т. Маяковского и придают ему большое значение».
Первые числа февраля — переговоры с представителем ленинградских академических театров режиссером В. Раппапортом о пьесе к десятилетию Октябрьской революции.
Комиссия по организации празднеств, созданная в январе 1927 года при Управлении ленинградских академических театров, решила «поручить скорейший заказ литературной обработки темы «Октябрь» ряду значительных литераторов», в том числе Маяковскому. 6 февраля вернувшийся из Москвы В. Раппапорт доложил на заседании комиссии, что Демьян Бедный «выдвинул кандидатуру на аналогичную работу Маяковского, на которого возлагает большие надежды в такой работе.
В. Маяковский в данное время занят написанием поэмы «Х-летие Октября», специальной драматической пьесы и специального сценария, который он хотел переделывать в комедию. Предложение Комиссии для него вполне приемлемо. 7. II-27 г. по этому поводу Маяковский повидается с Экскузовичем и даст более определенный ответ» (см. далее 7 и 16 февраля)*.
7 февраля Маяковский участвовал в совещании работников искусств, созванном в Кремле Комиссией при ЦИК СССР по проведению празднеств десятой годовщины Октябрьской революции*.
На этом совещании Маяковский, видимо, сообщил директору ленинградских академических театров И. В. Экскузовичу о своем согласии написать пьесу (см. выше первые числа февраля).
«Комиссией по организации празднеств десятилетия Октябрьской революции получено согласие Маяковского дать специальную литературную обработку теме юбилея, которая ляжет в основу особого типа праздничного представления, намеченного к постановке в Большом оперном театре (Ленинград) с участием всех родов театра» («Жизнь искусства», 1927, № 7, 15 февраля)*.
Давая согласие на эту работу, Маяковский имел в виду свою поэму, посвященную
- 372 -
десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Названия еще не было, но совершенно очевидно, что Маяковский уже над ней работал.
Первая часть поэмы (главы 2—8) была написана зимой — весной 1927 года и представлена в Управление ленинградских академических театров для дальнейшей сценической обработки силами театра (см. 16 февраля, 15 июня, середина августа, 25 октября).
Главы 9—17 и 1-я, вступительная, были написаны в мае — июле, и две последние, 18-я и 19-я, закончены в июле — августе 1927 года в Крыму. Первый отрывок из поэмы был напечатан в июньском номере журнала «Новый Леф» (см. также 5 июня, 4, 6, 22 июля и далее).
9 февраля участвовал в заседании Совета Федерации писателей. Обсуждался вопрос о вхождении группы Леф в Федерацию (см. начало января).
По уставу Федерации три организации-учредители — ВАПП, ВСП и ВОКП — имели по семи голосов в Совете. Решения по всем важнейшим вопросам должны были приниматься единогласно. Маяковский протестовал против предложения ограничить вновь принимаемые организации четырьмя голосами и против права вето каждого из учредителей на все решения Федерации.
В устав были внесены некоторые поправки, но основные пункты остались без изменения. Группа «Новый Леф» была принята в Федерацию с четырьмя голосами в Совете. Маяковский вошел в Совет и в Исполбюро Федерации*.
13 февраля — выступление в Коммунистической академии на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи (есенинщина)».
«...Ставить знак равенства между всем упадочничеством и Есениным — бессмысленно. Упадочничество — явление значительно более серьезное, более сложное и большее по размерам, чем Сергей Есенин. Я не берусь говорить о разных причинах упадочничества и о различных формах его проявления. Я начну разговор с того именно, на чем кончили тт. Сосновский и Полонский, — с вопроса о литературе: как это упадочничество в литературе отражается, виноват ли в этом Есенин, или какая-то легендарная есенинщина, которая родилась после смерти Сергея Есенина и пошла гулять по Советскому Союзу...
Прежде всего и раньше всего — про ценность Есенина. Он умел писать стихи? Это ерунда сущая. Пустяковая работа. Сейчас все пишут и очень недурно. Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? (аплодисменты). И если ты даже скапутился на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: «Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная» (аплодисменты)...
Вопрос о С. Есенине — это вопрос о форме, вопрос о подходе к деланию стиха так, чтобы он внедрялся в тот участок мозга, сердца, куда иным путем не влезешь, а только поэзией...
Я очень советую, товарищи, следующий доклад поставить на тему о редакторской критике, потому что Есенины сами по себе не так страшны, а страшно то, что делают из них тт. Полонские, тт. Воронские и тт. Сосновские.
Есенин не был мирной фигуркой при жизни, и нам безразлично, даже почти приятно, что он не был таковым. Мы его взяли со всеми его недостатками, как тип хулигана, который, по классификации т. Луначарского, мог быть использован для революции. Но то, что сейчас делают из Сергея Есенина, это нами самими выдуманное безобразие» (см. т. 12)*.
Продолжение диспута — 5 марта.
14 февраля был (?) на Совещании о праздновании 10-летия Октябрьской революции в Обществе старых большевиков*.
- 373 -
16 февраля заключил договор с Управлением ленинградских академических театров на текст для юбилейного «синтетического» представления.
«1. Предмет договора: автор обязуется изготовить и представить для ленинградских государственных академических театров по случаю десятилетия пролетарской революции законченное художественное произведение (литературная обработка темы) «Октябрь», каковое могло бы послужить канвой для синтетического спектакля, сценарий которого будет разработан самими Академическими театрами; выбор литературной формы произведения предоставляется автору. Дирекции принадлежит право при развертывании литературной обработки темы спектакля приглашать для этой цели авторов по своему выбору и вырабатывать как формы театрального представления, так и его текстовой и музыкальный материал, причем текстовой с согласия автора.
2. Срок: автор обязуется представить свое произведение к 15 июня 1927 года».
В феврале вышел № 2 журнала «Новый Леф» со стихотворением «Нашему юношеству», статьей «Караул!» и 4-й частью сценария Маяковского «Как поживаете?».
В хронике заметка — «работает над поэмой к десятилетию Октября».
18 февраля выехал в лекционную поездку в Тулу, Курск, Харьков, Киев.
18 февраля — выступление в Туле в зале Дома Советов — «Идем путешествовать!».
«Маяковский вышел на сцену без всяких объявлений.
— Не успел я приехать в Тулу, не успел выпить чаю с плюшкой, как мне уже сообщили, что буржуазия моих стихов не читает потому, что меня ненавидит, а рабочие не читают моих стихов потому, что не понимают...
По залу пробежал смех.
— Но все же попробуем. Может быть, что и выйдет. Читаю «Океан!».
Читал с большим подъемом, в абсолютной тишине... Аудитория бурно аплодировала.
Маяковский сказал:
— Это стихотворение было впервые напечатано в «Известиях». Как вы считаете, товарищи, нужно такие стихи печатать в газетах?
— Нужно! — раздалось в зале.
— Так! Кто против?
Поднялась одна рука.
— Кто это там голосует? — спросил Маяковский. — Встаньте!
Человек встал.
— Почему вы против?
— Не люблю ваших стихов.
Маяковский обратился к аудитории:
— Товарищи, боюсь, что этот гражданин — газетный работник. Он может завтра ввести в заблуждение весь город, пользуясь своим положением.
— Не введет! — загудели голоса.
Маяковский попал не в бровь, а в глаз. «Гражданин» действительно работал в газете...
Потом Маяковский читал «Шесть монахинь», которые влезли на борт парохода «Эспань». Из зала кто-то крикнул:
— Я против слова «стервозы». Пусть это о монахинях, но нельзя же в литературе так выражаться!
— А скажите, как их назвать иначе? — саркастически спросил поэт.
- 374 -
Смех, аплодисменты.
— Ну вот, опять только один против... Я прочту стихи «Сергею Есенину». Это одно из лучших моих стихотворений.
— Владимир Владимирович! Вы одну фразу пропустили, — обратился я к Маяковскому, когда он кончил читать. Поэт шагнул к краю сцены, наклонился, чтоб его слышней было (я сидел во втором ряду).
— Что я пропустил?
— А вот ту строфу, в которой говорится о гостинице «Англетер».
— Вы в «Новом мире» читали это стихотворение?
— Да.
— Я эту строфу не читаю со сцены. Она воспринимается неважно» (М. Кольчугин, 1940)*.
19 февраля — выступление в Курске в Железнодорожном клубе с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.
Среди стихов, прочитанных на этом вечере, было «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник, работы Владимира Маяковского»*.
Во всех выступлениях в Курске, Харькове и Киеве 19—28 февраля принимал участие Н. Асеев.
20 февраля — второе выступление в Курске в Железнодорожном клубе с докладом «Идем путешествовать!» и чтением стихов*.
22 февраля — выступление в Харькове в Драматическом театре с докладом «Даешь изящную жизнь» и чтением стихов*.
Афиша: «Маяковский. Доклад «Даешь изящную жизнь». Темы: Первый жирок. Озерзамок с кулуарами. Бал в честь юной королевы. Желтые ботинки, Брюсов и бандаж. Пролетарий сам знает, что ему изящно и что ему красиво. Хвостатый ресторатор. Рогатый утенок. Курящийся Вересаев. Канарейки или страусы. Новые стихи и поэмы: Нашим юношам. Эпоха фрака. Теремок Толстикова. Замерзающая земля. Письмо Горькому. Показательная речь. С и без».
«На этот раз Маяковский говорил об изящной жизни. По определению поэта, мы сейчас обросли жирком — жирком времени и жирком материальных ресурсов. Этот жирок часто влечет за собой переход от быта к дурной бытовщине. Что такое бытовщина? — торжество старой формы, стремящейся приспособиться к новому содержанию. Это — красная иконопись — красноармеец интернационального полка, разделанный под Георгия Победоносца. Романс Чуж-Чуженина «А сердце-то в партию тянет», восточные кинофильмы с экзотикой под рахат-лукум и пряная сладость. Бытовщина — это огромное зло, величайшая опасность. Маяковский издевается над всем этим талантливо и остро...
Он говорил о поэзии разоблачительства. Нам же в гораздо большей степени нужна поэзия строительства, чем разрушительства.
Во втором отделении читал Н. Н. Асеев, обнаруживший в своих стихах «Синие гусары», «Заплыв» большое мастерство. С большим подъемом выступал и Маяковский. Его огромное поэтическое дарование сделало шаг вперед. Маяковский научился на злободневные темы писать высокохудожественные вещи. Это его огромная заслуга» («Пролетарий» (Харьков), 1927, 24 февраля).
23 февраля — второе выступление в Харькове, в Технологическом институте.
24 февраля — выступление в Киеве, в Доме коммунистического просвещения с докладом «Даешь изящную жизнь» и чтением стихов*.
- 375 -
26 февраля — второе выступление в Киеве, в Институте народного хозяйства.
27 февраля — третье выступление в Киеве, в университете.
28 февраля (днем) — выступление в Харькове, в Институте народного хозяйства.
В тот же день (вечером) — выступление в Харькове, в библиотеке им. Короленко для членов Союза работников просвещения*.
1 или 2 марта вернулся в Москву.
5 марта под председательством Маяковского заседание сотрудников «Нового Лефа» по поводу статей М. Ольшевца и В. Полонского в «Известиях» (28 января, 25 и 27 февраля), направленных против журнала «Новый Леф» и Маяковского.
«Сам факт появления этих статей удовлетворителен. Главное, что угрожало нам, это сознательное замалчивание Лефа. Не выдержали — прорвало. Мы били, но не думали, что так больно. Крик большой — три статьи длиною с целый «Леф». А если принять в соображение тираж «Известий», то это больше веса годовой продукции лефов... Полонский ощущает выход «Нового Лефа» как прорыв какой-то своей несуществующей монополии. Это — самый вредный тип редакторов... Полонскому ненавистна всякая художественная группировка. Отсюда слова: «Порознь вы хороши, а вместе не годитесь». Отсюда испытанные навыки борьбы: обвинения в комплоте, попытки перекупить, сманить отдельные «имена», временно соблазнить сверхтарифной оплатой, подкупить авансами — и в результате отнивелировать всех под свой средненький вкус... Но «Леф» настаивает на своем праве иметь ежемесячно свои три листа, где сотрудники связаны не только общей гонорарной ведомостью, но и общим методом работы и художественными задачами. Это необходимо для улучшения качества того самого хлеба, который «Леф» дает советской культуре... Мы должны иметь свою комнату, где могли бы подготовлять наши выступления на общесоветских мирах, новях и нивах. Но Полонский уже толкует о каком-то комплоте. Тут он, действительно, в комплот, как муха в компот. Нельзя же называть комплотом оркестр, готовящийся к общесоветскому выступлению...
(После прений)
Ввиду полного единодушия в оценке Ольшевца — Полонского прения прекращаю. Ставлю на голосование вопрос: отвечать ли им на страницах «Нового Лефа»? Кто против — подымите руки. Подавляющее большинство против». Постановили: не отвечать (см. т. 12).
В тот же день — второе выступление в Комакадемии на диспуте «Упадочные настроения среди молодежи» (см. т. 12).
6 марта — выступление в Политехническом музее на диспуте о произведениях С. Малашкина «Луна с правой стороны» и П. Романова «Без черемухи»*.
8 марта, в Международный женский день, в газете «Труд» напечатано стихотворение «Вместо оды».
9 марта участвовал в заседании Исполбюро Федерации писателей.
Обсуждался вопрос об организации издательства при Федерации. Маяковский внес предложение закрепить за каждой группой, входящей в Федерацию, определенное количество листов. Вопрос не был решен и перенесен на следующее заседание (см. 14 марта)*.
- 376 -
В начале марта в журнале «Бузотер» (№ 9) напечатано стихотворение «Даешь изящную жизнь!».
Вышел сборник комсомольских стихов 1924—1926 годов «Мы и прадеды» (изд. «Молодая гвардия»).
10 марта в газете «Известия» напечатано стихотворение «Вдохновенная речь про то, как деньги увеличить и уберечь» (в связи с выпуском государственного выигрышного займа).
11 марта в «Рабочей газете» напечатано стихотворение «Лезьте в глаза, влетайте в уши слова вот этих лозунгов и частушек».
12 марта в газете «Труд» напечатано стихотворение «Февраль» (в связи с десятилетием свержения самодержавия).
12 марта в газете «Молодой ленинец» напечатано стихотворение «Корона и кепка» (в связи с десятилетием свержения самодержавия). Это же стихотворение одновременно — в журнале «Бузотер» (№ 10), в журнале «Октябрьские всходы» (№ 5, Харьков), в журнале «7 дней» (Ташкент, № 11).
13 марта — выступление на вечере сотрудников Госиздата: «Леф или блеф?»*.
14 марта участвовал в заседании Исполбюро Федерации писателей.
Обсуждался вопрос об организации издательства. Предложение Маяковского (см. 9 марта) было принято с некоторыми поправками*.
18 марта, в день памяти Парижской коммуны, в газете «Труд» напечатано стихотворение «Первые коммунары».
20—21 марта — поездка в Ярославль.
21 марта — выступление в Ярославле в Городском театре: «Мое открытие Америки».
«Вечер прошел оживленно и интересно. Поэт рассказывал (а он хорошо рассказывает) о своем путешествии в Америку и попутно читал стихи: «Нотр-Дам», «Океан», «Белый и черный» и др. После одного из перерывов Владимир Маяковский сообщил радиограмму «Северного рабочего» о взятии Шанхая, встреченную громом аплодисментов» («Северный рабочий» (Ярославль), 1927, 23 марта).
22 марта написано стихотворение «Лучший стих» о выступлении в Ярославле 21 марта.
23 марта в газете «Труд» напечатано стихотворение «Лучший стих».
23 марта — выступление с докладом и заключительным словом в Большой аудитории Политехнического музея на диспуте «Леф или блеф?» (в связи со статьями В. Полонского в «Известиях»).
Тезисы (по афише): «Что такое Леф? Что необходимо, чтобы называть лефистом? Где теория Лефа? Где практика Лефа? С кем вы? «Блеф» — его пригорки и ручейки. Можно ли разводить людей для плача? Лев Толстой и Леф. Лев Толстой и блеф. Александр Пушкин, как редактор. Будущее по Эдгару По. Куда идет нелефовская литература и что в нее заворачивают? Леф и кино. Формальный метод и марксизм. Значение тематики сейчас».
- 377 -
«Лефистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит «с ненавистью»? Сжечь, долой все старое? Нет. Лучше использовать старую культуру, как учебное пособие для сегодняшнего дня, постольку поскольку она не давит современную живую культуру. Это одно. И второе, что для передачи всего грандиозного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционизирование литературы. Вот эти два положения делают человека лефистом.
...На первых же порах Леф заключил соглашение с ВАППом. На каких основаниях? А вот на каких. Мы даем право политического голоса ВАППу за нас не персонально, а потому что ВАПП являлся, должен был являться и во всяком случае в идеале должен быть таким, — голосом партии в области искусства. Мы сознательно отдавали свои голоса тем, кто несет знамя партии, знамя революции. В области же культуры мы говорим, что мы сохраняем самобытность своих художественных форм и будем спорить по формальным, техническим и технологическим формам искусства...
...Чем же вредна эта статья (Полонского)? Тем, что она идет против всей современной литературной линии, которой после резолюции ЦК за художественными группировками признано право на максимальное художественное оформление и самоопределение...
От имени кого же выступает т. Полонский? Он выступает как редактор трех журналов, не терпящий никакой мысли отборщик, кроме его персональной мысли» (см. т. 12).
После диспута полемика с Маяковским была продолжена Полонским в журн. «Новый мир», где он напечатал в № 5 статью «Блеф продолжается», где в крайне резкой и запальчивой форме критиковал Маяковского, начиная с самых ранних стихов*.
В марте в журнале «Молодая гвардия» (№ 3) напечатано стихотворение «Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели».
В журнале «Бузотер» (№ 11) — стихотворение «Фабриканты оптимистов».
Вышел № 3 журнала «Новый Леф» со стихотворением «За что боролись?» и заметкой «Корректура читателей и слушателей» о поправках и дополнениях к стихотворению «Нашему юношеству».
«Я напечатал стих в Лефе и, пользуясь своей лекционной поездкой в Харьков и Киев, проверил строки на украинской аудитории. С удовольствием и с благодарностью для полной ясности и действенности вношу всю сделанную корректуру...»
24 марта выехал в лекционную поездку в Смоленск, Витебск, Минск.
25 марта — выступление в Смоленске в Городском театре с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.
«Аудитория не совсем дружелюбно встретила Маяковского. Причины: неприятная развязность поэта, его не изжитое еще самохвальство, не совсем обоснованный доклад о «Лице левой литературы». Лица, даже личика левой литературы Маяковский не показал.
Доклад, в общем, свелся к двум основным лефовским положениям: литературное наследие, как учебный материал, и творчество новых форм. Все это поэт обосновал целым рядом веселых, анекдотических примеров. Серьезных доказательств, убеждающих аудиторию, Маяковским приведено почти не было. Но даже в таком веселом виде доклад не избежал некоторой противоречивости.
Но если доклад Маяковского не свидетельствовал о глубоком мастерстве
- 378 -
его в этой области, то стихи, прочитанные им, говорили о его большом словесном мастерстве и имели вполне заслуженный успех. Стихи на актуальные темы нашей современности в его чтении были более выразительны и вразумительны. В итоге можно пожалеть о несерьезном веселом подходе к литературе, а также к аудитории. Пора уже Владимиру Маяковскому и на провинциальной эстраде говорить серьезно и начистоту, без утайки!» («Рабочий путь» (Смоленск), 1927, 27 марта).
Во время выступлений в Смоленске, Витебске и Минске Маяковский организовал через местные отделения Госиздата продажу журнала «Новый Леф» и прием подписки. В каждом таком случае Маяковский брал справки о количестве проданных экземпляров для представления в контору подписных изданий Госиздата в доказательство того, что при желании и инициативе журнал «Новый Леф» можно распространять без остатков.
26 марта — выступление в Витебске во 2-м Гостеатре Белоруссии с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.
27 марта — выступление в Минске в партийном клубе им. К. Маркса с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.
28 марта — второе выступление в Минске в партийном клубе им. К. Маркса с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.
29 марта (в 8 часов вечера) — третье выступление в Минске в Доме работников просвещения с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.
«Автору этих строк вспоминается лекция Маяковского в Доме работников просвещения. Зал клуба переполнен. Студенты, журналисты, рабкоры, педагоги, партийные работники...
Вспоминаю один из ответов Маяковского:
— Тут мне задали вопрос: «Маяковский, почему вы непонятны?» — Кстати, почему непонятливый читатель уверен, что он понимает что-нибудь другое?
Только он кончает лекцию, как из первого ряда подымается некая дама и, демонстративно кинувши «Бессмыслица!», пробирается к выходу.
Маяковский услышал:
— Граждане, познакомимся — имя этой дамы: Бессмыслица!» (Е. Садовский, 1940)*.
В тот же день (в 10 часов вечера) — четвертое выступление в Минске, в клубе совторгслужащих с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.
30 или 31 марта вернулся в Москву.
30 марта — письмо наркома просвещения А. В. Луначарского Маяковскому.
«Я просил вас быть у меня 27 марта в 7 час. вечера. К сожалению, по тем или иным причинам Вы не смогли у меня быть. Дело же довольно важное и заключается в следующем. Иностранные коммунисты обратились к нам с запросом о предоставлении им к 10-летию Октября материалов эстрадного характера, т. е. скетчей для клубной сцены и номеров для живой газеты или просто эстрадных выступлений. Коминтерн решил обратиться к некоторым нашим писателям, в том числе и к Вам. Прошу Вас сообщить мне, можете ли Вы откликнуться на этот заказ и приблизительно чем именно».
(По-видимому, Маяковский предложил использовать свою октябрьскую поэму, над которой он в то время работал, одновременно предназначая ее и ленинградским театрам. См. об этом заметку в журн. «Жизнь искусства», № 27:
- 379 -
«...По предложению Коминтерна поэма будет переведена на иностранные языки».)
В апреле в журнале «Молодая гвардия» (№ 4) напечатано стихотворение «По городам Союза».
В журнале «Бузотер» (№ 14) — стихотворение «Маленькая цена с пушистым хвостом».
В журнале «Бузотер» (№ 15) — стихотворение «Мрачный юмор».
В журнале «За грамоту» (№ 1) — «Рифмованные лозунги».
Вышел № 4 журнала «Новый Леф» со стихотворением «Не все то золото, что хозрасчет», заметкой в «Записной книжке» «Нового Лефа» («Сейчас апрель...») и заметкой «Что я делаю?».
«Главной работой было: развоз идей Лефа и стихов по городам Союза...
Мною получено около 7000 записок, которые систематизируются и будут сделаны книгой — почти универсальный ответ на все вопросы, предлагаемые читательской массой Союза. Не знаю, была ли когда-нибудь у какого-либо поэта такая связь с читательской массой.
Что пишу? 1. Пьесу «Комедия с убийством» для театра Мейерхольда. 2. Пьесу ленинградским театрам к десятилетию. 3. Роман. 4. Литературную автобиографию к Полному собранию сочинений. 5. Поэму о женщине».
6 апреля — встреча с редактором немецкого журнала «Europäische Revue» К. А. Роганом.
«В 5 часов обед у Маяковского... Настоящий русский, необычайно приятный и свободный. Мы говорим об общем положении и очень много о литературе» (запись в путевом дневнике, пер. с нем.)*.
12 апреля заключил договор с отделом детской литературы Госиздата и сдал рукописи двух детских книжек «Конь-огонь» и «Прочти и катай в Париж и Китай».
13 апреля в газете «Труд» напечатано стихотворение «Английский лидер» под заглавием «Гавэлок Вильсон».
В марте — первой половине апреля (до отъезда за границу) были написаны стихотворения: «Мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится?» (для «Пионерской правды»), «Ленин с нами!» (в связи с десятилетием возвращения Ленина из эмиграции в Россию), «Лена» (в связи с пятнадцатилетием Ленского расстрела), «Товарищу машинистке», «Мощь Британии», «Сердитый дядя», «Весна» и «Негритоска Петрова». Все эти стихи появились в печати в отсутствие Маяковского.
15 апреля выехал за границу — в Польшу, Чехословакию, Германию, Францию.
16—17 апреля по дороге в Прагу на день остановился в Варшаве.
«В Польше решаю не задерживаться. Скоро польские писатели будут принимать Бальмонта. Хотя Бальмонт и написал незадолго до отъезда из СССР почтительные строки, обращенные ко мне:
«И вот ты написал блестящие страницы,
Ты между нас возник как некий острозуб...»
и т. д., —
- 380 -
я все же предпочел не сталкиваться в Варшаве с этим блестящим поэтом, выродившимся в злобного меланхолика» (очерк «Ездил я так»).
По воспоминаниям Вит. Вандурского, в эти дни виделись с Маяковским Владислав Броневский, Андрей Ставар и, возможно, Мечислав Щука: «Про первую встречу мне потом рассказывали: «Броневскому Маяковский не понравился. Во время встречи Маяковский прочел наряду с другими произведениями свое излюбленное «Сергею Есенину». Броневский, близкий Есенину, блестящий переводчик его «Пугачева» и печальной лирики, был уязвлен, когда Маяковский декламировал звонким баритоном со свойственной только ему нотой глубокой убежденности:
«Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите, в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость».Владек запротестовал, произнося русские слова на польский лад.
— Позвольте, ведь Есенин писал кровью...
На что Маяковский спокойно:
— Зачем же кровью? Кровь жидкость дорогая.
Он вынул из кармана ватермановское вечное перо.
— Я пишу вот этим.
Маяковский обещал приехать через месяц» (1931)*.
19 апреля Маяковский приехал в Прагу*.
20 апреля — выступление на открытом собрании Пражского пролеткульта с чтением стихов.
По рапорту комиссариата полиции от 20/4 1927 — «Маяковский читал свои стихотворения». Примечание: «большевистская пропаганда»*.
22 апреля в газете «Прагер пресс» напечатано интервью с Маяковским:
«Я очень рад, что я в Праге: это ведь единственный город за границей, где я могу выступать по-русски, не опасаясь, что меня неверно поймут. Я не хотел бы обидеть переводчиков, но, конечно, совершенно другое дело, понимают ли тебя слушатели непосредственно, или приходится прибегать к помощи посредника.
Вступление к беседе сделано. Остается только биография...
— Родился в 1894 году на Кавказе. Отец — казак, мать — украинка. Первый язык — грузинский. Так во мне объединилось три культуры. Бесстыдно молод? Ну, что ж, значит, я могу еще расти...
— Над чем вы работаете в настоящее время?
— В Госиздате выходит собрание моих сочинений в пяти томах. В связи с этим у меня масса хлопот. Последнее мое увлечение — детская литература. Нужно ознакомить детей с новыми понятиями, с новым подходом к вещам. Результатом этого увлечения являются две книжки: «О коллективном труде» и «Путешествие вокруг земли». Кроме того, я работаю над двумя крупными вещами: «Комедией с убийством» для Мейерхольда и эпической поэмой к десятой годовщине революции» (пер. с нем., см. т. 13).
23 апреля — выступление в Праге в «Освобожденном театре» с чтением «Левого марша» и «Нашего марша».
- 381 -
«В театре левых «Освобозене Дивадло» (обозрение, мелкие пьески, мюзик-холльные и синеблузные вещи) я выступил между номерами с «Нашим» и «Левым» маршами» («Ездил я так»).
«В субботу «Освобожденный театр» показал маленькое обозрение — конгломерат лирических сценок нескольких авторов, своих и зарубежных. Несколько действительно лирических мест и время от времени искрящихся юмористических ассоциаций не могли спасти от общей скуки и ощущения того, что деградировала сама форма ревю. И как только среди этих лирических декламаций о кружевах на комбине появился Маяковский с чтением «Левого марша», это было подобно тому, как если бы слон вошел в посудную лавку» («Вечерник Право лиду» (Прага), 1927, 25 апреля. Пер. с чешск.).
«Спектакли «Освобожденного театра», в котором впервые в Праге публично выступил Маяковский, были очень характерны для того неспокойного времени. «Маленькое обозрение», которое представляло собой склеенную на скорую руку смесь из стихов, сцен и балетных номеров, давало все же известное представление о наших художественных симпатиях и планах, — началось с декламации В. Незвалом «Чужеземца» — стихотворения в прозе Бодлера. Бодлеровский чужеземец не любит ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни друзей, ни родины... Он любит «облака, которые проплывают — там, внизу, — там, внизу, прекрасные облака».
Затем, предзнаменованный так «чужеземно», Маяковский прочел «Наш» и «Левый марш».
После тоскливого и меланхолического обращения Витезслава Незвала к облаку, загремел живой призыв Маяковского к народу. Вместо смолкшей жалобы и пустой печали мы услышали приказ к непосредственному действию...» (Й. Гонзл, 1951)*.
«Мы... изумленно глядели на него из-за кулис, а зрительный зал сотрясался от его голоса — голоса революции. Могучий бас Маяковского, сила ритма и акцентировка «Левого марша» приковали аудиторию. Его потрясающее выступление было вне программы, и наша молодая публика, среди которой было и немало испуганных обывателей, награждала его бурными аплодисментами. Мы, участники спектакля, готовы были с радостью сорвать с себя маскарадные костюмы и броситься за поэтом, который исчез так же неожиданно, как и появился. Мы едва успели устроить ему овацию и пожать руку» (В. Незвал, 1951)*.
24 апреля (?) — встреча с чехословацкими писателями и художниками на собрании общества «Деветсил».
«Как я впоследствии узнал, это — не «девять сил», например, лошадиных, а имя цветка с очень цепкими и глубокими корнями. Ими издается единственвый левый, и культурно и политически... журнал «Ставба»... Мне показывают в журнале 15 стихов о Ленине» («Ездил я так»).
«Когда Йозеф Гора и Богумил Матезиум привели его на собрание Деветсила в кафе Урбанка на Смихове, когда Маяковский вошел и уселся во главе длинного стола, все сидящие за столом невольно потянулись к нему. Те, которые сидели на противоположном конце, вскочили и устремились к Маяковскому...
Говорилось много. Маяковский говорил мало. Молчал и слушал. В знак отрицания молча качал головой. Ни одним знаком не проявлял он, однако, какой-либо нетерпеливости, спешки или презрения. Слушал всех ораторов и их переводчиков (Гору и Матезиуса) очень сосредоточенно, строго, выдержанно. Не просто слушал — было бы правильнее сказать про него, что он «внимал», впитывал всеми чувствами, стремился силой мысли вникнуть в смысл того, о чем говорилось. Слушал твердым взглядом и напряженным слухом, не двигая ни одним мускулом в лице» (Й. Гонзл, 1951)*.
«Сегодня, когда с помощью переводов Иржи Тауфера я знаю творчество Маяковского более полно, я понимаю и его молчание тогда, бывшее скорее скромным, чем спесивым, понимаю его холодность, являющуюся выражением
- 382 -
его постоянного самообладания, и особенно хорошо понимаю несколько насупленное выражение его лица, отражавшее чувство собственного достоинства революционного советского человека, находящегося в непрерывно наступательном и оборонительном бою с реакционными силами мирового империализма» (В. Незвал, 1951)*.
Встреча с чешским художником А. Гофмейстером.
«Обедали мы с ним у меня дома, на Спалённой улице. Он не решался усесться на старинном стуле. Попробовал, может ли поднять его.
Был чрезвычайно вежлив. Очень большие люди (и ростом и душой большие) иногда бывают смирными. Но он не был смирен. Он был учтив, а иногда становился рассеянным, невнимательным, каким-то отсутствующим. Курил во время еды, о чем бы ни говорил — речь его возвращалась к поэзии. Был очень насыщен своими стихами и по каждому поводу, казалось, знал какое-нибудь стихотворение, которое принимался бурчать как бы про себя. А потом вдруг положил руку на стол, отодвинул стул и начал читать. Сам по себе. По-видимому, из какой-то внутренней потребности... Тогда я еще едва понимал по-русски, но я был потрясен...
Когда же он кончил — в комнате воцарилась такая тишина, какая бывает в природе после бури.
Он сказал: — Вы пишете стихи, мы же их произносим. Стих должен звучать. Мы идем в ногу с прогрессом знания. Мы усилили его с помощью радио.
— Русская поэзия богаче ритмами и звуками. Это отвечает духу народа и его поэтов. Они превосходные чтецы и докладчики. Не знают робости. А какую имеют память!
Он отвечал: — Дело не в звучности языка. Это зависит от отношения к слушателям. Наша поэзия — не интимная лирика. Мы уже не читаем стихи при свечах. Мы испытываем потребность читать их всем.
И снова зазвучали стихи, словно загрохотала кузница, или вокзал, или фабрика, или орган... Фотографировались мы с ним на балконе. Он смотрел вниз, на кишащую людьми, точно муравейник, Лазарскую улицу.
...Пил. Курил. Рисовал. Исписал один из моих рисунков длинным автографом из «Левого марша». Забавлялся. Ни минуты не мог усидеть без дела. Нарисовал автошарж. Изобразил себя с бычьим затылком. Нос огурцом. Нарисовал слона со слоненком. Все время напоминал Гулливера в стране лилипутов.
Сошлись мы с ним во взглядах на технику рисунка портретов, на карикатуру.
Он сказал: — Рисунок должен быть прост. Ведь это лозунг, а не роман.
Отвечаю: — Стенографический знак.
Он сказал: — Лаконичный.
Отвечаю: — Среди множества деталей глаз заблудится. Чем меньше, тем лучше. Тем точнее.
Он говорит: — Корень.
Отвечаю: — И с первого взгляда должно быть ясно, кто тут изображен.
Он сказал: — Ты знаешь в этом толк, товарищ!
Говорил о плакатах, о своих знаменитых окнах РОСТА, и вдруг опять как-то весь переменился, когда проходил мимо книжных полок в библиотеке. Начал бурчать себе под нос какое-то стихотворение.
...И ещё однажды беседовали мы с ним о карикатуре.
— Это тенденциознейшее искусство строительства и борьбы, — сказал я.
— Да, — ответил он. — Но и поэзия может быть такой.
Мы шли под дождем. Вдруг он остановился и, уточняя, добавил:
— Должна быть такой!» (А. Гофмейстер, 1951)*.
25 апреля заключил в Праге договор с издателем Вацлавом Петром на издание книги очерков «Мое открытие Америки» на чешском языке.
- 383 -
По воспоминаниям В. Петра, Юлиус Фучик, с которым он встретился на следующий день на вечере Маяковского в Виноградском народном доме, выразил желание перевести эту книгу на чешский язык. В печати, однако, появилась только одна глава («Чикаго») в переводе Ю. Фучика и А. Фельдмана («Творба», IV, 1929)*.
25 апреля — прием в полпредстве СССР в Чехословакии в честь Маяковского для чехословацких писателей и художников, французских, немецких и югославских журналистов*.
26 апреля — встреча с чешскими писателями Марией Майеровой, Юлиусом Фучиком, Иозефом Го́рой (на квартире Майеровой).
«Речь шла о поэзии, о переводах, о революции, о книгах Маяковского, о книгах наших поэтов, об их содержании. С обеих сторон сыпались вопросы, и тут же следовали ответы. Все сидящие за столом владели русским языком, каждый из нас побывал в СССР... Приближался весенний вечер. Мы начали собираться. Пошли пешком. Путь был далеким — более часа ходьбы, но мы и не заметили, как прошло время. Маяковский шел чем дальше, тем быстрее, мы не успевали за ним, на Виноградах мы уже бежали...» (М. Майерова, 1947)*.
26 апреля — второе выступление в Праге в Виноградском народном доме.
«Большой вечер в «Виноградском народном доме». Мест на 700. Были проданы все билеты, потом корешки, потом входили просто, потом просто уходили, не получив места. Было около 1500 человек. Я прочел доклад «10 лет 10-ти поэтов». Потом были читаны «150 000 000» в переводе проф. Матезиуса. 3-я часть — «Я и мои стихи». В перерыве подписывал книги. Штук триста» («Ездил я так»).
«Маяковский встретил самый теплый прием. Для его выступления Общество сняло большой зал в Виноградах, несмотря на то что высказывались опасения: найдется ли в Праге, где за последнее время все культурные начинания проходили при пустом зале, достаточно публики, чтобы заполнить помещение на тысячу человек. Опасения оказались напрасными. Задолго до начала вечера зал был полон, даже набит битком. После краткого приветствия Маяковскому, которое от имени Общества сближения с Новой Россией и от имени левого фронта чешских писателей произнес писатель Й. Гора, под бурные аплодисменты взял слово русский гость. Аплодисменты повторялись без конца в течение его доклада и чтения им стихов и во время выступления чешского чтеца Йоз. Зоры, который с подлинным мастерством и темпераментом прочитал отрывки из «150 000 000».
Во вступлении к своему докладу Маяковский отверг механическое деление русских литераторов молодого поколения на крупных и еще более крупных писателей и иронически извинился, что не пришел на доклад в черных брюках, в отсутствии которых недавно упрекнул Эренбурга критик буржуазной газеты. Он подчеркнул затем несколько основных положений, характерных для советской литературы. Писатель, поэт сегодня в России — борец за новый общественный строй, за новые формы жизни. Постоянно увеличивается число писателей, приходящих в литературу из рядов пролетариата, существует их организация, насчитывающая несколько тысяч человек, и многие из них знаменуют будущее советской литературы. Другой факт, характеризующий советскую литературу, — это то, что массы читают стихи, как нигде в мире. Книги Демьяна Бедного вышли уже тиражом в 2 миллиона экземпляров, его, Маяковского, — в 1 200 000 экземпляров. У советского писателя сегодня нет причины жаловаться на свое общественное положение. Он сегодня стоит в одном ряду с бойцами революции точно так, как стоял рядом с ними в самые
- 384 -
тяжелые дни. Особой темой доклада Маяковского был подкрепленный многими цитатами анализ творчества поэтов литературной группы «Леф» («Левый фронт»), членом которой является Маяковский. Поэты этой группы — Асеев, Третьяков, Пастернак, Крученых и другие — нашли в Маяковском представителя, который в своем докладе подчеркнул и общность их пути с революцией, и их первенство в области форм художественного творчества.
Маяковский явно захватил переполнившую зал аудиторию своим ясным звучным голосом, свободно переходившим от ораторского пафоса к тонкой остроте, и своим здоровым горячим оптимизмом человека, прошедшего через революцию и не боящегося нанести мощный удар сатиры по мещанской Европе и Америке, сатиры, бесспорным мастером которой он является. Его остро отточенные поэтические эпиграммы, полные революционной ударности и мужественности, снова и снова сопровождались бурными аплодисментами.
Право, нужно было самому услышать ошеломляющее декламационное мастерство Маяковского, дающее нам истинный ключ к познанию его гениального риторического поэтического творчества, чтобы понять всю силу той популярности, которой он пользуется у себя дома. Издатель, продававший в коридоре «150 000 000» Маяковского в переводе Матезиуса, быстро распродал все экземпляры, и поэт был осажден просьбами об автографах.
Вечер, на который пришли рабочие, так же как и интеллигенция, советские русские и эмигранты, показал, что чешско-русские связи настолько живы, что только упрямый недруг может их не видеть и не сделать из них вывод, что, кроме дипломатических, можно еще крепить и все другие отношения между СССР и ЧСР» («Руде право» (Прага), 1927, 28 апреля; пер. с чешск.).
«Вечер состоялся во вторник в Народном доме в Виноградах, причем в нем приняло участие более тысячи человек, что уже само по себе является невиданным явлением для Праги. Владимир Маяковский сжато и чрезвычайно ясно рассказал о 10 годах не только 10 поэтов, но и всей русской поэзии. После доклада Й. Зора прочитал по-чешски несколько образцов его произведений, а затем Маяковский снова рассказывал о себе и о других. Могучий голос поэта в буквальном смысле слова сотрясал здание. Это не было обычной декламацией, как ее понимают в Европе, — это был взрыв энергии, чувств, силы и прямо-таки самой души человеческой. Слушатели, захваченные необыкновенной силой человека, который говорил, обращаясь к ним, и голос которого сотрясал колонны зала, были в полном восторге.
Успех выступления был такой, что трудно его сравнить с чем-либо показанным в Праге в области декламационного искусства.
Среди слушателей присутствовали чуть ли не все знатоки русской литературы и друзья русской книги в Праге, профессора университета, представители иностранных посольств, студенты из Югославии, из Румынии, много эмигрантов и т. д. Вечер закончился кратким заключительным словом поэта Й. Горы» («Народни освобозени» (Прага), 1927, 27 апреля; пер. с чешск.).
«Маяковский — молодой тридцатичетырехлетний человек, с коротко остриженными волосами, не соответствующими, вообще говоря, нашему представлению о поэте. А когда он заговорил, когда пустил в ход регистры своего всепокоряющего голоса, — мы поняли, что это настоящий митинговый оратор, в полной мере овладевший искусством вести за собой массы.
Но не только в этом познается вождь левого фронта современной русской литературы. Мы познаем его также через ту агитационную литературу, которую он создает, которая является оружием революции и обращается к миллионам трудового народа... Те образцы своего творчества, которые он читал нам и в которых описывается его путешествие вокруг света, по большей части сатирически заострены и полны своеобразных захватывающих впечатлений.
Везде, где бы он ни побывал, в Париже или в Испании, на море или в Америке, — он выступает как преисполненный чувства собственного достоинства гражданин Советской России, понимающий, от чьего имени он говорит и
- 385 -
к кому обращается» («Ческословенска република» (Прага), 1927, 28 апреля; пер. с чешск.).
Выступление Маяковского, естественно, вызвало неудовольствие реакционной печати. Одна из самых правых газет «На́род» в статье «Большевистский агитатор из России» писала: «Совершенно непоэтически выступил советский поэт Маяковский, он отпускал в присутствии представителей МИД грубые шутки на темы сегодняшней политической действительности и по адресу таких, пользующихся у нас уважением, институтов, как Версальский мир, и т. д. Маяковский резко нападал на Англию и ее политику по отношению к большевистской России. И присутствовавшие при этом сотрудники МИД не только не вскочили со своих мест, чтобы уйти из зала, но еще и дали коммунистическим студентам и эмигрантам повод к овациям и другим нежелательным выражениям согласия» («На́род» (Прага), 1927, 27 апреля; пер. с чешск.).
«Маяковский читал стихи других поэтов и свои. Голос его, звучавший буквально как гром, был поистине голосом другого, неколебимого и всемогущего мира. И когда он стал читать свой «Левый марш», все собрание онемело от восторга. Литературный вечер превратился в манифестацию дружеских чувств чехов к Советскому Союзу. Маяковский обворожил чехов и в личном общении. В течение всего своего пребывания в Праге он был окружен молодыми чешскими поэтами и писателями, которые стали навсегда его верными друзьями» (З. Неедлы, 1945)*.
27 апреля в газете «Руде право» (Прага) напечатано интервью с Маяковским чешского писателя Йозефа Горы.
27 апреля Маяковский выехал из Праги в Берлин.
«В среду Маяковский уехал из Праги. Перед своей поездкой он подписал в Москве договор, согласно которому обязался написать книгу о своем путешествии по маршруту Варшава — Прага — Париж — Москва. Подобная книга о путешествии в Америку — «Мое открытие Америки» — вызвала огромный интерес и скоро выйдет в переводе на чешский язык» (Лидове новины» (Прага), 1927, 28 апреля; пер. с чешск.)*.
«Остановился в Берлине от поезда до поезда, условясь об организации лекции» («Ездил я так»).
29 апреля приехал в Париж.
1 мая — Маяковский в полпредстве СССР в Париже.
«Еще накануне, 30 апреля, в полпредстве, на внутренней стене, появилось отпечатанное на пишущей машинке обращение. Всем общественно-известным во Франции советским подданным предлагалось находиться с очень ранних утренних часов в день Первого мая в стенах полпредства.
Когда нас проверяли, все ли мы находимся в стенах полпредства, Владимир Владимирович глухо, сердито, как на тюремной перекличке, отозвался: «Здесь». Плотно заперты ворота старинного особняка. Все привратники внутри двора. На улице, за воротами, дежурят французские полицейские в увеличенном для улицы Гренелль составе... Они всех нас знали, а мы — их. Одного из них мы запомнили хорошо. Маленький, длиннорукий, вертлявый, он был очень похож на обезьяну. Кто-то прозвал его «маго» (бесхвостая обезьянка)... И вот как сейчас вижу я высокую фигуру Маяковского. Непривычно сжав свои широкие плечи, непривычно повторяясь, он бубнил:
— Хоть бы паршивого «магошку» дали мне распропагандировать... Товарищ полпред, одного «магошку» можно? А?..» (Л. Сейфуллина, 1953)*.
7 мая в письме к Л. Ю. Брик из Парижа писал:
«Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах.
- 386 -
Сегодня у меня большой вечер в Париже... В Праге отмахал всю руку, столько понадписывал своих книг... Чехи встречали замечательно, был большущий вечер, рассчитанный на тысячу человек, — продали все билеты и потом стали продавать билетные корешки, продали половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места».
7 мая — выступление в Париже в кафе «Вольтер».
«Большой вечер был организован советскими студентами во Франции. Было в кафе «Вольтер». В углу стол, направо и налево длинные комнаты. Если будет драка, придется сразу «кор-а-кор», стоим ноздря к ноздре. Странно смотреть на потусторонние, забытые с времен «Бродячих собак» лица. Насколько, например, противен хотя бы один Георгий Иванов со своим моноклем. Набалдашник в челке. Сначала такие Ивановы свистели. Пришлось перекрывать голосом. Стихли. Во Франции к этому не привыкли. Полицейские, в большом количестве стоявшие под окнами, радовались — сочувствовали. И даже вслух завидовали: «Эх, нам бы такой голос». Приблизительно такой же отзыв был помещен и в парижских «Последних новостях». Было около 1200 человек» («Ездил я так»).
«Эмигранты собрались на площади, около кафе, и, когда Маяковский начал читать свои стихи, белогвардейцы подняли невероятный шум; криками, воем и свистом они старались заглушить голос поэта.
Эта какофония, однако, не смутила Маяковского. Он, почти не возвышая голоса, сумел так прочесть стихотворение, посвященное погибшему от белогвардейских пуль советскому дипкурьеру Нетте, что перекрыл своим голосом истошные выкрики эмигрантских клакеров, нанятых, очевидно, «Последними новостями», «Днями» и другими белыми листками.
Обструкция белогвардейцев не удалась» (Л. Сейфуллина, 1930)*.
«В субботу поэт Вл. Маяковский выступил в кафе «Вольтер» перед «советской колонией» в Париже. Любопытствующих явилось тьма; переполненный, узкий, загнутый крючком зал напоминал пестротой, оживлением и говором московские залы старого времени... Стулья сбиваются в кучу, наваливаются друг на друга и тесным человеческим кольцом сжимают круг-эстраду с худым столиком, бутылкой лимонада и стаканом для освежения поэта...
Вечер устроен «Союзом советских организаций в Париже» — «нашими советскими ребятами», по слову В. Маяковского...
— Товарищи и граждане!
Маяковский разъясняет, что такое «наша поэзия вообще»...
— В разговорах с иностранными журналистами меня спрашивают, какие у вас интересные писатели? А я говорю: «у нас 8000 писателей, и все пишут плохо». Но вовсе не плохо, что они пишут плохо. Установка нашей поэзии и задача другие: прежняя была рассчитана на исключительно изысканный круг, а нынешняя рассчитана на «миллионного потребителя поэзии», которому ничего, если «падеж не пригнан к падежу». Поэт должен перестраивать лиру в соответствии с грандиозными социальными задачами, выдвинутыми революцией.
...Прыгают строки о «фининспекторе», о побитом негре, которому следует жаловаться «в Коминтерн, в Москву»... о «собачках в Краснодаре», о монашенках на пароходе в Мексику и пр. и пр.
В. Маяковский мастерски читает стихи... «Уважаемые граждане» одобряют и смеются, и В. Маяковский ревет «Левый марш» диким и лающим голосом, пугая в открытые окна тихую улицу. Слова резко скачут по головам возбужденного зала, рифмы ломаются и теряются в шуме отодвигаемых стульев, барабанные перепонки стоном дребезжат от рева:
— Левой! Левой! Левой!
И выскакиваешь из зала с облегчением от утешающей мысли, что такого другого поэта пока нигде не сыщешь» («Последние новости» (Париж), 1927, 9 мая)*.
«Мы, советские его товарищи, в тот вечер сидели около Маяковского, за
- 387 -
его спиной. Перед Владимиром Владимировичем стоял маленький стол. На нем графин воды и стакан. У меня от волнения пересохло в горле. Я протянула руку, чтобы налить себе воды. Владимир Владимирович быстро, слегка отстранив меня, налил воду в стакан и, подавая его мне, сказал:
— Я подаю воду замечательной советской писательнице. Приветствуйте ее!..
Так властен был голос, приказавший меня приветствовать, так силен авторитет приказавшего, что раздались аплодисменты. Но тут же послышался смех и какой-то женский возглас:
— А где она? Ее не видно... Пусть встанет повыше...
Маяковский ответил:
— Сейфуллина достаточно высоко стоит на собрании своих сочинений» (Л. Сейфуллина, 1953)*.
«Кто-то в зале крикнул: «Почитайте теперь ваши старые стихи!» Маяковский как всегда отшутился. Когда вечер кончился, мы пошли в ночное кафе возле бульвара Сен-Мишель: Маяковский, Л. Н. Сейфуллина, Э. Ю. Триоле, другие. Играла музыка, кто-то танцевал. Владимир Владимирович то шутил, изображал поэта Георгия Иванова, присутствовавшего на вечере, то надолго замолкал, мрачно оглядываясь по сторонам, как лев в клетке. Мы с ним условились, что на следующее утро, чем раньше, тем лучше, я к нему зайду. В крохотном номере гостиницы «Истрия», где он всегда останавливался, постель была не раскрыта — он не ложился. Встретил он меня мрачный и сразу, не поздоровавшись, спросил: «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?» (И. Эренбург, 1960)*.
8 мая французские писатели устроили обед в честь Маяковского.
«...Они собираются на свои обеды уже с 1909 года. Люди хорошие. Что пишут — не знаю. По разговорам — в меру уравновешенные, в меру независимые, в меру новаторы, в меру консерваторы» («Ездил я так»).
9 мая Маяковский выехал из Парижа в Берлин.
10 мая Общество советско-германского сближения устроило в гостинице «Руссише Хоф» в честь Маяковского «чай», на котором присутствовали немецкие писатели, ученые и журналисты.
«Были члены общества: ученые, беллетристы, режиссеры, товарищи из «Ротэ Фанэ»; как говорит товарищ Каменева, «весь стол был усеян крупными учеными». Поэт был только один... Поэт довольно престарелый. Подарил подписанную книгу. Из любезности открыл первое попавшееся стихотворение — и отступил в ужасе. Первая строчка, попавшаяся в глаза, была: «Птички поют» и т. д. в этом роде. Положил книгу под чайную скатерть: когда буду еще в Берлине — возьму» («Ездил я так»).
Маяковский выступил с небольшой речью и прочитал стихотворения «Германия» и «Левый марш».
«В Германии я не впервые. Мне приходилось здесь бывать уже три раза... Теперь я попал в страну, которая находится в процессе роста. Я радуюсь этому и надеюсь, что этот рост, это развитие приведут Германию к такому будущему, когда не останется между нациями никаких преград, никаких разъединяющих их границ, когда все будет направлено только на благо человечества...» («Das neue Russland» (Берлин), 1927, № 5—6; пер. с нем.)
В Берлине в это время была открыта «Выставка советского плаката» (в пределах ежегодной Большой берлинской художественной выставки). А. В. Луначарский, побывавший на этой выставке, писал потом в журнале «Огонек» (1927, 24 июля): «В другом большом зале выставлен русский плакат. К сожалению, эта выставка отнюдь не обнимает собой всего русского плаката. Немцы поставили условием выставлять не напечатанные плакаты, а сделанные
- 388 -
от руки оригиналы. Конечно, найти их трудно. И можно только порадоваться, что один из крупных русских плакатистов В. В. Маяковский смог быть представлен весьма богато... Мне лично всегда нравились эти плакаты — простые и лаконичные в рисунке и в подписи. В них всегда был задор и крупнозернистый юмор. Иные говорили, что крестьяне, для которых эти плакаты предназначались, не поймут их. Но крестьяне понимали: смекали, подмигивали, ухмылялись, а иногда и хохотали. И теперь немцы — критика и публика — воздают довольно громкую славу смелости рисунка и яркости расцветки живописца рядом с меткостью и находчивостью замысла, который, к сожалению, не может быть усвоен ими еще и через остроумие словесного комбинатора, шутника-литератора, играющего в этих плакатах немалую роль. Быть может, после этого успеха Маяковский найдет досуг обращаться иногда от пера к карандашу»*.
В тот же день второе выступление в Берлине в клубе полпредства и торгпредства.
«Отвел душу в клубе торгпредства и полпредства «Красная звезда». Были только свои. Товарищей 800» («Ездил я так»).
12 мая Маяковский приехал в Варшаву*.
«На вокзале меня встретили и приветствовали чиновники министерства иностранных дел и несколько писателей» («Поверх Варшавы»).
«Я попал в Варшаву в разгар политической борьбы: выборы... Мысль о публичном выступлении пришлось оставить. Помещение было снято. Но чтение стихов могло сопровождаться столкновением комсомольцев с фашистами... Ограничился свиданиями и разговорами с писателями разных группировок...» («Ездил я так»).
Вечером встреча в советском посольстве с революционными польскими писателями.
«Разговор шел о революционной литературе... Маяковский просматривал номера «Дзвигня». Журнал понравился ему... Около полуночи Маяковский стал нам декламировать свои новые вещи. Нужно было слышать, как их читает Маяковский в тесном товарищеском кругу. Голос, сила образов, исключительная дикция, специфическая, очень простая и вместе с тем артистично-красноречивая манера подавать стих слушателю оставляют неизгладимое впечатление. Разошлись мы поздно ночью, потрясенные, едва ли не придавленные впечатлением мощи и необычайной силы, бившей из этого человека» (В. Вандурский, 1931).
«Утром я перешел из крохотного номерка в номер за 19 злотых — для представительства. Было от чего. Я начал атаковываться корреспондентами, и карикатуристами, и фотографами. Понятно. Я — первый поэт, приехавший из красной Москвы. Должен для беспристрастия отметить крайне корректный, предупредительный тон польской прессы. Неистовствовала только эмигрантская «За свободу», трубившая о въезде советского» («Поверх Варшавы»).
Интервью с Маяковским были напечатаны в нескольких польских газетах.
«— Знаете ли вы польскую литературу?
— К сожалению, недостаточно. Впрочем, это частично и ваша вина, — после революции ни один польский литератор не побывал в нашей стране, не было стремлений установить с нами связь.
— Но ведь и ни один литератор из СССР также не приезжал к нам.
— Вот я и положил этому начало. Хочу посмотреть, — что нового у вас в литературе, рассказать вашим литераторам, как мы работаем, а по возвращении на родину поделиться с товарищами тем, что я здесь видел и слышал.
- 389 -
— Над чем вы в последнее время работаете?
— У меня сейчас в работе целый ряд вещей. Прежде всего, поэма в честь десятилетия революции. Эта поэма будет затем инсценирована и поставлена в Ленинградском государственном театре... Кроме того, с особым увлечением работаю над книжками для детей.
— Это любопытно. В каком же духе вы пишете эти книжки?
— Моя цель — внушить детям самые элементарные общественные понятия, делая это как можно осторожнее.
— Например?
— Скажем, я пишу об игрушечном коне. Пользуюсь случаем разъяснить ребенку, сколько людей нужно, чтобы сделать такого коня, — столяр, художник, обойщик. Таким образом ребенок знакомится с коллективной природой труда. Или я пишу о путешествиях, из которых дети знакомятся не только с географией, но узнают, что одни люди бедны, а другие — богаты, и т. д.» («Эпоха» (Варшава), 1927, 14 мая; пер. с польск.).
«Спрашиваю поэтического гостя:
— Откуда вы приехали в Варшаву?
— Из поездки в Прагу, Берлин и Париж.
— Каковы ваши впечатления?
— Хорошие.
— Как вам понравилась Прага?
— Хороший город.
— А Берлин?
— Тоже хорош.
Улыбаемся. Чувствую, что мой собеседник отвечает несколько уклончиво.
— Ну, а Париж?
— Хорош.
— Каковы, наконец, ваши первые впечатления от Варшавы?
— Очень приятные. Я гостеприимно принят Пен-клубом (тут Маяковский поклонился в сторону председателя клуба). Меня очень приветливо встретили. И т. д.
— Не чинили ли вам польские власти каких-либо препятствий при получении виз?
— Нет.
— Вы напишете что-нибудь о Варшаве?
— Разумеется, как только уеду отсюда...
— Но каковы все же ваши первые впечатления? Те впечатления, которые играют у художника такую большую роль при описании предмета.
— Очень приятные...
Маяковский улыбается, ходит по комнате, потирает руки.
— Позвольте спросить — с какой целью вы приехали в Варшаву?
— Познакомиться с людьми, поглядеть город. Езжу я от своего имени, за свой собственный счет.
— Вы член партии?
— Нет.
Тут Маяковский заговорил о своей позиции поэта.
— Если бы я отошел от своих, то я бы перестал быть писателем. Я умер бы духовно. Все то, что творят в настоящее время писатели России, это — поэзия действия и борьбы за права человека труда. Я свободный человек и писатель. Материально ни от кого не зависим. А морально я связан с тем революционным движением, которое строит Россию на началах социального равенства...» («Польска вольность» (Варшава), 1927, 22 мая; пер. с польск.).
«Всем своим обликом и особенно острым взглядом блестящих глаз Маяковский очень располагает к себе. Совершенно свободно задаю ему первый вопрос:
— Скажите, пожалуйста, какую роль играет сейчас поэт в России?
— Важнейшую. Он является учителем народа, воспитателем его ума и совести. Каждый из нас, помимо своей области, занимается также своего рода
- 390 -
педагогической деятельностью. Наша работа идет в двух направлениях: первое охватывает массы рабочих и крестьян; второе — молодежь и детей. К первым мы обращаемся главным образом при помощи кино, театра и книг, для вторых создаем специальную литературу.
Вот я, например, как вам, может быть, известно, являюсь автором восьми киносценариев. В одном из трех, уже поставленных, играю я сам. Содержанием этого фильма является жизнь поэта. Сейчас я пишу поэму в честь 10-летия революции. Эта поэма будет инсценирована как большое народное представление с песнями и танцами...
Я прошу Маяковского поделиться со мной впечатлениями о польских литераторах.
— Я наблюдал здесь очень интересное явление: очень многие из числа видных польских писателей прекрасно знают русский язык и литературу. Среди них я встретил несколько очень мне близких, как, например, Броневский и Стерн, узнал, что они переводят нашу поэзию. По-видимому, вскоре появится под редакцией А. Стерна сборник моих стихов. Думаю, что таким образом мы придем к взаимному контакту. Было бы весьма желательно, чтобы польские писатели побывали у нас. Я — первый советский поэт, который посетил Польшу официально. Мы сделали первый шаг. Ждем ответного визита» («Хвиля» (Львов), 1927, 29 мая; пер. с польск.).
Встречи Маяковского с польскими писателями и художниками.
Пен-клуб, пригласивший Маяковского в Варшаву, устроил в его честь официальный завтрак. «Блок» — левое объединение польских поэтов и писателей пригласило Маяковского на ужин в отеле «Астория».
«В кабинете «Астории» собралось так называемое «левое» крыло литературы и искусства. Там были Тувим, Стерн, Ян Непомук Миллер, Важик, кто-то еще из менее известных поэтиков, два или три репортера от буржуазной прессы... В общем собралось не больше 30 человек. Маяковский был усажен посреди столов, расставленных подковою, а рядом с ним с правой и с левой стороны уселись апостолы... Я сидел на левом крыле. Рядом со мной сгорбленный великан с артистическим некрасивым лицом — художник Андрей Пронашко. Мы трудились над майонезом, когда вошел опоздавший Слонимский.
Маяковский встал, когда тот его приветствовал:
— Благодарю вас за перевод моего марша.
На это Слонимский ответил с усмешкой:
— А за «контрмарш»?
Маяковский возразил ему спокойно:
— Пусть вас поблагодарит польская республика.
Пожатие рук, аплодисменты. Короткий этот диалог имел большой успех, слегка расшевелив немые уста присутствующих. Водка размягчила их сердца и развязала языки. Отвечая на упорные просьбы присутствующих, Маяковский «Мир огромил мощью голоса». Начал он с «Марша». Эффект необычайный. Пронашко, сидевший около меня, не мог спокойно слушать.
— Ну, сударь... Что за сила! Космический голос! Что, они все по ту сторону границы такого роста? Гренадеры! Это же чудо, что в двадцатом году...
Его перебили громкие рукоплескания. Маяковский спокойно и стойко декламировал дальше. «Письмо Горькому» не поняли. Новая батарея водок. Маяковский пил только белое вино. Стерн приставал, чтобы Маяковский прочитал что-нибудь из «Облака в штанах». Маяковский не очень охотно согласился:
Выньте, гулящие, руки из брюк,
Берите камень, нож или бомбу,
А если у которого нету рук,
Пришел чтоб и бился лбом бы!Пронашко разъярился:
- 391 -
— Но это же настоящий большевик! Таких нельзя пропускать через границу. Если в двадцатом году они все шли такие, как этот... ну... ну... Так это настоящее чудо, что мы спаслись.
Тем временем среди пьяненьких литераторов все больше стали слышны разные более или менее колкие замечания о поэзии Маяковского. Любезные полячки — весь этот провинциальный «уголок Европы» перестал стесняться. Красный от алкоголя Стерн с мутными выкаченными глазами, наклонившись к Слонимскому, «шутил» во все горло:
— А неплохие этот фертик стихи кропает, что Толька?
...Маяковский только кинул пренебрежительный взгляд, сидел, молча и равнодушно попивал содовую воду. Потом сорвался с места и широким небрежным шагом, напоминая матроса, идущего по палубе во время бури, прошел вдоль столов, подошел к нашей группе и, ничего не говоря, сломал крепкую веточку бульденежа или какого-то другого вихрастого цветка в вазоне. Потом к нему подошла архиэстетичная, конструктивичная, по-берлинскому супрематичная Анна Загорска»1. С веселым выражением лица ощипывал Маяковский свой кудрявый бульденеж, пробовал его воткнуть в петлицу и так как он не влез, засунул его в боковой карман» (В. Вандурский, 1931)*.
«Этим завтраком и небольшими разговорами об авторском праве и закончилась моя встреча с официальными представителями польской литературы. Мы позавтракали и разошлись, «не причинив друг другу вреда» (пользы — тоже).
Вечером — новый банкет широкого левого объединения... Я виноват перед читателями за постоянное упоминание обедов! Но что поделаешь! Такова судьба официальных, полуофициальных и представительских поездок...» («Поверх Варшавы»).
В те же дни — встречи с польским поэтом Юлианом Тувимом.
В очерке «Поверх Варшавы» Маяковский рассказывает о знакомстве с Тувимом во время банкета, устроенного польскими писателями в отеле «Астория»: «Первым я увидел вдохновенно глядящего, поэтически трясущего руку поэта и переводчика моего «Облака в штанах» — «Облак в споднях»2 — Тувима. Белые газеты писали, будто я, получив перевод, сказал: «Наплевать мне на польскую литературу». Я немедленно опроверг чепуху».
Там же дальше Маяковский рассказывает про «один грустный обед»...
«Многие считают Тувима одним из самых лучших поэтов молодой Польши. Не зная языка — судить не берусь. Он переводил меня, очевидно, не из-за заработка. Какой заработок от книги в Польше, да еще от переводной, да еще с перевода одного из поэтов революции! Отношение его к моим стихам, очевидно, лирическое, и он решил, очевидно, посидеть час за обедом со своим собственным приятным воспоминанием. Он не ругал ни Польши, ни своего писательского положения, даже чуть похваливал своих перед иностранцем. Но именно в этом внезапно напущенном на себя, ни с чем остальным не гармонирующем свободословии было больше всего мотивов для жалости.
Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь, — какие тут «облаки»!.. Что же делать Тувимам? Тувимы пишут тексты для певиц и певцов варьете. (Глупые скажут: «А сам про Моссельпром писал?» — Я про Моссельпромы хочу писать потому, что нужно. А ему для варьете и не нужно и не хочется). И варьете прекрасно, если писать хоть немного «что хочешь»...
Правда — можно писать и против того, что видишь. Но тогда кто тебя будет печатать?»
Вспоминая впоследствии о своем знакомстве с поэзией Маяковского, Ю. Тувим писал: «Поэтическое потрясение, которое я испытал, читая впервые
- 392 -
Маяковского, я могу сравнить только с потрясением, пережитым мною, когда я слышал и видел раздираемое молниями небо. Мятеж, переворот, громы, пламя — все ново, беспрецедентно, чудесно, поразительно, революционно... Не осталось камня на камне от эстетических законов и догматов, на которых я был воспитан... Да, это был переворот, это была революция в поэзии. И сразу — и уже навсегда — Маяковский слился для меня с Октябрьской революцией»*.
16 мая Маяковский написал предисловие к сборнику переводов своих стихов на польский язык «Польскому читателю».
«Переводить стихи — вещь трудная, мои — особенно трудная. Слабое знакомство европейского писателя с советской поэзией объясняется именно этим... Переводить мои стихи особенно трудно еще и потому, что я ввожу в стих обычный разговорный язык, например, «светить — и никаких гвоздей», — попробуйте-ка это перевести, — порой весь стих звучит, как такого рода беседа. Подобные стихи понятны и остроумны, только если ощущаешь систему языка в целом, и почти непереводимы как игра слов» (см. т. 12).
«Маяковский внимательно выслушал все переводы из антологии, которые я ему прочитал. Слабо зная язык, он, однако, делал поразительно меткие замечания. Давая мне свое предисловие к антологии, сказал с улыбкой:
— Это в залог дружбы польско-советской поэзии» (А. Стерн, 1948; пер. с польск.)*.
22 мая Маяковский вернулся в Москву.
За время отсутствия Маяковского в печати появились стихотворения: «Ленин с нами!» («Труд», 16 апреля); «Мы вас ждем, товарищ птица» («Пионерская правда», 16 апреля); «Лена» («Труд», 17 апреля); «Мощь Британии» («Труд», 20 апреля); «Товарищу машинистке» («Наша газета», 22 апреля, «Бузотер», № 16); «Конь-огонь» («Пионерская правда», 30 апреля, 7 и 14 мая); «Весна» («Бузотер», № 17); «Сердитый дядя» («Труд», 5 мая); «Негритоска Петрова» («Бузотер», № 19).
Вышла детская книжка «История Власа, лентяя и лоботряса» (изд. «Молодая гвардия»).
31 мая в газете «Рабочая Москва» напечатано стихотворение «Осторожный марш» под заглавием «Иди по Республике, тревожная весть — фронта нет, но опасность есть».
В конце мая — начале июня написано стихотворение «Венера Милосская и Вячеслав Полонский». Написан для журнала «Новый Леф» (№ 5) очерк «Ездил я так».
С начала июня Маяковский начал активно работать в «Комсомольской правде».
Первую половину лета (июнь — середина июля) Маяковский жил на даче в Пушкине (под Москвой). Работая в «Комсомольской правде», он почти ежедневно приезжал в город.
2 июня в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Господин народный артист».
5 июня — первое чтение отрывков из поэмы «Октябрь» («Хорошо!») — 4-й и 6-й глав — друзьям (на даче в Пушкине)*.
7 июня в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Дела вузные, хорошие и конфузные».
- 393 -
8 июня в газете «Рабочая Москва» напечатаны стихотворение «Славянский вопрос-то решается просто» и очерк «Немного о чехе».
В начале июня в журнале «Бузотер» напечатано стихотворение «Глупая история».
9 июня в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Да или нет?» (в связи с убийством 7 июня полпреда СССР в Польше П. Л. Войкова).
В тот же день в газете «Рабочая Москва» напечатано стихотворение «Слушай, наводчик!» (в связи с убийством Войкова).
10 июня принял участие (?) в редакционном совещании «Комсомольской правды» о перспективах работы литературного отдела (по докладу И. Уткина)*.
11 июня — телеграмма режиссеру С. Эйзенштейну в Ленинград с просьбой принять участие в однодневной газете Федерации советских писателей.
В газете «будут напечатаны статьи рассказы стихи ученых писателей поэтов протестующих против военной опасности подготавливаемой Англией точка просим телеграфно прислать для этой газеты несколько строк адресу Тверской бульвар 25 Федерация советских писателей точка просим попросить Пудовкина том же точка По поручению редакции... Маяковский»*.
12 июня в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Призыв». В том же номере газеты стихотворение «Ну что ж!», стихотворение «Про Госторг и кошку, про всех понемножку» и подпись под карикатурой «Черчилль».
12 июня Маяковский выехал в Тверь.
12 июня — выступление в Твери в зале Горсовета с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.
«Маяковский идет в первых рядах современной литературы, вернее поэзии. После Демьяна Бедного — его место. Хотя, если внимательно вглядеться в знакомство читателя с писателем, мы увидим, что оно основано не на издаваемых книжках Маяковского, а на его подписи в «Известиях» и «Правде».
Маяковский, безусловно, ценный для нашей современности писатель. Он — живое эхо своих дней, он — рупор чувств и настроений массы. Но Маяковский далек от нашего быта, от понимания рабочих и крестьян. Мало рабочих комнат, где бы на этажерке хранилась книжка Маяковского. Писатель надеется на жизнь в грядущих поколениях, — не будем отнимать у него этой надежды, не станем разочаровывать...
Уже и сейчас хорошо воздействует на слушателя этот детина от литературы, бас которого громит с трибуны пошлость, трафарет во всех углах писательства и от которого веет свежестью и здоровьем» («Тверская правда», 1927, 16 июня).
13 июня в газете «Рабочая Москва» напечатано стихотворение «Голос Красной площади».
13 июня приехал в Ленинград.
15 июня в Музее академических театров на открытом собрании комиссии ленинградских академических театров по празднованию десятилетия Октября Маяковский прочел первую часть поэмы «Хорошо!» («25 октября 1917»).
- 394 -
«В Музее актеатров состоялась читка поэтом Маяковским заказанного ему синтетического представления к 10-летию Октябрьской революции» («Жизнь искусства», 1927, № 25).
«Присутствующие на чтении режиссеры, актеры — Н. Петров, В. Раппапорт, С. Радлов, Н. Смолич, Ю. Юрьев, Д. Пашковский приветствовали прочитанное. Поблагодарив за лестный отзыв о произведении, Маяковский в заключительном слове сказал, что «это лишь первый, исходный набросок текста. Он будет жить в работе и с ней меняться, доделываться, чтобы действительно стать «доходчим» до публики не в литературе только, но и в театре. Да, спектакль, очерченный здесь, сделать трудно, но можно и должно. Конечно, чтение текста его не создает. Надо приняться за самую работу» (по протокольной записи; см. т. 12).
«В. Маяковский закончил 1-ю часть новой поэмы, посвященной десятилетию Октябрьской революции. Тема этой части — Октябрьский переворот. Литературная разработка темы для синтетического представления в дни юбилейных празднеств сочинения В. Маяковского под названием «25 октября 1917 года» Юбилейной комиссией одобрена, и в настоящее время ведутся переговоры с композиторами о сочинении для него музыки. В этом представлении примут участие все роды театрального искусства, включая кино и громкоговоритель радио; представление будет дано в Малом оперном театре в постановке Н. В. Смолича при ближайшем сотрудничестве с дальнейшей разработкой текста В. Маяковского. По предложению Коминтерна поэма будет переведена на иностранные языки» («Жизнь искусства», 1927, № 27; «Новый Леф», 1927, № 5)*.
16 или 17 июня Маяковский вернулся в Москву.
18 июня в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Общее руководство для начинающих подхалим».
В тот же день в газете «Пионерская правда» напечатано стихотворение «Возьмем винтовки новые»; одновременно — в журнале «Пионер», № 12.
18 июня — вечер Маяковского в клубе «Правдист», организованный редакцией «Комсомольской правды».
Программа: «Вступительное слово тов. Кострова. Читка своих произведений тов. Вл. Маяковским. Выступления с мест»*.
19 июня в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Крым».
В середине июня Маяковский был избран в члены правления Литфонда, членом президиума и секретарем*.
22 июня в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Товарищ Иванов».
24 июня в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Ответ на «Мечту».
25 июня в газете «Рабочая Москва» напечатаны стихотворение «Польша» и очерк «Наружность Варшавы», в газете «Пионерская правда» — очерк «Чешский пионер».
25—26 июня — поездка во Владимир.
25 июня — выступление во Владимире в Партийном клубе с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.
«Интересной после выступления была беседа с молодежью-рабфаковцами, студентами техникумов.
- 395 -
Вопрос: Владимир Владимирович, вы очень трудно пишете, мы не понимаем.
Ответ: палка о двух концах. Может быть, я трудно пишу, а может быть, вы не доросли до понимания меня. Тут надо очень подумать: мне ли до вас спуститься или вам до меня подняться» (А. Воскресенский, 1940)*.
В июне вышел V том собрания сочинений (Госиздат, 436 с., тираж 3000). (Стихи 1925—1926 годов, американские очерки, статья «Как делать стихи?».)
Этим томом было начато издание собрания сочинений Маяковского.
«ГИЗ начал собрание сочинений Маяковского. Начал с конца — выпущен пятый том, вещи последних двух-трех лет, и так «концом» своим, собранный, объединенный предстает сейчас Маяковский перед читателем. К пятому тому «подшита» проза, и в прозе — две статьи о том «Как делать стихи». Товарищески щедро Маяковский делит с поэтами свой секрет ремесла. Маяковский изумляет, прежде всего, как мощный профессионал — другие пишут стихи «когда хочется», Маяковский — «когда нужно»...
У нас мало истинных мастеров, у нас все больше дилетанты, которые, ставши «у станка» профессии, надрываются, хрипнут и впадают в бездарность — и вот в Маяковском мы видим почти единственный высокий образец современного литературного профессионализма, стойкого и всегда полноценного в своей продукции...
Ряд стихотворений 5-го тома — ораторские стиховые речи — «Рупор на площади», мечущий в сборище слова молодые и резкие, как аншлаг экстренного выпуска. Если мы можем говорить о «большевистском стиле» в нашем искусстве, то раньше всего этому стилю послужил Маяковский. Его речи «стенобитны» по силе воздействия, утроенно-мужественны по словарю; ирония их уверенно настигает противника, бьет по нему, покамест он весь, как гвоздь под молотом, не уйдет, не будет по самую голову «вбит в ничтожество». Интенсивные и целевые, они осуществляют как бы некий «ленинизм стиля» («Красная газета», 1927, 14 октября веч. вып.).
«Это — значительная и радующая книга. Собранные в ней произведения последних 2-х лет показывают большого и самобытного поэта. Маяковский, как всегда, прощупывает новые пути, новые методы поэтической работы.
Создал ли Маяковский что-нибудь новое и действительно значительное на своем новом пути? Полагаю, что — да, создал. Марши поэта — новый жанр, не имеющий прецедентов в русской литературе. Сатирический фельетон Маяковского — глубоко своеобразен. Поэт имеет свой ритм, образ, рифму, свой метод (гиперболический) осмеяний, наконец, свою патетику. И, если многие новейшие произведения поэта нас не вполне удовлетворяют, то ведь не надо забывать исключительные трудности нового дела. Всякий, причастный к поэзии, знает, что труднее всего художественно оформить именно лозунги, новые, только выплывшие в быту, нужды, пороки, цели. Это новое поэт, правда, подчас схватывает поверхностно, неполно, одним боком. Все это так. Но ведь сколько проблем Маяковский схватил с подлинной глубиной, с прозорливостью» («Вечерняя Москва», 1927, 23 сентября).
Вышла детская книжка «Эта книжечка моя про меня и про маяк» (изд. «Молодая гвардия»).
В конце июня сдал для журнала «Новый Леф» (№ 6) 10-ю главу поэмы «Октябрь» («Хорошо!»). Написал заметку для «Записной книжки» в № 6 «Нового Лефа» («Я всегда думал...»).
4 июля сдал в Госиздат первую часть (главы 2—8) поэмы «Октябрь» («Хорошо!»).
4 июля — выступление (?) в Колонном зале Дома Союзов на
- 396 -
1-м вечере обороны СССР, организованном МК ВЛКСМ совместно с редакциями газет «Молодой ленинец» и «Комсомольская правда»*.
5 июля в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Сплошная неделя» (в связи с предстоящей «Неделей обороны»).
6 июля заключил договор с Госиздатом на поэму «25 Октября 1917» («Хорошо!»).
6 июля — письмо Московского отделения Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ) Маяковскому с предложением написать два сценария на тему «комсомольский быт и упадочнические настроения в комсомоле» и на тему психологической подготовки обороны СССР.
Оба сценария должны быть сданы не позже 30 сентября сего года. Маяковский ответил согласием (на копии письма) (см. 30 сентября и первую половину октября).
10 июля в газете «Рабочая Москва» напечатано стихотворение «Посмотрим сами, покажем им» (в связи с «Неделей обороны»).
17 июля в газете «Рабочая Москва» напечатано стихотворение «Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела!» (в связи с «Неделей обороны»).
В июле в журнале «Молодая гвардия» напечатаны стихотворение «Чугунные штаны» и очерк «Поверх Варшавы».
В журнале «На литературном посту» (№ 14) — стихотворение «Иван Иванович Гонорарчиков».
Вышла отдельным изданием статья «Как делать стихи?» (изд. «Огонек»).
Вышел № 5 журнала «Новый Леф» со стихотворением «Венера Милосская и Вячеслав Полонский» и очерком «Ездил я так»*.
22 июля сдал в Госиздат 2-ю часть поэмы «Октябрь» («Хорошо!»), главы 9—17, вместе с письмом:
«Ввиду необходимости частичной переработки третьей части поэмы «Октябрь» прошу разрешить мне представить последнюю часть к 7 августа с. г.»*.
22 июля нарком просвещения А. В. Луначарский дал Маяковскому удостоверение:
«Предъявитель сего поэт Владимир Маяковский отправляется для чтения лекций в города Сталино, Харьков, Луганск, Артемовск, Симферополь, Севастополь, Ялта, Новороссийск, Баку, Батум, Тифлис, Кутаис. Наркомпрос просит оказывать тов. Маяковскому полное содействие в его поездке и работе».
23 июля в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Наглядное пособие» (в связи с восстанием рабочих в Вене).
- 397 -
24 июля выехал в лекционную поездку по городам Украины, Крыма и Кавказа.
За несколько дней до отъезда Маяковский телеграфировал П. Лавуту: «Считаю бессмысленным устройство лекций Харькове летом. Предпочитаю лекции Луганске осенью... Прошу отменить перенеся осень лекции Харькове Луганске. Если отменить невозможно телеграфируйте срочно выеду». «Опасения Маяковского оказались напрасными, — пишет Лавут. — Везде было полно. А в Харькове количество слушателей было даже больше, чем зимой. В Харькове он встретил С. Кирсанова и пригласил его выступить в тот же день вместе с ним. Он уговорил Кирсанова продолжать совместную работу и в Донбассе и снова в Харькове — на обратном пути» («Знамя», 1940, № 4—5, с. 224).
25 июля — выступление в Харькове в Летнем театре для членов профсоюза — «Всем — все».
Афиша: «Разговор-доклад: «Всем — всё. О Лефе. О прафе. О Пушкине. О бешеном огурце. О Варшаве. О сером кобыле. О слезах Крамаржа. О восьми столицах. О протчем.
Новые стихи и поэмы. I. Маршал Понятовский и чугунные штаны. Руководство для начинающих подхалимов. То в нос тебе магнолия. Фабрика оптимистов. Корона и кепка. Канцелярские привычки.
II. Разговор с Венерой Милосской о Вячеславе Полонском. Линдберг и макароны. А пирог-то жрешь. Северяне нам наврали. Негритоска Петрова. «Даешь изячную жизнь».
III. Дурацкая смерть. За что боролись. Один из Ивановых. Ужасающая фамильярность. Славянский вопрос. Искусственные люди и др.».
«Вл. Маяковский не делает обстоятельных докладов. Он любит только вскользь «рассказывать обо всём». А жаль! поэту есть что рассказать. Он только что вернулся из поездки в Польшу и Чехословакию. Но и те краткие сообщения о Польше, коими поделился Маяковский, очень любопытны... Особенно интересно было сообщение Маяковского об убийстве товарища Войкова. Поэт виделся с покойным полпредом за неделю до его смерти. Краткие сообщения в ярком докладе т. Маяковского перемежались крепкими стихами, дополняющими сказанное» («Пролетарий» (Харьков), 1927, 28 июля)*.
27 июля в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Комсомольская правда».
27 июля — выступление в Луганске в клубе металлистов с докладом «Лицо левой поэзии» и чтением стихов.
«Во втором отделении Маяковский и молодой поэт Кирсанов читали свои стихи — и имели большой успех у аудитории. Маяковский прочитал лучшие свои старые и новейшие произведения — «Левый марш», «Товарищу Нетте», «Письмо Горькому». Кто читал эти стихи, знает их крепкое, ударное содержание. В выразительном чтении Маяковского они еще больше выигрывают... Вечер надо признать интересным. Он пробудил интерес к вопросам литературы, вызвал оживленные споры» («Луганская правда», 1927, 29 июля)*.
28 июля — второе выступление в Луганске в клубе металлистов — «Всем — всё»*.
29 июля — выступление в гор. Сталино в цирке — «Всем — всё».
В выступлениях 28 и 29 июля принимал участие С. Кирсанов.
31 июля — выступление в Харькове для членов профсоюзов в Летнем театре*.
- 398 -
2 августа приехал в Ялту.
«До обеда Маяковский работал в гостинице, сидя за столом на балконе или расхаживая из комнаты на балкон и обратно. Он читал газеты и всякие рукописи, которые ему присылали, и писал... Встречался с разными товарищами из редакций. В ресторане-поплавке в ожидании обеда Маяковский рисовал на бумаге, которой вместо скатерти были покрыты столики. Он изрисовывал всю поверхность столика.
После обеда бывали какие-то часы отдыха перед ежедневными вечерними выступлениями» (Н. Брюханенко, 1952)*.
4 августа — выступление в Симферополе в Доме работников просвещения — «Всем — всё»*.
5 августа — письмо из Ялты в Госиздат с последними двумя главами «Хорошо!».
«Шлю окончание поэмы. Просмотрев работу в общем, пока оставил отдельные места во имя целого. Печатайте. Разумеется, буду работать над поэмой и дальше. Если будет нужно, внесу дополнения и изменения в корректуре».
5 августа заключил в Ялте договор с ВУФКУ на киносценарий на тему «Борьба за нефть». Срок сдачи — 25 августа.
5 августа — выступление в Севастополе в зале Горсовета — «Всем — всё»*.
6 августа — письмо издательства «Прибой» Маяковскому. Возвращают рукопись, которая «не подошла» (какая рукопись — не установлено).
8 августа — выступление в Алуште в Межсоюзном клубе.
10 августа в письме из Ялты к Л. Ю. Брик сообщал:
«Я живу в Ялте, вернее, это так называется, потому что езжу читать во все имеющиеся стороны. Читал два раза Луганске, раз Сталино, Симферополь, Севастополь, Алушта и прочее... 15-го читаю в Ялте, потом 19 и 21 Евпатории и Симферополе и думаю от 1-го до 10-го Кавказ, с вершин коего в Москву» (см. т. 13).
С этим письмом Маяковский выслал 19-ю главу поэмы «Хорошо!» для № 7 «Нового Лефа».
12 августа — выступление в Гурзуфе в клубе Военно-курортной станции — «Всем — всё»*.
16 августа — выступление в Алупке в курзале — «Всем — всё».
17 августа — выступление в Ялте в курзале — «Всем — всё».
19 августа — выступление в Евпатории в курзале — «Всем — всё».
20 августа — выступление в Симферополе в Доме работников просвещения.
22 августа — выступление в Ливадии в Крестьянском курорте (об этом выступлении было написано стихотворение «Чудеса!» — см. 28 сентября).
23 августа — выступление в Хараксе в санатории ЦК КП(б)У.
- 399 -
24 августа — выступление в Симеизе в курзале — «Всем — всё».
В конце августа в Ялту приехал режиссер Малого оперного театра Н. Смолич с разработанным проектом представления «Двадцать пятое» («Хорошо!»)*.
В ленинградской «Красной газете» 25 июля Н. В. Смолич сообщал о своих планах постановки юбилейного спектакля: «Какую же сценическую форму примет у нас поэма Маяковского? Это отнюдь не должна быть ни «пьеса», ни инсценированная хроника. Это скорее всего может быть ряд демонстраций, способных вновь возбудить в зрителях пережитые ими в свое время героико-революционные настроения. Задача театра в данном случае не столько напомнить о протекших событиях (это прямое дело истории), а воссоздать впечатление о них, возбудить эмоции революционных дней. При композиции спектакля мы будем всячески стремиться к тому, чтобы зрительный зал вышел из обычного пассивного состояния и сделался бы активным участником представления. Если эта задача будет удачно разрешена, если зрительному залу удастся ловко подсказать текст Маяковского (мы думаем суфлировать в публику через посредство замаскированных громкоговорителей), то сам зрительный зал, став активным, разрешит воссозданные в поэме переживания. Основным фоном представления явится непрерывная музыкальная ткань, а на этом фоне в манере острого экспрессионизма, в формах плакатных и монументальных пройдет вереница образов, осуществляемых объединенными усилиями сцены и кино».
«Маяковскому очень понравился разработанный Смоличем проект представления, и он значительно проработал литчасть спектакля. По возвращении из Крыма Маяковский примет самое большое участие в проработке означенного спектакля» («Рабочий и театр», 1927, № 36, 6 сентября)*.
25 августа сдал в ялтинскую кинофабрику ВУФКУ сценарий «Инженер Д’Арси (История одного пергамента)» по договору, заключенному 5 августа на сценарий «Борьба за нефть» (сценарий был написан в сотрудничестве с В. М. Горожаниным).
25 августа — выступление в Ялте в клубе 1 Мая.
26 августа телеграфировал из Ялты Л. Ю. Брик:
«Сообщите Госиздату название октябрьской поэмы Хорошо подзаголовок октябрьская поэма частей не делать дать отдельным стихам порядковую арабскую нумерацию тчк переставь последним предпоследнее стихотворение тчк третьего еду лекции Кисловодск около пятнадцатого радостный буду Москве».
26 августа — выступление в Ялте в клубе санатория Профинтерна.
28 августа — письмо в Госиздат из Ялты об изменениях в поэме «Хорошо!».
«Сообщаю вам окончательно изменения в моей Октябрьской поэме и прошу их внести в корректуру:
1) Обложка: Маяковский ХОРОШО! (Прошу давать это название в дальнейших газетных объявлениях). 2) Титульный лист ХОРОШО! (Октябрьская поэма). 3) Поэму на части не делить, прямым отдельным стихам дать порядковые арабские цифры от 1 до 23».
30 августа — выступление в Ялте в клубе совработников.
31 августа — выступление в Ялте в курзале.
В августе в журнале «Красная новь» (№ 8) напечатаны главы
- 400 -
2—8 поэмы «Хорошо!» под заглавием «25 Октября 1917 года».
В журнале «Бузотер» (№ 31) — стихотворение «Пиво и социализм» (первоначальное заглавие — «Витебские мысли». Написано до отъезда из Москвы).
Вышел № 6 журнала «Новый Леф» с 10-й главой поэмы «Хорошо!» и заметкой в «Записной книжке».
3 сентября выехал из Ялты в Кисловодск.
«Мы выехали из Ялты на пароходе в Новороссийск, чтоб оттуда ехать на Минеральные воды. Ночью в море разразился сильнейший шторм. Было девять баллов, говорил потом капитан. Волны перекатывались через верхнюю палубу, и было довольно страшно... Маяковский потом говорил об этой ночи, что «Черноморско-Атлантический океан разбушевался всерьез». Наутро, когда наш пароход с большим опозданием наконец прибыл в Новороссийск, мы узнали из газет, что в предыдущую ночь в Крыму было землетрясение.
В Новороссийске мы сели в поезд, и все, кто прибыл с пароходом после этой тяжелой ночи и мы в том числе, немедленно заснули и спали до самой Тихорецкой. На этой станции была пересадка на Минеральные воды, и нам пришлось дожидаться поезда несколько часов. На пыльной площади около вокзала стояли два запряженных верблюда; Маяковский принес им какую-то еду из вокзального ресторана и кормил их. Потом он купил в киоске «Записки адъютанта Май-Маевского»1 и, не видя и не слыша ничего и никого, читал все время, пока не окончил книжку» (Н. Брюханенко, 1952)*.
6 сентября — выступление в Пятигорске в Лермонтовской галерее — «Всем — всё»*.
7 сентября выступление в Железноводске было отменено вследствие болезни Маяковского. По этой же причине отменены выступления 8 сентября в Кисловодске и 9 сентября в Ессентуках.
11 сентября в газете «Труд» напечатано стихотворение «Гевлок Вильсон» (написано до отъезда из Москвы).
11 сентября — выступление в Ессентуках в театре — «Всем — всё».
13 сентября — выступление в Кисловодске в Нижнем парке — «Всем — всё».
«Вечер был сырой и туманный — после дождя. На скамейках концертной площадки чернели лужицы. Публики было мало.
Маяковский, заложив пальцы за жилет, шагал вдоль тусклой рампы и, не глядя на публику, чугунным голосом читал стихи.
— Громче! — кричали ему из рядов.
— А вы потише! — отвечал он с эстрады.
Ему бросали записки. Записки были дурацкие. Он отвечал на них резко, кулаком по башке. Одну спрятал в жилетный карман.
— Вам вместо меня ответит ГПУ.
— Не препятствуй! — заорал от забора пьяный курортник, — за тебя деньги плочены... Три рубля...
— А вам бы, гражданин, лучше в пивную! Там — дешевле! — ответил Маяковский под смех и аплодисменты.
- 401 -
Молодежь, прихлынув к барьеру, ожесточенно хлопала ладонями, Маяковский оживился.
— Мы вас любим... Приезжайте еще! — сказала бойкая девушка, взметнула кудрями и подала ему цветы.
В каморке за концертной раковиной Маяковский подарил букет пожилой уборщице. Прежде чем взять цветы, она вытерла руки об халат и приняла букет, как грудного ребенка». (Н. Серебров (А. Н. Тихонов), 1940)*.
15 сентября Маяковский вернулся в Москву.
«В Москву в одном вагоне с ним ехал один из участников штурма Зимнего дворца Н. И. Подвойский. И Маяковский пригласил его в наше купе послушать несколько глав «Хорошо!». Подвойскому очень понравилось, он сделал только несколько замечаний и внес поправку: председатель не Реввоенсовета, а Реввоенкомитета, что Маяковский и исправил в рукописи. Но в первом издании он не успел это выправить, так как книжка в это время уже печаталась в Госиздате» (Н. Брюханенко. 1952)*.
16 сентября сдал в Госиздат том VI собрания сочинений (стихи 1926—1927 гг.).
19 сентября заключил договор с Госиздатом на том VI собрания сочинений.
20 сентября — первое чтение поэмы «Хорошо!» на редакционном собрании журнала «Новый Леф». На чтении присутствовал нарком просвещения А. В. Луначарский.
«Прослушав поэму, Луначарский сказал: «Это — Октябрьская революция, отлитая в бронзу» (В. Катанян, 1940)*.
Выступая на юбилейной сессии ЦИК СССР 16 октября с докладом о культурном строительстве за 10 лет, Луначарский сказал:
«Маяковский создал в честь октябрьского десятилетия поэму, которую мы должны принять как великолепную фанфару в честь нашего праздника, где нет ни одной фальшивой ноты, и которая в рабочей аудитории стяжает аплодисменты» («Красная газета», 1927, 18 октября, веч. вып.).
«Я помню, как в десятую годовщину Октябрьской революции (а сейчас нам предстоит тридцатая!) Маяковский пригласил небольшую группу литераторов к себе на дом, впервые читал поэму «Хорошо!». Надо сознаться, что даже мы, выходцы из демократических низов, в известной мере тоже зачинатели советской литературы, не сразу поняли все величие и значение этой поэмы. Мы подошли к ней с узколитературной точки зрения. Нам не понравилась ее декларативность. В этой поэме, перед десятой годовщиной Октября, когда страна жила еще тяжело, когда стране было очень трудно, Маяковский говорил о ней как о стране, уже утвердившей новый строй жизни. Он говорил о своей кровной связи с советской родиной. Теперь, спустя двадцать лет, эта поэма звучит во весь голос, и многое из того, что было в ней тогда предвосхищено осуществилось. Поэма «Хорошо!» была поистине пророческой» (А. Фадеев, 1947)*.
23 сентября в газете «Комсомольская правда» напечатана 17-я глава поэмы «Хорошо!» под заглавием «Пою республику».
27 сентября — письмо в литературно-художественный отдел Госиздата.
«По моем возвращении из-за границы мною был заключен с Гизом договор на все имевшиеся в работе вещи: «Роман», «Драма», «Мое открытие Америки» и «Испания, Атлантический океан, Гавана» (стихи). Я сумел сдать две последние книги. Работа над «Драмой» и «Романом» задержалась благодаря
- 402 -
возникшей большой работе (тоже для Гиза) над Октябрьской поэмой. Эта крайне трудная поэма, сданная в срок Гизу, кроме отрыва от других работ, еще и крайне меня утомила. После месячного отдыха, надеюсь в 4-х, 5-месячный срок выполнить все взятые на себя обязательства. Я неоднократно предлагал ликвидировать все материальные обязательства, вытекающие из договора, но литературно-художественный отдел указывал мне всегда на желательность сохранения договора в силе и откладывал день сдачи книг. Если и сейчас ГИЗу интересны указанные книги, прошу продлить срок договора сообразно с моими указаниями о времени».
27 сентября участвовал в заседании комиссии по распространению периодики Госиздата. Обсуждался вопрос о распространении журнала «Новый Леф»*.
28 сентября в газете «Комсомольская правда» напечатана 18-я глава поэмы «Хорошо!» под заглавием «Красная площадь».
В тот же день в газете «Рабочая Москва» — стихотворение «Чудеса!».
30 сентября сдал в московское представительство ВУФКУ либретто сценария «Долой жир» («Товарищ Копытко») и сценарий «История одного нагана».
В сентябре — начале октября написана статья «Только не воспоминания...» для № 8—9 журнала «Новый Леф».
«Непосредственная трудность борьбы со старьем, характеризующая жизнь революционного писателя до революции, заменилась наследством этого старья — эстетической косностью. Конечно, с тем прекрасным коррективом, что в стране революции в конечном итоге побеждает не косность, а новая, левая, революционная вещь... Наша победа не в опрощении, а в охвате всей сложнейшей культуры».
1 октября в газете «Вечерняя Москва» напечатан отрывок из 14-й главы поэмы «Хорошо!».
4 октября в газете «Комсомольская правда» напечатаны стихотворения «Маруся отравилась» и «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им, как о том сообщается в № 219 «Комсомольской правды» в стихе по имени «Свидание».
5—8 октября — поездка в Киев по делам, связанным со сдачей в ВУФКУ двух последних сценариев «История одного нагана» и «Товарищ Копытко»*.
13 октября в газете «Рабочая Москва» напечатано стихотворение «Англичанка мутит».
14 октября в газете «Рабочая Москва» напечатано стихотворение «Рапорт профсоюзов».
15 октября в газете «Ленинградская правда» напечатан отрывок из 15-й главы поэмы «Хорошо!» под заглавием «Такая земля».
15 октября — выступление в Доме печати на диспуте «Пути и политика Совкино», организованном ЦК ВЛКСМ, Обществом друзей советского кино и редакцией «Комсомольской правды».
- 403 -
«Говорят, что вот Маяковский, видите ли, поэт, так пусть он сидит на своей поэтической лавочке... Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение, сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее — Советскому правительству и партии» (см. т. 12)*.
15—17 (?) октября — поездка в Ленинград.
16 или 17 октября — выступление на собрании рабкоровского объединения при журнале «Рабочий и театр» с чтением первой части поэмы «Хорошо!»*.
16 октября в газете «Комсомольская правда» напечатана 6-я глава поэмы «Хорошо!» под заглавием «Кончилось ваше время».
В середине октября вышла отдельным изданием поэма «Хорошо!» (Госиздат).
«Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изображение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.
Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены — лампы сияют, цены снижены»), введение для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»)» (автобиография).
По-видимому, вскоре после выхода поэмы в свет Маяковский получил письмо от В. И. Качалова:
«Тщетно пытался позвонить Вам по телефону, — очень хотелось сказать Вам спасибо за Ваше «Хорошо!». На Кузнецком с Вами встретился нос к носу, дернулся было к Вам, чтобы с благодарностью Вашу руку пожать, но застенчив я — не решился. А молчать не могу. Хочется сказать спасибо. Пусть это Вам все равно и даже наплевать, а я хочу как-нибудь свою радость и благодарность Вам выразить... Буду учить — уже начал работать — и буду читать хотя бы отрывки, если ничего не имеете против»*.
«Целевая установка такого рода поэмы — современность, злободневность, социальная действительность. Способ передачи этого необычного политического материала — изощренные средства поэтической техники, разработанные футуристами. Но в отличие от прежних своих произведений в новой поэме Маяковский отходит от метода гиперболизации вещей и событий, ограничивает свою поэтическую фантазию, вступает на путь фактов, стремится быть верным исторически.
Основное в том, что в главном поэт сумел художественно преодолеть свой материал, создать произведение значительное в социальном и художественном отношении.
Богатство рифм, из которых каждая неожиданна и оригинальна; разнообразие ритмов, в которых слышится то уличный бой, то частушка, то поступь миллионов; литературная пародия — все это мобилизовано для того, чтобы воспроизвести в поэме пафос революции, и эта задача во многом удалась автору.
Лучше всего заключительные части поэмы, где выражено отношение поэта к стране, с которой он вместе голодал, к социалистическому отечеству, к громадным задачам и делам, поставленным Октябрьской революцией» («Правда», 1927, 28 декабря).
«Маяковский сросся с революцией.
Он — «барабанщик и поэт» — первый по-настоящему поставил поэзию на службу революции, вынес ее из уюта спаленок на улицу, заставил звучать на пользу борьбе маршем, частушкой, песней, одой, хроникой.
- 404 -
Октябрьской поэмой «Хорошо!» Маяковский окончательно утвердил себя как поэта революции, показав вместе с тем в поэме все разнообразие своего мастерства. Здесь Маяковский смеется, издевается, просто рассказывает, восторженно славит...
Форма неотделима от содержания, — это с большим успехом можно проследить на данной поэме. Богатство ритмических построений (пресловутая Маяковская разбивка стиха становится необходимой), которыми Маяковский владеет мастерски, придает поэме максимальную выразительность.
Поэма стоит того, чтобы ее переложить на хорошую музыку, создать из нее революционное действо» («Комсомольская правда», 1928, 18 января).
«К сожалению, в поэме Маяковского не приведено и минимума тех фактов, которые известны мало-мальски грамотному человеку. На самом деле обстановка, предшествовавшая Октябрю, была чрезвычайно сложная и тонкая (!), происходила ожесточенная борьба...» («На литературном посту», 1928, № 2).
«Маяковский, например, вместе с лефами ратующий против «психологизма», не смог в поэме «Хорошо!» дать борьбу этих тенденций, потому что не заглянул в психику крестьян, и его красноармейцы, лихо сбрасывающие в море Врангеля, получились фальшивыми, напыщенно плакатными красноармейцами, в которых никто не верит» (А. Фадеев. Выступление на I съезде пролетарских писателей)*.
Вышло 2-е издание поэмы «Владимир Ильич Ленин» (Госиздат, «Универсальная библиотека»).
В журнале «Молодая гвардия» (№ 10) напечатаны главы 9—13 поэмы «Хорошо!».
В журнале «На литературном посту» (№ 20) — 9-я глава поэмы «Хорошо!».
В журнале «Бузотер» (№ 39) — стихотворение «Массам непонятно».
Вышел № 7 журнала «Новый Леф» с 19-й главой поэмы «Хорошо!».
18 октября — выступление с чтением поэмы «Хорошо!» перед активом московской партийной организации в Красном зале МК ВКП(б).
«В течение полутора часов аудитория с неослабным вниманием слушала новое произведение даровитого поэта. Иногда чтение прерывалось одобрительными возгласами и аплодисментами...
Следует заметить, поэт не просто пришел прочесть свою поэму, но хотел получить ответ от партийного середняка — агитпропщиков и т. д. — понятна ли и насколько понятна поэма, дает ли она в целом широким читательским кругам то, что нужно сейчас... Сущность отдельных неодобрительных замечаний о поэме сводилась к следующему — «Поэту не удалось дать исчерпывающий обзор событий Октябрьской революции. Поэма проникнута индивидуализмом, рисует отдельных героев, но не показывает массы. В поэме слабо отражены последние семь лет социалистического строительства». Большинство же признавало, что поэма хороша, как по содержанию, так и по форме. Нельзя от подобной поэмы требовать истории Октябрьской революции... Выступивший после обмена мнений тов. Маяковский отметил, что по существу поставленного перед собранием основного вопроса никто из выступавших не возражал. Никто не говорил, что поэма непонятна, а это — главное, что он ожидал от этого собрания. В принятой собранием резолюции поэма В. Маяковского «Хорошо!» в ряде других произведений советской литературы рассматривается как шаг
- 405 -
вперед и заслуживает использования ее в практической работе как средства художественной агитации» («Рабочая Москва», 1927, 20 октября).
20 октября участвовал в заседании Исполбюро Федерации писателей.
Обсуждались вопросы об организации выставки и о выпуске к десятилетию Октября серии избранных произведений советских писателей. 8 ноября Маяковский передал для выставки 26 своих книг*.
20 октября — выступление в Большой аудитории Политехнического музея с чтением поэмы «Хорошо!».
Афиша: Владимир Маяковский. «Хорошо!» Октябрьская поэма.
I. 1. Шелест знамен... 2. Бей!!! 3. Голова присяжного поверенного. 4. Усастый нянь. 5. Извольте понюхать. 6. Я, товарищи, из военной бюры... 7. Которые тут временные? Слазь! 8. Здравствуйте, Александр Блок! 9. Жир ежь страх плах!.. 10. Господин помещичек, собирайте вещи-ка! 11. Дядинька, что вы делаете тут?
II. 12. Дым отечества. 13. С Лениным в башке и с наганом в руке. 14. Трансваль, Трансваль, страна моя... 15. Есть революция, а нету масла. 16. Куда идешь? В уборную иду, на Ярославский. 17. Две морковинки несу за зеленый хвостик. 18. Мы только мошки, мы ждем кормежки. 19. Сперли казну и удрали, сволочи! 20. Пою мое отечество, республику мою. 21. Место лобное, для голов ужасно неудобное. 22. Хорошо!
III. Ответ на записки и вопросы».
«Большой зал Политехнического музея заполнен до пределов возможности. Публика в проходах. Публика на эстраде. Публика в вестибюле. Снаружи — с улицы — Политехнический имеет вид осажденной крепости. Это Маяковский читает свою новую — Октябрьскую поэму — «Хорошо!».
Что сказать в спешной заметке о поэме, где в 24 эпизодах поэт старается отобразить основные моменты Октябрьской революции?
Бесспорно, что поэма написана крупнейшим мастером слова и подлежит серьезному всестороннему обсуждению. Бесспорно, что в авторском чтении поэма получает ряд новых и существенных нюансов, которые, несомненно, ускользнут от рядового читателя поэмы «по книжке». Но бесспорно и то, что элементы сатирические в поэме по своей силе превосходят элементы героические. Даже мощность лиры Маяковского, даже сила его голоса слабы для героики Октября.
Зато в области сарказма, злых выпадов, шаржа Маяковский почти бесподобен. «Издевки Маяковского», прикрытые яркой оболочкой неожиданных рифм, порой достигают шедевра» («Вечерняя Москва», 1927, 21 октября).
«Маяковский получил записку: «Самое, что лучшее понравилось у вас, Владимир Владимирович, это «с Лениным в башке и с наганом в руке...». Голосом мягким, незнакомым литвечерам, поэт просто и серьезно сказал на галерку: — Желаю, товарищ, чтобы вы всегда имели Ленина в башке и наган — в руке...
И шутя добавил: «...а иногда и мою поэму в сердце» («Советская Сибирь» (Новосибирск), 1927, 30 октября).
21 октября — выступление в клубе НКИД с чтением поэмы «Хорошо!»*.
23 октября в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Размышления о Молчанове Иване и о поэзии»
- 406 -
(ответ на стихотворение И. Молчанова «У обрыва» в том же номере газеты).
23 октября — обращение к В. Э. Мейерхольду с просьбой прислать материал для однодневной праздничной газеты Федерации писателей (см. т. 13).
Подписано Маяковским в числе других членов редколлегии.
23 октября — выступление в Доме печати с чтением поэмы «Хорошо!»*.
24 октября в однодневной газете «Комсомольская правда» «Наш подарок Октябрю» напечатано стихотворение «Понедельник — субботник».
24 октября — выступление с чтением последней главы «Хорошо!» в Колонном зале Дома Союзов на вечере, посвященном десятилетию Московской организации ВЛКСМ*.
Выступление Маяковского снимала кинохроника.
25 октября заключил соглашение с Госиздатом об издании журнала «Новый Леф» в 1928 году.
25 октября выехал в Ленинград*.
Во время пребывания в Ленинграде Маяковский был на нескольких репетициях спектакля «Двадцать пятое» («Хорошо!») в Малом оперном театре и написал в связи с этим небольшую заметку в юбилейный номер журнала «Рабочий и театр».
«Я думаю, что переделка поэмы на театральное действие — опыт очень трудный, уже по одному тому, что современный актер в области декламации цепко держится за старые традиции. Почти все чтецы, которых я слышал, или классически подвывают, или делают бытовые ударения, совершенно искажая стихотворный ритм. Но все же я считаю инсценировку поэм или стихов чрезвычайно важной работой для театра, потому что, запутавшись в переделках старых пьес на новый лад или ставя наскоро сколоченные пьесы, театры отвыкли от хорошего текста. Получается такое впечатление, что текст даже будто не очень важен для театра. Что касается конкретной постановки моей поэмы «Двадцать пятое», то я видел только черновую репетицию и тем не менее могу с уверенностью сказать, что спектакль из поэмы, несомненно, получится и, думаю, будет смотреться с интересом» (см. т. 12).
Тогда же Маяковский написал для юбилейного номера ленинградской газеты «Кино» свои «пожелания» кинематографии.
«Самое большое пожелание для советского кино на десятый год Октябрьской революции — это отказаться от гадостей постановочных «Поэт и царь» и дать средства, зря растрачиваемые на такого рода картины, на снимание нашей трудовой революционной хроники... Давайте хронику!» (см. т. 12).
26 октября — выступление в Ленинграде, в зале Академической капеллы с чтением поэмы «Хорошо!».
«В Аккапелле и Доме печати состоялись выступления В. Маяковского с октябрьской поэмой «Хорошо!». 24 эпизода поэмы в блестящем исполнении
- 407 -
автора встретили горячий прием многочисленной аудитории. 1 ноября В. Маяковский еще раз выступит с поэмой «Хорошо!» в Доме печати» («Ленинградская правда», 1927, 30 октября).
27 октября — второе выступление в Ленинграде в клубе им. Ильича Путиловского завода с чтением поэмы «Хорошо!».
«— Товарищи путиловцы! Я пришел к вам отчитаться в своей новой работе. Я рад, что столько лет рабочего стажа пришло меня слушать. Подсчитаем, сколько лет великолепного, работающего, приносящего счастье нашему советскому человечеству стажа сидит сейчас в зале!
Слова встречают смехом, одобрением. С мест кричат:
— Двести лет!
— Больше, больше!
— Четыреста... Пятьсот!
— Больше!
— Тысяча!
— Товарищи, я думаю, что никак не меньше двух тысяч лет рабочего стажа сидит сейчас в зале. Я горжусь такими слушателями и буду внимательно прислушиваться к вашим замечаниям и... вашим аплодисментам...
Он по-актерски глубоко чувствовал свою аудиторию и всеми ему присущими огромными выразительными средствами завораживал и подчинял себе слушателей. И дальше, в диспуте, он ведет себя в этой аудитории несколько иначе, чем обычно. Держится мягче, больше прислушивается к тому, что происходит в зале... И только библиотекаршу, кричавшую о том, что «вас не любят, в библиотеке не спрашивают», разделывает так, что весь зал покатывается от хохота» (Е. Хин, 1959)*.
«В Ленинграде в клубе на Путиловском заводе я читал мое «Хорошо». После чтения — разговор.
Одна из библиотекарш радостно кричала из рядов, подкрепляя свою ненависть к нашей литературе:
— Ага, ага! А вас никто не читает, никто не спрашивает! Вот вам, вот вам!
...Я спрашиваю библиотекаршу:
— А вы рекомендуете книгу читателю? Объясняете нужность ее прочтения, делаете первый толчок к читательской любви?
Библиотекарша отвечала с достоинством, но обидчиво:
— Нет, конечно. У меня свободно берут любую книгу...
Я думаю, что нам не нужны такие библиотекари, которые являются хладнокровными регистраторами входящих и исходящих книг» («Вас не понимают рабочие и крестьяне»).
28 октября — третье выступление в Ленинграде в Доме печати с чтением поэмы «Хорошо!».
«В дни годовщины эта поэма пойдет в театрализованном виде в Михайловском театре. Мы не сомневаемся, что это будет незаурядный спектакль. Точно так в изумительном исполнении поэта — поэма несомненно звучала, как вещь высоко незаурядная, местами восходящая до большого напряженного мастерства... «Хорошо» в сущности большая лирическая поэма на эпическую тему. Маяковский справедливо заметил, что он меньше всего — летописец событий... «Хорошо» Маяковского уже окончательно утверждает этого большого поэта, как настоящего поэта революции» («Красная газета», 1927, 30 октября, веч. вып.)*.
29 октября заключил договор с ленинградской фабрикой Совкино на сценарий «Позабудь про камин». Срок сдачи — 15 декабря 1927 года.
Сценарий был написан в конце 1927 года (точная дата окончания и сдачи на фабрику неизвестна). Постановка его осуществлена не была. Сюжет и тему
- 408 -
этой вещи Маяковский использовал в дальнейшем в работе над пьесой «Клоп» (лето — осень 1928)*.
29 октября — четвертое выступление в Ленинграде для вузовцев в зале Академической капеллы — «Даешь изящную жизнь».
Афиша: Разговор-доклад. «Даешь изящную жизнь!». I. Темы: Черемухи и луны со всех сторон. Нездешний гость с гармошкою. Страусы в клетках. Первый жирок. Эпоха фрака. Брюки дудочкой. Упраздненные пуговицы. Петушки-гребешки, теремочки. Пролетарий сам знает, что ему изящно и что ему красиво.
II. Новые стихи: Письмо к любимой Ивана Молчанова. Рак и пиво завода имени... Даже мерин сивый... Письмо Горькому. Мусье Гога. Мочала а ля Качалов. Слух идет бессмысленен и гадок. Мишка, как тебе нравится эта рифмишка? Разговор с Венерой Милосской о Вячеславе Полонском.
III. Ответы на записки».
30 октября в газете «Комсомольская правда» напечатан отрывок из 10-й главы поэмы «Хорошо!» под заглавием «Политика проста».
30 октября — пятое выступление в Ленинграде в Военно-политической академии с чтением поэмы «Хорошо!»*.
31 октября — шестое выступление в Ленинграде в Доме работников просвещения с чтением поэмы «Хорошо!».
1 ноября — седьмое выступление в Ленинграде в Доме печати с чтением поэмы «Хорошо!»*.
2 ноября — восьмое выступление в Ленинграде в зале Академической капеллы — «Даешь изящную жизнь!».
3 ноября — девятое выступление в Ленинграде в зале Академической капеллы — «Лицо левой литературы».
4 ноября Маяковский вернулся в Москву.
4 ноября — выступление в Первом Московском университете с чтением поэмы «Хорошо!»*.
5 ноября — выступление на Октябрьском вечере в клубе ВСНХ с чтением отрывков из «Хорошо!»*.
6 ноября в газете «Комсомольская правда» в номере, посвященном десятилетию Октябрьской революции, напечатано стихотворение «Автобусом по Москве».
В тот же день в газете «Труд» — стихотворение «Было — есть».
6 ноября — премьера «Двадцать пятое» в Ленинградском Малом оперном театре.
Постановка Н. Смолича, художник М. Левин, дирижер С. Самосуд. «Малый актеатр посвящает Октябрю «Двадцать пятое» Маяковского. В отличие от реалистических постановок своих собратьев Малый театр строит на основе поэмы Вл. Маяковского «Хорошо!» обобщенное символическое изображение революционного десятилетия... Эпизоды последних лет даются то в форме массовых динамических сцен, то коллективной читкой голосовых групп, танцевальными пантомимами или театрализованными сатирическими сценками. Действие объединяется чтецом, ведущим рассказ от лица автора. Особенно волнует момент «взятия Зимнего», когда в действие вовлекается весь зрительный зал» («Красная газета», 1927, 6 ноября).
- 409 -
7 ноября в газете «Рабочая Москва» напечатан отрывок из поэмы «Хорошо!».
7 ноября — выступление с чтением отрывков из поэмы «Хорошо!» на Октябрьском вечере Союза работников просвещения.
8 ноября — выступление в Красном зале МК ВКП(б) на литературном вечере, организованном МК ВЛКСМ*.
В ноябре в журнале «Молодая гвардия» напечатаны главы 14—19 поэмы «Хорошо!».
Вышел № 8—9 журнала «Новый Леф» со статьей «Только не воспоминания...»
«Только не воспоминания. Нам и не по-футуристически и не по душе эти самые вечера». Я предпочел бы объявить или «утро предположений» или «полдень оповещений».
Но...
За эти десять лет ставилось, разрешалось, отстаивалось огромное количество вопросов политики, хозяйства, отчасти и культуры...
Многие из этих паршивых надстроечных вопросов еще и сейчас болтаются (вернее, разбалтываются) так же, как они трепетали в первый октябрьский ветер.
Эти вопросы все время ставятся нами с первых же дней боевых затиший и вновь отодвигаются «английскими угрозами», «все силы на борьбу с бюрократизмом» и т. п...
Эти вопросы будет ставить и новое десятилетие, и не для того, чтобы кричать «и я, и я», и не для того, чтобы украсить флагами лефовские фронтоны — мы пересматриваем года.
Это — корректура Лефа, это — лишняя возможность избежать ошибки в живом решении вопросов искусства» (см. т. 12).
15 ноября — второе выступление в Большой аудитории Политехнического музея с чтением поэмы «Хорошо!».
Афиша: «Владимир МАЯКОВСКИЙ прочтет во 2-й раз Октябрьскую поэму «ХОРОШО!».
После чего состоится диспут.
Вопросы: 1) Что дала поэзия за 10 лет. 2) Кончился ли «изустный» период литературы. 3) Что делать с поэзией. 4) Внимательны ли мы к поэту. 5) Умеет ли вести себя критика. 6) Можно ли хвастаться поэтической безграмотностью.
При участии т. т. Авербаха, Брика, Пельше, Раскольникова, Ингулова. Приглашаются т. т. Полонский, Воронский, Серафимович, Либединский и все желающие из публики. Весь чистый сбор поступит на усиление средств Шефской комиссии над Красной Армией при Наркомпросе».
«Маяковский вышел на эстраду с портфелем под мышкой и двумя стаканами чаю и не торопясь мрачно оглядел зал.
— Берковский здесь? — спросил он.
— Здесь, — ответили ему откуда-то из третьего ряда.
Берковский был тщедушный молодой человек, который являлся на все вечера Маяковского и вел себя буйно-активно — подавал ехидные реплики, писал записки; [...] если бывали прения, выступал против, громил Маяковского и сам, естественно, становился жертвой его яростных контратак. Может быть, это был просто мазохист, который получал удовольствие от того, что по нему проезжаются и поднимают на смех? Но иногда этот назойливый мазохист всерьез досаждал Маяковскому...
- 410 -
— Каким местом вы думали, когда задавали мне этот вопрос? — спросил его как-то Маяковский.
— Головой.
— Ну и садитесь на эту голову.
В более добродушном настроении, когда, по выражению Хлебникова, играя своим голосом как улыбкой, он зажигает спички острот о голенища глупости, Маяковский, получив ответ на вопрос «Здесь ли Берковский?», говорил просто:
— Ну, значит, можно начинать...
Но сегодня весь его вид не обещал ни Берковскому, ни другим охотникам дразнить поэта записками или выкриками легких побед или обмена любезностями. Да и горькие вопросы, предложенные для диспута, разве не предупреждали о том же?
Кто громко скажет, что мы «внимательны к поэту»? Воронский? Авербах? Или Полонский покажет на себя, отвечая на вопрос «умеет ли вести себя критика?»? А Серафимович и Либединский объяснят, можно или нельзя «хвастаться поэтической безграмотностью»? Впрочем, никого из них пока не видать в округе...
«Маяковский начал свое выступление с краткого изложения повестки, как вдруг увидел в первом ряду человека средних лет, который, аккуратно устроив на коленях портфель, читал газету.
Маяковский остановился и резко спросил:
— Вы долго будете читать газету?
Человек средних лет сделал вид, что не слышит.
— Я к вам обращаюсь! — повысил голос Маяковский.
— Я сижу на своем месте и делаю то, что мне нравится, — возразил человек с газетой. — Я вам не мешаю.
— Нет, мешаете, — крикнул Маяковский, — если вы не прекратите эту демонстрацию, я отберу у вас газету...
Публика стала волноваться. Некоторые кричали: «Вон», другие — «Оставьте его в покое». Я сидел в глубине эстрады, и весь зал был передо мной — назревала драка.
И тогда человек средних лет сложил газету, спрятал ее в портфель, встал и... был таков.
Как выяснилось потом, это был Р. А. Пельше, зав. отделом художественного просвещения Главполитпросвета, один из предполагаемых участников диспута. И вот вышло, что он сумел высказаться только по одному пункту — внимательны ли мы к поэту?..» (В. Катанян, 1974)*.
«Нужно было стечение целого ряда «благоприятных» обстоятельств, чтобы вынудить Маяковского на ту постановку вопроса о себе, как о поэте, какую он заострил вчера на своем вечере в Политехническом музее.
Прежде всего не явился на диспут ни один из той плеяды критиков всех школ и направлений, какие были перечислены на афише и какие должны были продемонстрировать отношение профессиональной критики к последней поэме Маяковского. Далее, никогда еще не проявилось так отчетливо, как вчера, отношение к поэту обывателя, который за свой целковый считает вправе с высоты своего обывательского величия и в отдельных выкриках и — тем более — в анонимных записках самым вызывающим образом глумиться над поэтом. Наконец, в отдельных репликах и даже выступлениях с эстрады вчера была поставлена под сомнение искренность восторгов Маяковского по адресу Октябрьской революции.
С убедительностью, достойной лучшего применения, Маяковскому пришлось доказывать, что литературная вещь на тему Октября может и не являться халтурой.
— Я сросся с Октябрьской революцией, — заявил Маяковский. — Советскую республику я считаю своею. И будь я сейчас даже немощным безголосым импотентом, и тогда бы я попытался прошепелявить свою поэму в честь Октября. Революция выдвинула поэзию на эстраду, приблизила ее к массам. Поэта-меланхолика она заменила поэтом-разговорщиком. И я горжусь своими выступлениями с эстрады...
- 411 -
Когда-то в насквозь прокуренном кафе я обронил такие строчки: «Ешь ананасы...»
Этих стихов нет ни в одной из моих книжек. Но недавно я узнал из воспоминаний, напечатанных в «Ленинградской правде», что с этими строками красногвардейцы шли на взятие Зимнего дворца. И этим отрывком я теперь горжусь больше, чем 60-ю тысячами напечатанных мною строк.
Но революция выдвинула поэта на эстраду вовсе не для того, чтобы можно было безнаказанно над ним глумиться. Поэтому, если на мой вечер приходит публика с явным предубеждением против меня, если она не желает меня слушать, предпочитая демонстративно читать газету, я вырываю у таких «слушателей» газету и кричу им:
— Или слушайте меня, или уходите из зала...
Шумные аплодисменты, покрывшие эти слова Маяковского, показали, что значительная часть вчерашней аудитории поддержала Маяковского за его выступление в защиту поэта и поэзии» («Вечерняя Москва», 1927, 16 ноября).
16 ноября нарком просвещения А. В. Луначарский выдал Маяковскому удостоверение:
Маяковский направляется для чтения своих произведений в города Харьков, Киев, Днепропетровск, Ростов, Новочеркасск, Таганрог, Краснодар, Баку, Тифлис, Батум, Владикавказ, Кутаис, Казань, Саратов, Ленинград, Омск, Томск, Новосибирск, Иркутск и Владивосток. Народный комиссариат просвещения просит оказывать тов. Маяковскому полное содействие в его поездках и работе. Удостоверение действительно по 1 декабря 1928 г.».
Одновременно А. В. Луначарский дал Маяковскому с собой письмо ко всем Наробразам и художественным отделам Политпросветов:
«Поэт Владимир Владимирович Маяковский направляется в города СССР с чтением своей октябрьской поэмы «Хорошо!». Считая эту поэму имеющей большое художественное и общественное значение, прошу оказывать тов. Маяковскому полное содействие в устройстве его публичных выступлений».
В середине ноября (?) — встреча с американским писателем Теодором Драйзером и мексиканским художником Диего Риверой.
«Я познакомился с ним и полюбил его, как и все, знавшие его в Мексике, но мне посчастливилось больше сблизиться с ним, потому что к моей радости я немного, хотя и плохо мог говорить на столь дорогом мне русском языке. Позже мы встретились в Москве, когда я оказался в числе съехавшихся сюда со всех концов земли людей, приглашенных присутствовать на праздновании десятилетия Октября.
В те дни в один очень холодный вечер Маяковский пригласил нас к себе в дом, где теперь библиотека-музей его имени. Там было жарко, как в печи, и там действительно пылал энтузиазм тех, на чью долю выпали радость и честь воспользоваться гостеприимством гения. Нас было много в его доме... К Маяковскому пришли и люди, знаменитые уже тогда, и люди, которые стали знаменитыми впоследствии. Среди первых был Теодор Драйзер, автор «Американской трагедии» (Диего Ривера, 1956)*.
О своей беседе с Маяковским Драйзер писал в книге очерков «Dreiser looks at Russia» (1928):
«Высокий блондин (?), динамичный, он выглядел как боксер и одевался как актер. Он безоговорочно приветствовал век машин и хотел, чтобы этот век наступил как можно скорее. Он считает, что это освободит энергию русских — интеллектуальную энергию — для лучших вещей. (Что ж, может быть. У нас машинный век уже наступил, но я пока еще не вижу интеллектуального освобождения). В противовес некоторым, он совершенно не боится, что его индивидуальность будет подавлена коммунистической программой. Наоборот,
- 412 -
несмотря на Маркса, и хотя сам он коммунист, он, по-видимому, считает, что индивидуальность сохранится — коммунизм или не коммунизм. Но как именно это будет происходить — я не мог его заставить сказать мне»*.
19 ноября получил циркуляр главной конторы подписных изданий Госиздата всем провинциальным филиалам с предложением использовать вечера Маяковского в провинции для популяризации и продвижения журнала «Новый Леф»*.
20 ноября выехал в лекционную поездку по городам Украины, Северного Кавказа и Закавказья.
Накануне Маяковский должен был выступить в клубе завода «Динамо», но просил С. Кирсанова выступить вместо него.
«Уважаемые товарищи! На случай, если я не смогу приехать, шлю Вам от «Лефа» прекрасного поэта тов. Кирсанова.
В. Маяковский»*.
21 ноября — выступление в Харькове, в Драматическом театре с чтением поэмы «Хорошо!»*.
«Маяковский наш частый гость. Из года в год, а то и по нескольку раз в год, энергичная, огромная фигура поэта появляется на сценах наших театров.
Вчера Маяковский, выступив в Держдраме, прочел свою новую поэму «Хорошо», посвященную десятилетию Октябрьской революции. Поэма состоит из 24 стихов, тесно связанных между собой тематически, и рисует события революции и гражданской войны вплоть до лет мирного строительства. После «Хорошо» поэт прочел два старых стихотворения и отвечал на записки.
Можно спорить с Маяковским, не соглашаться с его художественными приемами, но нельзя не признать его уверенного дарования и мастерства. Наконец, Маяковский остроумен. В этом ему нельзя отказать. Но зачем эти грубые недостойные нападки на представителей других литературных течений, на т. Полонского, например: «Полонский раньше писал ерунду, а теперь пишет гадости...»
Нехорошо, т. Маяковский!» («Вечернее радио» (Харьков), 1927, 22 ноября).
«Поэма «Хорошо» — чересчур растянутое, чересчур риторическое и притом слишком схематическое произведение, которое держится только на отдельных очень немногих ярких, удавшихся местах. Только огромный талант Маяковского и его уверенное мастерство спасает новую вещь от полного провала.
Очень сильно сделанные строфы о ЧК, чудесная лирика голодных годов (о сестре и любимой) и первая концовка о земле (с которой мерз), да разве еще заключительное стихотворение — вот, собственно говоря, весь художественный «актив» поэмы; правда, актив очень большой ценности, но далеко не достаточный для крупной вещи...
Маяковский — как это ни покажется спорным — поэт лирической темы, он лирик по преимуществу. Его лирика совершенно нова, своеобразна, в нее входят необходимыми элементами сатира и гражданские мотивы, что, к слову сказать, очень роднит Маяковского с Некрасовым. Но эпос — не его сфера. Здесь он сплошь и рядом срывается и не возвышается над публицистикой невысокого уровня. Против этого поэт может негодовать, он может бороться с этим, но преодолеть свою лирическую «конституцию» ему, по-видимому, не дано» («Пролетарий» (Харьков), 1927, 24 ноября)*.
22 ноября — второе выступление в Харькове — для членов Союза работников просвещения, в библиотеке им. Короленко с чтением поэмы «Хорошо!»*.
- 413 -
22 ноября выслал из Харькова статью «Расширение словесной базы» для № 10 журнала «Новый Леф».
23 ноября приехал в Ростов.
23 ноября — выступление в Ростове, в Доме Красной Армии с чтением поэмы «Хорошо!».
«Когда речь заходит о Маяковском, возникает всегда один и тот же вопрос: понятен он или не понятен? Так было и на вечере в Доме Красной Армии, где поэт читал свою новую большую поэму «Хорошо!».
— Почему я понимаю Пушкина, а не понимаю вас? — спросил кто-то из публики, обращаясь прямо к Маяковскому.
— Потому, что я в своих стихах ориентируюсь не на читателя отсталого, не на политически и общественно безграмотного слушателя, а на читателя более или менее квалифицированного, на рабочий актив, для которого моя терминология понятна и который чувствует в моей поэзии желание создать новую форму. Потому, наконец, что Пушкина вам разъясняли целое столетие, тогда как Маяковский свалился на вашу голову неожиданно, как неожиданно в свое время свалился Пушкин на голову своих современников, отсталые из которых тоже не понимали его.
Будем справедливы: в этом ответе... есть много истины и правды. Маяковский — действительно поэт, твердо держащий курс на читательский актив, на культурно подросшую рабочую массу, поэт, неустанно бьющийся в поисках новых слов и новых форм. Это так! И вопрос о его понятности — вопрос праздный и пустой. Наш грамотный, общественно и политически развитый читатель Маяковского понимает. Он — этот читатель — поймет и новую Октябрьскую поэму поэта: «Хорошо!». А это, действительно, неплохая вещь.
«Хорошо!» — поэма, написанная обычным для Маяковского динамическим, сжатым, полным стремительности и в то же время своеобразной размеренностью темпа языком, она блещет целым рядом образных, заражающих своим пафосом, мест. Сочетание же пафосных частей с отдельными ироническими, сатирическими и даже лирическими стихами («Две морковинки несу за зеленый хвостик») — отличительная и удачная, в смысле формы и выполнения, особенность новой вещи Маяковского» («Молот» (Ростов), 1927, 26 ноября).
Резко отрицательная рецензия о поэме «Хорошо!» была напечатана 27 ноября в ростовской газете «Советский юг» под заглавием «Картонная поэма».
«Маяковский не дал художественно-идеологической характеристики революционных периодов. Только убогая информация: такой-то полк покинул батарею, такая-то шестидюймовка бабахнула. Как слабо! Неглубоко! Несерьезно!
Ни одна искра октябрьского пожарища не попала в Октябрьский переворот Маяковского. Были прохладноватые восторги, официальный пафос, картонный парад событий... За исключением места об обывателе, сатира в поэме поверхностна, незла, не бьет...
К десятилетней годовщине трудящиеся СССР преподнесли республике ценные подарки: электростанции, заводы, железные дороги. Поэма Маяковского не принадлежит к такого рода ценным подаркам. Она скорее похожа на юбилейные из дикта и картона расцвеченные и приготовленные к празднику арки и павильоны. Такая арка, как известно, недолговечна. Пройдет месяц-другой, арка отсыреет, потускнеет, поблекнет, не остановит нашего взора».
В 1928 году эта рецензия была перепечатана в журнале «На литературном посту» (№ 13—14).
24 ноября — выступление в Новочеркасске в клубе вузов с чтением поэмы «Хорошо!».
- 414 -
25 ноября — выступление в Таганроге в библиотеке им. Чехова с чтением поэмы «Хорошо!».
«Маяковский привез на этот раз свою новую поэму «Хорошо!», посвященную Октябрьской революции. Это последнее произведение вызывает интерес и по своей героической теме, и по своим ядреным, звонким стихам, построенным на самых неожиданных рифмах, на самой неожиданной игре ритма... Читает свою поэму Маяковский с хорошим пафосом, ритмично и эмоционально и вызывает у слушателей моменты большого воодушевления» («Красное знамя» (Таганрог), 1927, 27 ноября).
27 ноября (утром) — выступление в Новочеркасске в кино «Солей» для студентов («Даешь изящную жизнь»).
«После выступления мы его пригласили на собрание нашего институтского кружка. В дневнике кружка написал он нам:
«Работайте, ребята. Главное — не унывать, а есенинщину — побоку.
В. Маяковский».
А теперь этот листок в рамке висит в нашем институте. Это — гордость нашего кружка!» (В. Калфаян, студент Новочеркасского Ветеринарно-зоотехнического института, 1930)*.
В тот же день — второе выступление в Новочеркасске — в клубе вузов для рабкоров.
В тот же день (вечером) — третье выступление в Новочеркасске — в Доме Красной Армии с чтением поэмы «Хорошо!».
27 ноября в письме к А. А. Маяковской из Новочеркасска писал:
«...я уехал страшно неожиданно, а так как было воскресенье, то нельзя было вызвать такси — все киоски по воскресеньям заперты. Словом, я бежал на поезд прямо с лефовского заседания, прожевывая фразу по дороге... Сейчас пишу из Новороссийска1, через час еду в Ростов, а из Ростова рассчитываю на Кавказ в Тифлис, а может быть, даже в Кутаис. В Москву приеду в 20-х числах декабря... Рад, что еду в теплоту, — по возможности отдыхаю и насыщаюсь».
28 ноября (в 4 часа дня) — выступление в Нахичевани н/Д на заводе «Красный Аксай».
«Завком завода «Красный Аксай» просит поэта Маяковского выступить перед рабочими завода в пятницу 25 с./м. в 4 часа на территории завода. Настоящая просьба вызвана массовым желанием рабочих послушать поэта и разобраться в особенностях его творчества».
В тот же день (вечером) — второе выступление в Ростове — в Доме просвещения с чтением поэмы «Хорошо!».
29 ноября — третье выступление в Ростове — в Доме Красной Армии «Даешь изящную жизнь».
В тот же день поздно вечером — четвертое выступление в Ростове — в клубе ГПУ*.
30 ноября — выступление в Армавире в кино «Солей» с чтением поэмы «Хорошо!».
- 415 -
«К сожалению, армавирской аудитории не пришлось познакомиться со всей поэмой, т. к. Маяковский, по болезни, читал лишь отдельные места, а не всю поэму...
Гораздо большее впечатление на публику, в сравнении с выдержками из поэмы «Хорошо» произвели отдельные его стихотворения, как, например, «Письмо к Горькому» и «Левый марш». Выступление Маяковского нашло отклик среди собравшейся публики, которая хотела высказаться, поговорить по поводу его творчества. Состоялось нечто вроде диспута, в котором приняло участие 6—7 человек. Выступления в основном сводились к следующему. Одни из выступавших говорили, что поэзия Маяковского для широких масс малопонятна и трудна и что Маяковскому нужно опроститься, спуститься на фабрику, завод, быть поближе к коллективу, чтобы понять и потом воспеть его. Другие, наоборот, утверждали, что Маяковский массам вполне понятен и опрощаться ему не нужно; что массы сами должны подняться до степени понимания его поэзии.
Относительно «опрощения» Маяковский заявил, что он не хочет подлаживаться и опускаться до степени понимания отдельных слоев рабоче-крестьянских масс, — что его поэзия рассчитана, главным образом, на авангард, наиболее сознательную передовую часть массы».
Вечер Маяковского транслировался армавирской широковещательной радиостанцией» («Трудовой путь» (Армавир), 1927, 4 декабря).
30 ноября в газете «Комсомольская правда» напечатано стихотворение «Гимназист или строитель» (написано до отъезда из Москвы).
4 декабря — выступление в Баку во Дворце тюркской культуры с чтением поэмы «Хорошо!».
«Маяковский устраивает свой литературный вечер во Дворце тюркской культуры. Народу собралось очень много, и вот Владимир Владимирович два с лишним часа читает свою поэму «Хорошо».
В зале — зверский холодище. Помещение совершенно не приспособлено для читки стихов. Даже при таком сильном голосе, каким обладал Маяковский, отдельные строчки и отдельные звуки еле-еле доходили до последних рядов. И вот уставший, совершенно потерявший голос Владимир Владимирович ведет заключительную беседу с аудиторией. Как это ни странно, но даже в Баку аудитория состояла наполовину из людей, пришедших поглазеть на «душку» Маяковского, послушать, как он будет издеваться над публикой, из жажды острых ощущений.
В первой же записке, которая была подана и прочитана Маяковским, какой-то дошлый молодой человек писал: «Когда у человека на душе пустота, то для него есть два пути: или молчать, или кричать. Почему вы выбрали второй путь?»
Мне было больно за автора этой записки и главным образом за Маяковского, который потерял битых три часа для того, чтобы вбить в молодые головы хоть несколько строк из своей поэмы.
Записка свидетельствовала, что в аудитории имеется публика, которая пришла на вечер для того, чтобы снова силой надеть на Маяковского желтую кофту. Но эта публика ошиблась. Владимир Владимирович так, между прочим, ответил:
— Автор этой записки забыл, что есть еще и третий путь: это — писать вот такие бездарные записки.
Аудитория залилась хохотом. Аудитория была довольна. После прочтения еще нескольких подобных вопросов я не вытерпел и ушел с вечера» (М. Юрин, 1928)*.
«После вечера в бывшем особняке бывшего миллионера, теперь — Дворце тюркской культуры, звонки-«отношения»:
— Товарищ Маяковский, ждем тебя в доках!
- 416 -
— Товарищ Маяковский, красноармейцы и комсостав такой-то и такой-то дивизии ждут тебя в Доме Красной Армии!
— Студенты не могут думать, что ты уедешь, не побывав у них... и т. д. и т. д.» (очерк «Рожденные столицы»).
5 декабря написано стихотворение «Баку» («Я вас не понимаю, мистер Детердинг» и «Я вас понимаю, мистер Детердинг»)*.
5 декабря — второе выступление в Баку — в Белом городе в клубе им. Шаумяна.
«...Я сорок минут мчал трамваем через новенький город в клуб Шаумяна — рабочие-подростки слушали стихи, не шелохнувшись, а потом — засыпали снегом записок.
— Что такое рифма?
— Как выучиться стать поэтом?.. и т. д.
Через три часа заторопились, но и торопливость особенная.
— Кончай, товарищ, а то завтра в 7 утра трубы таскать, а уходить не хочется» (очерк «Рожденные столицы»).
«Белогородский клуб им. Шаумяна битком набит рабочей молодежью. Пришли послушать Маяковского... Накинув на плечи пальто, Маяковский со сцены говорит: — В вашем районе я выступаю впервые, надеюсь, вы будете себя держать скромно: будете кричать, свистеть, двигаться — это будет признак моего у вас успеха. — Все дружно смеются. Насторожились. Могучий голос потряс клуб «Левым маршем». А потом читал «Дрянь», «Разговор с солнцем», отрывок из поэмы «Хорошо!», «О монашках» и другие вещи. Аудитория с огромным вниманием слушала поэта. Каждый прочитанный стих сопровождался бурными аплодисментами. Видно сразу, Маяковский пришелся молодежи по душе. А на сцену сыпались густым снегом записки... Следует отметить высокую дисциплинированность молодежи: ни одного лишнего выкрика, ни намека на хулиганство, серьезная сосредоточенность к стихам. То же сказалось и в записках. Кто-то попросил: «Тов. Маяковский, завтра в 7 часов надо вставать на работу, поспешите...» И поэт поспешил закончить вечер. Многие выражали желание еще послушать стихи. Этот вечер показал, что рабочая молодежь любит поэзию и чутко слушает своих поэтов. Маяковского необходимо бросить во все рабочие районы» («Бакинский рабочий», 1927, 7 декабря).
6 декабря — третье выступление в Баку — в обеденный перерыв в механическом цехе дока им. Парижской коммуны.
«Механический цех дока им. Парижской коммуны встретил нас ревом сирены, возвещающей начало обеденного перерыва... Рабочие в замасленных проржавых блузах оставляли инструменты и собирались около нас. Несмотря на то, что рабочих было мало, и несмотря на просьбы подождать завтракающих ребят, тов. Маяковский энергично забрался на станок и сразу раскатистым голосом покрыл весь цех.
— Товарищи, если бы даже вас было не шестьдесят, не сто, а пять-шесть человек, которые хотят и которые будут слушать мои стихи, то я с пеной у рта буду читать их хоть до самого вечера.
А тем временем цех наполнялся рабочими. Слушатели росли, сгущались; облепляли станки и машины. И когда слова «Левого марша» загремели, отзваниваясь по стали машин, вот тогда рабочие почувствовали и поняли всю силу и коренастую мощь этого человека и его орудийных слов...
...Необыкновенно чутко, с исключительным вниманием, затаившись, масса слушала громовые слова стихотворения, посвященного Ленину:
Вечно будет Ленинское сердце
клокотать у революции в груди!..
- 417 -
После долгих аплодисментов провожали приветливыми улыбками и просьбами еще раз побывать у них» («Бакинский рабочий», 1927, 7 декабря)*.
В тот же день (в 5 часов вечера) — четвертое выступление в Баку — в Доме Красной Армии.
В тот же день (вечером) — пятое выступление — в Азербайджанском университете.
За один день читал (за один, но не один) от гудка до гудка, в обеденный перерыв, прямо с токарного станка, на заводе Шмидта1; от пяти до семи — красноармейцам и матросам в только что строенном, прекрасном, но холодном, нетопленном Доме Красной Армии; от девяти до часу — в университете, — это Баку» (очерк «Рожденные столицы»).
7 декабря (днем) — шестое выступление в Баку — в цехах завода им. лейтенанта Шмидта.
После выступления завкомом дана была Маяковскому следующая справка: «Дана сия от заводского комитета Закавказского металлического завода имени лейтенанта Шмидта тов. Маяковскому Владимиру Владимировичу в том, что сего числа он выступил в цеху перед рабочей аудиторией со своими произведениями. По окончании читки Маяковский обратился к рабочим с просьбой высказать свои впечатления и степень усвояемости, для чего предложено было голосование, показавшее полное их понимание, так как «за» голосовали все, за исключением одного, который заявил, что, слушая самого автора, ему яснее становятся его произведения, чем когда он их читал сам. Присутствовало — 800 человек».
Маяковский процитировал эту справку в своей статье «Вас не понимают рабочие и крестьяне».
В тот же день (вечером) — седьмое выступление в Баку — в Доме работников просвещения (для писателей и библиотекарей)*.
9 декабря — выступление в Тифлисе, в Театре Руставели с чтением поэмы «Хорошо!».
«Маяковский все тот же!
Тяжелые годы критических и литературных гонений на ЛЕФ не сломили его, могучего и талантливого вождя. Они, наоборот, вдохновили Маяковского на новый взрыв творчества, родивший такое блестящее монументальное произведение, как героическая поэма «Хорошо!». Можно во многом не соглашаться с Маяковским, можно считать, что его вызывающая разговорная бравада чересчур оглушает сногсшибательными афоризмами, но нельзя не признать несомненной и исключительной талантливости этого выдающегося поэта современности.
Свидетельством является его новая поэма «Хорошо!», посвященная десятилетию Октябрьской революции.
Маяковский правильно вчера заметил, что читать стихи — вещь хорошая, но слушать стихи, в особенности стихи Маяковского и из уст автора — еще лучше!
...Маяковского постигла большая удача. После «Двенадцати» Блока это самая сильная вещь из всех, написанных за десять лет... «Хорошо!» в ближайшее время, вероятно, получит подробную и обстоятельную критическую оценку, и можно с уверенностью сказать, что даже противники Маяковского должны
- 418 -
будут признать, что «Хорошо!» — ценнейший вклад в революционную поэзию» («Рабочая правда» (Тифлис), 1927, 10 декабря)*.
10 декабря — второе выступление в Тифлисе —в студенческом клубе Грузинского университета.
«В университете произошел такой случай: два студента разошлись во взглядах на творчество Маяковского и подрались у самой эстрады, в двух шагах от него. Маяковскому пришлось переключить свою энергию на разбор драки. Противники переругивались по-грузински, и он невольно выкрикнул что-то тоже на грузинском языке. Весь зал был наэлектризован. С большим трудом дерущихся удалось развести и рассадить по разным углам. Когда шум затих и Маяковский собирался продолжать чтение, молодежь настойчиво потребовала, чтобы он прочел что-нибудь по-грузински. Маяковский прочел несколько строк из «Левого марша». Вспыхнула овация.
— Вот это, я понимаю, вечер! Сколько темперамента! Раз дерутся, значит, есть за что, — сказал он в перерыве.
Молодежь провожала его до ворот. Но, увидав, что он садится в трамвай, поклонники мгновенно заполнили почти пустой вагон, чтобы побыть с ним сколько возможно» (П. Лавут, 1940)*.
11 декабря — третье выступление в Тифлисе — в Театре Руставели с докладом «Даешь изящную жизнь».
«Темы: 1. Тир или целесообразность. 2. Страусы в клетках. 3. Эпоха фрака. 4. Брюки дудочкой. 5. Черемухи и луны со всех сторон. 6. Рвач о враче. 7. Нездешний гость с гармошкою. 8. Упраздненные пуговицы. 9. Петушки-гребешки-теремочки.
Новые стихи и поэмы: 1. Пари по-русски. 2. Даже мерин сивый... 3. Толстиков и Мальков. 4. Передовая передового. 5. Письмо Горькому. 6. Слух идет бессмыслен и гадок. 7. Мусье Гога. 8. Визит в Лувр. 9. Не все то золото. 10. Мочала а ля Качалов и др.
Ответ на записки» (афиша).
«Лозунг «Даешь изящную жизнь» нужно понимать как отрицание изящной жизни, санкционированной буржуазным классом. Одним из пунктов лефовской программы, по заявлению докладчика, является борьба с бытом, создаваемым эстетами наших дней.
...Перед лицом всего мира мы строим новое, социалистическое государство, мы должны создать и новый быт без унизительного подражания заграничным образцам...» («Заря Востока» (Тифлис), 1927, 13 декабря)*.
«Маяковский подметил, что заграничная «мода» проникает уродливыми потоками в советский быт и кое-где успевает подмочить крепкие устои идеологии нашей молодежи. С этим нужно бороться решительно и беспощадно. Если мы объявляем классовую войну мировой буржуазии, если ее миру мы противопоставляем свой, то эту враждебность нужно сохранить до конца, во всем, сверху донизу. То, что проникает в наш быт из-за границы, заключает в себе микробы разложения. Товар, проникающий контрабандой из-за рубежа и уродливо воспринимаемый нами, подтачивает твердые устои нашего быта, вызывает нотки общественной пассивности, будирует половую распущенность и стремление к «изящной жизни». Не нужно нам этой изящной, красивой жизни, таящей в себе микробы разложения. Давайте будем стремиться к красоте жизни, созданной нашими собственными руками, воспитанной и выросшей в наших условиях, с нами неразрывной! Таков, в общих чертах, смысл разговора Маяковского с аудиторией на тему об «изящной жизни». Разговор Маяковский иллюстрировал своими стихами и в заключение по просьбе аудитории прочел несколько отрывков из поэмы «Хорошо!» и «Левый марш» («Рабочая правда» (Тифлис), 1927, 13 декабря)*.
- 419 -
12 декабря — четвертое выступление в Тифлисе — в Закавказском коммунистическом университете для слушателей университета и пролетарских писателей с докладом «Стихи и задачи поэта».
Второе выступление в этот день (во Дворце искусств) было отменено. В записной книжке Маяковского сохранился черновик письма (видимо, неиспользованного): «Крайнее утомление и болезнь горла, непрерывные выступления с 26 октября, иногда по 3 раза в день в больших нетопленных помещениях, вынуждают меня уехать из Тифлиса, прервав свои доклады и чтения. Прошу прощения у товарищей, которым я дал обещания выступить и не мог этого сделать, в первую очередь у тифлисских лефовцев и пролетписателей»*.
13 декабря в газете «Заря Востока» (Тифлис) напечатано стихотворение «Баку» («Я вас не понимаю, мистер Детердинг» и «Я вас понимаю, мистер Детердинг»).
13 декабря — пятое выступление в Тифлисе — в Центральном рабочем клубе.
«Маяковский прочтет поэму «Хорошо» и выступит с докладом «Даешь изящную жизнь». Этот вечер надо отметить как первое выступление Маяковского в Тифлисе в рабочей аудитории» («Рабочая правда» (Тифлис), 1927, 13 декабря).
17 декабря Маяковский вернулся в Москву.
18 декабря в газете «Комсомольская правда» (и одновременно в газете «Заря Востока», Тифлис) напечатано стихотворение «Солдаты Дзержинского» (в связи с десятилетием ВЧК — ОГПУ).
20 декабря — выступление на «Вечере журналов» Госиздата в Политехническом музее.
«Конец ровному и спокойному началу вечера положил т. В. Маяковский, выступавший от редакции «Нового Лефа». Маяковский похвалил все журналы ГИЗ и назвал «литературным охвостьем» не гизовские «Новый мир», «Красную ниву», «Огонек», «Экран» и др., которые якобы играют роль рака, тащащего назад коммунистическую культуру, и своим тиражом забивают хорошие журналы Госиздата» («Правда», 1927, 23 декабря).
«Что такое Леф. Это — группа людей, работающих над технологией нашей культуры, поскольку она диктуется пролетариатом, революцией и поскольку пролетариат и революция требуют изменения всех старых форм и замены новыми, социалистическими. Это — основная установка нашего журнала. Из этого вытекает ряд вопросов. Это — вопросы идеологического порядка. Их очень мало приходится ставить в нашем журнале, потому что у нас разъедена и расширена критическая печенка. Нам приходится бороться, отгрызаться от инсинуаций. Когда говорят о «Лефе», то стараются придать «Лефу» какой-то хвост, ножки, крылышки, усы, грим под лицо Лефа. Говоря о нас, нам противопоставляют марксизм и социальный заказ. Мы должны заявить со всей категоричностью, что журнал «Новый Леф» — марксистский» («Читатель и писатель», 1928, 7 января; см. т. 12).
- 420 -
В декабре вышел № 10 журнала «Новый Леф» со статьей «Расширение словесной базы».
«Революция не аннулировала ни одного своего завоевания. Она увеличила силу завоевания материальными и техническими силами. Книга не уничтожит трибуны. Книга уже уничтожила в свое время рукопись. Рукопись — только начало книги. Трибуну, эстраду — продолжит, расширит радио. Радио — вот дальнейшее (одно из) продвижение слова, лозунга, поэзии. Поэзия перестала быть только тем, что видимо глазами. Революция дала слышимое слово, слышимую поэзию. Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня привалило миру. Это слово становится ежедневно нужнее... «Жизнь искусства», сравнивая кинокартину «Поэт и царь» с литмонтажом Яхонтова — «Пушкин», отдает предпочтение Яхонтову. Это радостная писателям весть: дешевое слово, просто произносимое слово побило дорогое и оборудованнейшее киноискусство...
...В каждом стихе сотни тончайших ритмических, размеренных и других действующих особенностей, — никем, кроме самого мастера, и ничем, кроме голоса, не передаваемых... Я не голосую против книги. Но я требую пятнадцать минут на радио. Я требую, громче чем скрипачи, права на граммофонную пластинку» (см. т. 12).
СноскиСноски к стр. 391
1 Ошибки мемуариста: он имел в виду не католическую писательницу Анну Загорску, а художественного критика Стефанию Загорску. (Ред.).
2 Правильно — «Облок в споднях» («Obfok m spodniach») (Ред.).
Сноски к стр. 400
1 Автор этой книги П. В. Макаров (Ред.).
Сноски к стр. 414
1 Описка: Маяковский был в Новочеркасске.
Сноски к стр. 417
1 Маяковский ошибся — в этот день он выступал в доке им. Парижской коммуны, а на заводе им. Шмидта — на следующий день — 7 декабря.