217
МАЯКОВСКИЙ
В РАБОТЕ НАД ПОЭМОЙ
«ПРО ЭТО»
(ТРИ РУКОПИСИ ПОЭМЫ)
Статья З. С. Паперного
«Лаборатория — это жизнь и мозг В. Маяковский |
I
Даже на общем фоне деятельности Маяковского, полной непрерывных сражений с общественными и литературными противниками, судьба поэмы «Про это» кажется особенно драматичной. Поэма, вся, от первой до последней строки, исполненная желания жить по-новому, была встречена бранными и ядовитыми отзывами критики. Когда думаешь об этом, на память приходят строки из самой поэмы:
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеща! (IV, 176).
В первой же книге журнала «На посту» поэма «Про это» рассматривалась как лишнее свидетельство «издерганности, неврастеничности» всего творчества Маяковского, поэта «личной и мелкой» темы1.
Как известно, свою задачу напостовцы видели в том, чтобы охранять «пролетарское первородство» литературы. Самый термин — пролетарская литература — понимался ими сектантски, вульгаризаторски, в духе подозрительной настороженности и нетерпимости к «попутчикам», в которых они видели своих потенциальных врагов. По меткому определению Луначарского, напостовцы со своим прямолинейно-«ортодоксальным» отношением к литературе напоминали садовника, который подрезывал высокие цветы и рвал маленькие, подтягивая их кверху; он хотел нивелировать их и в конце концов остался без цветов.
В Маяковском напостовцы видели уже не просто неподходящий по своему «уровню» цветок, но скорее «сорняк», который надо беспощадно выполоть.
218
С безоговорочно отрицательным отзывом о поэме «Про это» напостовцев неожиданно совпали высказывания лефовца Н. Чужака, ярого догматика, убежденного врага всякой «лирики». В поэме он увидел измену Лефу и заклеймил поэму: «Чувствительный роман...», «Не выход, а безысходность»2.
С третьей стороны поэма была атакована имажинистами. Здесь не место подробно говорить об имажинизме как течении. Отметим только, что разногласия между Маяковским и группой Шершеневича, Мариенгофа и других «путешествующих в прекрасном» касались самых значительных вопросов — об отношении поэта к действительности, к революции.
Имажинисты проповедовали полнейшую независимость от современности. «Поэт, — писал Вадим Шершеневич, — это тот безумец, который сидит в пылающем небоскребе и спокойно чинит цветные карандаши для того, чтобы зарисовать пожар. Помогая тушить пожар, он перестает быть поэтом»3.
Естественно, что имажинисты не могли не видеть в Маяковском своего, как они выражались, «лютейшего врага», «осквернителя искусства», пошедшего в «услужение» к новой жизни. Критические обзоры программного органа имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном», носившие откровенный заголовок «В хвост и в гриву», редко обходились без грубых, недоброжелательных отзывов о Маяковском4. Злобным улюлюканьем была встречена и поэма «Про это». «Малограмотная халтура», «тихий ужас» — безапелляционно заявлял рецензент5.
На этом фоне резким контрастом выделяется отзыв А. В. Луначарского. В письме к Маяковскому от 23 марта 1923 г. он, называя «Про это» прекрасной поэмой, говорит: «Я Вас вообще люблю, а за последнее Ваше произведение втрое»6. Высокая оценка поэмы повторялась в самых различных отзывах Луначарского. Однако как ни авторитетен был этот голос — поколебать всеобщего приговора он не мог. Еще в первую половину 30-х годов точка зрения на поэму как «движение вспять», шаг назад, к «личному и мелкому», прочно удерживается7.
Односторонность, ошибочность всех этих отзывов вряд ли требует сегодня подробного разбора. Важно установить одно: единодушие, с каким была отвергнута поэма Маяковского подавляющим большинством критиков, не могло быть случайным. Самая формула поэта — «по личным мотивам об общем быте» — настораживала. Слишком сильны еще были в поэзии, в литературе тенденции отвлеченного, безличного коллективизма, где «мы» начисто поглощало «я».
Именно в этой ограниченности, — исторически объяснимой и даже, на определенном этапе, в какой-то мере закономерной, — разгадка того факта, что против поэмы «Про это» так дружно выступили представители столь различных литературных течений и группировок. В личном, индивидуальном им мерещилось индивидуалистическое.
Естественно, что чем больше освобождалась наша литература от такой ограниченности в толковании вопроса о сочетании личного и общественного, тем меньше оставалось объективных оснований для прежнего грубо «проработочного» отношения к поэме. С середины 30-х годов намечается перелом. Одним из первых, кто высказался за переоценку поэмы, был Николай Асеев. В статье, о которой нам еще придется говорить, он решительно выступил против попыток отмахиваться от социального значения поэмы, сводить ее к индивидуализму8.
Эта же тенденция дает себя знать и в некоторых других работах9.
Читая иные работы, все еще испытываешь ощущение, что поэма находится где-то на отшибе, на «обочине» творческого пути, и роль ее в поэтическом
219

МАЯКОВСКИЙ
Скульптура (бронза) работы А. П. Кибальникова, 1956
Собрание скульптора, Москва
220
развитии Маяковского — второстепенная, эпизодическая. Правда, иногда говорят, что некоторые мотивы «Про это» возникали у Маяковского и раньше. Тут обычно называют стихотворение «О дряни», которое действительно перекликается с поэмой в изображении обывательского «логова».
Однако, если внимательно проследить творческое развитие Маяковского в первые годы Октября, неизбежно приходишь к выводу, что «Про это» и все связанное с ним — не частный эпизод, не случайный «взрыв» лирической стихии, но сложное явление, возникшее в результате долговременной, внутренней подготовки, медленного накопления впечатлений, которые, все нарастали связываясь воедино, привели к тому, что не писать «Про это» для Маяковского было уже невозможно.
Тема обывательщины, тесно переплетенная в поэзии Маяковского дореволюционной поры с темой «жирных», в первый момент после Октября отступает на второй план, оттесняется грандиозностью совершающихся событий.
Однако уже скоро появляются стихотворения, где — в новых условиях — как бы заново возникает эта тема. Читая эти стихотворения, мы угадываем тревожную ноту, свидетельствующую о растущем, все более обостренном отношении поэта к мещанской стихии. Одним из стихотворений, где эта тревожная нота впервые дает себя знать, явилось «Хорошее отношение к лошадям» (1918).
Внешне сюжет здесь предельно прост и даже как будто не очень значителен. Лошадь упала, «отчаялась», думала, что уже не встанет, но — встала и пошла. Однако, в сущности, речь идет о более важном — об отношении поэта к действительности о разных формах мировосприятия. Вначале все заливает «какая-то общая звериная тоска»; затем она решительно перекрывается радостным выводом: «и стоило жить и работать стоило». Центральный образ наполняется новым смыслом. «Звериное» уступает место подчеркнуто человеческому («рыжий ребенок»).
Вместе с тем нельзя не заметить и того, что упавшая лошадь вызывавт сочувствие только у одного поэта (в этом отношении выразительна рифма: «глаза лошадиные — лишь один я...»). Кузнецкий состоит из гогочущих зевак — обывателей. Это какой-то сплошной безликий массив, в котором уже брезжит нечто от того «безлицего парада», который развернется на страницах «Про это».
В годы нэпа тема обывательщины приобретает особую остроту. Вспомним стихотворение «Спросили раз меня...» (1922), направленное против товарищей, которые «повесили нос». Отдельные мотивы этого стихотворения заставляют вспомнить «Про это».
Еще ближе совпадения картин обывательщины в поэме с некоторыми эпизодами агитпьесы 1922 г. «Кто как проводит время, праздники празднуя (на этот счет замечания разные)». Здесь описания рождественских «ужасов» — и свиной окорок к празднику, и елочные игрушки, и пьянство — уже представляют собой своеобразные эскизы к будущей картине, в целом пока еще не осознанной.
Поэмы «Люблю» и «Про это» на первый взгляд мало связаны между собой. В первом случае — радостно провозглашаемая, неизменная и верная любовь, в другом — трагическое, «косматое», омраченное болью, ревнивое чувство. Однако тот конфликт между обывателем, свившим гнездышко под «огнеперым крылом» Октября, и вселенским миром революции, который лег в основу «Про это», уже начинает определяться в «Люблю» («В вашем квартирном маленьком мирике...»).
Нельзя не увидеть переклички между строками поэмы «Люблю», где комнатной любви обывателей противопоставлена большая, равная целому городу любовь поэта («Меня Москва душила в объятьях кольцом своих
221
бесконечных Садовых»), и «Про это», где «любви цыплячьей» противопоставлена любовь, идущая «всей вселенной».
И, пожалуй, еще ясней, непосредственней ощущается перекличка поэмы «Про это» с прологом большой задуманной поэмы о будущем — «IV Интернационал». Этот пролог, связанный единым замыслом с поэмой «Пятый Интернационал», вообще недооценен исследователями.
В прологе, написанном в 1922 г., особенно ярко отразилось переломное время: окончилась война, начинается новый период революции. «Старье» теперь угрожает по-иному. Разбитое на полях сражений, оно лезет в щели быта, зовет к покою, сытости, к утробному существованию. Огонь врага сменился чадом мещанства.
Страшен голод. Но не менее страшен для Маяковского обыватель, живущий «хлебом единым». Отсюда контрастное столкновение: в первых строках — огромные «белые булки», от которых отказывались революционеры, готовясь к «голодному бунту». Но вот теперь, после победы революции и начала мирной стройки, обретена — в перспективе — возможность сытой жизни:
...будет час
жития сытого,
в булках,
в калачах.
Здесь-то и возникает для Маяковского трагический вопрос: неужели же только во имя утробной сытости, на радость обывателю шла борьба?
И тут-то вот
над земною точкою
загнулся огромнейший знак вопроса.
В грядущее
тыкаюсь
пальцем-строчкой,
в грядущее
глазом образа вросся.
Коммуна!
Кто будет пить молоко из реки ея?
Кто берег-кисель расхлебает опоен?
Какие их мысли?
Любови какие?
Какое чувство?
Желанье какое? (IV, 100—101).
И сейчас же, как будто пародируя эти слова, с хихикающим злорадством выползает мещанство и начинает свой самодовольный монолог. Что будет? А ничего — кроме «спанья» да «еды», ничего — кроме бесцельного прозябания.
Уже настало.
Смотрите —
вот она!
На месте ваших вчерашних чаяний
в кафа́х,
нажравшись пироженью рвотной,
коммуну славя, расселись мещане (IV, 102).
В этих словах как бы двойное звучание: наглая злорадная самоуверенность мещанина и тревога поэта, которого пугает, страшит именно то, что радует обывателя.
222
И, конечно, нельзя не почувствовать переклички между этими строками о мещанах, рассевшихся «коммуну славя», и стихами из «Про это»:
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.
Вы
под его огнепёрым крылом
расставились,
разложили посудины.
Паучьих волос не расчешешь колом. (IV, 159).
Монолог обывательщины в прологе прерывается криком поэта «Довольно!», его призывом «душу седую из себя вытрясти», начать бунт против «сытости», успокоенности, равнодушия...
Таким образом, не только в стихотворении «О дряни», но и в ряде других произведений 1918—1922 гг. звучит тема, которая, нарастая и развиваясь, ведет нас к «гневной теме» «Про это», к теме, которая, как мы видим, заявилась вовсе не неожиданно.
«Про это» выступает перед нами как важный этап творческого развития Маяковского. Это произведение, написанное в 1923 г., когда страна перешла к нэпу, венчало собой тревожные искания всего периода 1918—1922 гг.
Вместе с тем сама поэма открывала собою новые перспективы для поэта. Не случайно многие образы, родившиеся в период работы над поэмой «Про это», входят в поэму о Ленине — например, «ракушки». В письме-дневнике: «На мне (в твоем представлении) за время бывших плаваний нацеплено миллион ракушек — привычек и пр. гадости»10. Самое решение темы «Про это» как проклятие одиночеству вело к образам поэмы о Ленине, где разрозненные одинокие «люди-лодки» сливаются в единый образ корабля, устремляющегося к коммунизму.
После поэмы «Про это» меняется самый тон поэтического разговора о мещанстве: уже нет отчаяния, на смену ему приходит боевой, горячий призыв к расправе с обывательщиной:
Затянет
тинкой зыбѐй,
слабых
собьет с копыт.
Отбивайся,
крепись,
бей
быт!11
Это очень важное признание: мещанский быт собьет только «слабых» сильные же духом должны, не теряясь, переходить в наступление.
Критикам, любящим говорить с особенным пристрастием и упоением о трагичности образов и картин в поэме «Про это», не мешало бы задуматься, какую роль сыграло это произведение в творческом развитии Маяковского. В самом деле, если поэма была грозой — то грозой очистительной, если кризисом — то спасительным кризисом.
В поэме Маяковский бесстрашно обнажил все волновавшие его тревоги, сомнения, противоречия, ничего не замазывая, не сглаживая, а, наоборот, намеренно заостряя. Он пошел навстречу этим противоречиям, преодолел их и в главном остался победителем.
Только решая противоречия, а не обходя их, вступая в открытый бой с обывательщиной, смог Маяковский расчистить себе дорогу для дальнейшего движения вперед.
223
«Про это» нельзя изолировать от общего круга проблем, волновавших писателя. Без этой поэмы не удастся нарисовать правдивой картины творческого развития Маяковского — без лакировки и «хрестоматийного глянца».
Особые обстоятельства, сопутствовавшие работе Маяковского над поэмой: двухмесячное «отбывание» дома, не совсем обычное для него неотрывное писание за столом — обо всем этом не раз уже рассказывалось. Новый, исключительно ценный материал дают письма Маяковского к Л. Ю. Брик, публикуемые в настоящем томе.
Правда, Маяковский и в других случаях работал над рукописями гораздо больше, чем можно судить по некоторым статьям, из которых следует, что он наносил на бумагу якобы только готовые результаты внутренней работы. Многие из сохранившихся рукописей, записных книжек поэта запечатлели именно самый процесс оформления художественной мысли. Однако ни одна из дошедших до нас рукописей и записных книжек не отражает творческий процесс с такой полнотой. Знакомясь с тремя рукописями поэмы «Про это», особенно с первой, черновой, мы как бы воочию начинаем видеть, осязать самое мышление в образах — в его противоречивости и непосредственности, в его динамике, ассоциативных связях мыслей, картин, рифм, в его исключительной сложности, не поддающейся простому пересказу, чисто логическому комментированию.
Работа над поэмой отражена в трех рукописях: первой — черновой, второй — беловой с правкой и дополнениями, третьей — беловой с поправками. Сохранились они случайно. Устраивая очередную проверку и расчистку своего «поэтического хозяйства», Маяковский выбросил их в корзину. Пользуясь его собственным выражением, он считал, что еще не настолько «заакадемичился», чтобы сохранять черновики для потомства. Но Л. Ю. Брик попросила подарить рукописи ей. Так сохранились и дошли до нас эти драгоценнейшие документы творческой лаборатории поэта.
Впервые рукописи были опубликованы в первом полном собрании сочинений поэта под редакцией Л. Ю. Брик: первая, черновая, — полностью, с соответствующими вариантами, вторая и третья — только в разночтениях12. Удачно была найдена форма публикации — в две колонки: против каждого стиха черновой рукописи справа помещались соответствующие варианты. Однако далеко не все черновые варианты были воспроизведены в этом издании.
Значительно полнее были даны варианты в шестом томе полного собрания сочинений в двенадцати томах13.
Наконец, заново расшифрованы и сверены рукописи для третьего полного собрания сочинений — в тринадцати томах14.
Изучение рукописей началось еще до их публикации. В 1934 г. появилась статья В. В. Тренина и Н. И. Харджиева о работе Маяковского над поэмой15. Авторы не ставили задачей проследить движение «диктуемой, чувствуемой мысли» поэта от туманного замысла к конкретному воплощению. Они привели лишь примеры того, как оформлялись отдельные образы. Статья содержит очень интересные наблюдения, связанные с работой Маяковского над стихом, над строфой, над рифмой.
Исследование, начатое В. В. Трениным и Н. И. Харджиевым, было продолжено Н. Н. Асеевым16. В уже упоминавшейся статье, открывающей пятый том первого полного собрания сочинений Маяковского, Асеев на большом материале оригинально и убедительно показывает, как добивается Маяковский «сгущения, сжатия, сэкономливания фразы, активизации ее», освобождает стих «от обычных литературных и ритмических украшательств». По словам самого автора, тема его работы связана не с «композицией всей вещи». Ее цель в другом — «выявить и проследить энергетику
224
его <Маяковского> работы над строкой, показать детально технологию его творчества в самом его процессе, в действии, так сказать, на ходу».
Многие из наблюдений Асеева связаны с такими тончайшими, едва заметными для невооруженного глаза деталями лабораторной поэтической работы, что статья эта по чуткости восприятия, по филигранности поэтического анализа до сих пор сохраняет свое значение.
К большому сожалению, изучение творческой мастерской поэта, столь плодотворно начатое свыше 20 лет назад в работах Асеева, Тренина и Харджиева, не получило затем должного развития. Не считая отдельных статей, где о рукописях «Про это» говорится мимоходом, с того времени не появилось ни одного исследования, которое было бы специально посвящено творческой работе Маяковского, получившей столь уникальное по полноте рукописное отражение.
Необходимость продолжить начатое изучение диктуется несколькими соображениями. Во-первых, исследование рукописей «Про это» позволяет расширить наши представления об идейном содержании поэмы, о том, как конкретно происходило в работе над произведением преодоление «личного и мелкого», выход за пределы узко-интимного — в мир общественной жизни и борьбы. Мы говорили, что поэма органична для творчества Маяковского, неразрывно связана со многими его произведениями предшествующих и последующих лет. И выводы о поэме важны не только для нее непосредственно, но и для понимания логики творческого развития поэта в целом.
Во-вторых, это исследование приближает нас к пониманию самой специфики работы поэта, его мышления в образах и всего того, что мы часто не совсем точно зовем «технологией» творчества. И здесь выводы касаются не только данного произведения, а в известной мере выходят даже и за рамки творчества Маяковского. Изучение рукописей, запечатлевших мучительно-напряженную — до исступления! — работу Маяковского над каждой строкой, позволяет многое понять в специфике художественного творчества, в том, как мыслит, чувствует, трудится поэт, как добивается, чтоб «мысль изреченная» была не «ложью», но единственной, ничем другим незаменимой правдой.
II
Существует такое представление: сначала поэт создает некий замысел, затем — конкретизирует его, «заполняет»; от абстрактных представлений он идет к живым подробностям, деталям, от общего — к частному. Произведение пишется примерно так, как строится дом: сначала — фундамент, затем — железо-бетонный каркас, стены, а уж потом отделочные работы.
Едва только погружаешься в чтение первой черновой рукописи «Про это» — становится особенно ясно, как далека эта незатейливая схема от того, как действительно происходит творческий процесс. Замысел рождается у Маяковского в неразрывной связи с живыми чертами образа, с элементами поэтического оформления. Можно сказать, что произведение растет не как дом, а одновременно и «сверху», и «снизу», извне и изнутри.
Вот, например, Маяковский записывает: «Хлебов — любовь» (1-я рук., л. 37 об.). Что это — простая заготовка рифмы впрок? Не только. В контрастной рифме схвачено, может быть, самое главное противоречие, которое легло в основу всего замысла: противоречие между настоящей, свободной любовью и утробным бытом; то противоречие между «житием сытым
225
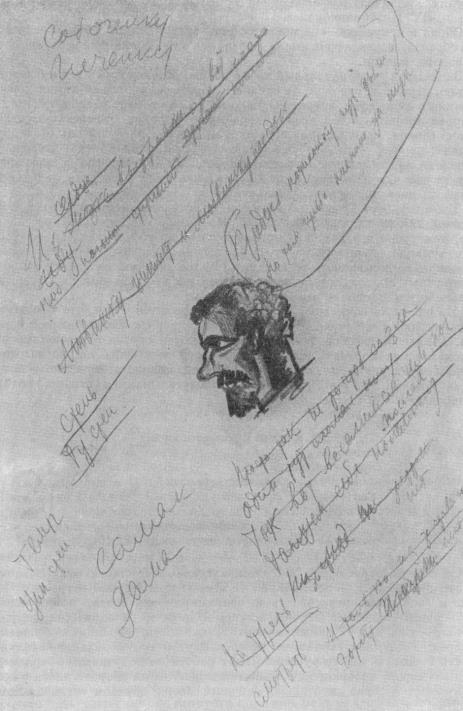
ЛИСТ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
226
в булках, калачах» и «революцией духа», которое отчетливо проступало уже в «IV Интернационале».
Образ в искусстве — не момент формы только; самое идейное содержание образно, и рождается мысль в сознании художника уже неотделимо от образного начала.
Записывая первоначальный текст поэмы, Маяковский идет последовательно, строка за строкой, от начала к концу, не прерывая линии повествования и не забегая вперед. Однако на левой стороне разворота (т. е. на обороте листов) он все время набрасывает строки, опережающие текст. Иначе говоря, произведение предстает в его воображении как бы в двух планах: первый — то, что уже пишется сейчас, второй — то, что еще не написано, но мысленно предвосхищено, предощущается в заготовке, в наброске. Отсюда как бы «двойное видение» поэта: работая над данной строфой, поэт прозревает и дальнейшее.
Известно, что Пушкин писал предварительные «планы» своих поэм. Маяковский никогда этого не делал. Но, как видим, это вовсе не значит, что, приступая к работе над произведением, он не ощущал его — пускай еще туманно, эмоционально-расплывчато — в целом. Те «опережения» основного записываемого текста, которые мы находим на многих оборотах рукописных листов, как бы заменяли ему план — они намечали стержень дальнейшего идейно-образного движения.
На одном из начальных листов поэмы говорится о том, что «взмедведилось» герою, превратившемуся в косматого зверя, о «протекающей комнате». А налево, на обороте, уже набрасываются строки о неумолимо приближающемся мосте, о человеке из-за семи лет. Одна только заготовка рифмы определяет тему и характер всего его монолога: «брюшко — петушком» (1-я рук., л. 9 об.). В ней уже предугадываются строки, которые в окончательном тексте прозвучат так:
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко?
Сам
в ихний быт,
в их семейное счастье
наме́реваешься пролезть петушком?! (IV, 151).
И резким, энергичным почерком, наискось всего листа, тут же записывается: «каменист — коммунист». В момент трагической встречи с Человеком, воплощающим совесть и непримиримость поэта, прикрученного к перилам «канатами строк», ждущего, пока не придет «спаситель-любовь», — уже в этот самый момент Маяковский, уносясь воображением вперед, записывает строки, которые войдут в третью, заключительную, часть поэмы. В тексте рукописи идет работа над строками о «размедвеженьи» героя, превращении комнатки в реку, а на обороте листа уже перекрывается образ смертельно раненого зверя образом «медведя-коммуниста».
Не только отдельные строки, но самое движение поэтической мысли запечатлено в черновой рукописи.
На л. 17 — рассказ о том, как поэт, ворвавшись в «семейную норку», зовет родных бежать с ним на помощь ожидающему спасения Человеку. А на обороте — герой, уже вырвавшись, отбросив «ступеней последок», подкрадывается к квартире любимой и слушает пошлую, пьяную болтовню гостей. И тут же, крупными буквами: «собачонку — печонку»; и может
227
быть, уже тогда зарождаются строки из заключительной главы:
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь, —
из себя
и то готов достать печонку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь! (IV, 183).
Поэма «обступала» Маяковского, перед ним как бы роились образы из начала и из конца, он уже ощущал произведение в его общих очертаниях, в его объемности. И особенно интересно, что, работая над самыми трагическими эпизодами, он уже думает о заключительной главе, дышащей радостью и жизнеутверждением. Оптимистическое в «Про это» не «приписано» в конце произведения, оно буквально прорастало в ходе работы.
Когда же Маяковский непосредственно приступил к писанию заключительной главы, это одновременное «роение» сразу нескольких, многих образов стало особенно напряженным, интенсивным.
Вот оборот л. 36:
[стае]* стаям [наверстаем] | направо налево раздать | |
дорожа аллей |
На одном листе — первые «ростки» трех гениальных четверостиший: «Я любил... Не стоит в старом рыться...», «Может, может быть, когда-нибудь дорожкой зоологических аллей...» и «Ваш тридцатый век обгонит стаи сердце раздиравших мелочей...».
Эта способность — умение поэта ощутить произведение, «охватывая разом», — характерна не только для работы над поэмой «Про это». Нам уже приходилось говорить об исключительной интенсивности творческого процесса, отраженного в записных книжках периода работы над поэмой о Ленине17.
Итак, первая особенность работы над поэмой «Про это» (и в то же время отраженная в рукописях других поэм) — постоянные «опережения» в записях текста, прорывы в глубь произведения, умение охватить его целиком, желание ощутить, наметить стержень дальнейшего развертывания образа. Иначе говоря, образ, предстающий перед Маяковским, возникает и в его первоначальном обличии и — одновременно — в наметках его дальнейшего развертывания, до которого пока еще поэт не «дошел», но которое уже сейчас предугадывает, предосознает.
Мы видели, что иногда, намечая какую-то одну сторону образа, Маяковский, прорываясь вперед, в какой-то мере и «преодолевает» ее. С этим связана важная особенность работы над поэмой, которую можно было бы сформулировать так: преодоление трагедии.
228
На протяжении всей рукописи поэт последовательно стремится к тому, чтобы обуздать разыгравшуюся, «расплеснувшуюся» эмоциональную стихию — все, что связано с неизбывностью страданий, с мыслями о самоубийстве, с неврастеническим ощущением надрыва, ужасов, кошмара.
Поэма писалась в дни тяжкого и сложного морально-психологического кризиса. Больше того — выходом из этого кризиса, спасительным и победным, и явилась поэма. Работа над стихом и работа над собой в глубоком смысле этого слова — сливались. Маяковский принимался за писание, пользуясь его выражением, «раздираемый» мрачными мыслями, ревностью, сомненьями, отчаяньем, исполненный железной решимости во всем разобраться, все это одолеть и победить.
«... Ты должна знать, — писал он Л. Ю. Брик, имея в виду их предстоящую встречу 28 февраля, — что ты познакомишься 28<го> с совершенно новым для тебя человеком»18.
Маяковский боролся с самим собой, стремился проверить, проконтролировать, а если надо, то и смирить инстинктивное, эмоционально-стихийное, в чем сквозит непреодоленное смятение, ужас, может быть, даже растерянность.
Мысль о смерти маячила перед ним, пугая и дразня. Асеев верно заметил эту важную линию поэмы, связанную с преодолением темы смерти, самоубийства19. Попробуем проследить это по рукописям.
На втором листе читаем:
Эта тема пришла остальные оттерла
и одна безраздельно стала близка
эта тема дуло...
Затем «дуло» зачеркивается. Строка переправляется:
Эта тема ножом подступила к горлу (1-я рук., л. 2).
Мысль о смерти не оставляет поэта, и следующая четвертая строка записывается так:
Эта тема дулом стоит у виска.
Во второй рукописи Маяковский снова отводит от себя это «дуло»:
Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотком разгремелась от сердца к вискам (2-я рук., л. 2—3).
Тема, грозившая смертью, теперь гремит молотком. Но «молоток» — слово, не совсем подходящее по форме. В данном контексте оно недостаточно значительно. Грозной теме больше подходит «молот», нежели простой «молоток». И строка переделывается:
Молотобойцем от сердца к вискам.
Наконец, в третьей рукописи строка еще больше усилена:
Молотобоец!
От сердца к вискам (3-я рук., л. 3).
Вот какие существенные изменения претерпела только одна строка вступления.
На этом примере ясно видны важные перемены, касающиеся уже не одной строки, а всей поэмы. Однако эти общие перемены составляются из многочисленных маленьких поправок, из которых ни одна сама по себе не имеет решающего значения, но которые в сумме своей дают важные
229
результаты. Вот почему нам придется говорить и о «мелочах» — нельзя забывать, что большое в искусстве часто возникает как итог многих «бесконечно малых».
...Герой неудержимо несется к мосту:
Видней и видней ясней и яснее.
Как смерть неизбежно
он будет он вот (1-я рук., л. 10).

ОБЛОЖКА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.
Выполнена А. М. Родченко
Затем слова «как смерть» перечеркиваются. И строка уже выглядит так:
Теперь неизбежно он будет
он вот.
Опять-таки, перед нами поправка, которую можно правильно понять в соотнесении со многими другими.
230
Та же тема преодоления смерти с большой силой звучит в одном из черновых вариантов, не вошедших в окончательный текст поэмы:
Назад моя смерть. Не хочу не ступлю
Живому своих не навяжете воль вы
Смотрите бросаю смотрите
топлю
Я в вашем мертвом море револьвер (1-я рук., л. 22).
Эта строфа относится к тому моменту, когда перед героем вдруг расплываются очертания обывательского логова и возникает «разросшийся Бёклин» — «Остров мертвых», уже не как картина живописца, а как картина-образ чуть ли не всего мертвого обывательского царства. Перед ним сошедший со стен недвижный перевозчик, окутанный саваном. Вот этому-то царству смерти, этой разросшейся бёклиновской картине, столь популярной у обывателя, и бросает поэт свои слова. Трудно сказать, почему эта строфа не удовлетворила Маяковского. Во второй рукописи он снова включает ее с поправками, а потом вычеркивает. Во всяком случае, ее возникновение как-то связано с другими приведенными выше примерами.
В том же направлении идет правка многих других строк поэмы.
В начале первой главы набрасываются строки о поэме:
Она и он трагедия моя
Не темой трагичен я
Трагичен тем, что он это я
Она — это жизнь моя (1-я рук., л. 3).
Затем такое категорически обобщающее определение поэмы как трагедии отклоняется:
О нем и о ней баллада моя
Не темой трагичен я
Трагичен тем, что он это я
а она — любовь моя.
Третий вариант:
Он и она баллада моя
Не темой страшен я
Страшно то, что он это я
И то, что она моя.
Наконец, в четвертом варианте вместо «Не темой страшен я» — «Не страшно нов я». Ощутительная разница. В первом случае действительно «страшный» смысл, во втором он как бы снижается обычным, разговорным, даже чуть шутливым «не страшно нов я». После этого оборота последние две строки четверостишия, не потеряв трагического оттенка, утратили тот односторонне-трагедийный, безоговорочно-«страшный» смысл, который был в первых вариантах. Поэтому можно сказать, что четыре варианта строфы — четыре ступени в осмыслении темы произведения, в постепенном отказе поэта от того, чтобы сводить всю поэму только к трагедии.
Думается, что и без специальных комментариев ясно, почему Маяковский отказался от одних вариантов и заменил их другими.
I | Ясность. Чудовищной ясностью пытка. | |
II | Ясность. Прозрачнейшей ясностью пытка. | |
I | ...деталью чудовищной выточки. | |
II | ...деталью искуснейшей выточки (1-я рук., л. 6). | |
I | А мост удаляется стра<шным> | |
II | А мост удаляется невским течением (1-я рук., л. 10 об.). |
231
I | Пять лет с меня глаз эта пропасть не сводит | |
II | Семь лет с меня глаз эта бездна не сводит | |
III | Семь лет с меня глаз эти воды не сводят (1-я рук., л. 11). | |
I | За день от проклятой фигуры с моста. | |
II | За день от зовущей фигуры с моста. | |
III | За день от моей фигуры с моста. | |
IV | За день от ужасной фигуры с моста (1-я рук., л. 12). | |
V | За день от моей фигуры с моста (2-я рук., л. 15). | |
VI | За день. От тени моей с моста (3-я рук., л. 18). | |
I | Приста... | |
II | Стою у стенки я не я | |
III | У стенки в страхе я не я (1-я рук., л. 26). | |
IV | Приставлен к стенке | |
V | Стою у стенки. |
В последнем примере, отбросив после колебаний слова «в страхе», Маяковский заменил было строчку оборотом «Приставлен к стенке». Но «приставить к стенке» — значит «расстрелять». И вместо первоначальных «смертельных» вариантов появляется окончательный, лишенный «исступленности» — «Стою у стенки». Нет нужды продолжать перечень всех этих случаев, когда Маяковский снимает с образов и выражений оттенок «ужасного», «чудовищного», «проклятого».
Особенно значительной представляется правка одной строки монолога Человека из-за семи лет. В первоначальном варианте он говорил:
У лет на мосту, на презренье на смех
бредовой любви искупителем значась...
Разговор поэта со своим лирическим двойником, судьей, со своей совестью, — важнейший момент развития поэмы. Но если та, настоящая любовь, которую как спасения ждет человек, «бредовая», — это сразу же накладывает отпечаток на всю поэму. Во втором варианте:
Забытой любви искупителем значась (1-я рук., л. 27 об.).
Но «забытой» — звучит слабо и неточно. Дело ведь не только в том, чтобы просто напомнить о любви.
Маяковский переделывает «забытую любовь» на «небывшую» (1-я рук., л. 28). Но здесь любовь словно оторвалась от жизни. Очевидно, поэт почувствовал это и во второй рукописи внес поправку
У лет на мосту
на презренье
на смех
земной любви искупителем значась... (2-я рук., л. 36).
Так движется образ: от «бредовой», «забытой», «небывшей» любви — к любви земной. Вряд ли можно движение этого образа отделить от общего направления, в котором шла работа поэта над текстом.
Иногда ощущение надрыва сквозило в мельчайших деталях. Телефон «тряся ручоночкой дом-погремушку», вначале «тонул в рыданьи звонков» (1-я рук., л. 4 об.). Потом весь дом гремел в «исступленно сумасшедшей руке телефона» (1-я рук., л. 5). Затем все это исступление снимается, образ становится яснее и строже:
Тряся
ручоночкой
дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон (2-я рук., л. 6).
232
И самая главка, сначала названная — «Неистовство звоночищ, звонков и звоночинок» (2-я рук., л. 6), затем — «звоночное неистовство» (3-я рук., л. 7), в печатном тексте получает другое название — «Телефон бросается на всех».
В другой главке рукописное название «Бешеный телефон» уступает опять-таки более сдержанному — «По кабелю пущен номер».
Интересна переделка строк, где говорится о «пробуждении» поэта в начале третьей части:
Пристает ковчег
Сюда лучами
[С] Пристани* эй кидай канат ко мне
[отчего ж] И сейчас же в ужасе плечами
ощущаю тяжесть и мороз камней (1-я рук., л. 33).
Это — важное место. После главы «Ночь под Рождество» поэт, словно стряхнув с себя, как наваждение, все обиды, недоразумения, горести, начинает новую главу поэмы. Слова «в ужасе» здесь неуместны, они написаны скорей всего в силу своеобразной «инерции». И во второй рукописи начинается переделка (2-я рук., л. 43), в результате чего пробуждение освобождается от налета «ужасного».
Последовательно освобождаясь от неоправданного, непомерного нагнетения «безумных», «чудовищных» образов, Маяковский отбрасывает большой отрывок, весь пронизанный ощущением надрыва, кошмара, «беспамятства».
В первой и второй рукописях в том месте, где перед поэтом неотвратимо встает образ любимой и он решает бежать к ней, следовали стихи:
Мне кажется
вижу
не глазом
иначе
белою ночью
насквозь
на Неве...
Руки ломает, ломает и плачет.
Затихла.
А если это навек.
Нет!
Окна глотает глотками впадин
глазных
не сводит взора и ждет.
Ежесекундно
изо дня на день
смотрит
за угол загну —
и вот...
Убивший любовь
не успевший и вылезти
я рвусь
но как посмотреть в глаза
Как буду просить о несбыточной милости.
Она не пойдет.
Не надейся.
Назад.
233
Валю на память беспамятства глыбы.
Но мозг покрывает сердечную дробь.
Назад!
Надежду из черепа выбей.
Назад
В Лубянский проезд или в гроб!
Но только назад надрывается рот
А сердце ногам приказало — вперед! (2-я рук., л. 29—30).

МАЯКОВСКИЙ
Фотография Моголи Наги, 1924 г.
Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва
Эти строки «о глыбах беспамятства», о героине, ломающей руки, возможно, были отброшены Маяковским потому, что они — подобно многим другим зачеркнутым вариантам — заменяли глубокое раскрытие трагического конфликта нагромождением «страшных» эпитетов. Освобождая текст произведения от «ужасов», «проклятий», «бездн», «пропастей», от эпитетов — «проклятый», «страшный», «чудовищный» и т. д., Маяковский не отказывался от трагического, но отделял его от ненужной надрывности, истерической надломленности. Недаром он вычеркивает слова, где герой называет себя «неврастеником» (1-я рук., л. 9), спотыкающимся «лунатиком» (1-я рук., л. 24; 2-я рук., л. 30).
Своеобразие поэмы «Про это» в немалой степени связано с тем, что самая широкая постановка этических проблем сплавлена здесь с сугубо
234
личными мотивами (вспомним определение: «По личным мотивам об общем быте»), с подчеркнуто фактическим, почти документальным автобиографическим материалом. При этом возникала опасность, чтобы приближенные к реальным прототипам образы не утратили бы своей типичности, не заслонили бы широкого социального фона. В ходе работы над поэмой Маяковский последовательно стремится раздвинуть границы изображения, связать непосредственно описываемое с более широким планом. Исследователи уже не раз отмечали, что героиня, вначале названная как реальное лицо:
Лиля в постели
Лиля лежит — (1-я рук., л. 3),
затем выступает уже, как «она». Образ становится шире, он уже не сводится к прототипу.
Многие поправки, внесенные Маяковским во второй рукописи, продиктованы этим желанием расширить рамки изображения. Описывается разговор по телефону, словесная «дуэль», где решается вопрос жизни или смерти героя. Домработница «отмеряет шаги секундантом». Герой застывает в напряженном ожидании:
Весь мир остальной отодвинут куда-то
Лишь трубкой в меня неизвестное целит.
Окаменели сиренные рокоты
Колес и сирен суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти (2-я рук., л. 7).
Здесь герой как бы отъединился от всех: то, что происходит с ним, важно только для «него» и для «нее», не имеет отношения к остальному миру. Но вот Маяковский вписывает карандашом на полях рукописи небольшую вставку, которая сразу же меняет картину. То, что происходит между «ним» и «ею», обретает теперь огромное жизненно-важное значение для многих. После слов: «Лишь трубкой в меня неизвестное целит» — появляются строки:
Застыли докладчики всех заседаний
забыв закончить начатый жест
Как были рот разинув сюда они
смотрят
на рождество из рождеств.
Им взвиделась жизнь от дрязг и до дрязг
дом их
единая будняя тина
будто в себя
в меня смотрясь
ждали
смертельной любви поединок.
Не просто «люди», а именно «докладчики всех заседаний» застыли в ожидании. Так еще больше подчеркивается: «официальное» и «личное» не оторваны друг от друга, жизнь неделима. «Докладчики» смотрятся в поэта «будто в себя». То, что решает он, волнует тысячи людей.
Маяковский стремится построить повествование так, чтобы от каждого «личного» образа отбрасывалась большая тень — своего рода проекция, охватывающая неизмеримо более широкие границы. Он как бы хочет сказать: «Все, что происходит со мной, касается не только меня. Ищите то же самое у себя, в себе!».
235
Точно так же раздвигаются и рамки изображения обывательщины. «Семейная норка» вначале — место, где обитает данная семья. Затем это уже своего рода клеточка повсеместной обывательской «семейщины».
Герой бросается к своим родным («Инстинкта нитью притянут родными»). Сбоку появляется карандашная вставка:
За мною лишь в ночи теряются точкой
Сын за сыном дочка за дочкой.
Чтобы еще шире раздвинуть масштаб, поэт вносит поправку:
За мною всемосковские точка за точкой...
Появляется название главки — «Всехные родители» (2-я рук., л. 19).
В третьей рукописи границы еще больше раздвигаются. За героем несутся уже не «всемосковские», а «всероссийские... сын за сыном, дочка за дочкой».
Как и в предыдущем примере поэт стремится к тому, чтобы в данном индивидуальном образе отчетливей сквозило нечто более широкое, обобщенное, «всехное».
Та же линия — от частного к общему — ощущается в работе над эпизодом с посещением квартиры «Феклы Двидны».
Изо всех щелей лезут обитатели этого обывательского логовища.
Ползут с под шкафа чтецы почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли (2-я рук., л. 24).
И сбоку карандашом приписываются строки:
Идут и идут процессией мирной
Блестя из бород паутиной квартирной.
Все так и стоит столетья как было
Не бьют и не тронулась быта кобыла
Лишь вместо хранителей духов и фей
Ангел-хранитель жилец в галифе... (2-я рук., л. 24).
Перед нами уже не просто жильцы одной квартиры, но длинная, бесконечная «процессия». И все это связывается в обобщающий образ застывшей на одном месте «кобылы быта».
Как видим, Маяковский, перечитывая вторую рукопись с карандашом в руках, рядом последовательных поправок старается вывести изображение за пределы узко автобиографического, лишить его какой бы то ни было замкнутости, изолированности.
Вся поэма построена на движении от «клетушек» и «нор», от «личного» и «мелкого» — к огромному миру, где на первый крик — «товарищ!» — оборачивается земля. Эта линия дает себя знать не только в композиции поэмы, но и в другом ее «измерении» — в том направлении, в каком идет переработка отдельных эпизодов.
Особый интерес представляет история заключительной строфы («Чтоб жить не в жертву дома дырам...»).
В первой рукописи, в сцене посещения семьи Маяковский пишет:
Весь мир разодрала семья на клетушки
Что дом?
В нем льня к самчихе ежатся душки
Сидят у крыши под курьим крылом.
И сразу — как контраст этой картине повсеместного благоденствия обывателей:
Чтоб слезть с моей любвищи дырам
236
Затем новые варианты:
Бегу кричу квартирным дырам...
Любовь несу не дома дырам...
Так возникает четверостишие:
Любовь несу не дома дырам
Семья должна сегодня стать
Отец по крайней мере миром
Землей по крайней мере мать (1-я рук., л. 17).
Так в ходе «преодоления» образа прочно и удобно угнездившихся повсюду обывателей возникает строфа, которая несет в себе идеал поэта, его призыв к жизни, построенной на началах свободного товарищества и братства. Опять мы видим, что жизнеутверждающий итог произведения вырастает из самых его «недр», а не служит простым довеском.
Работа над заключительной строфой, впервые возникшей в ходе работы над «семейным» эпизодом, была особенно напряженной и трудоемкой. Вслед за приведенными тремя вариантами первой строки записываются еще пять, пока, наконец, в восьмом варианте она не обретает окончательный вид: «Чтоб жить не в жертву дома дырам» (см. 1-я рук., л. 17, 23 об., 37 об.). Десять вариантов перебрал поэт, работая над второй строкой. Один из них был такой:
Умрите по квартирным дырам
Умрите или должен стать... (1-я рук., л. 23 об.).
Но это настойчивое, категорическое «умрите» уже не годилось для последней строфы, полной пафоса утверждения мечты, призыва ко всему человечеству.
Не удовлетворил Маяковского и такой вариант:
Чтоб мог в моем семействе стать... (1-я рук., л. 37 об.).
Получался суженный смысл, касающийся только «моего семейства». Очевидно, по этой же причине были отвергнуты и следующие варианты:
Чтоб мог в семье поэта стать...
Вместо «в семье» появляется более расширительное «в родне», а вместо ограничивающего смысл строки: «Чтоб мог в семье поэта стать», появляется: «Чтоб мог в родне отныне стать». Та же перестройка происходит и в других заключительных строфах. Вместо —
нынче недолюбленное наверстаю (1-я рук., л. 37)
в первой рукописи — во второй:
нынче недолюбленное
наверстаем (2-я рук., л. 49).
Одна из самых важных строф заключения выглядела вначале так:
Чтоб день, который горем старящ
не христарадничать моля
чтоб вся на мой первый крик
товарищ!
оборачивалась земля (1-я рук., л. 37 об.).
И здесь вносятся существенные уточнения. В приведенном вариант, строфы поэт мечтает о том, чтобы вся земля оборачивалась на его призыв
237
Но мысль растет, и то, что здесь относится только к поэту, обретает характер более широкого обобщения:
чтоб вся на первый крик товарищ
оборачивалась земля (1-я рук., л. 38).
Так все более крупным, многоохватным становится замысел. Читая черновики, кажется, видишь, как — пользуясь словами Маяковского — «сила кругами, ширясь, расходится миру в мысль».
Расширение рамок, границ изображения помогало преодолевать ощущение безнадежной неизменности обывательского мира.
В первоначальной записи эпизода «Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми» читаем:
Минутным штурмом с позиций сбит
Опять окопался [стенами] тарелками быт (1-я рук., л. 21 об.).
Безрадостные и несправедливые строки... Революционный штурм кажется «минутным» по сравнению с неодолимой стихией мещанства. «Не тот» эпитет отбрасывается, двустишие уже выглядит так:
Отчаянным штурмом с позиций сбит
Опять окопался привычками быт (1-я рук., л. 22).
Но и здесь чувствуется безнадежность. Во второй рукописи двустишие снова переписывается и — вычеркивается. Вместо него теперь следуют слова:
А тот стоит в перила вбит
он ждет
он верит — скоро.
Я снова лбом
я снова в быт
Вбиваюсь слов напором (2-я рук., л. 27).
Здесь уже нет прежнего беспросветно-тоскливого ощущения: лишь на минуту потревоженный штурмом, опять, невредимый, прочно окопавшийся быт... На первом плане теперь активное отношение поэта, атакующего старый быт.
Рисуя обывательское житье, Маяковский в первых набросках изображал его как бы вне времени и пространства, вне связи с эпохой революции.
Во вторую рукопись переносятся уже знакомые нам строки:
Весь мир разодрала семья на клетушки
Что дом?!
В нем льня к самчихе ежатся душки
Сидят у крыш под курьим крылом (1-я рук., л. 17; 2-я рук., л. 21—22).
Мещанство здесь дано безотносительно ко времени, как бы само по себе. Маяковский перечеркивает строфу и сбоку карандашом набрасывает новый текст:
Хлеб любой обернется в камень
Любая коммуна скрутится комом
Столетия тихо жили домками
дома отобрали зажили домкомом.
В этом сильном, исполненном яростной насмешки четверостишии обывательщина дана уже не как «независимая величина», но в контрастном столкновении с коммуной, с Октябрем. И уже естественным стал переход к следующим строкам: «Октябрь прогремел карающий, судный...», —
238
где этот контраст получает дальнейшее развитие. Не совсем удачно, пожалуй, одно выражение: «Дома отобрали...». Ведь здесь гнев поэта направлен даже не столько против крупных собственников-домовладельцев, сколько против мелких хозяйчиков, обывателишек, вьющих гнезда под могучим крылом Октября. В третьей рукописи этот «домовладельческий» оттенок снят:
Сомнете периной
и волю
и камень
Коммуна
и то завернется комом.
Столетия
жили своими домками
и нынче
зажили своим домкомом (3-я рук., л. 25).
В чем смысл всех этих поправок, для чего они? Не для того, конечно, чтобы хоть как-нибудь притупить остроту конфликта. Смысл их в том, чтобы отвлеченное противопоставление поэта и обывательщины «вообще» перевести в остро социальный конфликт, неразрывно связанный с «карающим, судным» Октябрем. Освобождая повествование от некоторых чрезмерно автобиографических подробностей, Маяковский одновременно идет по пути насыщения текста социально-историческим конкретным материалом. Один только контрастный каламбур «домками — домкомом» сразу же воссоздает атмосферу данного неповторимого времени.
Вначале конфликт поэта и обывательщины носил односторонний характер еще и в другом отношении. Поэт выступал как некое абсолютное воплощение антимещанских настроений; ему неведомы ни колебания, ни сомнения. Он исполнен невероятной силы, свободен от каких бы то ни было «родимых пятен».
В первой рукописи, после многих предварительных набросков, появляются строфы (в сцене разговора героя с родными):
Я встал
У тетки задвигался чепчик
У мамы смешной старушечий страх
куда он Оля держи его крепче
я выдернул руку
не трогай сестра
поэтовы штучки думаешь
Ленский
Второе облако пишет в штанах
Сегодня
Я слиток силы вселенской
я дуб с корнями выверну в мах (1-я рук., л. 17).
Во второй рукописи эти строки переписываются, а затем, в процессе карандашной правки (как мы уже имели и еще будем иметь случаи убедиться — весьма значительной по существу), — вычеркнуты. Думается, что такое возвеличение мощи героя, не лишенное некоторой риторики, упрощало замысел поэмы. Ведь весь ее смысл как раз в том, что одинокий, гневный, мятущийся герой приходит к братству со всей землей, со всей вселенной и в этом обретает свою силу. В неразрывности связи с «краснофлагим строем», в радостном ожидании будущего — «изумительной жизни», в ненависти ко всему, что в нас «ушедшим рабьим вбито», в ощущении товарищества со всем миром, переделываемым революцией, — вот в чем сила героя, прошедшего большой, сложный путь испытаний и горестей. А тут,
239
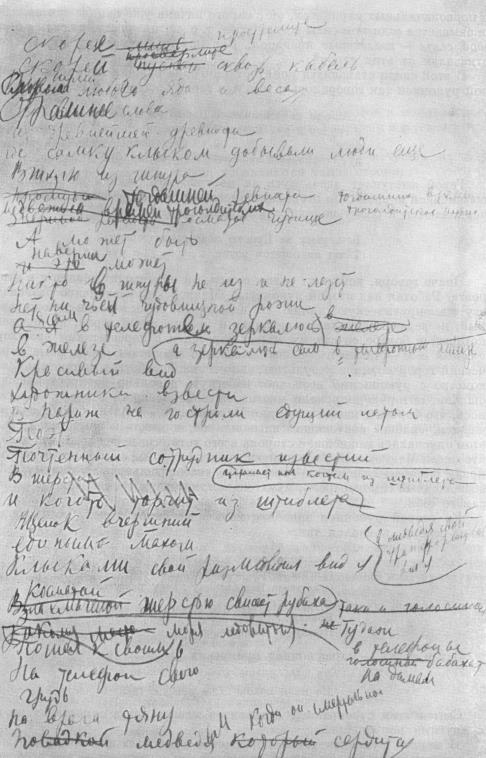
ЛИСТ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
240
в первоначальных вариантах, он с самого начала уже как бы сам по себе, оказывается «слитком силы вселенской», т. е. мотив обретения силы в большой семье — коллективе пропадал. Вот почему, думается, Маяковский отказался от этих строк*.
В этой связи становится понятной еще одна важная поправка. В первой рукописи так говорилось о том, что герой бросается к своим родным:
...Вот-те на Мясницкой Вот-те на Арбате
с трудом в уме шевеля адресами
бегу
лечу созывать и набатить (1-я рук., л. 15).
Герой выступает здесь чуть ли не трибуном, никак не связанным с «семейной норкой». Во второй рукописи эти стихи правятся, а затем вычеркиваются и сбоку появляются карандашные строки:
Во-первых на Пресню сюда по задворкам
Тянет инстинктом родимая норка (2-я рук., л. 19).
Иначе говоря, конфликт осложняется, он происходит теперь и в душе поэта. Работая над второй рукописью, Маяковский настойчиво развивает эту «самокритическую» линию. Не идеальный, односторонне-положительный, не ведающий никаких разладов и противоречий герой, но человек, который в борьбе со старым миром борется и с пережитками прошлого в самом себе — таким все более явственно предстает перед нами лирический герой поэмы в результате напряженной работы над текстом. Знакомство с рукописями позволяет избегнуть довольно распространенной ошибки, которую допускали многие из нас, писавших о поэме. Получалось, что борьба с мещанством для Маяковского — только борьба с окружением, сплошь состоявшим из пошляков, циников и обывателей. При этом опускалась важнейшая сторона всего того, что переживал, что делал, что писал Маяковский в тот период: яростная борьба за новое в быту, расправа с обывательщиной и — предельная требовательность к самому себе, беспощадный самоконтроль, мучительная, но целеустремленная переделка самого себя.
Во второй рукописи эпизод с мальчиком-самоубийцей, погибающим из-за любви, кончался так:
Был вором ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить.
«Прощайте...
Кончаю...
Прошу не винить».
Затем сбоку — карандашная приписка:
До чего ж
На меня похож (2-я рук., л. 18).
Смысл этих строк также становится ясным, когда сопоставляешь их с другими поправками.
В первой рукописи герой порывает с «любовью цыплячьей», бежит из «родимого места». Он бежит одинокий, непонятый и — что особенно важно — никак не ощущающий связи с чуждым ему миром.
241
Во второй рукописи появляется новая строфа:
Бегу и вижу. Всем в виду
Кудринскими вышками
Себе навстречу сам иду
С подарками подмышками (2-я рук., л. 22).
Развивая ту же тенденцию к выявлению «родимого» и ненавистного в самом себе, Маяковский вносит существенную поправку и в текст эпизода «Муж Феклы Давидовны...».
К описанию бесконечной «процессии» обывателей, лезущих из нор, из-под кроватей, из-под столов, добавляются такие строки:
...Но самое страшное
по росту
по коже
одеждой
сама походка моя
в одном
узнал
(близнецами похожи)
себя самого
сам — я. (2-я рук., л. 24).
Итак, лирический герой, свободный от каких бы то ни было «связей» с миром обывательщины, теперь ощущает собственную сопричастность ненавистной стихии.
Как видим, стремясь освободиться от эмоционального «перехлеста», Маяковский все глубже раскрывает сложный драматизм конфликта, вдвойне мучительного, ибо герою приходится, сражаясь с врагами, вести борьбу и с самим собой.
В первых вариантах герой выступал как некто, стоящий «над» обывательщиной и «вне» ее, неодолимо сильный сам по себе; теперь же все резче проступает конфликтное движение сюжета, связанного с развитием характера лирического героя, который мучительно и победно «выламывается», вырывается из оков и пут старого мира.
Важную роль в этой эволюции играет образ медведя. Это именно сложный образ, а не плоская аллегория, и, конечно, не отвлеченное понятие. Вчитываясь в рукопись, видишь, что вначале Маяковский идет от ощущений, ассоциаций, постепенно нащупывая искомое «зерно».
Вот как впервые возникают строки о человеке-медведе в первой, черновой рукописи:
[Но вместо] Страшнее слов[а]
Из древнейшей древности
Где самку клыком добывали люди еще
[Пол] Вползло из шнура
[Проснувш<ейся>] [восставшей] тогдашней ревности
[Звериной ревности косматое чудище]
[медвежьей ревности косматое чудище]
[времен троглодитских косматое чудище]
Тогдашних времен троглодитское чудище (1-я рук., л. 7).
Первый план образа медведя — звериное, «троглодитское», косматое (ср. «Сквозь первое горе, бессмысленный, ярый мозг поборов, проскребается зверь» — 2-я рук., л. 9).
242
Затем грубое чудовище все больше предстает перед нами как страдающее, раненное в самое сердце существо:
На телефон свою
грудь
на врага тяну
медведем когда он смертельно сердится
а сердце глубже уходит в рогатину
схватила рогатина зубьями сердце (1-я рук., л. 7—8)*.
Во второй рукописи эта строфа переделывается так, что «сердце» теперь выделено еще резче, четче, выразительнее — ему отведена целая строка:
Медведем
когда он смертельно сердится
На телефон
грудь
На врага тяну
а сердце
глубже уходит в рогатину (2-я рук., л. 10).
Это очень чуткое существо: случайно сорвавшийся лист кажется ему обвалом. Медведь боится, как бы не «грохнули» по нему винтовки, напряженно вслушивается в тишину. Ему, непрерывно готовому встретить смертную угрозу, легко мерещится самое невероятное:
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть бахромящую глаз (1-я рук., л. 8).
И дальше в рукописи следовало: «Взмедведилось вот что:»** (1-я рук., л. 9).
Таким образом, все, что затем происходило в первых двух частях поэмы, изображено так, как это «взмедведиться может... сквозь слезы и шерсть». Отсюда — особая эмоциональность, резкость и даже порой «перекошенность» изображения. Медведь в первых двух частях не только образ, но и «угол зрения»: его глазами смотрит на окружающее герой.
Затем, в третьей, заключительной, части все изображается с другой точки зрения. На обывательщину поэт смотрит глазами будущего, глазами «большелобого, тихого химика», как на нечто пройденное, отброшенное назад могучим, наступающим «тридцатым веком».
Всякий образ вбирает в себя два основных представления, которые, сплавляясь друг с другом, дают нечто третье, уже неразложимое на составные части. Так и этот образ: не просто «медведь» и не только «человек», но «медведь-человек», медведь очеловеченный — он плачет, скулит, «заливаясь ущельной длиной», тоскует, любит, ревнует, страдает. И во внешнем его виде сочетаются «звериные» и «человеческие» признаки и приметы:
Косматой шерстью свисает рубаха...
или
Царапает пол когтем из штиблета (1-я рук., л. 7).
Это — очень важный образ поэмы. Именно с появлением образа медведя возникает в рукописи и вступление ко всей поэме.
243
Записав строки о раненом медведе, Маяковский начинает набрасывать:
В этой [темой] теме и личной и мелкой
[Повторенной] перепетой не раз и не пять
Я кружил [дрес<сированной>] белкой
[Покружил и кружусь]
и кружиться буду опять. (1-я рук., л. 6 об.).
Определяя тему своего произведения, Маяковский вначале записал:
Имя этой теме
любовь (1-я рук., л. 2).
Затем, во второй рукописи слово «любовь» зачеркнуто и заменено точками (л. 3). Но оно все-таки угадывается читателем, подсказывается точной, хотя и совсем не традиционной рифмой: «лбов — любовь», Маяковский не захотел определять сложное, трепетное, «непереводимое», многозначное понятие одним словом, тем более словом столь традиционным, зарифмованным. Образ человека-медведя — в существе своем образ лирический и был связан с тем, что скрывалось за точками. «Медвежье» в контексте поэмы это — стихийно-эмоциональное, то, что прячется в «тайниках инстинктов». Но этим не исчерпывается значение образа.
Всем ходом развития сюжета утверждается центральная идея поэмы — невозможность жить в одиночку; войдя в поток слез и страданий, герой уносится в океан большой жизни, где его судьба сливается с судьбой всего мира, с борьбой за «краснофлагий строй». В соответствии с этим движением сюжета развертываются отдельные образы и, в частности, образ медведя. Постепенно он как бы просветляется. Сквозь «бессмысленное, ярое» все более проступает лирическое, поэтичное и — главное — выходящее за рамки одной личности. Вспомним слова, с которыми обращается к гостям Феклы Давидовны поэт:
Ведь это для всех для самих для вас же
Ну скажем мистерия ведь не для себя ж
Поэт там и пр<очее> ведь каждому ж важн<ен>
Не только себе ж ведь не личная блажь.
Я скажем медведь выражаясь грубо
но можно [ж снять стихами] стихи ведь сдирают же шкуру
Подкладку из рифм поставить и шуба
Потом у камина... там кофе... курят... (1-я рук., л. 20—21).
Эти стихи не так-то просто пересказать, переложить на язык прозы, здесь очень сложные метафоры (они построены на соединении признаков «медведя» и «поэта»). Но при всем этом нельзя не почувствовать, что образ медведя повернут здесь уже иной стороной, чем прежде. Герой как бы хочет сказать: «Я — медведь. Но ведь все это не для себя — для вас, для людей».
Затем образ медведя отодвигается на задний план. Но вот, после злобно-обывательской расправы с поэтом, образ возникает заново, очищенный от всего мелкого, грубого, возвышенный — буквально — до самых звезд.
Лишь небо по-прежнему лирикой звездится
Глядит в удивленьи небесная звездь
Затрубадурила Большая Медведица
Зачем?
в королевы поэтов пролезть
Луч звезда приложила ко рту
не то
у медведицы брат на борту (1-я рук., л. 32).
244
Одинокий, раненый, царапающий логово в двадцать когтей, медведь уступил место новому образу: перед нами — необыкновенное существо, которое в родне с небесным созвездьем.
Маяковский напряженно ищет ему название:
Большая неси по векам Араратам
Сквозь небо потопа ковчегом ковшом
с борта звездолетным медвединским братом
горланю стихи мирозданию в шум (1-я рук., л. 32 и 32 об.)
Затем третья строка меняется:
С борта звездолетцем медвединским братом (1-я рук., л. 33).
Во второй рукописи вместо непонравившегося поэту «звездолетца»:
С борта
звездолетом*
медвединским братом (2-я рук., л. 41).
Так расширяется смысл образа, так его развитие подкрепляют заключительные слова о том, чтобы «всей вселенной шла любовь».
Может показаться, что образ «звездолета медвединского брата» страдает известной отвлеченностью. Возможно, чтобы преодолеть такое ощущение, Маяковский в третьей части рисует его уже не просто медведем, но «медведем-коммунистом», склоняющимся над глобусом, над земным шаром в горькой и гневной думе о ненавистной обывательщине, о будущем.
Определение «медведь-коммунист» — заключительный момент, венчающий все движение образа.
Вместе с тем эта формула характерна именно для данного переломного времени, когда личное, интимное еще только связывалось с общественным, когда самое слово «коммунист» еще не обрело той полноты, такого неисчерпаемо-богатого общественно-личного значения, как это будет позднее.
В поэме о Ленине личное и общественное неразделимо соединились в душе поэта. Коммуна, коммунизм — эти слова стали для него могучей музыкой, в них всё — и время, и мир, и судьба, и любовь поэта.
Что бы он ни делал, кого бы ни любил, «в поцелуе рук ли, губ ли» — всюду пламенеет «красный цвет моих республик».
Почти все писавшие о поэме «Про это» так или иначе касались другого образа, который также проходит сквозь всю поэму и глубоко связан с ее общим замыслом. Речь идет о Человеке из-за семи лет. Именно ссылками на него пользовались критики, стремившиеся доказать, что «Про это» — не что иное, как рецидив прошлого, возврат к дореволюционному творчеству, перепев мотивов «Флейты» и «Облака».
Здесь нам придется сделать небольшое отступление.
В исследованиях о Маяковском давали себя знать две крайние точки зрения. Часть критиков рассматривала всё его творчество — и дореволюционное и послереволюционное — как некий монолит. Сторонники этого взгляда полагали, что поэт с самого начала выступал убежденным революционером, коммунистом, что, если бы не царская цензура, Маяковский еще до Октября открылся бы как законченный, сформировавшийся социалистический пролетарский поэт. Во время дискуссии о Маяковском 1953 г. эта концепция, как известно, была подвергнута серьезной критике.
245

ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. М. РОДЧЕНКО ДЛЯ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.
Фотомонтаж
Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва
246
Однако, критикуя одну крайность, мы, как это нередко бывает, впадаем в другую. И вот уже все творчество Маяковского как бы перерезается пополам. Все, что писал Маяковский с 1912 по 1917 г., объявляется незрелым, безысходным, индивидуалистическим. Вместо того чтобы проследить, как постепенно, исподволь, органически начинала подготавливаться формула «Моя революция» уже в предоктябрьские годы, представители этой второй крайней точки зрения, начиная творческое «летосчисление» Маяковского с 1917 г., безоговорочно противопоставляют всё написанное после этой даты — ранней поэзии. И конечно, в свете таких взглядов появление в поэме 1923 г. Человека из-за семи лет казалось чуть не скандальным. Так появлялись слова о «рецидивах», ненужных реминисценциях, о движении назад, вспять, сползании к прошлому и т. п.
Герой поэмы «Человек» ревнует свою любимую не к обыкновенному «сопернику», но — к Повелителю Всего, «хозяину» жизни с ее издавна заведенным укладом, с ее неизменной пошлостью, продажностью, «захватанностью» самых святых и дорогих понятий. Если можно так выразиться, ревность эта социальна. В ней — чистота и непримиримость героя, его неподкупность, ненависть к «некоронованному сердец владельцу», к строю жизни, обкрадывающей человека.
В черновом отрывке, не вошедшем в текст поэмы, есть такие строки:
Также пронесу
бережно
чисто
мальчишеское мое
«люблю»
Тобой
живу
и никому
тебя
любовь
не выдам
С тобой пойду
в трущобы мук
скитаться вечным жидом (I, 416).
Нельзя не почувствовать, — это уже отмечалось в литературе, — что в лирическом герое поэмы «Про это» есть что-то от «бережного, чистого, мальчишеского», от этой готовности пройти сквозь любые муки, преграды, скитания, но не изменить своей любви, идеалу. Вспомним хотя бы строки из разговора с любимой:
Но где, любимая,
где моя милая,
где
— в песне! —
любви моей изменил я?
Запомнить «переплеск», плескавший в «Человеке», это значило быть таким же неуступчивым по отношению к мещанству, пошлости, к старому, засаленному быту. Поэма «Человек» кончалась трагически — безысходной нотой: «бездомный» герой не находил ни пристанища, ни успокоения. В поэме «Про это» он появляется снова — в других, в корне изменившихся жизненных условиях и обстоятельствах, но по-прежнему молодой душой, бескомпромиссно-требовательный в любви. Самое появление образа
247
молодого Маяковского поры «Человека» в поэме позднейших лет в ка кой-то мере имеет тот смысл, который выражен в известных словах:
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши (VI, 234)
Маяковский молодых лет оживает в поэме «Про это» с тем, чтобы проверить себя, посмотреть, каким он стал.
Самое появление его рисуется как нечто неизбежное, неотвратимое:
Плыву [и] трясусь [я] на льдине подушке
[осталась] [Одна только мысль потоком не вымыта]
и мысль одна наводненьем не вымыта
Я должен не то под кроватные дужки
Не то под мостом проплыть под каким-то.
[Мысль растет и] Растет эта мысль не справлюсь [я] с нею
[Вода не отпустит мой крохотный плот]
Вернуться вода не выпустит плот
Видней и видней ясней и яснее
[Как смерть] теперь неизбежно он будет он вот (1-я рук., л. 9—10).
Встреча с Человеком неминуема — она уже не зависит от желаний героя. Могучее течение несет его к мосту, на котором стоит «прикрученный канатом строк», — самое это течение неостановимо-стремительное как бы символизирует неизбежность встречи.
Работа над стихом здесь приобретает особо напряженный, даже «лихорадочный» характер. Сначала набрасываются рифмы, определяющие смысловой «каркас» строфы:
гонит
бег
фоне
человек (1-я рук., л. 9 об.).
Затем вырисовываются строки:
Льдину гонит гонит гонит
Стих звучит с однообразием, здесь особенно неуместным. И ритмически вдруг совпал с правильным хореем. Вариант отбрасывается. Вместо него:
Нева разъярилась гонит гонит
И наконец, еще сильнее передана бесповоротность надвигающейся встречи, сила и стремительность течения в окончательном варианте первой рукописи:
Прости Нева
Не прощает
гонит.
Вторая строка претерпевает такие стадии «обработки»:
I | Нева бег... | |
II | Нева пощади | |
III | Сжалься | |
IV | Сжалься | |
V | Сжалься |
248
В последнем варианте возникает выразительная параллель в построении строк: прости — не прощает... Сжалься — не сжалился. Так сильнее передается нагнетение неотвратимости.
Третья строка вначале:
Вот фоне
Затем, после некоторых переделок:
Он Он на небесном сияющем фоне (1-я рук., л. 9 об.).
Однако этот светлый «сияющий фон» не соответствовал контексту — ведь речь идет о появлении трагической, одинокой, ожидающей спасения фигуры. Может быть, поэтому строка переправляется:
Он
Он у небес в воспаленном фоне.
Нам уже приходилось говорить, что тут же, на обороте 9-го листа, где впервые возникают строки о Человеке, появляется важная запись: «брюшко — петушком». В ней — зерно того, что должен сказать Человек; он тревожится, чтобы герой поэмы не утратил былой неподкупности, не начал бы заигрывать с мещанством, примазываться к «ихней касте», не погружался бы в сытую, утробную, бестревожную, бесцельную жизнь.
Для него, Человека, нет никакого компромисса, не дается третьего решения: либо — быть с ними, с этой кастой, пролезать в их семейное счастье «петушком», либо — отринуть все это решительно и бесповоротно и жить ожиданием настоящей, спасительной любви. От решения этой дилеммы уйти невозможно. Слова Человека звучат как непреложное заклятье, как угроза:
Не думай спастись*
Это я тебя вызвал
Найду
Загоню
Доконаю
Замучу (1-я рук., л. 11).
Во второй рукописи Маяковский после этих слов карандашом приписывает новую строфу:
Там праздник расфлажен (2-я рук., л. 14).
Но «расфлажен» искажает искомый образ. Речь идет не о революционном, а о старом рождественском празднике. Поэтому «расфлажен» тут же зачеркивается:
Там в городе праздник
Я слышал гром его**.
В целом строфа выглядит так:
Там в городе праздник
Я слышал гром его
Так что ж
Скажи чтоб явились они
Постановленье неси
исполкомово
му́ку [сними] мою [возьми] конфискуй отмени (2-я рук., л. 14).
249
Эти слова, исполненные трагической иронии, боли, сознания всей глубины горя, неверия в быструю помощь, очень важны для понимания поэмы. Маяковский приписал эту строфу одновременно — в процессе одной и той же карандашной правки — с другой вставкой. В одной из предшествующих главок — «Что может сделаться с человеком» он добавил строки:
Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры
Пойди эту правильность с Эрфуртской сверь
Сквозь первое горе
бессмысленный
ярый
мозг поборов
проскребается зверь* (2-я рук., л. 9).
Нельзя не почувствовать переклички между этими двумя дописанными к тексту строфами. И там и тут — мысль о том, что муки любви и ревности не упраздняются, не «конфискуются» никакими декретами и программами. В то же время чувствуются здесь и те следы «переходности», которые мы отмечали, говоря о формуле «медведь — коммунист». Есть в этих строфах даже известное полемическое противопоставление: с одной стороны, постановления исполкома, циркуляры, Эрфуртская программа...; с другой — то, перед чем все это оказывается бессильным, — человек, страдающий из-за любви как раненый зверь. Самое слово «конфискуй» еще больше подчеркивает разноречие, несоответствие одного и другого. Рядом с «мукой» это слово звучит строго, холодно, предельно-категорично, кажется сухим и черствым.
Мы видим, каким трудным, противоречиво-сложным путем проходила борьба Маяковского за себя — нового человека. С бесстрашной правдивостью рисует он этот процесс, не торопясь выдать за решенное то, что еще не до конца решено.
Образ Человека активен. Он пронизывает всю ткань повествования. Вот герой расстается с Человеком — течение относит героя дальше, вперед. Но образ Человека не отодвигается. Маяковский пользуется как бы двойным ведением сюжета. Все время, рассказывая о том, что происходит с героем, он напоминает о Человеке, ждущем спасения.
Герой бросается к погибшему мальчишке: «Ну что ж голубчик тому еще хуже. (1-я рук., л. 15). В третьей рукописи: «Ну что ж товарищ! Тому еще хуже» (3-я рук., л. 22).
Вот герой, расставшись с родней, врывается в первую попавшуюся квартиру. И опять — словно в кинематографической смене кадров — читателю показывается то, что происходит и с героем, и с оставшимся на мосту Человеком:
По стеклам тени фигурками тира
Вертелись в окне зазывая в квартиры
С Невы не сводит глаз
продрог
Стоит и ждет помогут
За первый встречный за порог
Закидываю ногу (1-я рук., л. 19).
Благодаря такому построению сюжета Человек — даже когда он невидим — все время ощущается, напоминает о себе. Он торопит героя, зовет к активному действованию.
250
А тот стоит в перила вбит
Он ждет он верит скоро
Я снова лбом я снова в быт
вбиваюсь слов напором (1-я рук., л. 22).
Борьба за нового человека — как бы хочет сказать Маяковский — не спокойное и постепенное самосовершенствование. Она не терпит отлагательств. Медлить нельзя! Каждая строка звучит как тревога, как сигнал бедствия. От одного к другому мечется герой, зовет на помощь «тому». Помочь Человеку, освободить его можно только прорвавшись сквозь застойный быт со «столетней пылью» (1-я рук., л. 22).
Образ Человека делает обостренно-наглядным, осязаемым чувство необходимости не вообще бороться за новую мораль, но решать вопросы морали, быта, любви, сейчас же, не откладывая, ибо дело идет о жизни Человека, на помощь которому пробивается герой.
Ни родные, ни знакомые не понимают его. Любимая — его последняя надежда:
Сейчас лишь ты б могла б спасти
Вставай бежим к мосту (1-я рук., л. 26 об.).
И тут оказывается, что так — вдвоем с любимой — Человека спасти невозможно. Он сам срывается с места, в несколько мгновений покрывает расстоянье в «600 с небольшим этих крохотных верст» и предстает перед героем и героиней.
Ну что ж что пошла б одному удалось бы
Подачек не надо не понял ты просьбы (1-я рук., л. 28).
Одна пара, порвавшая со старым бытом, для Человека — жалкая подачка».
Во второй рукописи та же мысль передана еще резче:
Оставь
Не надо
ни слова
ни просьбы
что толку
тебе
одному удалось бы (л. 35).
В первой рукописи далее следовали строки:
Со всей землей обезлюбленной вместе
любовь во [всей] всечеловеческой гуще.
Во второй рукописи эти строки переписываются и вычеркиваются. На их место вписываются другие, где та же мысль звучит более ясно, и определенно:
Я жду
чтоб землей обезлюбленной вместе,
чтоб всей мировой человечьей гущей.
Вот в чем разгадка образа Человека и — шире — всей поэмы. Далеки от истины были критики, увидавшие в поэме рецидив индивидуализма. Человек из-за семи лет сам не в силах освободить себя, его страданье — не только личная боль, его спасение — в устремлении ко «всей мировой человечьей гуще».
Слова Человека — тот «перевал» в развитии сюжета, после которого открывается путь к заключительной части с ее призывом: «Чтоб вся на первый крик: Товарищ! оборачивалась земля».
251
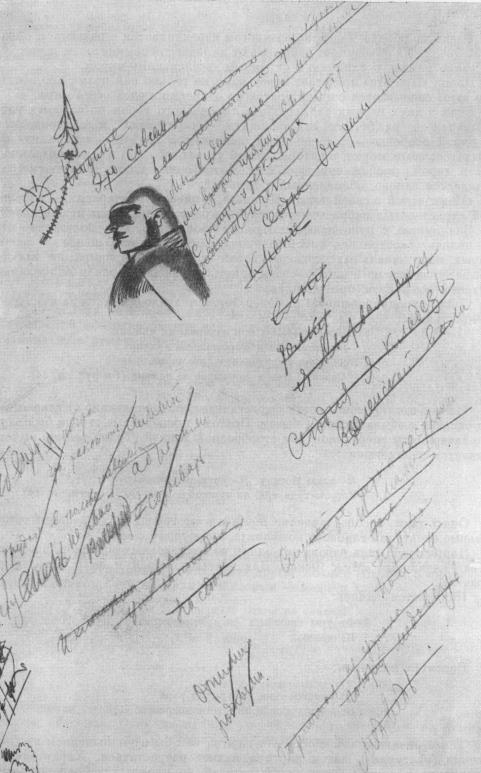
ЛИСТ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
252
Развитие образа Человека во многом перекликается с развитием образа Медведя. Их объединяет движение от лирической замкнутости к выходу за узкие рамки, к слиянию с огромным «вселенским» миром.
Поэма «Про это» предстает перед нами не только как поэма про «это», ибо «это» связывается с идеей братского единения людей всего мира.
Если в двух первых частях образ лирического героя по-разному раскрывался в различных «отражениях» — лирических и сатирических (с одной стороны — Человек из-за семи лет, с другой — «двойники» из обывательского мирка, в которых герой узнает себя), то в заключительной части герой, пройдя сквозь обиды, потрясения, сквозь самую смерть, рождается заново, обновленный и цельный.
«Маяковский в своей поэме „Про это“, — писал Луначарский, — с желчной страстностью набрасывается на быт, разумея под ним мещанство»20.
Знакомство с рукописями позволяет проследить, как, постепенно отслаиваясь, заострялась антимещанская направленность поэмы. В некоторых первоначальных эпизодах герой противопоставлялся не только обывательщине, но и шире — всем остальным людям, причем социальная острота конфликта притуплялась.
Сойдя с «подушки-плота» на берег, герой вначале бросался за помощью к крестьянам:
I Крестьяне Я к ним называю их милыми
Спасите! Они в Хорошово за вилами.
II Крестьяне Бородки под лицами милыми
Спасите! Они в Хорошово за вилами (1-я рук., л. 14).
Однако столкновение поэта с крестьянами лишь отвлекало от главного — от схватки с обывательским бытом. Поэтому приведенные строки были тут же зачеркнуты энергичной зигзагообразной линией. Точно так же вычеркивается и двустишие:
Я знаю Москву. Я сумею разжалобить
Устрою туда чтоб на помощь бежала бы (1-я рук., л. 14).
Опять-таки в сопоставлении поэта и всего города расплывались социальные очертания главного конфликта, движущего сюжет.
Напряженно шла работа над одним из центральных эпизодов, впоследствии названным «Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми».
Появляется запись:
Фигуры знакомых фигурками тира
Качались...
Вносятся поправки:
По стеклам тени фигурками тира
Вертелись в окне зазывая в квартиры (1-я рук., л. 19).
Так в начале главы обыватели даются как бы в уменьшенном изображении («фигурки»), затем картина начнет разрастаться. Характерно и сравнение с тиром: фигурки обывателей не просто «изображения», но мишени для поэта.
Вот поэт входит в комнату:
Огромные чайные розы с обоев
вылазят и стелятся сами собою (1-я рук., л. 18 об.).
253
Безвкусные чайные розы на обоях — для Маяковского деталь, окрашенная совершенно определенно. Ирония подчеркивается нарочитым снижением, перебоем стиля: «розы... вылазят». И все же строки не удовлетворяют поэта. Во второй рукописи он, переписав их, переделывает карандашом:
В точках от мух веночки с обоев
лезут на голову сами собою (1-я рук., л. 24).
Здесь резче передана засиженная нечистота, затхлость клопино-мушиного царства.
В третьей рукописи — дальнейшее заострение образа:
В точках от мух
веночки
с обоев
венчают голову сами собою (л. 28—29).
Сатирическое звучание строк усилилось благодаря заострившемуся контрасту между веночками в «точках от мух» и — почти иконописным — «венчают голову».
Набрасывая на обороте листа разговор героя с хозяином и гостями, Маяковский особенно бьется над строками, где поэт отвечает на слова хозяина: «Да думаю занять дом со своими».
I | Какие свои? Большие особы | |
II | Мои свои Большие особы | |
III | Мои свои народ особый (1-я рук., л. 19 об., л. 20). | |
IV | Мои свои?! | |
V | Мои свои?! | |
VI | Мои свои?! |
Герой и хозяин, муж Феклы Давидовны, говорят на разных языках, они просто не в состоянии понять друг друга. Хозяин говорит о «своих» — домашних героя. Тот же называет своими — медведей.
Их ведьма разве сыщет на венике!
Мои свои
с Енисея
да с Оби
идут сейчас,
следят четвереньки (IV, 162).
Точно так же переосмысляются и слова героя о человеке на мосту, ожидающем спасения. Один из пьяных гостей, ничего, конечно, не поняв, решает, что речь идет о Кузнецком мосте, излюбленном месте модных гуляк и фланеров.
Постой
Постой
и очень даже просто
говорят она ждет на мосту
я знаю угол Петровки и Кузнецкого моста (1-я рук., л. 20 об.).
254
Во второй рукописи еще выразительней:
Я пойду
говорят он ждет на мосту.
Я знаю
Это на углу Кузнецкого моста? (2-я рук., л. 26).
Эта пьяная готовность помочь («Я пойду»), пойти к углу Кузнецкого моста по своему даже трогательна. Тем резче оттеняет она полнейшее несоответствие того, как воспринимаются обывателем отчаянные призывы героя спасать Человека. Как пишет Маяковский: «Слова об лоб и в тарелку горохом». Эти строки одновременно и смешны и трагичны. Мы воспринимаем их по ассоциации с разговорным: «как горох об стенку». Лбы обывателей заняли место стенки.
В первоначальном наброске этой сцены пьяный гость, готовый «помочь» герою, даже пускал слезу:
I | Только один слезу |
Затем:
II | Только он один ронял слезу | |
III | Даже кажется выжал слезу | |
а) рвался грозил стукался | ||
б) грозил рвался стукался (1-я рук., л. 21). | ||
В третьей рукописи строки переписываются с поправкой и отбрасываются. Слезы здесь ни к чему, а «рвался, грозил» неожиданно зазвучало карикатурным снижением, пародийным «передразниванием» самого героя (ср. «молил, грозил, просил, агитировал»).
Нам уже приходилось говорить о том, как в ходе работы над текстом раздвигались рамки изображения: обывательское логово ширилось, число его обитателей росло — и вот уже бесконечная «процессия» проходит перед нами. Однако тут поэта подстерегала и некоторая опасность.
В первой рукописи после слов:
Я атакую и вкривь и вкось
Я вижу слова проходят насквозь —
следовало:
Сквозь тыщи читающих пьющих и евших
проходят слова никого не задевши (1-я рук., л. 22).
В двух последних строках появляется новый оттенок: речь идет уже не просто о том, что героя не понимают «партнеры» и «собутыльники», но о том, что не понимают его именно как поэта («Сквозь тыщи читающих... никого не задевши»). Во второй рукописи эти две строки переписываются с небольшими изменениями и вычеркиваются в процессе все той же карандашной правки, о которой говорилось выше.
Маяковский не хочет, чтобы непонятость его героя перерастала в бессилие поэта задеть, растревожить «тыщи читающих». Может быть, в противовес этим строкам и возникли другие, утверждающие силу воздействия поэтического слова. В первой черновой рукописи после строк: «Не скоро по мне потянете об упокой его души таланте» шли такие строки:
Еще и френчами
и крахмальными сорочками
гулять моих стихов ножу.
Во втором варианте мысль выражена еще резче:
добираться к сердцу ножу.
Затем начинается работа над второй частью четверостишия:
Я еще моими стихами строчками...
255
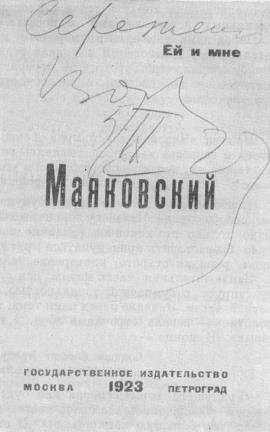
ПОЭМА «ПРО ЭТО» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ МАЯКОВСКОГО С. М. ТРЕТЬЯКОВУ
«Сереженьке. Вол. 5/IX 23»
Собрание
О. В. Третьяковой, Москва
Как и в первом случае, мысль проявляется во все более резкой, заостренной форме:
Я еще заноз строчками | ||
I | Не одного толстокожего иззаножу | |
II | толстокожее иззаножу |
Еще сильнее звучит та же мысль в следующей строфе:
Песня головой голодною гуди
Женских глаз исплавай озерца
Все плотины быта выверни в груди
буду сердцем биться о сердца.
Последняя строка переделывается так, что перед нами возникает образ поэта, вырывающего сердце из груди:
Вырвав сердце
бейся сердцем о сердца.
В последнем варианте еще решительнее:
Сердце вырви
бейся сердцем о сердца (1-я рук., л. 33 об., 34—35)
Трудно сказать, почему поэт затем отказался от этих строк. Может быть, они показались ему чересчур «громогласными».
256
Но для понимания творческой истории поэмы эти строки, решительно преодолевающие горькие стихи о словах, никого не «задевших», словах, бессильных перед «тыщами читающих», — очень важны.
Перед нами еще один пример того, как, рисуя конфликт поэта и обывательщины, Маяковский не давал этому конфликту разрастись безгранично, следил, чтобы тревога не перерастала в отчаяние, в неверие в силу поэтического воздействия, в способность художника «добираться к сердцу» читателя.
**
*
В поэме «Человек» герой, пройдя сквозь смерть, прорывался в будущее. Мимо и «сквозь» него прокатывались волны времени, а жизнь оставалась все такой же, неизменной, отданной в угоду жирному пошляку Повелителю всего*. Тема будущего лишь подчеркивала безысходность настоящего.
В поэме «Про это», наоборот, будущее движется навстречу герою, несет освобождение Человеку, окончательную смерть «ушедшему рабьему». Одно только это коренное различие поэм «Про это» и «Человек» должно было бы заставить призадуматься критиков, заявлявших, что «Про это» — лишь рецидив старого, повторение давно пройденного.
Заключительная часть поэмы, вся словно залитая светом, резко контрастирует с сумрачной тональностью, эмоциональной «окрашенностью» первой части. Вначале перед нами тема, которая «день истемнила; в темень колотись — велела строчками лбов...», город тонул «в серых тонах офортовых». В конце —
Солнцем блестят [грядущего] горы
дни улыбаются с пристани (1-я рук., л. 33).
«Грядущего горы», сперва как будто покрытые туманом, в процессе работы обозначались все более явственно. Самый образ будущего приобретал все большую конкретность. В этом смысле характерны варианты заголовков третьей заключительной части.
I | Прошу вас очень! |
Затем просьба поэта о воскрешении, адресованная в будущее, обретает подчеркнуто деловой характер — как будто речь идет о чем-то сугубо реальном:
II | Прошение на имя | |
III | Прошение на его имя... | |
IV | Прошение на имя веков (2-я рук., титул. лист). | |
V | Прошение на имя..... |
В шестом, окончательном, варианте поэт адресуется не к «векам» вообще, но к совершенно реальному лицу, химику; его еще нет, но он обязательно будет — поэт настолько уверен в этом, что даже оставляет место для фамилии.
Всё более конкретизируется и представление поэта о самом этом химике, «воскресителе». В первой рукописи:
Вот он молодой прекрасный химик (1-я рук., л. 36).
257
Здесь пока нет никаких индивидуальных примет. Будущее, которое поэт видит «ясно, ясно до детали», олицетворено еще в образе плакатно-отвлеченном.
Во второй рукописи:
Вот он большелобый тихий химик...
Теперь мы не только яснее представляем облик химика — самое звучание строки хорошо передает чуткую настороженную тишину перед началом необыкновенного опыта «человечьего воскрешения».
Много бился Маяковский над стихами, непосредственно открывающими тему будущего:
Пусть во что угодно годы удлинятся
Ясно вижу ясно до галлюцинаций (1-я рук., л. 35).
Во второй рукописи вместо «годы» вписывается — «жданья» (2-я рук., л. 46). Так сильнее передается готовность поэта ждать будущее, сколько бы это ни потребовало времени.
Далее в первой рукописи следовали строки:
до того что кажется
вот только с годом развяжись
и вбежишь вот в эту изумительную жизнь (1-я рук., л. 36).
Затем Маяковский делает две поправки, которые обогащают строки новым смыслом:
до того что кажется
вот только с этой рифмой развяжись
и вбежишь по строчке в изумительную жизнь.
Здесь уже не просто человек, ожидающий будущее, но чудесный образ поэта, который по строчке, как по лесенке, вбегает в завтрашний день, — образ поэзии, устремляющейся в грядущее. Это — один из излюбленных образов Маяковского (ср. из «IV Интернационала»: «В грядущее тыкаюсь пальцем-строчкой. В грядущее глазом образа вросся»).
Работа над следующей строфой проходит очень напряженно — в поисках окончательного варианта поэт изводит немало «словесной руды». Сначала на обороте листа записываются рифмы, несущие, как это почти всегда бывает у Маяковского, основную «наметку» строфы:
да та ли
детали (1-я рук., л. 35 об.).
В процессе работы над первой рукописью Маяковский больше к этой заготовке не обращается*. Первый вариант появляется во второй рукописи:
I | Я не спрашиваю такая ли она |
Но первая строчка ритмически еще не оформилась — ее просто трудно произнести.
II | Мне не спрашивать такая ли она | |
III | Мне не спрашивать да эта ли |
258
Но это «мне не спрашивать» тоже неудобно для произношения («мне не...»). Появляются новые варианты:
IV | Я уж не спрошу да эта ли |
Но теперь строка зазвучала слишком обычно — разговорно, как будто речь идет не об очень значительном явлении.
V | Мне ли сомневаться да эта ли |
И только в третьей рукописи возникает вариант, который полностью удовлетворяет поэта:
Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно до деталей (3-я рук., л. 52).
Начинается разговор поэта с будущим, с химиком, требование-мольба о воскрешении:
Маяковский вот...
поищем лучше лица (1-я рук., л. 36).
Вторую строчку можно неправильно понять — в смысле: «лучше поищем лица». Во второй рукописи:
Маяковский вот...
Поищем ярче лица... (2-я рук., л. 46).
Вторая строка вначале записывается так:
Этот недостаточно красив (1-я рук., л. 36).
Во второй рукописи:
Недостаточно поэт красив (2-я рук., л. 46).
Затем:
Крикну я вот с этой нынешней страницы
Не листай страницы
Воскреси (1-я рук., л. 36).
Во второй рукописи на первый взгляд совсем малозначительная поправка усиливает экспрессивность строки:
Крикну я вот с этой с нынешней страницы...
Такой оборот с повторением предлога — характерный для живой разговорной речи — часто помогает Маяковскому резче подчеркнуть мысль (ср. «А я за стенного за желтого зайца отдал тогда бы все на свете», «Когда такие люди в стране в советской есть», «или в сердце было в моем...»).
Сердце мне вложи
кровищу до последних жил
рассияя
сквозь череп мысль вдолби
я свое земное не дожил
на земле свое не долюбил*
259
«Рассияя» повторяет одну из предшествующих строк («Рассиявшись высится веками...») и, кроме того, нарушает ритм. Во второй рукописи строка зазвучала кратко и энергично:
В череп мысль вдолби (2-я рук., л. 47).
Одна из самых человечески-трогательных строф — в обращении поэта к химику, к людям будущего:
Что хотите буду делать даром
чистить мыть стеречь и месть
я могу служить у вас хотя б швейцаром
Швейцары у вас есть (1-я рук., л. 36).
И опять-таки, какой контрастно сравнению с «Человеком». Там, попав в будущее, в «рай», герой не мог найти себе никакого дела. Кругом все были заняты: «Кто тучи чинит, кто жар надбавляет солнцу в печи». Один только он «шатается без дела». И может быть по ассоциации с этой картиной во второй рукописи появился было такой вариант:
Что хотите буду делать даром
чистить
мыть
стеречь
слоняться
месть (2-я рук., л. 47).

Л. Ю. БРИК
Фотография, снятая в берлинском зоологическом саду, 1922 г. Принадлежала Маяковскому и упоминается в поэме «Про это»
«Может, может быть
когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей
и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе»
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
Совершенно очевидно, что это «слоняться» в данном контексте было чужеродно, неуместно: ведь теперь поэт не представляет себя в будущем
260
без самой активной, даже грубой, черной работы. И в третьей рукописи строка переделана:
чистить
мыть
стеречь
мотаться
месть (3-я рук., л. 54).
Нам еще придется говорить о работе поэта над ритмом. Сейчас ограничимся лишь одним замечанием. Любопытно, что в первом варианте строка, о которой идет речь, была короче. Поэту понадобилось ее «удлинить». Думается, что в окончательном варианте строк, когда ни одна из первых трех строк не звучит «укороченно», с тем большей неожиданностью, подчеркнутой ритмическим перебоем, зазвучала последняя, выпадающая из ритма строка:
швейцары у вас есть?
Одна из последующих строф сперва выглядела так:
Я любил
но в сердце не позволю рыться
Нет любви живешь и горем дорожась (1-я рук., л. 37).
Но эта «взъерошенная» интонация больше подходила для первых частей. Маяковский переделывает строки, и вот они уже зазвучали без излишней нервозности, мягче, проще, человечней:
Я любил
Не стоит в старом рыться
Больно?
Пусть
Живешь и болью дорожась... (2-я рук., л. 48).
Вторая часть строфы складывается не сразу:
Я [зверей] зверье люблю
у вас
зверинцы
есть
пустите к тиграм в сторожа (1-я рук., л. 37).
Но «зверье» в заключительной части поэмы — это не чудовища «из древнейшей древности», не косматые хищники, а милые, обаятельные существа. Если раньше в человеке пробуждался зверь, то теперь, наоборот, зверь очеловечен. Может быть, именно поэтому «тигры» уже не очень подходили. После некоторых колебаний, перечеркиваний, Маяковский останавливается на варианте:
Пустите к зверю в сторожа (2-я рук., л. 48).
Строфа, открывающая следующую главку — «Любовь», принадлежит к таким поэтическим созданиям, которые, кажется, не только пересказать, но и прокомментировать невозможно — такое богатство смысла и чувств в ней заключено. Впервые она возникает в краткой записи, намечающей смысловой «каркас»:
Аллей
в сад
столе
Она ведь красивая
ее воскресят (1-я рук., л. 36 об.).
261
К сожалению, последующие стадии работы пропущены. В тексте первой рукописи сразу появляется запись:
Может, может быть когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей
и она, она зверей любила, тоже ступит в сад
улыбаясь вот такая как на карточке в столе
нет красивей.
Уж ее наверно воскресят (1-я рук., л. 37).
Удивительны эти «зоологические аллеи», вызывающие ассоциацию не просто с зоопарком, но с чудесным, почти сказочным садом, где звери не заключены в клетки, а, подобно людям, гуляют по аллеям.
Строфа почти готова — не совсем удачны только пятая и шестая строки:
Нет красивей.
Уж ее наверно воскресят.
Это «уж» звучит здесь грубовато: мол, кого-кого, а уж ее-то воскресят. Поэтическая высота стиха здесь пропадает, повествование переходит в обыкновенный житейский «говорок». Насколько же лучше:
Она красивая
Ее наверно воскресят (2-я рук., л. 48).
Кажется, слышишь живую, «мечтательную» интонацию речи поэта. После слов: «Она красивая» он на миг смолкает, словно представляя себе «ее» и затем, после паузы, тихо добавляет: «Ее наверно воскресят».
И потом, после слов о тридцатом веке, с такой силой исторгается требование-просьба-заклинанье:
Воскреси
хотя б за то что я поэтом
ждал тебя не грязнул, будням в чушь (1-я рук., л. 38).
Здесь только неуклюжий оборот «не грязнул, будням в чушь» ослабляет действенность стиха. Во второй рукописи:
Ждал тебя
откинув будничную чушь (2-я рук., л. 49).
Однако и это не до конца удовлетворяет поэта: грамматически правильное, но в данном контексте, может быть, даже слишком правильное, безукоризненное с точки зрения правил, но чуть холодноватое «откинув» — затем меняется:
Ждал тебя
откинул будничную чушь (3-я рук., л. 56).
Это не так «правильно», но более действенно.
На обороте предпоследнего листа записывается строфа
Постели прокляв
встав с лежанки,
чтоб шла по всей земле любовь (1-я рук., л. 37 об.).
Но даже и «по всей земле» кажется Маяковскому недостаточным: не «по всей земле», но «чтоб всей вселенной шла любовь»!
И наконец, заключительные строки, увенчивающие «вселенскую» тему любви и жизни — о родне со всем светом, об отце — мире и о земле — матери.
262
Если теперь мысленно перебрать все черновые поправки, сделанные поэтом в работе над третьей, заключительной, частью, приходишь к выводу: общий план части не менялся, здесь — в отличие от того, что было в работе над двумя предыдущими частями — не возникали новые повороты в развитии сюжета, по сравнению с первоначальным планом. В основном работа здесь состояла из многочисленных поправок, подчас очень «мелких» и, тем не менее, важных, конкретизирующих и обогащающих первоначальный замысел.
**
*
«Это для меня, пожалуй и для всех других, вещь наибольшей и наилучшей обработки», — писал Маяковский о поэме «Про это» (ПСС 1939, т. II, стр. 507).
Рукописи поэмы дают нам редкую возможность проследить, как происходит эта «обработка» слова, как постепенно отыскивается «в пустующей кассе склонений и спряжений» необходимое слово, а если не находится — поэт создает новые слова.
Процесс словесного оформления замысла сложен, противоречив, подчинен не только рассудку поэта, но, в немалой мере, тому «чувству, развиваемому вместе с опытом», которое «и называется талантом» (ПСС 1939, т. X, стр. 231). Рассказывая о том, как рождалась первая строфа стихотворения «Сергею Есенину», Маяковский замечал: «Разумеется, я чересчур опрощаю, схематизирую и подчиняю мозговому отбору поэтическую работу. Конечно, процесс писания окольней, интуитивней» (ПСС 1939, т. X, стр. 237).
При этом поэт идет как бы «ощупью», часто, сделав шаг вперед, снова отступает назад. Интересно, что рукописи «Про это» запечатлели не только смену различных вариантов, но и внутренние колебания поэта, который не сразу приходит к окончательному решению. Эти колебания начинаются буквально с первых же строк:
[Этой темой] В этой теме и личной и мелкой
повторенной не раз и не пять (1-я рук., л. 6 об.)
Тут же вместо «повторенной» — «перепетой», затем снова — «повторенной» и во второй рукописи уже окончательно — «перепетой» (1-я рук., л. 3).
А вот как затрудненно происходил отбор слова в стихах о номере, который несется по телефонному кабелю:
I | Мясн<ицкую> | |
II | вздымая Мясницкую пашней. | |
III | вспахав Мясницкую пашней. | |
IV | взрыв Мясницкую пашней. | |
V | взмыв Мясницкую пашней. | |
VI | взрыв Мясницкую пашней (1-я рук., л. 3). | |
VII | взмыв Мясницкую пашней. |
Таких примеров, когда вариант отбрасывается, а потом возникает опять и вновь отбрасывается, — очень много. Не проявляется ли и в этом интуитивность творческого процесса, когда мысль-образ не сразу прокладывает себе дорогу? Но при всех колебаниях, даже, казалось бы, нерешительности поэта, мысленно взвешивающего разные варианты и не сразу склоняющегося к окончательному решению, — при всем этом мы чувствуем активную волю поэта, который всегда, пусть «окольным» путем, в конце концов приходит к бесповоротному решению. Говоря о том, как менялась в ходе работы эмоциональная окрашенность поэмы, как углублялся социальный конфликт, как постепенно складывались и оформлялись образы поэта, медведя, Человека, обывателей, химика, олицетворяющего «тридцатый
263
век», — мы, естественно, уже не раз обращались к материалу, связанному с работой Маяковского над словом, над стихом. Теперь, познакомившись с некоторыми существенными моментами движения сюжета, главных образов, мы можем уже непосредственно познакомиться с процессом «словесной обработки».
Н. Н. Асеев в упоминавшейся работе на конкретных примерах показал, как постепенно, от варианта к варианту, стих «сжимался», наполнялся все большей энергией. Действительно, очень часто первый вариант представляет собой своего рода общую, приблизительную формулировку мысли; при этом речь кажется скорее «косвенной», чем «прямой». Затем то, что вначале было намечено схематически, становится более рельефным, живым, непринужденным. Например:
Эта тема день истемнила | ||
I | колотиться велела строчками лбов. | |
II | колотись велела строчками лбов (2-я рук., л. 3)*. |
В первом случае поэт как бы «пересказывает» — тема велела колотиться. Во втором — вы уже непосредственно слышите самый «голос» темы.
Точно так же в сцене встречи с родными фраза, построенная по принципу «косвенной» речи, меняется, речь все более становится «прямой»:
I | Дрожа под<бегают> | |
II | Они подбегают утешить Но я им... (1-я рук., л. 16 об.). | |
III | Подходят | |
Но я им... (1-я рук., л. 17). | ||
IV | — Володя | |
Но я им... (3-я рук., л. 24). |
Читая рукопись, много раз сталкиваешься с такими случаями, когда однолинейная по смыслу, как будто скованная, неподвижная строка начинает оживать, двигаться, пока, наконец, не обретает естественность.
Строка о медведе, чутко вслушивающемся в опасную тишину, записывается сначала так:
I | Обвалом случайны<м> | |
II | Обвалом сорвавшимся лист беспокоит |
И наконец:
III | Сорвался лист обвал беспокоит (1-я рук., л. 8). |
Н. Н. Асеев справедливо замечает по этому поводу: «Описательное „сорвавшийся лист“ заменено, как всегда, действием: „сорвался лист“21. Но, может быть, еще важнее та перемена, которая произошла в общем построении строки. В первом случае перед нами безукоризненно правильная с грамматической точки зрения фраза (не считая небольшой инверсии, которая еще более подчеркивает известную «литературно-книжную» стилистическую окраску фразы). Ритмически она полностью укладывается в правильный размер (четырехстопный амфибрахий). Все это находится в несоответствии с содержанием. Ведь речь идет о напряженной тишине, неожиданно прерываемой звуком падающего листа, который предельно настороженному медведю кажется чуть ли не обвалом.
264
И Маяковский меняет всю структуру фразы. Слова, освобождаясь от строгой грамматической «принудительности», обособляются. В строке появляются внутренние «ступеньки». Во второй рукописи строки записываются так:
Сорвался лист.
Обвал.
Беспокоит (2-я рук., л. 10).
Именно в работе над поэмой «Про это» Маяковский пришел к ступенчатой разбивке строк; это, как мы видим, связано не только с ритмом, но и с грамматическими особенностями фразы, тем «выделением» слов, о котором много писали исследователи, начиная с Р. О. Якобсона22.
Интересно, что, упоминая в каталоге «20 лет работы Маяковского» о поэме «Про это», поэт специально отметил: «Введение новой строки»23. До этого Маяковский пользовался не «лесенкой», а «столбиком». При «столбичной» разбивке слова настолько отделялись друг от друга, что ослаблялось представление о строке как едином целом. Наоборот, стихотворная «ступенька» — часть стиха, выделенная, но не отделенная от других его частей.
Интересно проследить, как практически происходил этот переход от «столбика» к «лесенке». В первой и второй рукописях поэт пользуется только «столбиком». В третьей, начиная с 17-го листа, появляются, сначала в виде отдельных исключений, «ступеньки». Остановимся несколько подробнее на первом случае ступенчатой разбивки.
Еще в первой рукописи, в монологе Человека на мосту, появились слова, обращенные к герою:
Не думай спастись
Это я тебя вызвал (1-я рук., л. 11).
Так же с небольшой поправкой во второй рукописи (2-я рук., л. 14). Желая придать фразе большую энергию, драматическую выразительность, Маяковский в третьей рукописи выбрасывает слово «тебя» и располагает слова так:
Не думай бежать!
Это я
— вызвал (л. 17).
То есть слово «вызвал» он поместил не под предшествующим «это я», а снизу направо, так что единая строка «это я — вызвал» была одновременно и разделена и, в то же время, выделена; она ступенчато вытянулась слева направо, нам ясно видны ее начало и конец. Может быть, Маяковский даже и не обратил внимания на сделанную запись, и все-таки — можно без преувеличения сказать — это было открытием. Последующие строки опять записывались «столбиком», а на следующих листах снова, все более учащаясь, стали появляться «ступеньки»:
...Пока —
по этой
по Невской
по глуби
спаситель любовь
— не придет ко мне... (3-я рук., л. 17—18).
Вторая часть поэмы «Ночь под рождество», начатая было в третьей рукописи «столбиком», затем записывается сплошь «лесенкой» со все более редкими исключениями.
Работа поэта над строкой, проникнутая стремлением усилить живость и непосредственность звучания, «рассвободить» слова, избавить их от
265

ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. М. РОДЧЕНКО ДЛЯ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.
Фотомонтаж
Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва
266
«чрезмерной» грамматической правильности, взаимозависимости, сочеталась с напряженными поисками единственно верного слова, незаменимого никакими другими синонимами.
Вообще говоря, для поэта, ощущающего слово во всей его индивидуальной неповторимости, синонимов как слов равнозначных нет.
«В языке, обогащенном умными авторами, в языке выработанном, — писал Карамзин, — не может быть синонимов; всегда имеют они между собой некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают»24.
С этой мыслью перекликается утверждение Белинского: «В языке не может быть двух слов, совершенно тождественных по своему значению»25.
Думается, что Маяковский согласился бы с этими высказываниями. Он обладает своего рода абсолютным «слухом», почти физическим осязанием слова, способностью различить наряду с главным его значением как бы дремлющие в нем задатки других значений, тончайшие смысловые оттенки. Поэт как бы кладет слово на руку, внимательно оглядывает со всех сторон, переворачивает, смотрит на него в невидимое увеличительное стекло, — и откладывает в сторону из-за, казалось бы, совершенно незначительной мелочи, крошечной неточности.
Один из особенно наглядных примеров — поиски недостающего слова в строфе, которая в печатном тексте читается так:
Тронул еле — волдырь на теле.
Трубку из рук вон.
Из фабричной марки —
две стрелки яркие
..........телефон (IV, 141)26.
Слова, которые мы обозначили точками, пришли не сразу. Речь идет об изображенной на аппаратах тех лет фабричной эмблеме — молниевидных стрелках.
Первый вариант:
I Окружили огнем телефон.
Но «окружили» не передает зрительно-наглядно «зигзагообразности» этих стрелок, так же как и в следующем варианте:
II Обвили огнем телефон.
Не устраивает поэта и новообразование, несколько громоздкое и не очень точное:
III изэлектричили телефон.
Далее записывается:
IV Драконом хранят телефон.
Но сходство изображенных на аппарате стрелок с драконом — весьма отдаленное. Новая поправка:
V Обмотали огнем телефон.
Но «обмотать» можно веревками, нитками, обмотать же что-нибудь огнем — трудно вообразимо. И тогда появляется последний вариант:
VI омолниили телефон (1-я рук., л. 3).
Этот вариант — самый точный, зрительно-наглядный — вместе с тем хорошо передает высокий эмоциональный накал всей сцены (ср., например, с этим эмоционально-безразличное — «обмотали огнем»...)
267
О телефонистке, соединяющей «его» и «ее»:
I | Смотрел внима<тельно>... | |
II | Смотрел осовело барышнин глаз (1-я рук., л. 3). |
«Внимательный» взгляд барышни-телефонистки — это определение нам мало говорит, вернее, мало дает, чтобы представить изображенную картину; «осовело» — это «просторечное» слово сразу передает общую взбудораженную предпраздничную атмосферу («Под праздник работай за двух»), когда непрерывно звонят звонки и когда у телефонисток непрерывный аврал. Добавим к этому, что «смотрел внимательно» — трудно произносимо. Во втором же варианте более ясный ритм подкрепляется звуковым повтором «смотрел осовело...».
Заменяя одно слово другим, Маяковский всегда нейтральному предпочитает активное, стилистически определенное. В эпизоде с родными, когда поэт говорит о вселенском обывательском чаепитии, вначале записываются такие строки:
Сахара смотрите смотрите курчавый | ||
I | С своей негритоской пьет чай негритос (1-я рук., л. 16 об.). | |
II | ...чаи с негритоскою пьет негритос (1-я рук., л. 17). |
Затем, во второй рукописи
III | ...лакает семейный чай негритос | |
IV | ...лакает семейкой чаи негритос (2-я рук., л. 21). |
От стилистически нейтрального «пьет чай» — к ясно выражающему отношение автора и обобщенному — «лакает чаи». Нетрудно увидеть, насколько более органичен последний вариант в общем контексте — в гневном монологе о «цыплячьей любви», обывательщине, опутавшей чуть ли не все мироздание.
История строки о «цыплячьей любви» не менее выразительна. Вот последовательные варианты:
I | О будьте вы прокляты гнезда наседок (1-я рук., л. 16 об.). | |
II | Любвишку цыплят и любвишку наседок (1-я рук., л. 17 об.). | |
III | Любовь цыплят Любовь наседок | |
IV | Любовь цыплячья | |
V | Каких цыплят? | |
VI | Любовь цыплячья? | |
VII | Любовь цыплячья! |
В первом варианте дается еще «однолинейное» определение. Затем представления о «любви» и о «куриных» масштабах сливаются в целостный двуединый образ. Вместо «любовь цыплят» Маяковский избирает вариант «любовь цыплячья». Это сильнее: в первом случае дается ответ на вопрос: «Чья любовь?», во втором — на вопрос: «Какая любовь?» Долго колебался поэт между словами: «любовь» или «любвишка»? И в конце концов, после долгих колебаний остановился на том и на другом: сначала «любовь цыплячья» — здесь резче контраст двух понятий. В выражении «любвишка цыплячья» он не ощущается так ясно, потому что «любвишка» — это уже что-то «цыплячье», а затем «любовь», как бы осмеянная и скомпрометированная, сжимается, естественно становясь «любвишкой».
В первом варианте интонация несколько риторическая, «декларативная»; в последнем — более сдержанная, язвительная, саркастическая.
268
Поиски нужного слова чаще всего приводят не только к слову самому точному, но, в данном контексте, — самому богатому, многостороннему по смыслу, интонации. Вот как обогащается интонация слова в смене вариантов:
I | Мой отец и столбовой и дворянин | |
II | ...я до дна стихами исчерпаю дни | |
III | ...я до дна стихами вычерпаю дни (1-я рук., л. 33—34). | |
IV | ...Может |
Нельзя не почувствовать, как осложнилась, насколько богаче стала интонация, какой тонкой иронией наполнились строки, где слова о столбовом дворянине и тонкой коже столкнулись с просторечным — «выхлебаю».
Отношение Маяковского к слову, его необычайная чуткость, умение ощутить слово во всей комплексности его смысловых, ассоциативных, интонационных, ритмических, звуковых особенностей — тема далеко еще не до конца изученная исследователями. Мы часто справедливо говорим о том, как Маяковский сознательно снижал поэтический стиль, обращаясь к самым обычным, разговорным, ходовым словам и выражениям. Но в том и состоит важнейшая черта его стиля, что стремление к разговорно-ходовому сочеталось у Маяковского с неприятием всего безличного, штампованного, «захватанного». Умение найти неповторимо-личное, свое в живой стихии разговорного языка — вот, что отличает его работу.
Маяковский стремится поставить слово в строке так, как будто это слово именно для данного конкретного случая и создано. Отсюда — закономерность его обращения к новым словам, неологизмам, которые у него почти никогда не повторяются.
О неологизмах Маяковского говорилось много. Одни исследователи упрекали его за них, другие, наоборот, защищали. Давно пришло время перейти от чисто эмоциональных оценок к анализу того, как в каждом конкретном случае возникает поэтическая необходимость нового слова. Рукописи «Про это» и здесь дают нам богатый материал, к которому в этой связи писавшие о Маяковском почти не обращались.
Самое интересное состоит в том, чтобы проследить, как возникает неологизм, почему поэт вдруг решает к нему обратиться.
Читая рукопись, обнаруживаешь такую особенность: как правило, неологизм не появляется сам по себе. Сначала записывается старое, привычное слово, а затем, отталкиваясь от него или переделывая его, поэт начинает «добираться» до нового слова, рождающегося как бы на почве старого.
Обратимся к тому месту первой черновой рукописи, где возникает образ косматого чудовища — медведя, выползающего из шнура:
А может быть и это может
никто из шнура не лез и не лезет
и нет ничьей чудовищной рожи
себя в полированном вижу в железе* (1-я рук., л. 6 об.).
Перенося строки с оборота на лицевую сторону листа, Маяковский записывает так:
Нет ничьей чудовищной рожи
А я в телефонном зеркалюсь железе (1-я рук., л. 7).
269
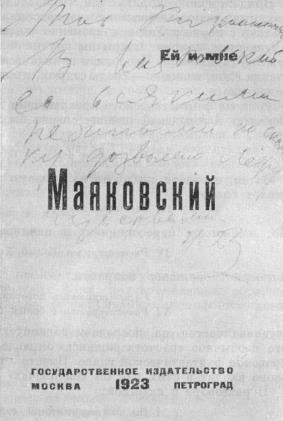
ПОЭМА «ПРО ЭТО» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ МАЯКОВСКОГО К. С. КУЗЬМИНСКОМУ
«Тов. Кузьминскому В. Маяковский со всякими нежными, поскольку дозволено Лефу, чувствами. 2/X 23»
Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва
Новое слово найдено. Затем начинается доработка всей строки:
Я сам в телефоне зеркалюсь в железе...
А зеркалюсь сам в телефонном железе...
Сам в телефоне.
Зеркалюсь в железе (2-я рук., л. 9).
При любом варианте слово «зеркалюсь» остается*.
Можно привести много примеров того, как вначале записывается «правильное» слово или оборот (вроде — «себя вижу»), на месте которого затем возникает неологизм («зеркалюсь»).
Герой говорит о свивших гнездышки под «огнеперым крылом» Октября, о семействе:
Расставила тихо в эмалях посудины
И сеть паутины не расчешешь колом... (1-я рук. л. 16 об.).
Во второй рукописи начинается правка:
...Кудрей паутин не расчешешь колом...
...Волос паутин не расчешешь колом...
И, наконец:
Паучьих волос не расчешешь колом... (2-я рук., л. 22)**.
270
Вряд ли можно спорить с тем, что последний вариант — самый сильный. Неологизм «паучьи волосы» вызывает ассоциацию уже не столько с паутиной, сколько с пауком. Так одновременно связывается представление о чем-то запущенном, старом, покрытом паутиной и, вместе с тем, вызывающем чувство гадливости. Неологизм появляется не сразу, но увенчивает собой поиски слов, вначале — среди старых, привычных, после чего и возникает новое слово.
В сцене фантастического превращения бёклиновской картины «Остров мертвых» в городской пейзаж сперва были записаны слова:
I | ............Харон | |
II | Рассыпался вчетверо белый Харон (1-я рук., л. 21 об.). |
Затем, перенося с оборота на лицевую сторону листа, Маяковский начинает слово:
III | Рассыпал<ся>... |
Но, недописав, перечеркивает и начинает строку по-новому:
IV | Расчетверился белый Харон... (1-я рук., л. 23). |
И после нескольких поправок:
V | Расчетверившись посеревший Харон. | |
VI | Расчетверившись белый Харон, — |
останавливается на последнем варианте. Опять-таки, можно сказать, что необычное «расчетверившись» оправдано, естественно выглядит в откровенно фантастической главе. Вместе с тем, опять мы видим, что новое слово входит в стих как бы «на плечах» старого.
В разговоре с любимой:
I | Но дым квартирный сердце не выел (1-я рук., л. 25 об.). | |
II | Он жизнь дымком квартирошным выел (1-я рук., л. 26). |
Под пером Маяковского слово перестает быть только наименованием, терминологическим обозначением предмета, оно как бы постепенно «обживается», утрачивает словарную «официальность», все больше обретает индивидуальность и неповторимость.
**
*
О ритме стихов и поэм Маяковского написано тоже немало. Главная задача, которую обычно ставят перед собой исследователи, состоит в том, чтобы отыскать самый принцип осуществления стихотворного ритма. Большинство из них склоняется к выводу, что у Маяковского доминирует тонический стих. Однако, сосредоточивая преимущественное внимание на изучении тонического принципа стихосложения в творчестве Маяковского, исследователи мало занимались изучением того, что сам поэт называл «полифоническим ритмом».
Изучая стих Маяковского, недостаточно исследовать тонический принцип стихосложения. Необходимо проследить, как развивается ритм на протяжении всего стихотворения или поэмы, как сочетаются в одном произведении различные ритмы и чем обусловлены их перемены, перебои, нарушения и т. п. Отличие стиха Маяковского от стиха его предшественников не только в том, что, скажем, «Евгений Онегин» написан силлабо-тоническим стихом, а «Хорошо!» — тоническим. Отличие еще и в том, что «Евгений Онегин» построен на одном размере, а поэма «Хорошо!» — на многообразии ритмов, не связанных с каким-то одним размером.
Самая перемена ритма является у Маяковского важнейшим средством выразительности. Это связано с самим характером читательского восприятия
271
стиха. Дело в том, что, читая стихотворение, произнося его вслух, вслушиваясь, мы очень быстро внутренне «приноравливаемся» к ритму стиха, «осваиваем» его, так что он уже кажется нам естественным, привычным. Смена ритма — своего рода эмоциональный толчок, встряска. На «фоне» прежнего ритма, как бы ожидаемого нами по инерции, с тем большей резкостью, ощутимостью выделяется новый, изменившийся ритм, выразительный не «сам по себе», но именно в соотнесении с прежним. Маяковский как никто владеет секретами читательской реакции на динамику стиха. Самое ненавистное для него — ритм механический, убаюкивающий своим однообразием. Борьба Маяковского со штампами в поэтическом языке продолжалась в области ритма. Работая над стихом, он настороженно следит, чтобы не повторять привычных «ходов», не соскальзывать на хорошо накатанную дорожку. В этом смысле характерно замечание в статье «Как делать стихи»:
«Вы ушли в мир в иной.
Нет! Сразу вспоминается какой-то слышанный стих:
Бедный конь в поле пал» (X, 233).
Изучение рукописей «Про это» помогает наглядно увидеть поиски ритма, столкновения различных ритмических форм, подчеркивающие образно-смысловой контраст, динамическое развертывание «полифонического» стиха.
Удивительно точно найден Маяковским размер первых строк вступления «Про это»:
В этой теме и личной и мелкой,
перепетой не раз и не пять,
Я кружил поэтической белкой
и кружиться буду опять (1-я рук., л. 6 об.).
Интонация этих строк иронична. Называя тему «и личной и мелкой», Маяковский, в сущности, хочет сказать: эта тема кажется личной и мелкой. На самом деле это не так. «Мелкость» темы опровергается в следующих же строках. И это опровержение подчеркивается ритмически.
Прочитайте вслед за приведенной строфу:
Эта тема сейчас и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяина нож
Если Марс населяет один сердцелюдый
то и он сидит и скрипит про то ж (1-я рук., л. 1).
Вместо подчеркнуто правильного, «облегченного», укороченного размера в первой строфе («В этой теме и личной и мелкой...») — словно раздвинувшийся, ставший более «весомым», значительным во второй («Эта тема сейчас и молитвой у Будды...»). Так с первых же строк пользуется Маяковский перебоем ритма, подчиняя его задаче смысловой выразительности.
Интересна дальнейшая работа над отдельными строками. В первом четверостишии главная нагрузка — на четвертой строке. Вначале она была записана так:
I Покружил и кружусь опять
Интонация явно не та — как будто речь идет о забаве. Строка переделывается:
II И кружиться буду опять (1-я рук., л. 6 об.).
И, наконец, во второй рукописи:
III И хочу кружиться опять (2-я рук., л. 1).
272
Слово «хочу» сильнее, чем просто «буду». И это самое важное в строке слово выделено ритмически. После него обязательно надо сделать паузу — иначе стих «сломается». Ведь вся строфа как бы соотнесена с правильным размером (трехстопный анапест). Чтобы выдержать его, мы должны после «хочу» на миг остановиться и тем самым возместить недостающий слог:
...я кружил поэтической белкой
и хочу... кружиться опять
Во втором четверостишии не закончена работа над второй строкой:
Эта тема сейчас и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяина нож...
Во-первых, это не очень хорошо звучит, «на хозяина нож». Во вторых, вся эта строка слишком строго выдерживает размер, чересчур правильна и спокойна, что́ никак не соответствует ее смыслу. Во второй рукописи Маяковский вносит маленькую, но далеко не малозначительную поправку.
и у негра вострит на хозяев нож.
Дело не только в смысловом изменении. Теперь, читая строку, мы обязательно сделаем паузу перед словом «нож».
Во втором четверостишии уже определился ритм, который пройдет сквозь все вступление, прорезанный паузами, одновременно и тревожный, и настойчивый, энергичный ритм, близкий к четырехстопному анапесту. В последней строфе движение стиха затормаживается, каждое слово становится особенно весомым:
Эта тема день истемнила и в темень
колотиться велела строчками лбов
имя этой теме
любовь (1-я рук., л. 2).
Движение стиха здесь постепенно замедляется, приобретая все бо́льшую значительность. В третьей строке, вместо ожидаемых четырех ударений, — три, каждое из трех слов звучит особенно сильно Во второй рукописи они уже выделены графически:
Имя
этой
теме:
Последнее слово — «любовь» — угадывается, предопределенное смелой и точной рифмой «лбов — любовь». Во второй рукописи оно заносится в текст, а потом вычеркивается карандашом. Не названное, оно зазвучало с еще большей значительностью.
Интересно, что сознательно не произнесенное, обозначенное точками в начале поэмы, слово «любовь» с огромной силой и громозвучностью произносится в конце:
Что б не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Посте́ли прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь (IV, 184).
Вернемся, однако, к ритму поэмы. Мы говорили о его «полифоничности». Дело не только в частых перебоях, контрастах. В полиритмии поэмы можно обнаружить свою закономерность. У отдельных героев произведения есть своя ритмическая «тема» — подобно музыкальной теме в опере
273
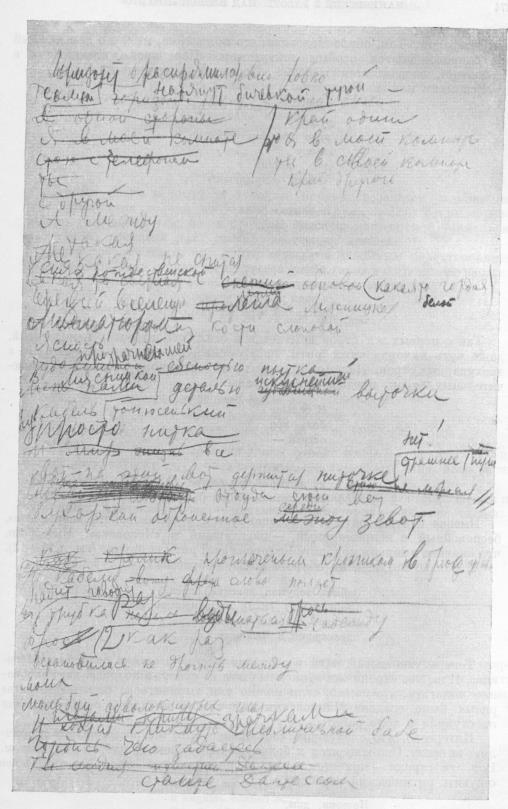
ЛИСТ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
274
или симфонии. Так, образ Человека, его появление, мысли о нем каждый раз сопровождаются особым лейтритмом. «Переплеск», плескавший в «Человеке», воссоздается в поэме «Про это» и ритмически27.
Вспомним начало «Человека»:
Звенящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий,
слышу
твое, земля:
«Ныне отпущаеши!»
В ковчеге ночи
новый Ной,
я жду —
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари (I, 245).
Так с первых же строк врывается в стих беспокойный, прерывистый, даже чуть лихорадочный ритм, построенный на чередовании четырех- и трехударных строк. Далее он проходит сквозь всю поэму, вплоть до заключительных строк предпоследней главы:
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви (I, 272).
Именно с этим ритмом и ассоциируется у Маяковского «переплеск», беспокойный и непримиримый, — плескавший в «Человеке». Интересно, что сначала в первом монологе Человека этот ритм не звучал (см. л. 11—12).
И только позднее, на обороте л. 23, набрасываются строки:
Забыть задумал невский блеск
[Замени<шь> [Его] Ее заменишь некем
По гроб запомни переплеск
плескавший в Человеке.
Теперь уже самый ритм воссоздает ведущую «тему» из поэмы «Человек». И то, что строки эти записаны были не сразу, а позднее, дает основание полагать, что самая, если можно так выразиться, «лейтмотивность» ритма была создана Маяковским не с самого начала — она постепенно проступала в ходе работы.
Интересно, что следующие «появление» того же ритма также оформилось не сразу. Оно относится к более позднему времени работы над текстом. Вот эти строки — приведем их с предшествующей строфой, чтобы яснее ощутить ритмический перебой.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступеней последок. —
275
Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок! —
Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками подмышками.
Строфы «Бегу и вижу...» в тексте первой рукописи вообще нет. Она появляется только во второй (см. 2-ю рук., л. 22). Таким образом, можно говорить о том, что в процессе работы над поэмой Маяковский постепенно усиливал роль ритмического лейтмотива.
Выше мы отмечали, что поэт пользуется «двойным повествованием», одновременно, как в кино, чередуя «кадры» о герое и о Человеке на мосту. Это выражено чередованием двух ритмических мотивов:
Ногам вперекор тормозами на быстрые
вставали стены окнами выстроясь.
По стеклам тени фигурками тира
вертелись в окне зазывая в квартиры.
С Невы не сводит глаз
продрог
стоит и ждет помогут
За первый встречный за порог
закидываю ногу (1-я рук., л. 19).
Маяковский даже не говорит здесь, кто «с Невы не сводит глаз», ибо самый ритм служит здесь обозначением действующего лица, если можно так сказать, заменяет собою подлежащее.
Различие ритмических мотивов подчеркивается и строфическим построением: в первом случае — двустишия, во-втором — четверостишия:
В матрац поздоровавшись влезли клопы
На вещи насела столетняя пыль.
А тот стоит в перила вбит
Он ждет
он верит — скоро.
Я снова лбом
я снова в быт
вбиваюсь слов напором (2-я рук., л. 27).
Особенной силы и выразительности достигает ведущий ритм — «переплеск» в сцене, когда герой, напрасно пытавшийся убедить, уговорить, «разагитировать» гостей мужа Феклы Давидовны, вдруг вспоминает о последней надежде на спасение — о любимой.
...Расчетверившись белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн
Так с топором влезают в сон
наметят спящелобых
и сразу исчезает всё
и видишь только обух.
Так барабаны с улиц в сон
войдут и сразу вспомнится
что вот тоска и угол вон
за ним она виновница (1-я рук., л. 23).
276
Как видим, сквозной ритм не монотонен. Пронизывая всю поэму, он одновременно и устойчив, и динамичен. Нельзя не почувствовать разницы в звучании строк:
Со сна
чуть видно —
точка глаз
иголит щеки жаркие... (IV, 143).
А тот стоит —
в перила вбит.
Он ждет,
он верит:
скоро!.. (IV, 164—165).
Так барабаны улиц
в сон
войдут,
и сразу вспомнится... (IV, 166).
В первом случае — тревога еще только «тлеет», как бы отягощена бытом, житейскими подробностями. Во втором — ритм становится более четким и энергичным, что выразительно подчеркнуто внутренними рифмами, единоначатиями и т. п. В третьем — движение стало еще более ускоренным и напряженным (важная деталь: главное ударение падает здесь не на первую и не на вторую «стопу», а на третью)*.
Герой входит в комнату любимой, переполненную гостями, исшарканную танцами. Тревожный «лейтритм» заглушен пьяной болтовней гостей, поклонников. И кажется, что сама форма простейшего двустишия хорошо передает примитивность застольной болтовни:
И снова пьяное
Ну и интересно
Так говорите пополам и треснул
Должен огорчить как ни грустно
Не треснул говорю а только хрустнул (1-я рук., л. 26).
С тем большей неожиданностью снова возникает совсем было заглушенный ритм — в страстном призыве к любимой:
Приди,
разотзовись на стих.
Я, всех оббегав, — тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!
Бежим к мосту! — (IV, 170).
И здесь Человек прямо не назван, но ясно ощутим именно благодаря ритму: наглядный пример, что ритм может выступать как важная опорная точка поэтического образа.
Говоря о конструктивной роли ритма в создании образа, следует подчеркнуть, что речь идет не о размере, а о его живом, конкретном наполнении, о ритме — индивидуальном и неповторимом. Иногда, казалось бы, совсем малозначительные перемены в движении стиха оказываются действенными, активно участвуют в достижении общего образно-смыслового итога.
277
Сравните две строфы из сцены расправы обывательщины с поэтом:
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеща!
И так я калека в любовном боленьи.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа (IV, 176).
Казалось бы, обе эти строфы написаны в одном и том же ритме. Но после нарочито грубоватой, нарушающей «схему» амфибрахия строки: «Слухом в ухо! Хватай, клевеща!» — какой нежной и по ритму и по звучанию кажется безукоризненная: «И так я калека в любовном боленьи». Возвышенность, одухотворенность этой и последующих строк подчеркивается и выразительной контрастной рифмой «ушат — душа», в которой отражается общий конфликт (ср. с этим: «хлебов — любовь»). И после трех ритмически «правильных», чуть напевных, возвышенно лирических строк уже почти «бесплотной», прозрачной кажется последняя строка с ее повторениями и «воздушными» паузами:
Я только стих,
я только душа*.
Говоря о развертывании «полифонического» ритма в поэме, особенно хочется остановиться на переходе к третьей, заключительной, части. Здесь Маяковский обращается к совершенно новому ритму. До сих пор варьировались две основные ритмические формы: сквозной, родственный ямбу ритм, о котором уже шла речь, и близкий к амфибрахию, четырех-ударный ритм28. Теперь же, с первых строк заключения, возникает стих, связанный с хореем. Постепенно он все больше освобождается от напряженности, нервной лихорадочности, обретает все большую свободу, плавную, увлекающую раздольность, широту:
Пусть во что хотите жданья удлинятся...
Или — совершенно немыслимые с точки зрения традиционного стихотворства какие-то бесконечные строки:
Может, может быть когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей
И она, она зверей любила, тоже ступит в сад
Улыбаясь вот такая как на карточке в столе... (1-я рук., л. 37).
278
В последних строках поэмы «хореический» ритм естественно, как-то незаметно для читателя, переходит в ямб — мощный, уверенный, а в последних строках особенно отточенный:
Воскреси
хотя б за то что я поэтом
ждал тебя не грязнул, будням в чушь
Воскреси меня хотя за это —
Воскреси
свое дожить хочу
чтоб не было любви служанки
замужеств похоти хлебов
постели прокляв
встав с лежанки
чтоб всей вселенной шла любовь (1-я рук., л. 38).
В последней строфе поэмы стих ритмически особенно «полновесен» — мы не найдем здесь ни одного пропуска ударения (пиррихия), ни одного перебоя:
Чтоб жи́ть не в же́ртву до́ма ды́рам
Чтоб мо́г в родне́ отны́не ста́ть
Оте́ц по кра́йней ме́ре ми́ром
Земле́й по кра́йней ме́ре ма́ть.
Эти строки — как последние ноты мажорного финала симфонии. Структурная четкость, рельефность ритмического рисунка выразительно сочетаются здесь с ясностью синтаксического построения, параллелизмом строк, единоначатиями, повторениями слов.
Ритм стиха подчеркивает значительность последних строк, увенчивающих поэму, усиливает весомость заключительных слов, поэтического итога, утверждающего идею братства свободного человека со всем миром.
Известно высказывание Маяковского о рифме в статье «Как делать стихи»: «Я всегда ставлю самое характерное слово в конце строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало» (X, 236).
В этих словах не только выражено отношение поэта к рифме, но и очень точно передан самый порядок, последовательность работы над строкой. Первым обычно в рукопись заносится последнее слово строки, связанное рифмой с соответствующим словом другой строки. Нам уже приходилось с этим встречаться. Но раньше нас интересовала не сама рифма, а общий процесс оформления поэтического замысла. Теперь остановимся именно на возникновении рифмы — характерного слова, которое как бы «вытягивает» за собой всю строку*.
Обратимся к уже знакомому нам примеру: на обороте л. 9, где набрасываются строки, связанные со встречей героя и Человека на мосту, появляются четыре слова:
гонит
бег
фоне
человек (1-я рук., л. 9).
В этих рифмах уже схвачены важные контуры будущей строфы, в них уже дает себя знать ощущение неизбежности столкновения Человека на мосту и героя, увлекаемого неудержимым течением. После того как
279
поставлены на свое место рифмы — характерные слова, Маяковский как бы «ведет» к ним всю строку. Не будем останавливаться на отдельных вариантах. Выше нам уже приходилось говорить о них. Сейчас нас интересует роль рифмы как некоего «ведущего начала» в строке.

МЕДВЕДЬ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «ПРО ЭТО»
Рисунок А. Г. Тышлера, 1936 г.
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
Вспомним слова из «Разговора с фининспектором о поэзии»:
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка, —
и город
на воздух
строфой летит
(ПСС 1939, т. VIII, стр. 29).
Именно потому, что для читателя рифма должна увенчать собой всю строку или, пользуясь более активным выражением Маяковского, «взорвать» ее, — именно поэтому запись строки начинается с «конца». Рифма и является тем ориентиром, который определяет работу над строкой.
280
Иногда поэт отказывается от рифмы именно потому, что она недостаточно «характерна». На одном из первых листов черновой рукописи появляется запись:
А причем телефон надежда дурман
[Он в несчастьи] телефон соломинка ясно
А при чем в этой драме тюрьма
[Это вас совершенно] Это никого кроме
меня не касается это дело мое частное (1-я рук., л. 3).
Затем вся строфа перечеркивается и записывается заново, уже на новых «опорных точках» — рифмах:
[Причем] где тюрьма рождество кутерьма
[без решеток оконце] где решетки в окошке домика
Это вас не касается говорю тюрьма
[На столе.] Стол. Телефон-соломинка (1-я рук., л. 3).
Вместо прежних рифм: «дурман — тюрьма, ясно — частное» перед нами новые: «кутерьма — тюрьма, домика — соломинка». В рифме «кутерьма — тюрьма» уже явственно ощутим тот трагический контраст, который связан с общим конфликтом поэмы: с одной стороны, рождественское веселье, шум, суетня, с другой — поэт, непримиримый к обывательской жизни и быту. И рифма «домика — соломинка» также является гораздо более сильной, непосредственно связанной с контекстом, нежели более расплывчатая, нейтральная рифма «ясно — частное».
Общая конфликтность поэмы очень ярко отразилась на работе рифм: они как бы «выносят» на себе контрастно сталкивающиеся образы и картины.
В первой рукописи сначала записывается: «брюшко — петушком» (1-я рук., л. 9 об.). Затем — «брюшко — петушком — касте — счастье» (1-я рук., л. 10 об.). И начинает складываться строфа, где «счастье» как бы «скомпрометировано», его со всех сторон сдавливают чужие слова. И самое счастье наполняется грустным и горьким смыслом — это не счастье, а нечто действительно созвучное сытому и жирному мещанскому бытику.
Ты может быть к ихней примазался касте
целуешь ешь отпускаешь брюшко
сам в ихний быт в их семейное счастье
рассчитываешь пролезть петушком (1-я рук., л. 10 об.).
Но зато как изменяется это соотношение между счастьем, любовью, «душой» и — всей этой «будничной чушью» в конце поэмы.
Чтоб не было любви служанки
замужеств похоти хлебов
постели прокляв
встав с лежанки
чтоб всей вселенной шла любовь (1-я рук., л. 38).
Раньше «счастье» тонуло в обывательском мирке, здесь же «любовь» решительно отбрасывает все, что связано с этим мирком, словно перечеркивает его. То же самое соотношение между контрастными словами в последней строфе:
Чтоб жить не в жертву дома дырам
Чтоб мог в родне отныне стать
Отец по крайней мере миром
Землей по крайней мере мать (1-я рук., л. 38).
Можно сказать, что рифма для Маяковского — слова, связанные не только созвучием, но смыслом, ассоциацией, идейной перекличкой или
281
контрастом. Записывая данное слово, Маяковский одновременно думает и о другом, связанном с этим словом рифмой. Отсюда — частые описки — два слова как бы сливаются в одно: «удела» (имеются в виду «удила́») — «дела» (1-я рук., л. 2). Иначе говоря, записывая «удила», он сразу же думает и о «делах».
Или:
Горничная не узнала
говорит медоведь
Медведь (1-я рук., л. 14 об.).
Затем:
а говорят медведь
и пошла любезностями медоведь (1-я рук., л. 18 об.).
Далее, «медовеет» в комплиментах уже не горничная, а хозяин — именно он, а не она, должен олицетворять собою все это логово, весь этот сытый и слащавый быт:
Это Маяковский
хорош медведь
И пошел и пошел в комплиментах медоветь
Затем:
Господа Маяковский.
Хорош медведь
Пошел хозяин в комплиментах медоветь (1-я рук., л. 18 об.).
Медведь — страдающее, раненое существо противопоставлен здесь «всегдашнему, приторно-сладкому», надоедливо-липкому и неотвязному.
Одно слово может возвышать другое слово, может и отталкивать и снижать, осмеивать, «передразнивать». Иначе говоря рифма оказывается одним из активных средств раскрытия смысла, создания поэтического образа.
**
*
Несколько выводов.
Поэма «Про это» — не частный эпизод в творческом развитии Маяковского. Она представляет собою важный и органический момент в его борьбе за новый уклад жизни, в его последовательном стремлении неразрывно связать свою судьбу с «краснофлагим строем».
То, что может показаться внезапным «взрывом» эмоционально-лирической стихии, на деле исподволь подготовлялось в период 1918—1922 гг. (стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Спросили раз меня...», поэма «Люблю», пролог «IV Интернационал»).
Рукописи поэмы имеют исключительную ценность. Они помогают более глубоко и многосторонне понять идейное содержание поэмы, ее «творческую историю», дают возможность проследить, как конкретно происходит «мышление в образах», как постепенно осуществляется «обработка» слова.
Основные линии работы над поэмой, как они прослеживаются по рукописям, следующие.
Работая над текстом, Маяковский одновременно набрасывал начерно строки (или отдельные заготовки), связанные с последующим развитием сюжета. Еще не дописанная, поэма уже воспринималась им как некое целое, представала в его сознании в общем объеме.
Третья, заключительная, часть вырастала в процессе работы над двумя первыми частями (закрепляясь в предварительных набросках).
282
Сопоставляя между собой многочисленные отдельные поправки, мы видим их внутреннюю взаимосвязь и закономерность: в процессе работы Маяковский освобождался от мелодраматичности, от налета «ужасного», «чудовищного», «страшного», идя ко все более глубокому раскрытию внутреннего драматизма повествования.
С этим связано и последовательное стремление поэта к расширению рамок изображения, к выходу за пределы автобиографической замкнутости.
Вместе с тем, отвлеченное изображение обывательщины как некоего вневременного понятия уступает место все более конкретному историческому раскрытию образов, передающих социальную атмосферу, отмеченных признаками данного времени.
Значительные изменения претерпел образ центрального героя. Вначале нарисованный неким трибуном, человеком «силы вселенской», он затем все более осложняется, явственнее проступает известная «сопричастность» героя к старому быту, которую он преодолевает в решительной борьбе — одновременно и с противниками и с самим собой.
Особое значение имеет карандашная правка и вставки в процессе работы над второй рукописью.
В соответствии с общим развитием сюжета, движущегося от «личного и мелкого» к идее братства и товарищества со всем миром, преобразуемым революцией, происходит и движение отдельных образов (образ медведя, Человека из-за семи лет), как бы устремляющихся к поэтическому выводу о «всей человечьей гуще», о «всей вселенной».
Рисуя столкновение поэта и обывательщины, Маяковский отказывается от эпизодов, притуплявших социальную остроту конфликта (эпизод с крестьянами). Отбрасываются также строки, в которых звучала мысль о бессилии поэта, о невозможности воздействовать на «тыщи читающих».
Все более конкретным представал в процессе работы образ будущего (см. изменение в обрисовке «большелобого, тихого химика» и др.). Заключительные строки поэмы, имевшие вначале несколько ограниченный смысл, подверглись затем существенной правке (ср. «Чтоб вся на мой первый крик: товарищ!» — «Чтоб вся на первый крик: товарищ!» и др.).
Поэма, «вещь наибольшей и наилучшей обработки», претерпела большое количество переделок, поправок, усиливающих ее художественную действенность и выразительность. Рукописи дают нам редкую возможность проследить, как постепенно все бо́льшую живость и непосредственность обретала строка, как происходили поиски слов, как возникали неологизмы.
Именно в процессе работы над поэмой «Про это» Маяковский пришел к ступенчатой разбивке стиха («лесенка»), сменившей разбивку «столбиком».
Осуществляя «полифонический ритм» (выражение самого Маяковского), он пользуется «лейтритмом», который, подобно музыкальной теме, сопровождает появление действующего лица (ритмическая тема Человека, усиливавшаяся в ходе работы).
Богатейший материал дают рукописи для понимания «работы» рифмы. Записи рифм представляют собой не просто заготовки впрок — как правило в них уже заключено зерно последующего развития образа. Именно с рифмы часто начинается запись строки.
Наблюдения, связанные с работой поэта над языком, ритмом, рифмой, звукописью, приводят к выводу о целостности произведения, где различные художественные элементы связаны единым замыслом, единой задачей, выступают в дружном взаимодействии.
283
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Г. Лелевич. Владимир Маяковский. Беглые заметки. — «На посту», 1923, № 1 (июнь), стр. 136.
2 Н. Чужак. К задачам дня. Статья дискуссионная. — «Леф», 1923, № 2 (апрель — май), стр. 150—151.
Спустя несколько времени Н. Чужак снова обрушился на поэму. По его словам, Маяковский, «якобы разоблачая неприятный быт, сам целиком в плену у этого быта» («От иллюзий к материи». — В кн.: «За новое искусство. Всероссийский пролеткульт». М., 1925, стр. 116).
Интересно, что за первый отзыв Н. Чужака сразу же ухватились напостовцы. С. Родов, приведя слова Чужака, обращал вывод о «безысходности» ко всему Лефу, в том числе и к Маяковскому (С. Родов. Как леф в поход собрался. — «На посту», 1923, № 1, стр. 54). На выпады С. Родова лефовцы ответили статьей Голкора «Критическая оглобля» («Леф», 1923, № 3, июнь — июль, стр. 13—17).
К отрицательному отзыву о поэме Н. Чужака присоединился Н. Горлов. В статье «О футуризмах и футуризме» он писал:
«В поэме Маяковский разделился пополам, и Маяковский-революционер оказался на побегушках у Маяковского, пришедшего „из-за семи лет“.
Любовь, когда-то поднявшая Маяковского до революции, теперь шарахнула его вниз к медведю». — «Леф», 1924 (фактически вышел в 1923 г.), № 4, август — декабрь, стр. 15.
3 Вадим Шершеневич. Великолепная ошибка. — «Гостиница для путешествующих в прекрасном», 1922, № 3.
4 См., например, рецензию Сергея Спасского на книги «Люблю» и «Маяковский издевается»: «Внутренняя слепота, неумение изнутри уловить и понять ритм смысла современности завели его в тупик...» («Гостиница для путешествующих в прекрасном», 1922, № 1).
5 И. В. Грузинов. «Леф № 1» <рецензия>. — «Гостиница для путешествующих в прекрасном», 1923, № 2.
Добавим к этому не менее мрачные отклики на страницах журнала «Книга и революция»: «Индивидуалистическая поэма, посвященная „ей“ и „мне“...» (П. Д. Жуков. Левый фронт искусств. — «Книга и революция», 1923, № 3, стр. 44). См. также в альманахе «Чет и нечет»: «У Маяковского замечается некоторое падение лирической силы — „Про это“» (Ф. Вермель. Поэзия наших дней. — «Чет и нечет». Альманах поэзии и критики. Авторское издание. М., 1925, стр. 32).
Редактор «Красной нови», А. Воронский, вначале было встретивший поэму довольно снисходительно, почти даже сочувственно, затем также сомкнулся с остальными критиками. Он писал: «Поэма пропитана чувством ледяного одиночества», представляет собой «возвращение к теме, узкой и мелкой» (А. Воронский. На перевале. — «Красная новь», 1923, № 6, стр. 320—321; см. также: А. Воронский. Маяковский. — В его книге: «Литературные портреты в двух томах», т. I. М., 1929, стр. 380, 389).
«Возврат к старому» увидел в поэме В. Полонский. По его мнению, она «как бы откололась от массива дореволюционного творчества поэта» (Вяч. Полонский. О Маяковском. М. — Л., 1931, стр. 64, 82).
6 Катанян, стр. 182. — К перечисленным В. Катаняном отзывам А. В. Луначарского о «Про это» добавим статью «Наши поэты» («Вечерняя Москва» от 24 января 1927 г.).
Особое место занимает речь А. В. Луначарского «Маяковский-новатор», произнесенная в Коммунистической академии на вечере памяти поэта 14 апреля 1931 г. (см. в его книге: «Классики русской литературы», М., 1938). Оценка поэмы тут тесно переплетена с глубоко ошибочным положением о «двойничестве» поэта. Здесь, однако, не место останавливаться на этом подробно.
7 О. Бескин. Общественное и личное в лирике Маяковского. — «Лит. критик», 1934, № 4, стр. 103; Н. Плиско. Владимир Маяковский. ПСС 1934, т. I, стр. XIII.
8 Н. Н. Асеев. Работа Маяковского над поэмой «Про это». — ПСС 1934, т. V, стр. 21.
9 В. Перцов. Этюды о советской литературе. М., 1937 (гл. IV. Маяковский-социалистический просветитель); В. Азаров. «Про это». — «Звезда», 1938, № 1; А. Дымшиц. Владимир Маяковский. Творческий путь поэта. — «Звезда», 1940, № 10, стр. 220; А. Метченко. Творчество Маяковского 1917—1924 гг. М., 1954, гл. «По личным мотивам об общем быте» («Про это»), стр. 394—457.
10 Л. Ю. Брик. Из воспоминаний о стихах Маяковского. — «Знамя», 1941, № 4, стр. 233.
11 ПСС 1939, т. II, стр. 328.
12 ПСС 1934, т. V.
13 ПСС 1939, т. VI. Подготовка текста и комментарии к поэме В. Катаняна.
14 Полн. собр. соч. Маяковского. М., 1957, т. IV. Подготовка текста и примечания В. А. Арутчевой и З. С. Паперного.
284
15 В. В. Тренин и Н. И. Харджиев. В мастерской стиха. Заметки о работе Маяковского над поэмой «Про это». — «Лит. критик», 1933, № 7, стр. 134—159.
16 Н. Н. Асеев. Работа Маяковского над поэмой «Про это». — ПСС 1934, т. V, стр. 29, 47, 54.
17 См. об этом статью «Записные книжки Маяковского (Из творческой лаборатории поэта)». — «Известия Академии наук СССР», Отделение литературы и языка, т. XIV, вып. 2, 1955, стр. 107—123, а также статью «Маяковский в работе над поэмой о Ленине» («Вопросы литературы», 1958, № 1, стр. 20—48).
Исключительно интересна одна страница, сохранившая первоначальные следы работы над «Хорошо!» (хранится в ЦГАЛИ, ф. 336, оп. 5, ед. хр. 57).
18 См. настоящий том, стр. 129.
19 Н. Н. Асеев. Цит. статья, стр. 27—28.
20 А. В. Луначарский. Наши поэты. — «Вечерняя Москва» от 24 января 1927 г.
21 Н. Н. Асеев. Цит. статья, стр. 39.
22 Роман Якобсон. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. РСФСР, Берлин, 1923, стр. 104—107.
23 «20 лет работы Маяковского». Каталог. М., <1930>, стр. 4.
24 Н. Карамзин. О богатстве языка. — «Москвитянин», 1854, т. III, отд. II, стр. 184.
25 В. Г. Белинский. Общее значение слова литература. (Начало первой редакции). — Полн. собр. соч., т. V. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 767.
26 Нам уже приходилось останавливаться на этом примере в кн. «О мастерстве Маяковского». Изд. 2, доп. М., 1957, стр. 222.
27 Впервые на это обратил внимание В. В. Тренин в книге: «В мастерской стиха Маяковского». М., 1937, стр. 98—99.
28 «Я пробовал определить основной мотив как амфибрахий, — пишет Н. Н. Асеев в упоминавшейся статье, — но он становится иногда анапестом, иногда дактилем, а иногда, не теряя ритмической гибкости, переходит в разговорную речь» (стр. 55).
Сноски к стр. 227
* Квадратными скобками отмечаем зачеркнутое или исправленное в рукописи.
Сноски к стр. 232
* Зачеркнув «С», Маяковский забыл переправить «пристани» на «пристань».
Сноски к стр. 240
* Точно так же отказался он от строк, где герой рисовался таким огромным, что «даже звезды высокие сдрейфили» (ср. 1-я рук., л. 29 и 2-я рук., л. 37).
Сноски к стр. 242
* Опускаем здесь некоторые предварительные варианты.
** Заметим, кстати, что это первый случай, когда Маяковский «озаглавливает» происходящее. Может быть, это и явилось толчком к тому, чтобы во второй рукописи уже разбить весь текст на главки — каждая со своим названием.
Сноски к стр. 244
* Может быть, «звездолет» кажется нам более естественным, потому что это слово ассоциируется с «звездочет», «самолет», в то время как «звездолетец» не находит в языке подобной аналогии.
Сноски к стр. 247
* Во второй рукописи:
«Не думай бежать...» (2-я рук., л. 14).
** В третьей рукописи:
...Я слышу гром его (3-я рук., л. 17).
Так еще резче передается, что все это происходит сейчас, в данную минуту.
Сноски к стр. 249
* Возможно, что эта строфа возникала еще в процессе работы над первой рукописью. Не к ней ли относится запись: «Теорий — горе» (1-я рук., л. 7 об.), в которой уже «брезжит» контраст, положенный в основу строфы?
Сноски к стр. 256
* В первой рукописи «Про это» были строки, заставляющие вспомнить «Человека»:
Лечу ни зги облаками окутан
быть может год
а может минута (1-я рук., л. 29).
В третьей рукописи Маяковский от них уже отказался.
Сноски к стр. 257
* Это один из примеров, подтверждающих, что поэт не считал текст первой рукописи окончательным: заготовка этой рукописи была реализована лишь во второй.
Сноски к стр. 258
* Опускаем некоторые предварительные варианты (1-я рук., л. 34 об.).
Сноски к стр. 263
* Первоначальные колебания в выборе одного из этих двух вариантов отражены в первой рукописи (1-я рук., л. 2).
Сноски к стр. 268
* Опускаем некоторые предварительные варианты, в данном случае несущественные.
Сноски к стр. 269
* Ср. с этим замену «чудовищной рожи» неологизмом «троглодичьей».
** Мы здесь не говорим о вариантах строки: «Расставила тихо...».
Сноски к стр. 276
* Ясно, что в применении к стиху Маяковского термином «стопа» можно пользоваться очень условно.
Сноски к стр. 277
* Можно полагать, что сцена дуэли-расправы писалась Маяковским в состоянии огромного душевного подъема, вдохновения; если раньше каждая строка проходила в своем оформлении через несколько стадий — черновых вариантов (иногда до десяти!), то в этом месте черновая рукопись как бы «светлеет» — здесь уже нет такого нагромождения поправок и вычерков. Строфа: «И так я калека в любовном боленьи...» — записана почти сразу. Хотя не исключена возможность, что черновая работа над последними разделами поэмы отражена на бумаге менее полно и производилась «в уме», все же надо отметить, что, судя по рукописям, заключительная часть писалась «легче», нежели первые две.
Сноски к стр. 278
* Это можно сравнить с работой маленького парашютика, который, раскрываясь, увлекает за собой большой парашют.