7
ВВЕДЕНИЕ
В нашем сознании неразрывно связаны два замечательных явления русской национальной культуры и науки — Ломоносов и Московский университет. Тем более странным может показаться то обстоятельство, что тема «Ломоносов и Московский университет» до сих пор совершенно не разработана, что по вопросу об основании университета и роли Ломоносова все еще распространены антинаучные и антипатриотические концепции, созданные дворянской и буржуазной историографией.
Всячески раздувая и выставляя слабые стороны в мировоззрении и деятельности Ломоносова и, наоборот, скрывая и замалчивая сильные стороны великого русского ученого-материалиста, патриота и демократа, представители дворянской и буржуазной науки упорно клеветали на Ломоносова. «Великого мужа, вышедшего из среды народной» (Радищев), они изображали всего лишь автором торжественных од, певцом царей земных и небесных, далеким от народа. Материалиста Ломоносова, страстного борца против средневековой религиозной схоластики, они превращали в сторонника союза науки с религией и даже, более того, в сторонника подчинения науки религии. Под их пером Ломоносов превращался в человека, которого
8
осыпали непрерывными почестями и наградами Елизавета, Екатерина II и их приближенные. Эта фальсификация образа и деятельности Ломоносова была начата еще графом А. П. Шуваловым, напечатавшим в 1765 году на французском языке краткую биографию Ломоносова. «Все наши государи последовательно покровительствовали и одобряли этого великого человека... Императрица Елизавета сделала его профессором химии в императорской Санктпетербургской Академии Наук и осыпала его благодеяниями. Царствующая сейчас императрица делала тоже еще в большем размере»1, — писал Шувалов. Как это ни странно, но даже новейшие исследователи порой изображают А. Шувалова горячим поклонником и единомышленником Ломоносова, не замечая злостной фальсификации деятельности великого ученого2.
Под пером дворянских и буржуазных исследователей борьба Ломоносова «с неприятелями наук Российских» превращалась в цепь случайных столкновений и скандалов. Его гениальные открытия замалчивались и приписывались другим, а его самого превращали в несамостоятельного ученика западноевропейских ученых, философов и поэтов Ньютона, Лейбница, Вольфа, Готшеда и других. В довершение всего Ломоносова искусственно изолировали от предшествующего и последующего развития передового, демократического направления в русской национальной культуре и науке. Он изображался гениальным одиночкой, замечательные мысли и гениальные идеи которого будто бы не были подхвачены и развиты ни современниками, ни последующими поколениями. Версия об одиночестве, изолированности Ломоносова, широко распространенная в буржуазной науке, оказалась одной из наиболее живучих, несмотря на свою полную несостоятельность.
Пламенный патриотизм Ломоносова, гордость за героическое прошлое русского народа и непоколебимая вера в светлое будущее России подменялись лжепатриотическими построениями в духе реакционной «теории официальной народности». В результате этого замечательный сын великого русского народа, выражавший интересы народа и боровшийся за осуществление важнейших прогрессивных мероприятий, оказывался в лагере реакции. Его изображали то единомышленником и соратником Екатерины II и Шувалова, то предшественником славянофилов и других духовных и светских реакционеров в политике и в науке.
9
За 200 лет, которые отделяют нас от жизни великого ученого, представители дворянской и буржуазной науки по-разному оценивали деятельность Ломоносова. На первый план выдвигалась то одна, то другая сторона его научной, литературной и общественной деятельности. Далеко не одинаково оценивались одни и те же факты его биографии, основные положения его мировоззрения и те или другие из его произведений. Но, несмотря на наличие огромного числа оттенков и вариантов в оценке жизни и деятельности Ломоносова в дворянской и буржуазной науке и публицистике, существо их составляет та ложная антиисторическая концепция, основные положения которой были охарактеризованы несколькими строками выше. Именно эта концепция лежит в основе совершенно различных по значению, содержанию и направлению работ Пекарского, Билярского, Куника, Шевырева, Ламанского, Соловьева, Погодина, Сухомлинова, Милюкова и других представителей буржуазной науки. Ко многим из этих работ приходится обращаться и сейчас, но их ценность и значение в настоящее время ограничиваются исключительно тем богатым фактическим и документальным материалом, который в них содержится. Особенно много фактического материала в работах Пекарского, Билярского и Ламанского1. Значительное количество документальных материалов было использовано и приведено Сухомлиновым в его многотомной «Истории Российской Академии»2 и особенно в комментариях к предпринятому Академией Наук собранию сочинений Ломоносова3.
Но, привлекая и используя эти и другие работы буржуазных историков и литературоведов, необходимо иметь в виду, что подбор материалов сделан в них крайне тенденциозно, что комментарии к ним извращают характер и содержание деятельности Ломоносова, что их общая концепция совершенно порочна. Такой характер и направление всех работ о Ломоносове представителей дворянской науки определялся тем, что дворянство представляло собой в XIX веке наиболее реакционный класс страны и его идеологи направляли все свои усилия на защиту реакционных уже по существу отживших производственных отношений, на воспевание самодержавия, охранявшего незыблемость крепостничества. В этих условиях не
10
могло быть и речи о правильном освещении жизни и деятельности великого сына народа, выражавшего прогрессивные устремления масс. Что же касается буржуазии и ее идеологов, то и они не дали и не могли дать правильной оценки благородной патриотической деятельности Ломоносова, выражавшего интересы народных масс. Крайне слабая, трусливая и связанная с крепостническим способом производства и крепостническим государством, русская буржуазия никогда не была в нашей стране революционной силой, она никогда не возглавляла народ в его борьбе против самодержавия и крепостничества. Она постоянно шла на сделку с самодержавием и крепостниками, боялась движения масс, возлагая надежды на реформы сверху. В этих условиях буржуазия сознательно выхолащивала демократическое содержание деятельности Ломоносова, материалистическое содержание его работ и изображала самодержавие и крепостников в роли покровителей и благодетелей ученого и всей русской культуры и просвещения. Эти тенденции буржуазной науки с особой силой проявились в пореформенный период, когда на историческую арену выступил пролетариат, ставший во главе народа в его борьбе за уничтожение самодержавия и пережитков крепостничества в экономике и политической жизни, в борьбе за победу буржуазно-демократической революции.
С фальсификацией мировоззрения и деятельности Ломоносова непосредственно связано извращение его роли в основании Московского университета, а также извращение содержания и значения деятельности первого русского университета. Наиболее грубо и открыто это выявляется в трудах представителей официальной дворянско-монархической историографии (Шевырева, Снегирева, Погодина, Половцева и других). В решении ряда второстепенных вопросов, в изложении и оценке отдельных фактов из истории основания и деятельности Московского университета дворянские и буржуазные авторы во многом расходятся, но все они сходятся в главном. Для их работ характерны следующие основные положения:
1) Восхваление Елизаветы и Шувалова и крайнее преувеличение их роли и, наоборот, систематическое замалчивание и извращение роли Ломоносова в создании и превращении университета в центр передовой русской науки и культуры.
2) Попытка изобразить русскую национальную культуру и науку лишенными творческой самостоятельности. В применении к Московскому университету это сводилось к утверждению, что он — плохая копия немецких университетов, сделанная якобы Ломоносовым без учета русской действительности. Все успехи университета приписывались группе реакционных псевдоученых, работавших
11
в нем в XVIII веке (Рейхель, Дилтей, Лангер, Шаден, Рост, Шварц и др.). Одновременно с этим замалчивалась и извращалась деятельность представителей передового ломоносовского направления: Николая Поповского, Дмитрия Аничкова, Семена Десницкого, Ивана Третьякова, Петра Страхова, Семена Зыбелина, Петра Вениаминова и Матвея Афонина; точно так же извращались характер и содержание той борьбы, которую вели Ломоносов и его последователи против идеализма, схоластики и реакционной науки.
3) Откровенно холопские и либерально-монархические концепции при освещении политики самодержавия, особенно политики Екатерины II в области культуры и просвещения. Полностью игнорировалось то положение, что передовая демократическая русская наука и культура и, в частности, ломоносовское направление в Московском университете развивались не с помощью царизма, а вопреки ему, в непрерывной борьбе с ним.
4) Извращение роли Ломоносова и основанного по его инициативе Московского университета в общественно-политической жизни России XVIII века. Игнорирование тесной связи Московского университета с освободительным демократическим движением в стране и его места в этом движении. Стремление изобразить Ломоносова сторонником, а университет — оплотом монархии и религии.
Первый официальный историк университета П. Сохацкий, выступавший с докладом в день 50-летия со дня его основания, превозносил на все лады Елизавету и Шувалова и даже не упомянул имени Ломоносова. «Патриотическим ходатайством пред великою в кротости Елизаветою, незабвенного друга просвещения, Шувалова, в златой век ее царствования положено в 1755 году первое основание мирного храма наук»1, — заявлял Сохацкий. В официально-монархических тонах с начала до конца выдержана появившаяся через 30 лет статья И. М. Снегирева. Здесь мы снова встречаем «покровительницу наук Елизавету», которая будто бы любила университет истинно «материнской любовью», безудержное восхваление «изобретателя сего полезного дела» Шувалова, елизаветинских и екатерининских вельмож.
И. М. Снегирев, правда, упоминал и о Ломоносове, но его роль он ограничивал ролью «консультанта», которого привлек и использовал Шувалов. Что же касается последователей Ломоносова, то те несколько страниц, которые посвятил им Снегирев, совершенно извращают как содержание, так и значение их деятельности.
12
Такой же характер имели написанные Снегиревым и П. И. Бартеневым биографии Шувалова, напоминающие торжественное похвальное слово в стиле XVIII в.1. Логическим завершением и наиболее ярким выражением этих откровенно реакционных концепций явилась «История Московского Университета» С. П. Шевырева, составленный под его руководством «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского Университета» и речи, произнесенные на столетнем юбилее университета в 1855 г.2.
Труды Шевырева были тогда же подвергнуты самой резкой критике в рецензии Н. Г. Чернышевского, показавшего всю порочность его концепций.
Отмечая выдающуюся роль Московского университета в истории русской культуры и ценность книг о нем для каждого образованного человека, Чернышевский писал: «Надлежало, по существованию различных ступеней развития университета, разграничить его столетнюю жизнь на периоды; показать характер внутренней жизни и внешнее значение университета в первые годы его возникновения, потом постепенное расширение и возвышение этого учреждения. В таком случае самый текст истории вмещал бы в себе только существенно важные факты, связанные по их внутреннему сцеплению и изложенные со всею возможной полнотой». Чернышевский отмечал, что у Шевырева вместо биографий деятелей университета даны их формулярные списки, что же касается «Истории университета», то в ней «почти исключительно преобладает официальный тон и полнее всех других событий университетской жизни рассказываются торжественные акты, речи на них произнесенные и административные распоряжения...»3.
Книга Шевырева, открывавшаяся холопским посвящением Николаю I, ультрареакционная по своему направлению и псевдонаучная по своему содержанию, является клеветой на русскую национальную культуру и науку и фальсификацией их истории. Официальный верноподданический характер книги Шевырева был отмечен им самим в предисловии и подчеркнут ее построением.
13
На первом плане выступает «участие промысла божия»1, а непосредственным его «исполнителем» оказывается Елизавета. «Елизавета основала Московский Университет»2, — решительно заявляет Шевырев. Рядом с Елизаветой он ставит И. И. Шувалова, который «соединял редкие в себе качества души и умел породнить религиозное воспитание древнего русского человека с потребностями современного образования...». Восхваление Шувалова Шевырев заключает утверждением: «...на 28 году жизни совершил он лучшее свое дело — основал Московский Университет»3. Лишь после этих гимнов по адресу Елизаветы и Шувалова Шевырев переходит к Ломоносову, сводя его роль к тому, что он оказывал Шувалову помощь советами. В каком плане изображаются «эти советы», можно судить по утверждению Шевырева, что «Ломоносов выразил в своей жизни 3 основных национальных чувства: святую веру, преданность престолу и чувство русского могущества»4. Центральное место у Шевырева занимают указы Елизаветы и Екатерины, решения сената, ордера Шувалова, Мелиссино, Адодурова, Веселовского и других лиц, управлявших университетом. Он не жалеет самых пышных и громких эпитетов для бесконечных похвал реакционерам-профессорам Московского университета. Ученики же и последователи Ломоносова, отходят на второй план, и их деятельность фальсифицируется.
Так как работы Шевырева по истории Московского университета до настоящего времени остаются единственными сводными работами по этому вопросу, то большинство последующих авторов шло за ним, основывалось на его материалах, повторяло его выводы. При этом забывалось, что материалы подобраны и истолкованы им крайне тенденциозно, а часто и просто извращены, что не только изложение отдельных событий, но и история университета в целом фальсифицирована.
Мало нового внесла в разработку вопроса об основании Московского университета и роли Ломоносова в его создании и либеральная историография. Статьи Ашевского и Сыромятникова по существу отрицали всякое значение деятельности Московского университета в XVIII веке. Говоря о том, что Московский университет — «эфемерное учреждение», «ненужная роскошь», на которую «убивали миллионы» (Сыромятников), что «университет влачил жалкое существование», что «в нем не было людей с громким именем в области науки», что лекции читались по устарелым иностранным руководствам
14
(Ашевский), авторы не скупились на самые громкие эпитеты, как только речь заходила о реакционной профессуре1.
Вслед за В. С. Иконниковым В. Якушкин и М. Н. Сперанский считали Московский университет «сколком германских университетов со всеми их недостатками... как по характеру их деятельности, так и по своему устройству»2. Они явно преувеличивали значение и характер влияния Западной Европы на направление и содержание его деятельности. Кроме того, Якушкин абсолютно неправильно давал высокую оценку таким отъявленным врагам передовой русской науки, как Шаден и Шварц.
Однако, говоря о статьях Якушкина и Сперанского, следует отметить, что Якушкин впервые попытался проанализировать проект Московского университета с целью доказать, что истинным основателем университета является Ломоносов. Развивая это положение Якушкина, Сперанский в своей речи на праздновании 200-летнего юбилея со дня рождения Ломоносова отмечал, что именно Ломоносову университет обязан демократическим направлением проекта. Большое значение имела попытка Сперанского, хотя и в крайне общей форме, показать, что Ломоносов является не только создателем университета, но что именно он «дал ему то понимание этих задач и то направление в их выполнении, какие составили с тех пор и составляют до сих пор заслугу нашего Университета перед Россией»3.
В дореволюционной России отношение к Ломоносову и оценка его деятельности не были и не могли быть едиными, как не было единым потоком развитие русской национальной культуры и науки. Еще в 1758 г. ученик и соратник Ломоносова Николай Поповский дал оценку его великих заслуг перед родиной и русским народом. Наиболее революционное произведение XVIII века «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева заканчивалось подлинным гимном в честь Ломоносова. Представители новой, демократической и революционной России, так же как и представители передовой
15
национальной культуры и науки, высоко оценивали деятельность Ломоносова и рассматривали его как блестящего выразителя лучших качеств и традиций русского народа. Они видели в его жизни и деятельности образец беззаветного служения Родине. «Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству»1, — писал Н. Г. Чернышевский. Хотя в тех оценках, которые давали представители новой, демократической России Ломоносову и его деятельности, содержались отдельные ошибки, хотя эти оценки далеко не всегда были полными и всесторонними, в целом они правильно определяли место и значение Ломоносова и его деятельности в развитии русской национальной культуры и науки, в распространении просвещения в стране. Вместе с тем демократические деятели русской культуры вели борьбу за использование и развитие лучших ломоносовских традиций, за освоение и творческое развитие его научного, философского и литературного наследства.
Высокую оценку давали представители демократического направления в русской культуре Московскому университету и той роли, которую он сыграл в развитии национальной культуры, науки и общественно-политической мысли. Эти оценки нашли выражение в уже упоминавшихся рецензиях Чернышевского на «Историю Московского Университета» Шевырева и изданный к столетнему юбилею университета «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского Университета», в письме Чернышевского родным, целиком посвященном юбилею университета и его выдающейся роли в развитии русской культуры2. Ряд страниц «Былого и дум» посвятил Московскому университету А. И. Герцен, на всю жизнь сохранивший к университету чувство глубокой признательности и любви. На страницах «Колокола» он десятки раз выступал с гневным разоблачением реакционной политики царизма в отношении университета, мешавшей развитию старейшего центра русского просвещения. Герцен не раз поднимал голос в защиту студентов и студенческих требований, в защиту передовых профессоров университета, вопреки политике самодержавия двигавших русскую науку вперед и хотя еще робко и непоследовательно, но уже становившихся в оппозицию к царизму. Он разоблачал трусость и предательство либеральной профессуры, боявшейся революции и принимавшей все меры для того, чтобы помешать развитию студенческого
16
движения. Воспитанник Московского университета, великий революционный демократ В. Г. Белинский был тесно связан с передовой профессурой университета и в своих статьях неоднократно давал высокую оценку его роли в развитии русской культуры.
«Каждый годовой отчет о действиях и состоянии Московского университета должен возбуждать живейшее участие: Московский университет — единственное высшее учебное заведение в России; он не знает себе соперников; у него есть история, потому что для него всегда существовало органическое развитие. В Московском университете есть дух жизни, и его движение, его ход к усовершенствованию так быстр, что каждый год он уходит вперед на видимое расстояние»1, — писал В. Г. Белинский.
К оценкам, которые давали Московскому университету русские революционеры-демократы, примыкает и интересная, хотя и не без ряда ошибок, незаслуженно забытая работа А. Щапова, высоко оценивающая роль Московского университета в развитии и пропаганде материализма и специально останавливающаяся на его деятельности в этом направлении в XVIII веке2.
Русские революционные демократы большинство своих работ были вынуждены печатать в подцензурной печати и поэтому не имели возможности открыто высказывать свои мысли об условиях и путях развития передовой русской культуры и науки. Это сказалось и на статьях Белинского, и на рецензиях Чернышевского на юбилейные издания университета в 1855 году, и на ряде других работ, вышедших из-под пера представителей демократического направления в культуре и освободительном движении. Это в известной степени облегчало распространение антинаучных концепций, относящихся к истории Московского университета, и событиям, связанным с его основанием. Только в наше время советские ученые восстановили историческую правду о жизни и трудах Ломоносова и его роли в основании старейшего университета страны и влиянии на направление деятельности Московского университета в первые годы существования.
Книги и статьи С. И. Вавилова, А. А. Морозова, Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, Д. Д. Благого, В. В. Виноградова, Г. С. Васецкого и других советских ученых показали все величие благородной
17
патриотической деятельности Ломоносова, сумевшего в условиях самодержавно-крепостнической России XVIII века раскрыть «с необычайной силой и выразительностью те особенности русского научного гения, которые потом проявились в Лобачевском, Менделееве, Бутлерове, Лебедеве, Павлове и прочих представителях русской науки»1.
Следует отметить, что и эти работы не свободны от отдельных ошибок. Наиболее показательны в этом отношении книги Б. Н. Меншуткина2. Проделавший колоссальную работу по выявлению и публикации естественно-научного наследства Ломоносова и много сделавший для популяризации его деятельности, Б. Н. Меншуткин в то же время изображал его учеником и последователем то Лейбница, то Вольфа, отрицал самостоятельность ряда его открытий, говорил о том, что работы Ломоносова остались неизвестными и поэтому не оказали никакого влияния на последующее развитие науки.
Среди работ о Ломоносове необходимо выделить книгу А. А. Морозова, в которой дана яркая биография и характеристика многосторонней деятельности М. В. Ломоносова3. Однако не все стороны его деятельности изучены и освещены автором с одинаковой полнотой. Более обстоятельно исследованы его философские взгляды и работы в области естественных наук. В то же время деятельность Ломоносова в области распространения просвещения показана гораздо слабее. Особенно бледен раздел о его деятельности по основанию Московского университета. К сожалению, это общий недостаток работ, посвященных Ломоносову. Советские историки до сих пор не уделяли достаточного внимания ни теме «Ломоносов и Московский университет», ни истории Московского университета вообще.
Совершенно неудовлетворительна ни по общему направлению, ни по фактическому материалу юбилейная серия «Ученых записок», выпущенная Московским университетом в 1940 году4. Как очерки истории отдельных наук в университете, так и «Очерки истории Московского Университета» написаны на низком научном и идейном уровне и изобилуют грубейшими ошибками. В работе авторов очерков ясно ощущается спешка, плохое знание материалов, покорное
18
следование за Шевыревым (исключение составляет, в общем, удачный очерк по истории географии).
Особенно ярко сказались недостатки серии в обобщающей статье С. В. Бахрушина «Московский Университет в XVIII веке»1. Автор не только не разоблачает реакционный и антинаучный характер книг Шевырева, но по основным вопросам фактически солидаризируется с ним. Создателем университета оказывается у Бахрушина «вековой вельможа», привлекательный наружностью и «обхождением, со всеми упредительным, веселовидным, добродушным», «влиятельный по близости к стареющей императрице, «предстатель муз», корреспондент Вольтера, И. И. Шувалов»2, Ломоносов оказывается на втором плане. Все успехи университета приписываются реакционерам: Дилтею, Фроману, Росту, Шадену, Рейхелю, Шварцу и другим. Русским же ученьем ломоносовского направления посвящается всего несколько строк (да и в тех автор путает имена и факты). Так же как и Шевырев, С. В. Бахрушин главное внимание уделяет официальной истории университета, излагая ее в соответствии с традициями буржуазной науки. В целом статья проф. Бахрушина представляет собой шаг назад даже по сравнению с имеющими почти полувековую давность работами Якушкина и Сперанского.
В последние годы (1949—1952) появился ряд работ, посвященных различным вопросам истории русской культуры и общественной мысли России XVIII века. В этих работах в основном правильно характеризуется содержание и значение деятельности Московского университета в первый период существования, его роль в истории русской национальной культуры и науки, подчеркивается ломоносовское направление работы университета в 50—80-х годах XVIII века3. Значение указанных работ в том, что они пытаются пересмотреть вопрос о месте Московского университета в развитии русской науки и культуры и его роль в формировании передовой общественно-политической мысли России. Однако все эти работы касаются истории
19
Московского университета лишь попутно при исследовании других вопросов.
Первой попыткой дать научную историю основания Московского университета является вышедшая в конце 1952 г. монография Н. А. Пенчко «Основание Московского Университета». Написанная на основе большого количества архивных и других материалов, работа Н. А. Пенчко представляет несомненную ценность. В работе разбираются вопросы о проекте университета и роли Ломоносова в его составлении, о содержании идейной борьбы в университете в первые годы его существования. Особый интерес представляет глава «Организация научной части Московского университета по плану М. В. Ломоносова», в которой автор на основе ранее не использованного материала показывает полную несостоятельность продолжающей господствовать версии о том, что в Московском университете не было никаких лабораторий и кабинетов до приезда иностранцев, которые будто бы являются инициаторами научной постановки преподавания в его стенах.
Недостатком работы Пенчко является отсутствие необходимых обобщений и выводов по ряду вопросов, некоторая идеализация политики Елизаветы и Шувалова (как, впрочем, и личности Шувалова) в отношении Московского университета. Ошибочным является и стремление Н. А. Пенчко доказать, что политика самодержавия в отношении университета приобретает реакционный характер только после назначения куратором университета ставленника Екатерины II Адодурова. Это приводит автора и к другому ошибочному утверждению о том, что единственными представителями реакционно-монархического направления в университете были профессора-иностранцы.
Уже после того, как работа над настоящей книгой была завершена, вышел I том «Избранных произведений русских мыслителей второй половины XVIII в.», в котором больше половины занимают работы учеников и последователей Ломоносова, трудившихся в Московском университете. Значение этого издания очень велико. Оно фактически вводит в научный оборот и делает доступным широким кругам читателей произведения лучших представителей передовой философской и общественно-политической мысли, способствует восстановлению исторической правды в истории русской национальной культуры и науки. Книге предпослана большая вводная статья И. Я. Щипанова, анализирующая философские и общественно-политические взгляды учеников и последователей Ломоносова и показывающая их место в развитии передового направления русской философской и общественно-политической мысли. Эта статья является удачной попыткой проанализировать взгляды русских просветителей
20
второй половины XVIII века, определить их место в развитии передовой общественно-политической и философской культуры.
В своей работе мы испытали значительные трудности, в первую очередь связанные с характером и состоянием источников.
Навсегда утрачен конфискованный Екатериной II архив Ломоносова. На другой день после его смерти библиотека и все бумаги Ломоносова были по приказанию Екатерины опечатаны Гр. Орловым, перевезены в его дворец и исчезли бесследно. Ряд буржуазных исследователей расценивал это как проявление «особой заботы» Екатерины о литературном и научном наследстве Ломоносова, как доказательство того, что Г. Орлов «обожал» Ломоносова. Совсем недавно подобную версию отстаивал М. В. Птуха1. Действительные цели этого акта были совсем иными. Об этом убедительно говорит письмо Тауберта Миллеру. Не скрывая своей радости, Тауберт сообщает о смерти Ломоносова и добавляет: «На другой день после его смерти, граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки»2. О том, чью волю выполнял Орлов, недвусмысленно говорит письмо жены Ломоносова: «Все письма с прочими вещами запечатаны печатью его сиятельства графа Г. Г. Орлова по высочайшему соизволению...»3. В результате этого мы не имеем ни одного письма из переписки Ломоносова с его учениками, в частности, с Поповским и Барсовым. Нет в нашем распоряжении ни материалов о связи Ломоносова с Московским университетом в 1755—1765 годах, ни материалов, связанных с его работой над планом и проектом Московского университета.
В 1812 году погиб варварски уничтоженный армией Наполеона архив Московского университета, от которого уцелело лишь несколько случайных книг и документов. В огне московского пожара погибла библиотека Московского университета, собрания «Общества истории и древностей», материалы «Вольного Российского собрания», библиотеки и архивы ряда профессоров университета. Наконец, по неизвестным причинам за несколько дней до своей смерти уничтожил все свои бумаги наиболее тесно связанный с Ломоносовым его ученик и первый профессор Московского университета Николай Поповский.
В результате такого положения с источниками в ряде вопросов исследователь вынужден ограничиваться лишь косвенными доказательствами. Не все вопросы могут быть освещены с исчерпывающей полнотой.
21
При написании настоящей работы автор опирался на следующие источники:
1) Собрания сочинений Ломоносова, документы и материалы о его служебной и научной деятельности.
2) Хранящиеся в библиотеке университета так называемые «Протоколы Университетской конференции» (15 томов рукописных документов, относящихся к 1756—1770 гг., главным образом на латинском и частично на французском, немецком и русском языках).
3) Хранящееся там же 18-томное собрание речей профессоров Московского университета, объявлений о торжественных собраниях и праздниках в университете, «реестры публичных лекций» в университете и «упражнений» в гимназиях за 1755—1800 годы, 4 тома речей русских профессоров Московского университета, изданных в начале XIX в. Обществом любителей русской словесности, издания университетской типографии, газета «Московские ведомости».
4) Записки и воспоминания работников и воспитанников университета, разбросанные в различных периодических изданиях XIX века.
5) Архивные материалы из фондов ЦГАДА, ЦГИАЛ, ИРЛИ и архива АН СССР, в первую очередь фонды XVII разряда Госархива и фонды канцелярии и 3 департамента Сената в ЦГАДА. К этой категории источников примыкают и многочисленные публикации документов и материалов, помещенные в «Чтениях в обществе истории и древностей Российских», «Москвитянине», «Русском Архиве» и других изданиях XIX века.
Отнюдь не претендуя на то, чтобы исчерпать весь круг источников, связанных с основанием университета и его деятельностью в первый период существования, автор считает, что использованные им источники дают возможность ответить на основные вопросы, возникающие в ходе исследования данной темы.
——————————
22
23
Наша наука дала миру великих ученых. Советский народ по праву гордится основоположником русской науки Ломоносовым... (Из приветствия ЦК ВКП (б) |
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОЙ НАУКИ
Деятельность Ломоносова вообще и его работа по основанию Московского университета в частности, так же как темпы и направление развития русской национальной науки, культуры и просвещения, определялись уровнем и характером развития социально-экономических отношений в стране, степенью обострения социальных и классовых противоречий и теми задачами, которые стояли в этот период перед русским народом. Огромное влияние на темпы и направление развития русской культуры оказывала и политическая надстройка, в первую очередь самодержавно-крепостническое государство.
Научная и общественная деятельность Ломоносова протекала в условиях укрепления русского национального государства помещиков-крепостников и нарождавшегося купеческого класса. В этот период в экономической, политической и культурной жизни страны происходили существенные изменения. Обслуживавшие феодально-крепостнический способ производства товарно-денежные отношения все глубже проникали в помещичье хозяйство и играли в нем все большую роль. Происходило дальнейшее развитие всероссийского рынка, который включал в свой состав новые значительные территории на юге и востоке страны и одновременно с этим развивался вглубь, включая
24
хозяйства и районы, ранее сохранявшие натуральный, замкнутый характер. Одним из показателей развития всероссийского рынка явилась отмена в 1754 году внутренних таможен, представлявших собой пережиток былой феодальной раздробленности в экономике страны. Развитие всероссийского рынка было тесно связано с резким возрастанием объема внутренней и внешней торговли. Рост торговли пошел особенно быстро после того, как русский народ в ходе тяжелой и упорной борьбы вышел на побережье Балтийского моря и получил нормальные возможности для расширения своих экономических связей со странами Западной Европы.
Весьма важным явлением в экономической жизни страны этого периода было развитие промышленности, которое происходило в результате преобразований, проведенных в первой четверти века. Достаточно сказать, что если в конце XVII века только начали появляться первые мануфактуры, то к 1725 году их число выросло до 200, а к началу второй половины века было уже около 600 мануфактур. При этом ряд мануфактур того времени имел весьма значительные размеры, на отдельных из них трудилось до 2000 работных людей.
Ярким показателем успехов русской промышленности того времени являлся тот факт, что в 60-х гг. Россия выплавляла металла больше, чем какая-либо другая страна мира. На русском железе работала промышленность Англии и Франции. В прямой связи с необходимостью обеспечить растущую отечественную промышленность сырьем и с развитием внешней торговли стояла некоторая интенсификация сельского хозяйства. Происходило увеличение посевов технических культур, некоторое усовершенствование орудий сельскохозяйственного труда. Значительно полнее начали использоваться природные ресурсы страны.
Но наиболее важным явлением в экономической жизни страны было зарождение новых, капиталистических производственных отношений, происходившее в этот период в недрах системы крепостного хозяйства. Зародыши этих новых отношений выступали в форме применения наемной рабочей силы на купеческих и крестьянских мануфактурах, в появлении в деревне скупщика продуктов сельского хозяйства и особенно продуктов ремесла. Этот скупщик, подчиняя экономически крестьян и ремесленников, постепенно превращался в капиталистического предпринимателя. Новые отношения находили отражение в росте числа и экономического значения городов, в усилении экономического и политического влияния купечества и т. д.
Серьезные изменения произошли в этот период в системе государственной власти и управления, а также в международном положении страны. Старая система монархии с боярской думой и приказами
25
изжила себя и была заменена абсолютистской монархией с централизованным бюрократическим аппаратом управления. Это изменение в организации государственной власти обеспечивало выполнение основных функций государством, которое являлось органом классового господства крепостников. В стране была создана регулярная армия, располагавшая полноценным вооружением и основывавшая свою боевую деятельность на передовых принципах военного искусства. Исключительно быстро был создан мощный морской флот. Опыт войны русского народа за выход в Балтику и блестящие победы, одержанные в ходе этой войны русской армией и флотом под Полтавой и Гангутом, а также победы русской армии в Семилетней войне с Пруссией убедительно показали, что русский народ создал мощную армию и флот, способные оградить национальные интересы народа от всяких посягательств. Экономическое развитие страны, подкрепленное блестящими успехами русской армии и флота и умелыми действиями русской дипломатии, привело к укреплению международного положения России и значительному возрастанию ее роли в международных событиях того времени.
Исключительно большое влияние на развитие страны и, в частности, на развитие культуры и науки оказывало то обстоятельство, что в это время происходил процесс формирования русской нации, с которым был тесно связан рост национального самосознания и развитие патриотических национальных традиций.
Все эти процессы, происходившие в области экономической и политической жизни страны, требовали развития русской национальной культуры и науки и коренных преобразований в системе образования в России. Ни уровень, которого достигла в это время русская наука и культура, ни совершенно ничтожное количество «цифирных» и духовных школ и «академий», ни число учащихся в них, ни содержание их работы — ничто не соответствовало задачам, стоявшим в это время перед страной.
Возникающие во все большем количестве мануфактуры и горные заводы требовали новых людей. Им были нужны металлурги, механики и химики, им был нужен ряд квалифицированных специалистов. Развитие промышленности и торговли, связанное с расширением использования природных богатств, и создание соответствующих путей сообщения (дорог, каналов, использование рек и т. д.) требовали исследования территории и недр страны. Но осуществить это было невозможно без наличия в стране геологов, географов, астрономов, картографов, геодезистов. Преобразование армии и создание флота требовали командиров и специалистов, знающих математику, физику, механику и другие науки. Интенсификация сельского хозяйства, проводившаяся помещиками и вызванная резким увеличением внешней
26
торговли и необходимостью обеспечить растущую промышленность отечественным сырьем, требовала ряда специалистов в области естественных наук. Таким образом, в стране создавались условия, способствующие быстрому развитию науки и распространению образования. Рассматривая вопрос о развитии науки, Энгельс подчеркивал: «если... техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники. Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов»1. В это время техническая потребность возросла по сравнению с XVII веком в десятки раз.
Соответствующим образом подготовленных, грамотных людей требовал и громоздкий бюрократический аппарат государственной власти и управления. В условиях укрепления русского национального государства и превращения русского народа в нацию было жизненной необходимостью развитие философии, языкознания, истории, юриспруденции, разработка экономических наук, развитие национальной литературы и искусства. Все это в свою очередь ставило вопрос о создании сети общих и специальных школ, как необходимой базы для развития национальной культуры и науки.
Поэтому-то мероприятия в области культуры и образования не случайно занимали заметное место в преобразованиях первой четверти XVIII в. Был осуществлен переход на новый гражданский алфавит, вышел ряд учебников, начала выходить первая русская газета, в значительных для того времени размерах развернулось книгопечатание. Изменились масштабы и характер деятельности Славяно-греко-латинской академии, большая часть воспитанников которой направлялась для работы в светских учреждениях.
Увеличилось число «цифирных» школ, во всех крупных городах России были учреждены семинарии. Открылся целый ряд специальных школ, готовящих разнообразных специалистов для обслуживания нужд хозяйства и государственного аппарата России. Так были созданы «школа математических и навигацких наук» (преобразована впоследствии в морскую академию), инженерные, артиллерийские, горные, и медицинские школы, кроме того, при крупных мануфактурах были учреждены ремесленные школы.
Исключительно важное значение для развития русской науки и культуры имело создание в России Академии Наук. На ее плечи ложилось руководство работами по изучению и освоению территории и природных богатств страны, разработка тех вопросов, которые
27
были выдвинуты ходом исторического развития. Кроме этого, Академии была поручена подготовка русских кадров в области культуры, науки и просвещения. С первых дней существования Академия Наук располагала прочной материальной базой: она получила в свое распоряжение прекрасную библиотеку, кабинеты, лаборатории, музей (кунсткамеру), обсерваторию, типографию и мастерские.
Решения задач, стоящих перед русской академией, нельзя было добиться «при заведении простой Академии». Поэтому, исходя из русских условий, в академии были соединены целых три учреждения: собственно академия, университет и гимназия. Такое соединение совершенно различных по своим задачам и методам работы учреждений имело свои недостатки, но в тех условиях это было единственно правильное решение. Огромное значение имело то обстоятельство, что в центре внимания академии стояли естественные науки и совсем не нашлось места для представителей богословия. В основном удачен был и первый состав академиков. В их числе оказались такие выдающиеся ученые, как братья Бернулли, Леонард Эйлер, астроном Делиль, ботаник Гмелин и другие. Петербургская Академия Наук быстро превратилась в один из передовых научных центров в Европе.
Но, говоря о прогрессивном значении преобразований петровского времени, нельзя упускать из вида того, что они имели определенную классовую направленность и производились за счет усиления крепостного гнета. Классовая направленность и классовая ограниченность преобразований того времени в полной мере сказались и на мероприятиях в области культуры и науки. Они были поставлены на службу господствующим классам. Просвещением и образованием были затронуты лишь верхушки господствующих классов. Народные массы по существу почти ничего не получили в результате преобразований петровского времени в области культуры. Это привело к тому, что еще больше увеличился разрыв между русским дворянином и неграмотным, задавленным крепостным гнетом русским мужиком.
В продолжение XVIII века русское дворянство все более отрывалось от народа и превращалось в антинародную силу, становилось классом, который не верил в творческие возможности своего народа и все более боялся его. Дворянство и особенно его аристократическая верхушка открыто пренебрегали национальными традициями, презрительно относились к русской национальной культуре, низкопоклонничали перед Западной Европой. Среди дворянской знати широко распространилось перенимание быта, манер, костюмов французской аристократии, которая накануне буржуазной революции 1789 г. переживала распад и социальный кризис. В этих условиях среди верхушки господствующих классов нашли благоприятную почву клеветнические теории о духовной неполноценности
28
русского народа, фальсификация его истории и неверие в его будущее.
Преобразования Петра представляли собой своеобразную попытку выскочить из рамок отсталости, но эта отсталость тогда не была и не могла быть ликвидирована, так как для этого было необходимо открыть широкую дорогу для развития капиталистических отношений. Продолжавшееся же и расширявшееся господство крепостничества лишало промышленность основной предпосылки для ее быстрого развития — наличия свободных рабочих рук. Оно ограничивало развитие торговли, консервируя натуральный характер хозяйства. Оно мешало развитию техники и использованию богатств страны, сковывало и давило творческие силы русского народа. Это создавало кричащее противоречие между творческими возможностями народа и их использованием и применением.
Все более открыто становясь органом дворянской диктатуры, самодержавие направляло все свои усилия на расширение и сохранение крепостничества. Именно в XVIII веке крепостное право распространяется на значительные районы страны: левобережную Украину, Дон, Приуралье, так называемую Новороссию, Тавриду, где сотни тысяч крестьян раздариваются придворной клике и превращаются в крепостных. Именно в XVIII веке крепостное крестьянство оказывается во власти неограниченного произвола помещиков, получает широкое распространение торговля крепостными. Именно в это время крепостное право в России приняло те уродливые формы, о которых В. И. Ленин писал, что «крепостное право, особенно в России, где оно наиболее долго держалось и приняло наиболее грубые формы, оно ничем не отличалось от рабства»1.
Активно охраняя и защищая отжившие крепостнические отношения, политическая надстройка и в первую очередь российское самодержавие проводили явно реакционную политику. Они мешали формированию и развитию новых капиталистических отношений и тем самым тормозили экономическое и культурное развитие страны. Эта политика сопровождалась массовой непроизводительной растратой людских и материальных ресурсов страны и причиняло стране и русскому народу неисчислимый вред.
Тот факт, что искусно лавируя в целях удовлетворения интересов различных группировок господствующих классов и сохранения незыблемости основ существующего строя, государственная власть выступала под личиной «просвещенного абсолютизма», не менял существа ее политики. В то время как дальнейшее развитие русского государства, рост промышленности и торговли требовали ускорения темпов
29
развития культуры и науки и распространения просвещения, правительство ограничивалось полумерами. Расходы на государственный аппарат и содержание двора возрастали в неслыханных размерах, расходы же на науки и просвещение оставались на прежнем уровне. В проекте речи для большевистского депутата в Государственной думе по вопросу о смете министерства народного просвещения на 1913 год, В. И. Ленин писал: «О да, Россия не только бедна, она — нищая, когда идет речь о народном образовании. Зато Россия очень «богата» расходами на крепостническое государство, помещиками управляемое, расходами на полицию, на войско, на аренды и десятитысячные жалованья помещикам, дослужившимся до «высоких» чинов, на политику авантюр и грабежа...»1. Эта характеристика с полным основанием может быть отнесена и к политике правительств Елизаветы и Екатерины II, так как основное содержание и направление политики самодержавия не изменилось.
Количество школ росло крайне медленно, вдобавок к этому значительная часть их носила ярко выраженный сословный характер, мешавший широкому распространению образования. Не менее ярко выступало это реакционное направление политики правительства в отношении Академии Наук. Эта политика привела к постепенному отходу академии от стоящих перед ней задач, к отрыву от практики и уходу в «чистую науку». Она способствовала засорению академии значительным количеством псевдоученых, а то и просто авантюристов и бездельников, рассматривавших академию как своего рода кормушку. К руководству академией при прямом покровительстве и поддержке придворной клики пробрались люди, являвшиеся злейшими врагами русского народа. Стремясь сохранить и упрочить свое монопольное положение, они срывали подготовку русских ученых и довели до развала академический университет и гимназию. При попустительстве той же придворной аристократии они распространяли и пропагандировали клеветнические теории относительно неполноценности русского народа, его неспособности к наукам, его отсталости, рабской зависимости от буржуазного Запада и т. д. Значительная часть академиков и в первую очередь клика, управлявшая академией, выступали защитниками и проповедниками отсталых, антинаучных взглядов в науке и реакционных в политике.
Передовая русская культура и наука развивались в середине XVIII века в чрезвычайно трудных и сложных условиях. Царское правительство проводило реакционную, антинародную, а зачастую и антинациональную политику. Политика реакции и беспредельного увеличения крепостного гнета искусно прикрывалась пышными и
30
пустыми фразами о всеобщем благе, о веке просвещения и покровительстве национальной культуре и науке. Эту демагогическую политику начал еще Шувалов и довела до крайней виртуозности Екатерина II. В действительности, правительство выказывало полное невнимание к нуждам науки и культуры. Его поддержкой пользовалось лишь реакционно-монархическое и клерикальное направление.
Беспощадно угнетая русский народ, русское дворянство и выражавшее его интересы самодержавие боялись народа, мешали развертыванию его сил и все больше ориентировались на Запад, где они заимствовали наиболее реакционные идеи и порядки, враждебные русскому народу и его передовой культуре. Самодержавие и господствующие классы беззастенчиво спекулировали даже на передовых идеях Запада, извращая и фальсифицируя их и таким образом приспосабливая к своим реакционным целям. Такая политика самодержавия способствовала устремлению в Россию настоящего потока иностранцев, съезжавшихся сюда в поисках легкой наживы и быстрой карьеры. Шумахеры и тауберты захватили Академию Наук; бироны, минихи, лестоки, шульцы заняли командные должности в государственном управлении. Тысячи невежд, подобных фонвизинскому Вральману, подвизались в роли учителей и наставников. Мутный поток низкопоклонства и реакции грозил захлестнуть русскую национальную культуру и науку, направить развитие русской культуры по ложному, неправильному пути. Однако действительным носителем национального характера, выразителем лучших национальных традиций является народ. Именно русский народ, его лучшие сыны решительно двинули вперед национальную культуру и науку.
Не случайно значительная часть лучших представителей передовой русской культуры и науки в XVIII веке являлась выходцами из народа, на который с таким презрением смотрели господствующие классы. Ломоносов и Крашенинников, Десницкий и Аничков, Зуев, Ползунов и Кулибин, Аргунов и Шубин — все они и десятки других вышли из самых глубин русского народа. К ним присоединились выходцы из дворян, отказавшиеся от защиты своекорыстных классовых интересов дворянства и ставшие выразителями общенародных, общенациональных интересов, такие, как Новиков и Фонвизин, Поленов и Крылов, Радищев, Козельский и другие замечательные представители передовой русской культуры и общественной мысли.
Любовь к своей родине, гордость за ее героическое прошлое, борьба за ее светлое будущее, развитие лучших национальных традиций русского народа являются основными особенностями деятелей русской передовой культуры. Недаром великий русский революционер-демократ
31
Н. Г. Чернышевский писал: «Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма»1.
Патриотическая направленность деятельности представителей передовой русской национальной культуры, вдохновляемой вековой борьбой русского народа против самодержавия и крепостничества, обусловила их все возраставшую политическую оппозиционность по отношению к существующему строю. По мере развития новых капиталистических отношений и обострения классовых противоречий в стране эта оппозиционность перерастала в прямую враждебность к самодержавию и крепостничеству. Деятели передовой русской культуры тем полнее и глубже выражали интересы народа, чем решительнее они выступали против господства самодержавно-крепостнического строя.
В XVIII веке уже отчетливо выступают освободительные традиции в русской культуре, так великолепно продолженные и развитые в XIX веке замечательными представителями русской литературы, искусства, науки и общественной мысли. Совершенно прав проф. Благой, который, разбирая национальные особенности русской литературы, пишет: «Специфической чертой русской литературы, чертой, кровно связанной с ее патриотическим характером и тоже полностью обусловленной своеобразием русского исторического процесса, является ее гораздо большая, чем на Западе, демократичность, народность. Элементы народности дают себя знать в наиболее значительных явлениях русской литературы уже в XVIII веке, приобретая в творчестве Радищева прямой революционный характер»2. Эта характеристика литературы с полным правом может быть распространена и на другие отрасли русской культуры XVIII века.
С патриотическим характером русской культуры, с ее стремлением к демократичности и народности непосредственно связана еще одна важнейшая черта русской культуры, отчетливо выступающая уже в XVIII веке, — ее подчеркнуто светский характер, свойственные ей материалистические тенденции. Место религии и церкви в системе самодержавно-крепостнического строя определяло отношение к ним со стороны деятелей передовой культуры и науки. Кроме того, духовное господство церкви мешало развитию науки, не давало возможности стать на подлинно научную почву при изучении природы и ее явлений. Это усиливало антиклерикальную направленность передовой русской культуры. Поэтому в XVIII веке начинает складываться
32
в русской культуре и науке та «солидная материалистическая традиция», о которой говорил В. И. Ленин. Материализм был единственной философской школой, которая вела последовательную и беспощадную борьбу с феодализмом и поповщиной.
Развиваясь в борьбе с низкопоклонством дворянства, передовая русская культура и наука подчеркивала свой национальный характер, свою враждебность космополитизму и низкопоклонству. В этих условиях борьба за развитие национальной культуры и науки оказывалась прямо направленной против господства самодержавно-крепостнического строя. «125 лет тому назад, — писал В. И. Ленин, — когда не было еще раскола нации на буржуазию и пролетариат, лозунг национальной культуры мог быть единым и цельным призывом к борьбе против феодализма и клерикализма»1.
В середине и во второй половине XVIII века деятельность русских просветителей всем своим содержанием была направлена против господства феодально-крепостнического строя, против режима дворянской диктатуры, установившегося в это время в стране. Тем самым русские просветители объективно выражали требования новых капиталистических отношений, зарождавшихся в недрах старого строя. Вместе с тем русские просветители выступали горячими защитниками интересов и требований широких народных масс и в первую очередь интересов крепостного крестьянства. Именно это определяло антикрепостническую демократическую направленность их деятельности и материалистический характер их мировоззрения.
Представители другого направления: Екатерина II, князь Щербатов и Шувалов, Херасков, Сумароков и Карамзин, Петров и Рубан. Они вкладывали в понятие патриотизма и народности свое узкоклассовое содержание. Для них судьба страны и ее будущее были неразрывно связаны с существованием самодержавно-крепостнического строя, с судьбами класса помещиков. За национальные традиции они выдавали национальные «предрассудки», связанные с узкокорыстными интересами господствующих классов. Тем самым они стремились задержать развитие, сохранить и укрепить самодержавно-крепостнический строй, лишь слегка подправив и изменив то, что находилось в кричащем противоречии с новыми явлениями в экономической жизни страны.
Представители передового направления в русской культуре связывали с понятием патриотизма защиту коренных интересов большинства нации, ее трудящихся слоев. Патриотизм Ломоносова, Крылова, Лепехина, Десницкого, Шубина, Ползунова и других деятелей передовой русской культуры высок и благороден. Он проникнут
33
идеями служения Родине и народу, выражает требование движения вперед, продолжения и развития преобразований. Он выступает как законный наследник всего лучшего, что было в прошлом России, в том числе и прогрессивной стороны деятельности Петра.
Конечно, при характеристике национальной культуры и науки в середине и во второй половине XVIII века следует иметь в виду, что новые производственные отношения были еще крайне слабы, они только начинали зарождаться в недрах старого крепостнического строя. В стране не было класса, который бы мог возглавить всю нацию и повести ее на решительный штурм крепостничества и самодержавия. Все это определяло не окончательное еще размежевание двух направлений в национальной культуре того времени и вызывало недостаточную четкость и последовательность мировоззрения деятелей передового направления.
Слабость новых производственных отношений приводила и к тому, что у представителей передовой национальной культуры в то время еще сохраняются надежды на «просвещенного монарха» и просвещенных вельмож, на проведение преобразований сверху, на то, что распространение просвещения и развитие науки окажутся достаточными для устранения всех пороков российской действительности. Это вызывало то, что, критикуя, и подчас довольно резко, крепостной строй и самодержавие, даже лучшие представители национальной культуры не поднимаются до требования революционного их уничтожения. Лишь в конце XVIII века великий русский патриот и революционер А. Н. Радищев впервые в истории русской культуры наполняет понятие патриотизма новым революционным содержанием и решительно отказывает в патриотизме угнетателям народа. Подлинный патриот, по его мнению, только тот, кто беззаветно служит народу, борется за его освобождение, ненавидит его врагов. В мировоззрении и деятельности Радищева русская национальная культура вступила в новый, качественно отличный от прошлого этап своего развития.
Слабые стороны в мировоззрении и деятельности русских просветителей XVIII века были обусловлены эпохой и уровнем социально-экономического развития. Несмотря на наличие этих слабых сторон, представители передовой русской науки и культуры смело двигали науку вперед, отстаивали и развивали материалистические и демократические тенденции, придавали ей антикрепостнический характер, всю свою деятельность подчиняли интересам народа. В середине XVIII века эти черты передовой русской культуры и науки нашли наиболее полное выражение в мировоззрении и деятельности вышедшего из недр русского народа крестьянского сына Михаила Васильевича Ломоносова.
34
*****
Замечательные научные открытия и теории Ломоносова в области естественных наук играли огромную роль не только в развитии этих наук, но и в развитии материалистической философии. Работы Ломоносова в области естественных наук отличались материалистической направленностью и представляли собой энергичную борьбу за развитие и пропаганду материалистических воззрений на природу и ее явления. Прокладывая новые пути в науке и отбрасывая с дороги все устаревшее, мешавшее ее развитию, он самым решительным образом выступал против догматизма и господства средневековой схоластики, против попыток церковников удержать науку и просвещение под своей властью, против попыток сохранить за наукой роль служанки религии.
Придавая огромное значение практике и требуя, чтобы наука была тесно связана с ней, Ломоносов в то же время понимал, что плодотворное развитие науки невозможно без разработки теории, без освещения светом теории данных практики. В эпоху, когда большинство ученых ограничивалось простым накоплением материалов и фактов и не шло дальше простой их систематизации, когда боязнь обобщений и теории превращалась в тормоз для дальнейшего развития науки, Ломоносов подчеркивал великое значение теории. «Если не предлагать никаких теорий, то к чему служит столько опытов, столько усилий и трудов великих мужей?... Для того ли только, чтобы, собрав великое множество разных вещей и материй в беспорядочную кучу, глядеть и удивляться их множеству, не размышляя о их расположении и приведении в порядок?»1 — спрашивал Ломоносов. Его требование было сформулировано предельно ясно и четко: «Из наблюдений установлять теорию, чрез теорию исправлять наблюдения...»2.
Но Ломоносов не только восстановил роль теории и гипотезы в науке. Величие его в том, что он стремился к изучению материального мира в его единстве, стремился показать взаимосвязь и взаимодействие различных явлений природы и объяснить явления этого мира, исходя из него самого.
В то время как философия двигалась вперед и все более крепло ее материалистическое направление, естественные науки никак не могли выйти из-под влияния религии и были проникнуты идеализмом. Своими блестящими открытиями и замечательными теориями в области естественных наук Ломоносов создавал базу для дальнейшего развития материалистической философии в новых исторических условиях.
35
Давая определение материи, он постоянно подчеркивал ее неразрывную связь с движением. «Движение не может происходить без материи»1, — утверждал он. Это материалистическое утверждение легло в основу его многолетней работы над молекулярно-кинетической теорией теплоты. На основе сотен опытов и наблюдений, Ломоносов решительно отвергал, как ненаучную, господствовавшую в тогдашней науке теорию теплорода. Он утверждал, что это усиленно защищавшееся немецкими «шершнями-монадистами» «мистическое учение должно быть до основания уничтожено»2. Он показывал, что действительной причиной теплоты является внутреннее движение материи. Логическим завершением и наиболее ярким выражением материализма Ломоносова является открытие им закона, который он сам называл «всеобщим законом природы». «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого... Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому»3.
Материя в понимании Ломоносова, охватывающая «все перемены в натуре случающиеся», как отмечал С. И. Вавилов, «близка к пониманию материи в ленинском диалектико-материалистическом философском значении», а открытый им «всеобщий закон природы» «на века вперед как бы взял в общие скобки все виды сохранения свойств материи». Это дало полное основание С. И. Вавилову сказать, что Ломоносов вкладывал в понятие материи несравнимо более глубокое и широкое понятие, чем его современники, и поэтому выдвинутое им начало сохранения материи «есть закон всеобщий, объемлющий всю объективную реальность с пространством, временем, веществом и прочими ее свойствами и проявлениями»4.
Открытый Ломоносовым закон сохранения материи и движения прочно вошел в сокровищницу науки и составляет одну из важнейших вех на пути ее развития. Одновременно с этим он является одной из основ материалистического понимания природы и объяснения ее явлений. Исключительно важным для развития науки и материалистической философии был вывод об «извечности движения», который сделал Ломоносов из открытого им закона. Этот вывод полностью
36
отвергал возможность божественного «первого толчка», издавна служившего одной из лазеек для протаскивания поповщины в науку.
В статье, которая, очевидно, по цензурным соображениям осталась неопубликованной и впервые увидела свет лишь в 1951 году, Ломоносов прямо утверждал: «Приписывать это физическое свойство тел божественной воле или какой-либо чудодейственной силе мы не можем» и делал вывод, что «первичное движение никогда не может иметь начала, но должно длиться извечно»1.
Ломоносов жил и работал в XVIII веке, когда материализм был преимущественно механистическим. «...своеобразная ограниченность этого материализма, — указывал Энгельс, — заключается в неспособности его понять мир как процесс, как такую материю, которая находится в непрерывном историческом развитии. Это соответствовало тогдашнему состоянию естествознания и связанному с ним метафизическому, т. е. антидиалектическому, методу философского мышления»2. В свете этой характеристики, которую дает Энгельс материализму XVIII века, тем ярче встает перед нами историческая роль Ломоносова, сделавшего попытку выйти за рамки метафизики и высказавшего ряд гениальных догадок, которые шли в направлении к диалектическому пониманию явлений природы. Большая часть этих догадок Ломоносова была полностью подтверждена в ходе дальнейшего развития науки. Хотя тогдашний уровень науки и не давал Ломоносову возможности подняться до диалектики, но его догадки представляли собой элементы нового в старом метафизическом способе мышления.
Огромное значение для последующего развития науки и философии имело, в частности, его выступление против теорий и представлений о неизменяемости мира. Он прямо издевался над утверждениями о том, что мир остался в том же состоянии, в котором он был когда-то создан богом. Ломоносов высказывал замечательные мысли о развитии природы. «Твердо помнить должно, что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как ныне находим... Напрасно многие думают, что все, как видим, сначала творцом создано... Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук... хотя оным умником и легко быть философами, выучась наизусть три слова: бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин»3, — писал Ломоносов.
37
Это утверждение не является случайной, мимоходом оброненной мыслью. С подобными утверждениями мы встречаемся во многих его работах1. Если к этому добавить, что Ломоносов считал причиной качественных различий тел то обстоятельство, что одни и те же атомы соединены различным образом, что он давал материалистическое объяснение не только первичным, но и вторичным качествам материи (вкус, цвет, запах и т. д.), станет ясно, насколько глубже и последовательнее был материализм Ломоносова по сравнению с материализмом его предшественников и современников.
Характеризуя состояние развития науки и философии в XVIII веке, Энгельс говорил о «гениальном открытии Канта», которое пробило первую брешь в окаменелом воззрении на природу и составило эпоху в развитии науки2. Между тем открытие Канта касалось лишь одной, хотя и очень важной, отрасли естествознания. В отличие от Канта, работы Ломоносова были несравненно более последовательны и охватывали все отрасли естествознания в целом, значительная часть их была выполнена раньше работ Канта. На основании этого сам собой напрашивается вывод, что не кто иной как Ломоносов своими замечательными работами пробил первую брешь в метафизике.
Об этом не говорит Энгельс лишь потому, что целый ряд величайших открытий выдающихся деятелей русской науки и философии оставался ему неизвестен. Так, недавно обнаруженные «Заметки» Энгельса о Ломоносове, свидетельствуют о том, что Энгельс непосредственно с его работами не был знаком3.
Отстаивая и развивая материалистическую теорию, Ломоносов считал окружающий нас материальный мир познаваемым и решительно выступал против идеалистов, доказывавших, что человек не в состоянии познать природу и выяснить объективное ее содержание и сущность ее явлений. Он утверждал, что восприятия наших чувств в том случае, если они проверены практикой, осмыслены и теоретически обобщены, могут дать и дают правильные представления о предметах и явлениях материального мира. Противопоставляя религии принцип научного опытного познания природы и показывая всю антинаучность религиозных доктрин о происхождении и строении вселенной, Ломоносов подрывал устои религии и ослаблял ее влияние на народные массы. Его работы вписали важную страницу в историю русского атеизма.
38
Работы Ломоносова в области естественных наук, отличавшиеся глубиной и последовательностью в проведении материалистических принципов, являлись одним из наиболее значительных достижений в современной им философии не только России, но и Западной Европы. Материалистические идеи и теории Ломоносова двигали науку вперед и помогли ему достичь выдающихся успехов и открытий в разработке конкретных наук и решении важнейших проблем, стоящих перед этими науками.
Создатель первой научной химической лаборатории в России, Ломоносов поставил химию на базу научного опыта и ввел в качестве основы химического исследования весовой принцип. Опережая науку на целое столетие, Ломоносов выступил как создатель физической химии. Он указал на роль и место химии в исследовании полезных ископаемых, медицине и в промышленном производстве. Ломоносов впервые поставил опытное преподавание химии в академическом университете и создал для этого целый ряд специальных приборов. Трудами Ломоносова был нанесен сокрушительный удар теориям о существовании особой «горючей материи» — флогистона, которые в это время безраздельно господствовали в западноевропейской науке. Он раскрыл сущность горения как химического процесса.
Ломоносов, открывший закон сохранения материи и движения, много и плодотворно работал в самых различных областях физики. Он разработал материалистическую теорию теплоты, провел имевшие огромное теоретическое и практическое значение исследования силы тяжести, упругости газов, земного магнетизма. Одним из первых он начал исследование атмосферного электричества. Его работу в этой области не могла остановить даже трагическая гибель работавшего вместе с ним передового немецкого ученого Вильгельма Рихмана. Сообщая, что «умер господин Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность»1, Ломоносов беспокоился только о том, что смерть Рихмана может быть использована мракобесами для нападок на передовую науку и изображена ими как «божья кара» за попытку ученых проникнуть в тайны явлений природы. Именно поэтому он категорически настаивал на публичном произнесении своего доклада об атмосферном электричестве.
Он исследовал природу света и полярных сияний, выдвинул понятие об абсолютном нуле температуры. Руками Ломоносова был создан ряд замечательных приборов по оптике и другим разделам физики. Ломоносов изгнал из физики теплород, «тяготительную и светящуюся материи», в которые непоколебимо верила современная ему западноевропейская наука.
39
Ломоносов является основоположником современной геологии. В эпоху, когда, по словам Энгельса, «история развития земли, геология, была еще совершенно неизвестна»1, Ломоносов решительно выступил против библейских мифов о сотворении мира и потопе, против библейской хронологии. На 70 с лишним лет опередив Лайеля, Ломоносов противопоставил средневековой библейской концепции исторический взгляд на развитие земли. Он первый объяснил происхождение слоистых осадочных пород. Ломоносов указал на вековые колебания суши и деятельность внешних сил природы как на явления, играющие важную роль в изменении земной поверхности. Изучая причины и характер землетрясений и вулканической деятельности, Ломоносов впервые в мире исследовал вопрос об образовании и возрасте рудных жил и положил начало науке о полезных ископаемых. Велика роль Ломоносова в исследовании происхождения органических полезных ископаемых: каменного угля, нефти, торфа и янтаря, в исследовании образования почвы. Он был инициатором изучения недр родной страны и более широкого использования ее богатств.
С изучением и освоением территории страны и ее природных богатств связана и работа Ломоносова в области географии. В географическом департаменте Академии Наук под его руководством шло составление географических карт страны, съемка и изучение ее территории. Он выступил инициатором изучения экономической географии России. Ломоносовым была выдвинута идея создания «экономического лексикона», который должен был содержать данные о всех производимых в России товарах, о месте их производства, количестве, качестве, о местах их продажи, ценах, о величине, значении и расположении городов, торговых путях, их состоянии и целый ряд других важнейших сведений. Лишь преждевременная смерть и господство в академии клики реакционеров не позволили ему полностью осуществить это замечательное предприятие.
Инициатор ряда экспедиций, Ломоносов выдвинул бессмертный, нашедший свое осуществление только в эпоху социализма, проект изучения и освоения Северного морского пути. Он хорошо понимал огромное значение освоения Северного морского пути как для экономического развития России, так и для безопасности нашей родины. Он верил в творческие силы русского народа и был убежден в том, что
Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава...2.
40
Ломоносов сконструировал замечательные приборы, облегчавшие мореплавание и делавшие его более безопасным. С мореплаванием тесно связаны его работы в области метеорологии. Ломоносов ясно представлял значение метеорологии для мореплавания и сельского хозяйства и совершил ряд замечательных открытий в этой области. Достаточно назвать его работы по исследованию атмосферы и открытие нисходящих и восходящих потоков воздуха. Считая предсказание погоды одной из труднейших, но зато и одной из важнейших задач, над разрешением которых должна трудиться наука, Ломоносов своими трудами в области метеорологии сделал первые шаги по пути решения этой благородной задачи.
Трудно переоценить значение Ломоносова и в области астрономии. Много работавший над организацией астрономических наблюдений и экспедиций, Ломоносов совершил величайшее открытие, установив наличие атмосферы на Венере. Именно в работах по астрономии и геологии особенно ярко выступает боевая атеистическая направленность его естественно-научной деятельности.
«Наука все еще глубоко увязает в теологии», — писал Энгельс о состоянии науки в XVIII веке1. Без уничтожения господства церкви над наукой и разоблачения вреда и ненаучности теологических взглядов на природу, наука не могла двигаться вперед. В этих условиях Ломоносов вел прямую войну против поповщины в науке. При помощи неопровержимых доказательств он показывал всю несостоятельность религиозных теорий о происхождении и устройстве вселенной, высмеивал попытки изучать природу, основываясь на священном писании. Научная статья и публичная речь, ода и переложение псалма, памфлет и эпиграмма — все было использовано им в этой борьбе. Ломоносов требовал полного освобождения науки из-под власти религии, запрещения церковникам вмешиваться в дела науки. Он издевался над теми, кто «думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии», или с помощью высшей математики «определять год, день и его самые мелкие части для мгновения первого творения»2. Ломоносов смело выступал в защиту системы Коперника. Это было открытым вызовом церковникам, которые, пользуясь поддержкой царского правительства, перешли в это время в наступление против распространения научной системы Коперника. Синод требовал изъятия и уничтожения книги Фонтенелля «О множестве миров» и журнала Академии Наук «Ежемесячные сочинения», в котором были помещены сочинения и переводы, «утверждающие множество миров», а также запрещения писать и печатать о всем, «противном
41
вере», под страхом жесточайшего наказания1. В ответ на это, издавая свой доклад «Явление Венеры на Солнце», Ломоносов написал изумительное по силе и смелости «Прибавление», являющееся убийственным памфлетом против церковников и страстным гимном в честь науки и ее мужественных представителей, которые в борьбе против религии двигали науку вперед. «Прибавление к явлению Венеры на Солнце» в ясной и доступной форме излагало те же мысли, что и написанное за 10 лет до этого «Письмо о пользе стекла». Ломоносов показывал, что современные ему церковники не отличаются от «жрецов и суеверов» древности, которые «правду на много веков погасили»2. Более того, он сравнивал их с доносчиком древности Клеантом, обвинявшим ученых «в ниспровержении богов». Рядом с Клеантом Ломоносов поставил одного из столпов средневековой церкви — «блаженного» Августина.
Возьмите сей пример, Клеанты, ясно вняв,
Коль много Августин в сем мнении неправ;
Он слово божие употреблял напрасно,
В системе света вы то ж делаете власно3.
Господство церкви, утверждал Ломоносов, привело к тому, что «астрономы принуждены были выдумывать для изъяснения небесных явлений глупые и с механикою и геометриею прекословящие пути планетам...»4.
Своим обращением к древности он не только не ослаблял удара против доктрин христианства, а, наоборот, усиливал, так как показывал, что всякая религия враждебна науке и мешает ее развитию.
Тем с большей силой Ломоносов воспевал тех, кто, не боясь преследований светских и духовных, двигал науку вперед. Первым в ряду мужественных борцов он изобразил Прометея, которого, жрецы-священнослужители, «невежд свирепых полк» «предали на казнь обнесши чародеем». Это не единичный случай преследования ученых, утверждал Ломоносов:
Под видом ложным сих почтения богов
Закрыт был звездный мир чрез множество веков.
Боясь падения неправой оной веры,
Вели всегдашню брань с наукой лицемеры...5.
42
Чтобы подчеркнуть «всегдашню брань с наукой» со стороны религии, Ломоносов рассказывал о «презрителе зависти и варварству сопернике» Николае Копернике, о Кеплере, Ньютоне, Декарте и других великих мужах науки. С чувством глубокого уважения и искренней признательности он говорил о своих великих предшественниках. «Много препятствий неутомимые испытатели преодолели и следующих по себе труды облегчили... Взойдем на высоту за ними без страха, наступим на сильные их плечи и, поднявшись выше всякого мрака предупрежденных мыслей, устремим сколько возможно остроумия и рассуждения очи для испытания причин происхождения света»1, — звал своих соратников и учеников Ломоносов. Тех же, кто не хотел следовать по этому пути, он оставлял «вымерять божескую волю циркулем». Явно иронизируя над отсутствием здравого смысла у своих противников, Ломоносов предоставлял решение спора между сторонниками системы Птолемея и Коперника... повару!
Он дал такой ответ: что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такого,
Который бы вертел очаг кругом жаркого?2
Прокладывая новые пути в науке, Ломоносов не страшился выступать против господствовавших в науке теорий и представлений, как бы ни был велик авторитет, стоявший за ними. Открыв закон сохранения материи, он не побоялся сказать, что «славного Роберта Бойля мнение ложно». Работая над теорией строения вещества, он решительно выступал против идеалистических монад Лейбница и Вольфа. Своей теорией света он разрушал утверждения Гассенди и Ньютона. Доказывая объективное существование вторичных качеств материи, он ликвидировал уступку идеализму, сделанную Локком и Галилеем3. Ломоносов понимал, что развитие науки невозможно без преодоления устаревших положений и теорий, без творческого исследования и обсуждения вопросов, выдвинутых ходом развития науки. В этом одна из причин его высокой оценки Декарта. «Мы, кроме других его заслуг, особливо за то благодарны, что тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и против прочих философов в правде спорить, и тем самым открыл дорогу к вольному философствованию и к вящему наук приращению»4, — писал о нем Ломоносов.
43
Вся деятельность Ломоносова в области естественных наук была вызвана к жизни потребностями страны и поставлена на службу ее интересам. Помимо огромного теоретического значения его открытия сыграли не меньшую практическую роль для развития металлургии, горного дела, мануфактурного производства, мореплавания, сельского хозяйства и обороны страны. Всем своим существом и содержанием научная деятельность Ломоносова была связана с его стремлением облегчить труд народных масс, улучшить положение трудящихся. Тесная связь науки с практикой, помощь производству всегда являлись одним из главных принципов всей научной деятельности Ломоносова. Выполняя свои работы по метеорологии, он стремился сделать более безопасным трудное дело мореплавателей, помочь земледельцу получить более высокие урожаи и избежать гибели результатов своего труда. Исследуя атмосферное электричество, он стремился спасти «здравие человеческое от оных смертоносных ударов», города и села России от пожаров. В электрической искре он видел «великую надежду к благополучию человеческому» и мечтал об использовании электричества в земледелии и медицине1. Проделывая тысячи опытов в своей химической лаборатории, он стремился к тому, чтобы химия «широко распростерла руки свои в дела человеческие» и помогла в различных отраслях производства. Исследуя вопрос о движении воздуха в шахтах, он заботился об удалении из них газов, «человеческому здравию вредительных», и «облегчении труда работников». Создавая свои классические работы по металлургии и горному делу, Ломоносов обращал внимание на необходимость облегчения условий труда. Он заботится о том, чтобы одежда и обувь рабочих соответствовала тем условиям, в которых они работают, и требовал соблюдения того, что мы сейчас называем техникой безопасности2. Все это было проявлением заботы о труде крепостного крестьянина, которого хозяева заводов, «благородные» и «неблагородные» заводчики, не считали за человека. Труд ученого, по утверждению Ломоносова, должен «не токмо себе, но и целому обществу, а иногда и всему роду человеческому пользою служить»3. Трагедией Ломоносова, как и других передовых русских ученых и изобретателей, было то, что в условиях господства крепостничества и реакционной политики самодержавия их открытия и изобретения не находили себе применения, погибали и приоритет на них утрачивался. Так было в XVIII веке с открытиями Ломоносова, с замечательным русским машиностроителем А. К. Нартовым, создавшим первый в мире
44
механический суппорт, с изобретателем первой в мире паровой машины И. Ползуновым, замечательным механиком Кулибиным, изобретателем электрической дуги Петровым и сотнями других талантов, которых выдвигал из своей среды русский народ.
Работая в области естественных наук, Ломоносов опирался на успехи предшествующего развития науки и философии, но это было подлинно творческое освоение и теоретическое обобщение. Его теории и открытия были глубоко оригинальны и самостоятельны. Ничего общего с действительностью не имеют попытки буржуазных ученых и философов объявить Ломоносова учеником Лейбница и Декарта, либо прямым последователем Вольфа, того самого Вольфа, философию которого Энгельс называл плоской вольфианской телеологией, «согласно которой кошки были созданы для того, чтобы пожирать мышей, мыши, чтобы быть пожираемы кошками, а вся природа, чтобы доказывать мудрость творца»1. Ломоносов на многие десятилетия опередил современных ему ученых и философов и в области естественных наук был в XVIII веке крупнейшим ученым мира.
Советский народ, законный наследник всего, что создано в прошлом деятелями передовой национальной культуры и науки, высоко оценивает это направление деятельности Ломоносова. В день юбилея Ломоносова центральный орган нашей партии «Правда» писала: «Необыкновенная страсть к научному познанию жизни и к преобразованию родной страны дала силу Ломоносову. Наука для него была непосредственно связана с опытом, с практикой, с промышленной разработкой естественных богатств страны, с развитием ее производительных сил, ее культуры. Он горячо любил свой народ. Вот почему он вел такую непримиримую борьбу с приказными от науки, с цеховыми учеными, замыкающимися в глухом углу своих узких интересов»2.
Направление естественно-научных работ Ломоносова было непосредственно связано с его патриотизмом, с прогрессивностью его общественно-политических взглядов. Это нашло яркое выражение и в его работах в области гуманитарных наук и литературном творчестве.
*****
Работы Ломоносова в области гуманитарных наук и художественной литературы отнюдь не были чем-то второстепенным, навязанным ему сверху и мешавшим его работам в области естественных наук, как порою и до сих пор утверждают авторы статей и книг о Ломоносове.
45
Его работы в области языка, художественной литературы, истории составляют органическую часть изумительно многогранной, но столь же целостной деятельности. Эта многосторонность творчества Ломоносова была отмечена еще Пушкиным: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью всей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник...».1
Деятельность Ломоносова развертывалась в период превращения русского народа в нацию. Это выдвигало в качестве одной из центральных проблем того времени проблему создания и развития общенародного русского литературного языка и художественной литературы. В противовес низкопоклонствующей аристократии и клике реакционеров-иностранцев, кричавших о неполноценности русского языка и его непригодности для научных исследований, Ломоносов писал о «природном изобилии, красоте, силе, великолепии и богатстве русского языка», о его глубокой древности и удивительной стойкости, о том, что несмотря на огромность территории России, весь русский народ в городах и селах «говорит повсюду вразумительным друг другу языком»2. Бросая прямой вызов «иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим язы́кам, нежели к своему, трудов прилагали», он утверждал: «Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели его точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем»3. Осуществляя эту замечательную декларацию, Ломоносов и развертывал свою работу над изучением русского языка.
Его предшественник в разработке проблем русского языка Тредиаковский считал, что основой национального литературного языка должна явиться языковая практика придворной аристократии. Между тем именно в это время языковая практика этой социальной группы характеризовалась всеми чертами обреченного на прозябание «салонного жаргона». В своих работах в области языкознания Ломоносов полностью игнорировал «салонный жаргон» русских аристократов. Он решительно отметал попытки духовенства установить
46
гегемонию церковнославянского языка, противопоставить его живому языку народа.
И в своих теоретических работах, и своих литературных произведениях Ломоносов шел по единственно правильному пути, стремясь к всемерному сближению разговорного живого языка народа со старой книжной речью. Он первый начал читать научные лекции на русском языке, обогащая русский язык новой научной и технической терминологией и показывая образец того, как ясно и выразительно можно излагать научные положения на русском языке.
Ломоносов правильно отмечал исключительную роль и значение слова, которое дано человеку, чтобы «сообщать другому идеи вещей и их деяний». Он называл идеи «представлениями вещей или действий в уме нашем» и утверждал, что с помощью слов человек сообщает другим людям понятия, полученные им с помощью чувств из окружающего его реального мира («воображенные себе способом чувств понятия»)1. Это материалистическое, глубоко прогрессивное по своему содержанию положение о взаимоотношении языка с материальным миром и человеческим сознанием, а также догадки и мысли о роли и месте слова в жизни человеческого общества красной нитью проходят через все языковедческие работы Ломоносова.
Настойчиво изучая словарный запас русского языка и работая над его очищением и обогащением, Ломоносов не ограничился этим. Он создал первую русскую грамматику. Для того чтобы правильно оценить значение работы Ломоносова по созданию грамматики, напомним, что И. В. Сталин называл грамматику показателем громадных успехов человеческой мысли и указывал, что «именно благодаря грамматике язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку»2.
Для Ломоносова характерно правильное и ясное понимание значения и задач грамматики. Изучая сложившуюся к тому времени крайне неустойчивую и пеструю практику изменения и сочетания слов, он критически пересмотрел ее, обобщил и отобрал наиболее правильные и целесообразные формы и категории. Он выработал и изложил основной круг грамматических правил, которые обеспечивали «лучшее рассудительное употребление» русского языка. Называя грамматику «философским понятием всего человеческого слова», Ломоносов указывал, что «хотя она от общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению». «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна
47
философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики»1, — писал он.
Общенародный характер и демократическая направленность грамматики Ломоносова обеспечили ей прочный успех и превратили ее в одну из самых популярных научных книг, по которой учился целый ряд поколений русских людей.
Одним из блестящих образцов утверждения законов русского национального языка и стиля является «Риторика» Ломоносова. В основе «Риторики» лежало стремление вывести науку и русский язык из-под духовной власти церкви, создать теорию русской светской прозы. «Риторика» Ломоносова носила подчеркнуто светский характер и пропагандировала материалистические передовые идеи. Свои рассуждения и теоретические положения Ломоносов подкреплял и иллюстрировал большим количеством литературных образцов и примеров. Огромное значение имела ломоносовская теория трех стилей. Помимо того, что эта теория определяла пути синтеза разговорной и книжной речи, она правильно ставила вопрос о соответствии формы и содержания. Своими работами по теории языка и литературы и своими литературными произведениями Ломоносов отстаивал национальный характер нарождающейся русской литературы. Уже в одной из первых своих работ он утверждал: «Первое и главнейшее, мне кажется, быть сие: российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить»2.
Ломоносовская грамматика легла в основу грамматики, изданной в 1802 г. Академией Наук. За 11 лет напряженной работы был подготовлен словарь русского языка с 43 тысячами слов. Как указывает М. И. Сухомлинов, при работе над составлением словаря был широко использован «Лексикон первообразных слов российских», составленный Ломоносовым и его помощником Кондратовичем3. Исключительно широко использовали составители словаря и сочинения Ломоносова. 90% всех примеров для объяснения слов было взято из его сочинений4. Представители передового направления в русской культуре прекрасно понимали значение работ Ломоносова для развития национального языка, литературы и всей русской национальной культуры и науки. Исключительно ярко выразил это Радищев. «В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги,
48
толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно»1. Этими словами он закончил «Путешествие из Петербурга в Москву».
Совершенно иным было отношение к языковедческим работам Ломоносова со стороны придворной аристократии и идеологов дворянской культуры. Их выводила из себя именно общенародная, демократическая направленность работ Ломоносова. Это лежало в основе той борьбы по вопросам языкознания, которая шла между Ломоносовым, с одной стороны, Сумароковым и Тредиаковским — с другой. В этом причина того, почему Тредиаковский заявлял, что
Он красотой зовет, что есть языку вред
Или ямщичий вздор, или мужицкой бред2.
Когда будущий император, 10-летний Павел, слушая чтение своего учителя Порошина, заявил: «Это, конечно уж, из сочинений дурака Ломоносова»3, — то это было лишь бесцеремонным выражением мнения придворной клики о великом представителе русского народа. Так, идеолог реакционного дворянства князь Щербатов протестовал против того, что в словаре Российской академии было много примеров из произведений Ломоносова4.
Роль Ломоносова в развитии русской национальной художественной литературы общеизвестна. Никакие выпады литературных противников ни при его жизни, ни после смерти не могли поколебать всеобщего признания роли Ломоносова. «С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном...»5. Так ярко и образно определил его роль В. Г. Белинский. Существо этой оценки десятки раз повторено в статьях Герцена, Чернышевского, Добролюбова и других представителей передовой русской культуры. Тот факт, что в их произведениях имеется немало резких оценок од и торжественных речей Ломоносова, ничего не меняет. Они были направлены не против Ломоносова и его творчества, а против реакционеров, пытавшихся использовать произведения Ломоносова для восхваления самодержавия и крепостнической России, для оправдания верноподаннического, холопского по отношению к царизму «творчества». Резкие оценки революционных демократов были направлены против реакционеров, возрождавших устарелые литературные формы с их официальным, хвалебным содержанием, которые противопоставлялись
49
формировавшемуся в это время направлению критического реализма. Они были вызваны стремлением реакционеров выхолостить из понятия патриотизма его революционное освободительное содержание. Вот это-то и вызывало отпор со стороны Пушкина, Белинского, Чернышевского, Добролюбова и других деятелей демократического направления в русской культуре. Призывая к революционной борьбе за свержение самодержавно-крепостнического строя, Н. А. Добролюбов писал: «В недавнее время патриотизм состоял в восхвалении всего хорошего, что есть в отечестве; ныне этого уже недостаточно для того, чтобы быть патриотом. Ныне к восхвалению хорошего прибавилось неумолимое порицание и преследование всего дурного, что еще есть у нас. И нельзя не сознаться, что последнее направление патриотизма гораздо практичнее, потому что вытекает прямо из жизни и ведет прямо к делу»1.
Большинство произведений Ломоносова представляют собой оды, похвальные слова и т. п. Причины этого в общих условиях российской действительности, в том месте, которое занимал писатель в системе самодержавно-крепостнического строя и, наконец, в служебном положении самого Ломоносова. О трагизме положения русского писателя в середине XVIII века писал Денис Фонвизин, жаловавшийся на то, что существующий строй связывает русских писателей, мешает им развернуться во всю мощь, не дает возможности стать политическими деятелями. В одном из писем Стародума он отмечал, что деятельность оратора сведена к произнесению одних похвальных слов, поскольку в России нет «народных собраний», в которых «имели мы, где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих»2.
В одах и речах Ломоносова мы встречаемся с восхвалением Петра, доходящим до его прямого обожествления. В них можно встретить десятки примеров совершенно незаслуженных похвал по адресу ничтожных и бездарных преемников Петра, политика которых носила антинародный и антинациональный характер. Это правильно отметил еще Радищев: «Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елизавете»3. Что же в действительности воспевал Ломоносов? Как совместить пламенный патриотизм Ломоносова, его горячую любовь к русскому народу с восхвалением его врагов и угнетателей? Центральной идеей всех научных и литературных произведений Ломоносова
50
является требование ликвидации экономической и культурной отсталости России. Ломоносов непоколебимо верил, что великая страна и ее народ имеют все возможности для того, чтобы осуществить эту задачу и занять достойное место среди других стран и народов мира. Однако в тех исторических условиях Ломоносов не видел и не мог видеть сил, способных решить эту задачу. Нарождавшаяся в это время русская буржуазия была тесно связана с самодержавно-крепостническим строем, обслуживала его и зависела от него политически и экономически. Она была еще крайне слаба и не сознавала своих классовых интересов. Тогда, как и впоследствии, русская буржуазия не являлась революционной силой. Ярким проявлением крайней слабости и ограниченности нарождающейся буржуазии были требования, с которыми выступило купечество в Комиссии по составлению нового Уложения в 1767 г. Купечество не только не выступало против крепостного права и дворянских сословных прав и привилегий, которые являлись основным препятствием для развития капитализма в стране, но и требовало для себя прав владеть крепостными.
Что же касается крестьянства, то его борьба была крайне разобщена и лишена сознательных политических целей. Мощная крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева разразилась уже после смерти Ломоносова. Сказанное объясняет, почему в современных ему исторических условиях Ломоносов связывал вопрос о преобразованиях в России с деятельностью мудрого и просвещенного царя. Широко распространенная в это время теория «просвещенного абсолютизма» занимала видное место в его мировоззрении.
Но, как нам представляется, дело не только в этом. Заслуживает серьезного внимания и указание проф. Благого о том, что в политических взглядах Ломоносова своеобразно отразилась вера в «доброго царя», свойственная широким массам крестьянства1. В мировоззрении и деятельности Ломоносова ярко сказались идеи и настроения, характерные для миллионов русских крестьян, и они-то в значительной степени определили как силу, так и слабость его политических взглядов.
Недовольство существующим строем, обрекавшим народ на нищету и бесправие, вражда к барину и попу, которые олицетворяли в его глазах ненавистный строй, горячая любовь к родине, ясный ум, стойкий характер, терпение, мужество в борьбе — все эти качества, характерные для народных масс, составляли основную сущность взглядов Ломоносова. Но одновременно с этим общественно-политические взгляды Ломоносова отразили и слабые стороны
51
русской жизни середины XVIII века и в первую очередь слабость мировоззрения крестьянства. Они отразили крайнюю политическую незрелость крестьянских масс, непонимание необходимости бороться за уничтожение всего самодержавно-крепостнического строя. Отсюда вера крестьянских масс в «хорошего царя», о которой говорил И. В. Сталин, характеризуя крестьянские восстания XVII—XVIII веков. В условиях, когда, говоря словами В. И. Ленина, «новые общественно-экономические отношения и их противоречия... были еще в зародышевом состоянии»1, вера в «хорошего царя» и ожидание изменения существующего положения путем действия сверху получали еще большую основу. Поэтому в произведениях Ломоносова такое большое место и занимала личность Петра. Отсюда и гимн, который пел ему Ломоносов в стихах и в прозе: «Я в поле меж огнем; я в судных заседаниях меж трудными рассуждениями; я в разных художествах между многоразличными махинами; я при строении городов, пристаней, каналов между бесчисленным народа множеством; я меж стенанием валов Белого, Черного, Балтийского, Каспийского моря и самого океана духом обращаюсь — везде Петра Великого вижу, в поте, в пыли, в дыму, в пламени и не могу сам себя уверить, что один везде Петр...»2.
Ломоносов не видел да и не мог видеть классовой ограниченности преобразований Петра. Для Ломоносова Петр — прежде всего выдающийся государственный деятель, пытавшийся ликвидировать отсталость страны. Поэтому восхваление Петра и его идеализация были по существу требованием проведения мероприятий, которые должны были, по мнению Ломоносова, покончить с отсталостью России. Помимо этого, восхваление личности и деятельности Петра несомненно носило черты явного противопоставления политики преобразований, проводившихся в петровское время, той политике, которую проводили во времена Ломоносова преемники Петра. Следует отметить, что таким противопоставлением широко пользовались и Пушкин, и революционные демократы в своих выступлениях против реакционной политики Николая I.
Если мы вдумаемся в содержание требований Ломоносова, то увидим, что они объективно были направлены против господства феодально-крепостнической системы и представляли собой поддержку нового, развивавшегося в старой крепостнической России. Ломоносов требовал изучения территории и недр страны с целью полного использования ее природных богатств и ресурсов. Он пропагандировал необходимость развития промышленности, основанной на
52
использовании данных передовой науки. Именно развитие промышленности рассматривалось Ломоносовым как главное условие ликвидации отсталости страны. Целую систему мер в отношении повышения продуктивности сельского хозяйства выдвигал Ломоносов в проекте учреждения специальной коллегии, занимающейся вопросами сельского хозяйства,
Антифеодальную направленность имели его взгляды на науку и просвещение. Требование всемерного содействия развитию передовой русской науки и применения ее открытий в хозяйстве страны, требование доступной всем бессословной школы, борьба за развитие передовой русской национальной культуры, — все это никак не умещалось в рамках крепостнического строя. Борьбой против господства феодальных сил была его борьба против могущества церкви.
В условиях, когда в России царил неограниченный произвол крепостников, когда господствующие классы непроизводительно расхищали материальные и духовные ресурсы страны, когда крепостнический гнет все усиливался и принимал те дикие формы, которые сближали его с рабством, Ломоносов выступал горячим защитником русского народа. Указывая на тяжелые условия жизни народа и в первую очередь его основного класса — крестьянства, он требовал от правительства принятия ряда мер, которые бы обеспечили «размножение и сохранение Российского народа»1.
Особого внимания заслуживает прямое указание Ломоносова на то, что главной причиной побегов крестьян являются «помещичьи отягощения крестьян и солдатские наборы», т. е. тяжесть феодально-крепостнического гнета. Он утверждал, что силой и репрессиями добиться прекращения побегов невозможно и единственным средством для этого является «облегчение податьми»2.
Именно горячей любовью к народу, стремлением оградить его от произвола и бесправия самодержавно-крепостнического строя объясняется, почему он признавал настоящим царем, «истинным героем» только того, который употребляет свою власть на благо народа.
53
Царя, что правдой и покоем,
Себя, народ содержит свой...
Едину радость несказанну
Имеет в щастии людей...1.
Многочисленные похвалы по адресу царей, цариц и их вельмож, содержавшиеся в одах и речах Ломоносова, были в первую очередь программой действий, которую он выдвигал перед ними. За всеми этими ничтожными фигурами, которым официально посвящены его оды, в действительности стоит величественный образ матери-родины. Особенно ярко выражено это в его программном произведении «Разговор с Анакреоном».
Лишенной общественного содержания чувственной поэзии Анакреона он противопоставлял патриотическую свободолюбивую деятельность героев античности, воспевал их «упрямку славную». Он звал деятелей искусства рисовать портрет «возлюбленной матери» — любимой Родины.
...Изобрази Россию мне.
Изобрази ей возраст зрелый
И вид в довольствии веселый,
Отрады ясность по челу,
И вознесенную главу.
...Одень, одень ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец.
О коль изображенье сходно,
Красно, любезно, благородно!2
восклицал он.
Он прославлял героическое прошлое России, воспевал ее мощь, непоколебимо верил в ее великое будущее. Сравнивая положение России с передовыми западноевропейскими странами, он с горечью отмечал: «не можем отрещись, что мы весьма... от них остались», хотя Россия имеет все основания быть в числе передовых, так как она «внутренним изобильным состоянием и громкими победами с лучшими Европейскими Статами равняется, многие превосходит»3.
Воспевая свою великую Родину, Ломоносов призывает сограждан отдать свои силы для ее процветания. «Мне кажется, я слышу, что
54
она к сынам своим вещает: Простирайте надежду и руки ваши в мое недро и не мыслите, что искание ваше будет тщетно»1.
Воспевая Петра, бывшего в его глазах олицетворением успешного развития России, он рядом с ним ставил людей, которые боролись за национальные интересы России. Не случайно с такой гордостью и любовью говорил Ломоносов об Александре Невском, Дмитрии Донском, Иване Грозном, Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском.
Одно из важнейших событий в истории многовековой борьбы русского народа за свою свободу и независимость — Куликовская битва — стояло в центре его трагедии «Тамира и Селим». Именно сама битва, а не традиционная история о любви крымской царевны и багдадского царевича составляет основу сюжета трагедии. О ней подробно и неоднократно рассказывается в ходе пьесы, ее исход определяет судьбы действующих лиц. Трагедия звучит как гимн в честь героического подвига русского народа, как воспевание его патриотизма. Описание Куликовской битвы Ломоносов давал с большой поэтической силой и подъемом, и лучшие страницы ломоносовской трагедии перекликались с замечательными произведениями древнерусской литературы «Словом о полку Игореве» и «Задонщиной».
Славя русский народ и слагая гимны в честь его сынов, отстаивавших свободу и независимость родины, сражавшихся за его национальные интересы, Ломоносов с гневом и презрением говорил о врагах народа, о тех, кто попирал национальные интересы России.
Ломоносов с возмущением отмечал, что при русском дворе хозяйничала клика невежественных иноземных авантюристов, на каждом шагу грубо попиравшая национальные интересы русского народа и оскорблявшая его национальное достоинство.
Проклята гордость, злоба, дерзость,
В чудовище одно срослись;
Высоко имя скрыла мерзость,
Слепой талант пустил взнестись!2
писал Ломоносов о Бироне. Он заклеймил позором Петра III, пытавшегося превратить Россию в придаток разбитой и обанкротившейся Пруссии и установить в России прусские порядки.
Слыхал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб торжествующий народ
Предался в руки побежденных?
О стыд, о странный оборот!3
55
Екатерина II прекрасно понимала, что смелые и резкие слова Ломоносова, обращенные к клике иноземцев, полностью относились и к ней самой. В оде, написанной через несколько дней после свержения Петра III, он предупреждал Екатерину, что если она будет попирать национальные права русского народа, то и ей не избежать судьбы Петра III1. Это смелое патриотическое выступление Ломоносова не было случайным.
Никто не уповай вовеки
На тщетну власть князей земных, —
писал он еще в начале своего поэтического творчества. Он видел, что вместо добрых дел в поступках правителей, которые «хвалятся своими великими титулами», можно обнаружить «лишь одну безмерность, надменность, слабость, и неверность, свирепство, бешенство, и лесть»2. Поэтому вполне понятно его обращение:
Доколе щастье ты венцами
Злодеев будешь украшать?
Доколе ложными лучами
Нам разум хочешь ослеплять?3
Не лишенным творческого вдохновения ремесленником, по заказу пишущим официальные оды, а патриотом, поэтом-гражданином, — вот кем был в действительности Ломоносов.
Необходимо отметить, что неправильная характеристика творчества Ломоносова нашла выражение и в некоторых работах советских ученых4. Отголоски неправильных утверждений, к сожалению, нашли место и в комментариях к VIII тому его собрания сочинений5.
Своей литературной деятельностью Ломоносов начал новую эпоху в развитии русской национальной литературы. Именно Ломоносов впервые раскрыл общественную роль литературы и потребовал от писателя, чтобы он всем своим творчеством служил своей стране, был патриотом и гражданином. Поэтому А. Н. Радищев и называл славу Ломоносова «славой вождя» и, обращаясь к современникам и потомкам, спрашивал: «Не достойны разве признательности мужественные
56
писатели, восстающие на губительство и всесилие, для того, что не могли избавить человечество из оков и пленения?»1.
Патриотическая поэзия Ломоносова была проникнута благородными идеями гуманизма. Не случайно одно из центральных мест во всем его творчестве занимает пропаганда мира. Ломоносов гордился героическим прошлым русского народа. Но с такой же силой, с какой воспевал «справедливую» войну, он восставал против захватнических войн.
В своих произведениях Ломоносов пропагандировал и славил мир как основное условие быстрого и плодотворного развития страны, развития в ней промышленности, торговли, литературы, науки, искусства.
Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!2, —
такими вдохновенными словами начинает Ломоносов одну из лучших своих од. Страстный пропагандист мира и дружбы между народами, Ломоносов решительно отказывался признавать героями кровавых завоевателей, чью
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ее мешает
Плачевный побежденных стон3.
«Пусть другие лишая жизни, обагряя меч своей кровию, умаляя число подданных, повергая пред народом растерзанные человеческие члены, устрашить злых и пороки истребить тщатся...», — писал он и призывал «не ужасными, но радостными примерами и награждением добродетелей исправлять человечество»4.
Насыщенная глубоким идейным содержанием, поэзия Ломоносова не была для него ни забавой, ни выполнением навязанной ему двором обязанности. Положившая начало русской национальной литературе, эта поэзия, даже втиснутая в узкие и тесные рамки торжественных и духовных од и стихотворений, была одной из форм, в которой он пропагандировал свои передовые научные взгляды.
В одах, баснях, речах и стихах Ломоносов излагал существо материалистических открытий и теорий. Достаточно вспомнить изумительные по силе и глубине его «Утреннее» и «Вечернее
57

Титульный лист I тома Собрания сочинений Ломоносова,
изданного Московским университетом в 1757 г.
Научная библиотека им. А. М. Горького при МГУ
58
размышления», которые некоторые исследователи ошибочно продолжают именовать «духовными одами»1. В «Размышлениях» Ломоносов дал материалистическую картину вселенной, изложил учение Коперника, развил гипотезу о происхождении северного сияния и нарисовал исключительную по силе художественного изображения и гениальности научного предвидения картину солнца.
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят2.
Какую смелость и уверенность в своей правоте нужно было иметь, чтобы в «Размышлении о божьем величии» говорить о множестве миров, что так преследовала в то время церковь. А ведь Ломоносов прямо писал, что ему
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна...
Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят...3.
Сам Ломоносов совершенно отчетливо представлял значение и характер своих «Размышлений». Недаром с ними связан беспрецедентный в истории науки случай. Для того чтобы доказать самостоятельный характер своих работ в области изучения электричества и отстоять свой приоритет в открытии природы северных сияний, Ломоносов в научной работе ссылается на «Вечернее размышление»: «Сверх сего, ода моя о северном сиянии... содержит мое давнейшее мнение, что северное сияние движением эфира произведено быть может»4, — писал он. Рядом с «Размышлениями» должно быть поставлено и замечательное «Письмо о пользе стекла», этот подлинный манифест передовой материалистической науки.
Из всего сказанного совершенно очевидно, что поэзия Ломоносова не только положила начало новой русской национальной литературе, но и являлась составной органической частью всей его деятельности.
59
*****
Работы Ломоносова в области истории не только не получили правильной оценки со стороны буржуазной историографии, но считались вообще не заслуживающими внимания. Буржуазные историки в один голос твердили о «ненаучности» приемов Ломоносова, его полной неподготовленности к занятиям историей и противопоставляли работам Ломоносова работы норманистов. Прямым повторением и воскрешением этих порочных концепций являются соответствующие главы книги Н. Л. Рубинштейна «Русская историография». Достаточно сказать, что Н. Л. Рубинштейн, характеризуя работы Ломоносова в области истории, называл их «лишь литературным пересказом летописи, своеобразной риторической амплификацией ее текста с некоторыми попытками его драматизации», отказывал им в каких-либо научных достоинствах и противопоставлял им работы Байера, Миллера и Шлецера, которым давал высокую оценку1.
Трагическая судьба работ Ломоносова по истории не случайна. М. Н. Тихомиров справедливо пишет, что в это время Бирон и его сторонники «выступали с воинствующей программой долгого утверждения немецкого засилия в России». Ей, этой клике, «доказательства того, что восточные славяне в IX—X вв. были сущими дикарями, спасенными из тьмы невежества варяжскими князьями, были необходимы для утверждения их собственного господства в той стране, народ которой имел свою давнюю и великую культуру»2. Так появилась и стала широко пропагандироваться клеветническая «норманская теория». Так появились работы, в которых русские источники «не токмо просто, но нередко и с поношением опровергаются», работы, в которых «на всякой почти странице русских бьют, грабят благополучно, скандинавы побеждают, разоряют, огнем и мечом истребляют». Появились работы, в которых русский народ, по выражению Ломоносова, представлен «толь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен»3.
В этих условиях и выступил со своими историческими работами М. В. Ломоносов. С самого начала нужно отбросить версию о том, что он смотрел на них, как на помеху своим естественно-научным трудам. Еще в Славяно-греко-латинской академии он внимательно изучал русские летописи. Его познания в истории не вызывали никаких сомнений. Это нашло свое выражение в том, что профессору
60
химии Ломоносову в 1743 году было поручено рассмотрение исторического сочинения Крекшина, а в 1748 году он был назначен членом исторического собрания. То, что именно его В. Н. Татищев просил написать к своей «Российской истории» предисловие говорит о многом. Между тем это было за 4 года до того, как Ломоносов получил официальное поручение написать историю России. В 1749—1750 гг. Ломоносов во всеоружии выступил против клеветнической диссертации Миллера «О происхождении имени и народа российского». Он проявил замечательное политическое чутье, прекрасную эрудицию в вопросах древней истории вообще, в истории славян и русского народа в особенности. Ломоносов правильно разгадал политический смысл работ Байера, Миллера, Фишера и те цели, которые они преследовали.
Ломоносов поставил себе задачу разрушить миф о том, что Байер является крупным ученым и знатоком русской истории. Это было совершенно правильно, так как именно работы Байера положили начало норманской теории. М. Н. Тихомиров, характеризуя русскую историографию XVIII в., указывает, что за 13 лет работы в Академии Наук Байер написал с десяток мелких статеек, «причем все эти труды были проникнуты одной целью: доказать, что настоящими устроителями Русского государства были пришлые варяги, без которых, по мнению Байера, не было бы и Русского государства»1. Высмеивая тупость и ограниченность Байера, возомнившего себя великим ученым, Ломоносов писал о «превеликих и смешных погрешностях» в его работах, о «весьма смешном и непозволенном» способе, которым Байер доказывает свои «откровения». Ломоносов подчеркивал ненаучность филологических приемов Байера и дал уничтожающую характеристику его «трудов» по русской истории. «Старается Байер не столько о исследовании правды, сколько о том, дабы показать, что он знает много языков и читал много книг. Мне кажется, что он немало походит на некоторого идольского жреца, который, окурив себя беленою и дурманом и скорым на одной ноге вертением закрутив свою голову, дает сумнительные, темные, непонятные и совсем дикие ответы»2. Разоблачив полную несостоятельность концепции и аргументации Байера, Ломоносов показал, что диссертация Миллера является дальнейшим развитием писания Байера. Что касается Фишера и Штрубе де-Пирмонта, то оба не заслуживали бы даже и упоминания, если бы они не играли активной роли в пропаганде концепции Байера. Отъявленный реакционер как в науке, так и в политике — Иоган Фишер был одним из тех проходимцев, которые
61
устремились в Россию в расчете на богатую поживу. В продолжение 9 лет «возглавляя» сибирскую экспедицию академии, Фишер меньше всего занимался наукой. Его интересовали лишь русские меха, а вместо научных изысканий он занимался открытым грабежом населения.
Никакими учеными доблестями не отличался и оказавшийся академиком секретарь Бирона Штрубе де-Пирмонт, который верой и правдой служил придворной клике и поддерживал реакционные теории Байера.
Рядом с этими невеждами и бездельниками Миллер занимал несколько особое положение. 10 лет провел он в Сибирских архивах, едва не ослеп и не погиб там. Им было собрано и спасено огромное количество исторических документов и материалов по истории России. Он впервые опубликовал, хотя и с крупными ошибками, ряд исторических документов. И тем не менее образ бескорыстного труженика и подвижника, созданный в буржуазной науке и воспроизведенный уже в советское время С. В. Бахрушиным и Н. Л. Рубинштейном1 не соответствует действительности, публикуя материалы о прошлом России, Миллер не скрывал своего презрения к русскому народу. Он неизменно занимал крайне враждебную позицию по отношению к деятелям, боровшимся за развитие русской национальной культуры и науки, и всячески стремился их дискредитировать. Так он хвастался тем, что Степан Крашенинников был у него в Сибири «под батожьем». В Германии Миллер инспирировал выступления против открытий Ломоносова и требовал его удаления из академии. Его стараниями в Московском университете оказалась целая группа реакционеров. Наконец, нельзя обойти молчанием и то, что зачастую открытия, сделанные в академии, результаты географических экспедиций и т. д., становились известны за границей до того времени, как они были опубликованы в России. Не составляет тайны и то, что среди академиков были прямые шпионы, вроде Шумахера, Юнкера, Гросса. Мы не имеем оснований относить Миллера к их числу. Но несомненно, что его деятельность в академии являлась серьезным препятствием для развития русской науки и культуры. Совершенно неслучайно, выступая с работами, враждебными России и русскому народу, Миллер одновременно с этим стремился ослабить чувство национального сознания русского народа и пропагандировал космополитические, антипатриотические идеи. Прикрываясь маской объективности и необходимости
62
«быть верным истине», он утверждал, что историк должен быть «без родины, без религии, без государя»1.
Ломоносов, считавший основной задачей историка воспитание гражданина и патриота, отчетливо понимал, что немецкая клика, захватившая в свои руки занятия русской историей, меньше всего пригодна для выполнения этих задач. Историк, писал он, должен «открыть свету древность российского народа и славные дела государей», показать, что в России не только такой «великой тьмы невежества не было, какую представляют внешние писатели2», но, наоборот, были дела и герои, нисколько не уступающие героям древней Греции и Рима.
Ломоносов понимал, что работы Байера, Миллера, Фишера, Шлецера прямо противоположны этим целям и направлены против России. Он видел, что они заняты выискиванием темных «пятен на одежде Российского тела» и фальсификацией прошлого русского народа3. Поэтому, говоря о должности историка в академии, Ломоносов указывал, что на эту должность необходимо тщательно отбирать людей и «смотреть прилежно: 1) чтоб он был человек надежный и верный и для того нарочно присягнувший.., 2) природный россиянин; 3) чтоб не был склонен в своих исторических сочинениях ко шпынству и посмеянию»4. Ломоносов решительно выступил против диссертации Миллера «О происхождении имени и народа российского», которую он правильно рассматривал, как прямой вызов и оскорбление русского народа. Борьба вокруг диссертации Миллера была своеобразным итогом в занятиях Ломоносова историей. В ходе борьбы Ломоносов окончательно убедился, что оставлять разработку истории русского народа в руках его врагов дальше невозможно. С этого времени занятия вопросами истории становятся для Ломоносова такой же необходимостью, как и занятия естественными науками. Более того, в 1750-х годах в центре занятий Ломоносова оказываются гуманитарные науки и в первую очередь история. Ради них он идет даже на то, чтобы отказаться от обязанностей профессора химии.
Отношение Ломоносова к истории прекрасно показывает его письмо Эйлеру. Сообщив, что он «целиком почти ушел в историю», Ломоносов добавляет: «Я часто за самой работой (над речью «О явлениях воздушных». — М. Б.) ловил себя на том, что душой я блуждаю
63
в древностях российских»1. Это замечание самого Ломоносова полностью опровергает версию о том, что исторические работы были «навязаны» ему сверху. Результатом работы Ломоносова явился написанный им совместно с переводчиком Богдановым «Краткий Российский Летописец», представлявший собой краткое учебное пособие. В 1757 году им была закончена I часть основного труда «Древней Российской истории», но издание ее всячески тормозилось и, начав печататься в 1758 году, книга вышла из печати лишь после смерти Ломоносова. В переписке с Шуваловым он упоминал свои работы «Описание самозванцев и стрелецких бунтов», «О состоянии России во время царствования государя царя Михаила Федоровича», «Сокращенное описание дел государевых» (Петра Великого. — М. Б.), «Записки о трудах монарха»2. Однако ни этих трудов, ни многочисленных документов, которые Ломоносов намеревался опубликовать в виде примечаний, ни подготовительных материалов, ни рукописи II и III части I тома до нас не дошло. Они были конфискованы и исчезли бесследно.
Центральная тема I книги «Древней Российской истории» — проблема происхождения русского народа, история восточных славян до IX в., т. е. как раз то, что до Ломоносова вообще не считалось заслуживающим какого-либо внимания или изучения со стороны историков. Для Ломоносова Рюрик и «призвание варягов» отнюдь не являлось началом истории русского народа. Поэтому книга Ломоносова открывалась большой главой, занимающей почти 40% книги, — «Россия прежде Рюрика». Этой части Ломоносов придавал особое значение. Ее основные положения были им включены в состав «Краткого Российского Летописца» в виде особого раздела «Показание Российской древности». Именно в этой части Ломоносов разбивал клеветнические утверждения Байера, Миллера и Шлецера. Именно эта часть и сейчас поражает глубиной и правильностью постановки вопросов. Целый ряд положений и мыслей, впервые здесь выдвинутых Ломоносовым, были развиты только в работах советских историков — Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова и др.
Ломоносов устанавливал, что славяне за много веков до Рюрика занимали огромную территорию в бассейне Днепра, Дуная и Вислы и играли выдающуюся роль в международных событиях III—VIII веков нашей эры, в частности, в разрушении рабовладельческой Римской империи. Он указывал на древность славянских городов и заявлял, что скудость сведений о северных славянах в иностранных письменных источниках объясняется исключительно плохой осведомленностью
64
о них «внешних писателей», а не малолюдством или отсталостью. «Имя славенское поздно достигло слуха внешних писателей... однако же сам народ и язык простираются в глубокую древность. Народы от имен не начинаются, но имена народам даются»,1 — писал он, разбирая воззрения древних авторов о славянах. Ломоносов правильно показал, что занимавшиеся разбоем варяги не имели никакого серьезного влияния на древнюю историю русского народа, который стоял на высокой ступени развития гораздо раньше появления варягов в древней Руси.
Всем своим содержанием эта часть работы Ломоносова была направлена против теорий, усиленно распространявшихся академиками — норманистами. Если в ней почти нет открытой полемики, то это объясняется тем, что окончательный текст «Древней Российской истории» создавался в условиях, крайне затруднявших разоблачение целей и приемов норманистов. Именно в то время, когда первый том «Древней Российской истории» печатался и Ломоносов работал над следующими, клика, управлявшая академией, при прямой поддержке Екатерины II, добилась назначения академиком по русской истории Шлецера. Но планы норманистов шли еще дальше. Они стремились вообще оттеснить Ломоносова от занятий русской историей, передав все собранные им и Татищевым материалы в распоряжение Шлецера.
В своей автобиографии Шлецер сам дал себе яркую и циничную характеристику. Он прямо говорил о том, что в Россию его привела исключительно погоня за деньгами. Объявивший космополитизм своим научным кредо, Шлецер, явившись в Россию, решил «облагодетельствовать» страну. С исключительным высокомерием он третировал всех, работавших до него в области филологии и истории, и стремился дискредитировать работы передовых деятелей русской науки и культуры. Особенную его ярость вызывали работы Ломоносова. Шлецер нагло заявлял, что гениальные работы Ломоносова годятся лишь в качестве «чернового материала». Окончательно распоясавшись, он называл Ломоносова «грубым невеждой, ничего не знавшим, кроме своих летописей», «человеком, не имевшим никакого понятия ни об языке, ни об истории, как и о других науках», заявлял, что его грамматика переполнена «множеством неестественных правил и бесполезных подробностей» и т. д.2.
Совершенно очевидно, что Шлецер мог действовать с такой наглостью только в тех условиях, когда при покровительстве правительства
65
Екатерины в русской академии хозяйничала клика злейших врагов русского народа.
Ломоносов с гневом и презрением отверг этот сумасбродный план, превращавший его в «чернорабочего». Одновременно с этим он показал, что исторические и филологические изыскания Шлецера являются прямым продолжением того вредного «шаманства», которым занимался Байер. Когда борьба Ломоносова против назначения Шлецера не привела к успешным результатам внутри академии, он перенес ее в Сенат. Причиной этого явилось подозрение Ломоносова, который считал Шлецера прусским шпионом. Эти подозрения были вполне обоснованы. В своих воспоминаниях сам Шлецер рассказывает, как предупрежденный Таубертом о том, что Сенат решил произвести обыск и конфисковать его выписки, он запрятал в кожаный переплет арабского лексикона таблицы о народонаселении России, о составе и размерах ввоза и вывоза России, о рекрутских наборах и т. п. материалы, не имевшие никакого отношения ни к занятиях филологией, ни к изучению русских летописей. Кроме того, много подобных материалов было запрятано Шлецером в дымоходе печи1.
Вопреки протестам Ломоносова, Екатерина II назначила Шлецера академиком. При этом он не только получал в бесконтрольное пользование все документы, находящиеся в академии, но и право требовать все, что считал необходимым из императорской библиотеки и других учреждений. Шлецер получил право представлять свои сочинения непосредственно Екатерине. Другими словами, ему гарантировалось, что с ним не произойдет ничего подобного тому, что было с диссертацией Миллера. Если к этому добавить, что Шлецер получал отпуск в Пруссию «для поправления здоровья», то совершенно ясно, для какой цели предназначались и куда попали его «выписки».
Решение Екатерины II закрепляло положение реакционной клики и отдавало разработку русской истории в ее руки. Оно вело к значительному усилению норманизма, к тому, что из состава академии на ряд десятилетий исчезли русские историки.
Тяжело больной Ломоносов прямо бросил в лицо Екатерине II обвинение в том, что она действует вопреки интересам русского народа. В черновой записке, составленной Ломоносовым «для памяти» и случайно избежавшей конфискации, ярко выражено чувство гнева и горечи, вызванное этим решением: «Беречь нечево. Все открыто Шлецеру сумасбродному. В российской библиотеке есть больше секретов. Вверили такому человеку, у коего нет ни ума,
66
ни совести... За то терплю, что стараюсь защитить труд П[етра] В[еликого], чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство». Вместе с тем Ломоносов выражал твердую уверенность в том, что придворным и академическим реакционерам никогда не удастся сломить духовную силу русского народа: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют. Ежели не пресечете, — писал он в заключение, — великая буря восстанет»1. Нет никакого сомнения, что дело Шлецера дорого стоило Ломоносову и ускорило его преждевременную смерть2.
Работы Ломоносова по истории составляют одну из важных страниц в его жизни и по праву должны стоять рядом с работами в области естественных наук. Именно в исторических трудах наиболее остро выступила патриотическая направленность деятельности Ломоносова.
Радищев, декабристы, революционеры-демократы были теми, кто продолжал и развивал патриотические и демократические идеи Ломоносова в русской историографии.
*****
Гениальный ученый и мыслитель, великий патриот М. В. Ломоносов является основоположником русской национальной науки. По меткому выражению С. И. Вавилова, «краеугольные камни успехов нашей науки были заложены еще Ломоносовым». Вклад Ломоносова в сокровищницу русской и мировой науки, его патриотическая деятельность составляют предмет национальной гордости русского народа. Гениальные открытия и теории Ломоносова, на многие десятилетия опережавшие современную ему науку, были восприняты и в новых исторических условиях получили дальнейшее развитие в трудах представителей передовой русской науки.
67
Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение гимназию и университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы. М. В. Ломоносов. |
ГЛАВА ВТОРАЯ
М. В. ЛОМОНОСОВ — ВЕЛИКИЙ ДЕЯТЕЛЬ
РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Мы уже говорили, что в условиях XVIII века самодержавие вынуждено было принять некоторые меры по организации образования. Оно нуждалось в специалистах для промышленности и флота, для армии и государственного аппарата. Это заставило открыть известное число общих и специальных школ, учредить Академию Наук, посылать молодых людей для обучения за границу, широко привлекать иностранных специалистов. Однако ни сами эти меры, ни способы проведения их в жизнь, ни масштабы их ни в коей степени не соответствовали грандиозности задач, стоявших перед Россией.
Ломоносов возглавлял передовое материалистическое направление в науке и смело опрокидывал мертвую средневековую схоластику. Он требовал от правительства всемерной поддержки национальной науки и применения ее открытий во всей хозяйственной жизни страны. Самодержавие и господствующие классы боялись настоящей науки, так как видели в ней опасность идеологического подрыва своего классового господства. Поэтому они были враждебны развитию передовой материалистической науки и поддерживали псевдонаучные теории и концепции; поэтому они
68
стремились сохранить в науке ту «духовную диктатуру церкви», о которой говорил Энгельс.
Ломоносов требовал широкого распространения образования и устройства бессословных школ, доступных для всего народа. Правительство же создавало ничтожное количество школ и придавало им сословный, кастовый характер. Тем самым оно закрывало основной массе населения доступ в специальные и высшие школы и полностью лишало права на образование многомиллионные массы крепостного крестьянства. Это была политика дикого ограбления народа в области образования, политика, о которой через полтора века В. И. Ленин, разбирая бюджет министерства просвещения, писал: «...правительство берет деньги с девяти десятых народа на школы и учебные заведения всех видов и на эти деньги учит дворян, заграждая путь мещанам и крестьянам!!»1
Ломоносов рассматривал науку и просвещение как средство преодоления технико-экономической и культурной отсталости России. Самодержавие же и представители господствующих классов и не помышляли об этом.
Ломоносов требовал пропаганды передовых научных взглядов в широких массах народа, а правительство с активной помощью церкви преследовало передовую науку, запрещало печатать, жгло книги и жестоко расправлялось с их авторами.
Ломоносов страстно любил свою родину и ее народ. Он твердо верил в творческие силы русского народа, в то,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумов Невтонов
Российская земля рождать.
Самодержавие же и господствующие классы ненавидели русский народ, боялись его и не верили в его творческие силы. Они не только не растили своих специалистов в области науки, техники, культуры, но не давали применить свои знания и открытия и тем, которые вырастали вопреки их политике. Они предпочитали по-холопски выписывать специалистов из Западной Европы.
Борьба за распространение просвещения в стране, за развитие национальной культуры и науки, за подготовку национальных кадров и в этой области составляла одну из главных задач всей деятельности Ломоносова. Для него, как и для других русских просветителей XVIII века, была характерна горячая защита просвещения. Выражая интересы народа, Ломоносов требовал создания бессословной демократической школы. Борясь за развитие науки и просвещения
69
в России, Ломоносов никогда не считал, что они должны являться привилегией только дворянства и купечества. Наоборот, требованием Ломоносова была доступность образования для всего народа. К нему вполне применимо известное положение В. И. Ленина: «Просветители не выделяли, как предмет своего особенного внимания, ни одного класса населения, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации вообще»1.
Разделяя общую для просветителей веру во всемогущество наук и просвещения, видя в них одно из главных средств для ликвидации технико-экономической и культурной отсталости страны, для уничтожения всех противоречий и недостатков современного ему общества, Ломоносов в своих поэтических и прозаических произведениях славил науки и просвещение. Он считал необходимым, чтобы науки были распространены как можно шире, «ибо, что их благороднее, что полезнее, и что бесспорнее их в делах человеческих найдено быть может?»2. Поскольку для Ломоносова не было ничего дороже Родины и науки, он считал, что одним из главных критериев при оценке политики государей и государственных деятелей должна быть их политика в отношении науки и культуры.
Борьба Ломоносова за распространение науки и образования в России была тесно связана с его гуманизмом. Гуманист и просветитель, он выступал с гневным обличением отношения «цивилизованных европейцев» к населению Америки.
Уже горят царей там древние жилища;
Венцы врагам корысть, и плоть их вранам пища!
И кости предков их из золотых гробов
Чрез стены падают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом и тиранством.
Иных свирепствуя в средину гонят гор
Драгой металл изрыть из преглубоких нор.
Смятение и страх, оковы, глад и раны,
Что наложили им в работе их тираны...3.
Эта гневная и яркая картина непосредственно перекликается с той, которая была через четыре десятилетия нарисована А. Н. Радищевым.
Выступая пламенным пропагандистом и защитником науки и просвещения, Ломоносов с тем большей силой обрушивался на
70
мракобесов, мешавших их развитию и распространению. Особую его ненависть вызывали церковь и церковники. Стремясь сохранить свое руководящее положение, они мешали развитию светского образования, настаивали на том, чтобы преподавание строилось в плане прославления религии. Отстаивая и развивая материалистическое миропонимание, Ломоносов требовал, чтобы церковники не смели соваться в дела науки. Когда церковники и особенно придворные проповедники Криновский, Дубенский и другие обрушились на Ломоносова, обвиняя его в «распространении натурализма», он дал им уничтожающий ответ:
...Ты думаешь, Пахом, что ты уж Златоуст,
Но мы уверены о том, что мозг твой пуст...
Нравоучением преславный Телемак
Стократ полезнее твоих нескладных врак1.
Он обвинял духовенство в распространении и культивировании самого дикого суеверия и невежества. Понимая, что бесполезно «невеждам попам физику толковать», он прямо называл их палачами и обвинял в том, что они «желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей корысти»2. Указывая на «земное происхождение» постов, праздников и других церковных догматов, Ломоносов писал, что «обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор и другими образы ближнего повредитель» не становится нисколько лучше от того, что он соблюдает все церковные установления, «хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть этого времени простоял на голове вместо земных поклонов»3.
Ломоносов не ограничивался высмеиванием некоторых церковных обрядов и установлений, а требовал, чтобы правительство запретило их. Отчетливо понимая, какое сопротивление встретит проведение подобных мероприятий, Ломоносов советовал не бояться этого. У него не вызывало никакого сомнения, что предлагаемые им мероприятия будут приняты русским народом. «Российский народ гибок!»4 — восхищался он.
Эти смелые предложения отнюдь не одиноки в творчестве Ломоносова. Рядом с ними стоят обвинения против церкви и духовенства, с такой силой выраженные им в «Письме о пользе стекла» и «Явлении Венеры на Солнце», рядом с ними стоит и «Гимн бороде». Смысл
71
и место этого стихотворения в творчестве Ломоносова в буржуазной науке злостно извращались. Его замалчивали, изображали «случайным озорством», «грубой шуткой», либо объявляли выступлением против «суеверия и старообрядцев». Только работы советских ученых показали, что «Гимн бороде» представляет собой смелое и резкое выступление против духовенства и реакции. «Борода» в стихотворении Ломоносова — это символ невежества, мракобесия, ханжества, фанатизма и показной святости. «Борода» — это духовенство, выступающее против наук и преследующее ученых. Он показывал, что только прикрываясь «бородой» (т. е. своим духовным званием) могут безнаказанно действовать «дураки, враги, проказы». Разящая сила произведения усиливалась содержащимся в нем прямым указанием на то, что «борода» (т. е. духовное звание) является для их владельцев в первую очередь источником дохода и паразитического образа жизни.
Через многие расчесы
Заплету тебя я в косы
И всю хитрость покажу,
По всем модам наряжу.
Через разные затеи
Завивать хочу тупеи.
Дайте ленты, кошельки
И крупитчатой муки1.
Озорной, грубоватый припев «Гимна» усиливал его сатирическую силу. Стихотворение попало в цель: духовенство пришло в ярость. Оно вызвало Ломоносова на заседание синода с целью изобличить его в авторстве и потребовать раскаяния. Но Ломоносов и не думал отступать, он, как писал синод, «начал оный пашквиль шпынски защищать, а потом, сверх всякого чаяния, сам себя тому пашквильному сочинению автором оказал...»2. В ответ на угрозы церковников Ломоносов ответил еще более резким стихотворением, в котором продолжал открыто издеваться над ними3. Весьма показательно, что в острой борьбе вокруг «Гимна бороде» против Ломоносова совместно выступили церковники, академики-реакционеры, его литературные враги, не брезговавшие при этом никакими средствами для травли. Синод представил Сенату донос, в котором требовал публичного уничтожения палачом стихов Ломоносова и сурового наказания их автора. Враги Ломоносова усиленно
72
распространяли гнусные пасквили на русском и немецком языках1. Духовные и светские мракобесы проводили мысль о том, что люди, подобные Ломоносову, заслуживают того, чтобы их «сжигали в срубах». Нет никакой необходимости воспроизводить ту гнусную клевету, которая содержалась в пасквилях. Стоит сказать только об одном: их авторы с особой злобой говорили о «низком происхождении» Ломоносова. «Ты преподло был рожден», — упрекали они его и угрожали ему «лишением всех чинов».
Их выводило из себя, что против церкви и реакционной науки так смело выступил крестьянский сын Михайло Ломоносов, который издевался над их угрозами и продолжал идти своим путем.
Не менее резко, чем против официальной церкви, Ломоносов выступал и против реакционной идеологии раскола. Пронизанная духом мертвой схоластики, эта идеология была крайне враждебна науке. Раскольничество объявляло греховным светское образование, литературу, живопись, театр. Оптимистическому, жизнеутверждающему мировоззрению Ломоносова с его верой во всесилие человеческого разума, с призывом к активной работе по исследованию и подчинению природы была органически чужда и враждебна идеология раскольников, пытавшихся превратить книгу в орудие мракобесия, в оправдание суеверия и невежества, подменить науку начетничеством и бесплодными словопрениями о вере и ее догматах.
Между тем до последнего времени появляются работы, авторы которых утверждают, что старообрядцы и, в частности, Выговская община и ее руководитель Андрей Денисов сыграли большую роль в «формировании мировоззрения Ломоносова» и помогли ему «выбиться в люди». Так, в статье Бабкина2 Андрей Денисов оказывается не только учителем Ломоносова, но и его предшественником в борьбе за чистоту русского языка. Бабкин утверждает, что Ломоносов взял «здоровое и полезное зерно» «Поморских ответов» Андрея Денисова «и в своей знаменитой статье «О пользе книг церковных» несомненно (!) опирался на филологические разыскания Андрея Денисова3. Совершенно очевидно, что знаменитая статья Ломоносова, о которой говорит Бабкин, не только «не опирается на филологические разыскания А. Денисова», но прямо направлена против реакционных попыток подменить живой язык народа церковнославянской книжной речью.
73
Борьбу Ломоносова против церковников энергично поддерживали его ученики.
Пронесся слух: хотят кого-то сжечь;
Но время то прошло, чтоб наше мясо печь.
...Не думайте, что мы вам отданы на шутки;
Хоть нет у нас бород, однако есть рассудки! —
заявляли они в ответ на угрозы мракобесов расправиться с Ломоносовым. Из планов церковников ничего не получилось. Он вышел победителем в этой борьбе и имел все основания сказать врагам науки и просвещения:
Хоть ложной святостью ты бородой скрывался,
Пробин, на злость твою взирая, улыбался:
Учения его и чести и труда
Не можешь повредить ни ты, ни борода1.
В своей статье «О значении воинствующего материализма» В. И. Ленин подчеркивает важное значение произведений материалистов XVIII века. Отмечая, что в них найдется много наивного и ненаучного, он, тем не менее, считал очень важным издание массовыми тиражами атеистической публицистики материалистов XVIII в. Ленин называл ее бойкой, живой, талантливой, остроумно и открыто нападающей на господствующую поповщину2. Эта ленинская характеристика атеистических произведений просветителей XVIII века может быть отнесена и к ряду работ Ломоносова. Но, самоотверженно сражаясь с мракобесами всех мастей, Ломоносов не видел, что главным препятствием для развития наук и просвещения в стране является самодержавно-крепостнический строй. Более того, все свои надежды и в этой области он связывал с царем-преобразователем и его просвещенными вельможами.
В упорной борьбе за распространение просвещения и науки в стране, которую вели Ломоносов и его соратники, им пришлось преодолевать ожесточенное сопротивление клики иноземных реакционеров. Уже говорилось, что, не веря в творческие силы народа и боясь их развития, царское правительство предпочитало выписывать специалистов из-за границы. Особенно много этих «специалистов» было в области культуры, науки и просвещения. Среди приехавших иностранцев были люди, которые честно служили национальным интересам России и являлись представителями передовой науки и культуры. Достаточно назвать крупнейших математиков и механиков
74
того времени Леонарда Эйлера и братьев Бернулли, развернувших свою блестящую научную работу в русской Академии Наук. Эйлер был одним из немногих людей, которые поняли все значение гениальных открытий и теорий Ломоносова и оказывали ему активную поддержку. Рука об руку с Ломоносовым работал над исследованием атмосферного электричества академик Рихман. В ряде вопросов выступал вместе с передовыми русскими учеными академик Браун. Напряженно работал над созданием карт России астроном Делиль. Плодотворной была работа в области архитектуры нашедших в России вторую родину Растрелли, Кваренги, Камерона, создателя знаменитого «медного всадника» скульптора Фальконе и других.
Но действительными специалистами были и честно служили интересам России лишь единицы. Большинство же этих пришельцев являлось невеждами и проходимцами, отправлявшимися в Россию делать легкую карьеру, а зачастую — прямыми шпионами. Засилье иноземных реакционеров и проходимцев крайне вредно отражалось на работе Академии Наук. За два десятилетия своего существования она проделала ряд работ и исследований, имевших огромное значение для науки. Достаточно назвать хотя бы исключительную по размаху северную экспедицию, исследование Сибири и Дальнего Востока, создание атласа карт России, классические работы Эйлера и Бернулли. Но в то же время Академия все дальше отходила от того направления работы, которое было определено при ее основании. Главной причиной этого являлась политика, которую проводило царское правительство в отношении национальной культуры. Во главе академии оказались люди, чуждые и враждебные национальным интересам русского народа. Они думали только о том, как угодить очередной императрице и ее фаворитам, и пополняли академию своими приятелями. Одновременно они опустошали кассу академии и оставляли ее без средств. Являвшийся президентом академии в 40—60-х гг. Кирилл Разумовский был не лучше своих предшественников. Он за два года, проведенных за границей, научился болтать по-французски, усвоил манеры французских аристократов и в совершенстве овладел искусством проживать астрономические суммы денег. Поскольку он был братом елизаветинского фаворита, то этого оказалось «вполне достаточно» для того, чтобы 19-летний «сиятельный Митрофанушка» был произведен в фельдмаршалы, сделан гетманом Украины и назначен президентом Академии Наук. Разумовский, по меткому замечанию одного из современников, «больше наплодил детей, чем прочел книг, и лучше знал разных петербургских красавиц, чем членов Академии Наук»1. Неудивительно,
75
что фактически при Разумовском в академии хозяйничали невежда, ловкий интриган и отъявленный вор Шумахер, «его зять и академии наследник» Тауберт и русский «приказной от науки» Теплов. Положение в академии не изменилось, когда во главе ее оказались Разумовский и Теплов, это еще раз подтверждает, что немецкая клика в академии была сильна не сама по себе, а благодаря постоянной поддержке и покровительству со стороны придворной аристократии. Не останавливающийся ни перед чем для достижения личных своекорыстных целей Теплов был «достойным» партнером Шумахера. Прекрасно образованный, хорошо владевший пером, кистью и смычком, серьезно занимавшийся вопросами экономики, Теплов использовал все свои таланты для того, чтобы сделать карьеру. Беспринципный интриган, он был ловким и умелым демагогом. В нужный момент он умело спекулировал на передовых идеях как в области литературы, так и в области общественно-политической мысли. Примерами этой спекуляции является написанный им манифест по поводу переворота 1762 года и «Рассуждение о качествах стихотворца»1. Вся практическая деятельность Теплова как в Академии Наук, так и вне ее не только находилась в прямом противоречии с этими его произведениями, но и представляла собой ожесточенную борьбу против всего прогрессивного.
В результате такой политики правительства в русской Академии Наук оказались люди, не имевшие никакого отношения к науке. В числе академиков были учитель детей Бирона Ле Руа и его секретарь Штрубе де-Пирмонт. Первый из них написал единственную «научную» работу, в которой разбирался вопрос «о могиле Адама на Цейлоне» (!), о втором мы уже говорили. По желанию французского дипломата Лестока был сделан академиком невежественный реакционер Сигизбек, известный как ярый противник системы Коперника и защитник библейских представлений о происхождении и строении вселенной. Не менее энергично Сигизбек выступал против утверждений Линнея о наличии пола у растений, аргументируя свои
76
возражения тем, что бог, создавший землю, никогда не мог бы допустить подобной «безнравственности».
В число академиков попали Юнкер и Штелин, все научные достоинства которых сводились к тому, что они кропали бездарные немецкие стишки к разным торжественным случаям при дворе. О степени и глубине познаний астронома и физика Крафта лучше всего говорит то, что он специализировался на составлении гороскопов. Подобно Фишеру, Деллиль-де ля Кройер, находясь в Сибирской экспедиции, занимался исключительно пьянством и спекуляцией мехами, а затем присвоил себе работы и наблюдения Красильникова. Академиком оказался и прусский шпион, секретарь Остермана, некий Гросс. После падения Остермана Гросс, изобличенный в шпионаже, был вынужден покончить с собой. Нет смысла и нужды продолжать это перечисление. Амман, Винцгейм, Лоттер, Ле Клерк, Гришов и многие другие мало чем отличались от охарактеризованных выше.
Стремясь сохранить свое монопольное положение, эта клика всячески старалась помешать подготовке национальных кадров в области науки и просвещения и препятствовала работам первых русских ученых. Свою вредную деятельность она пыталась изобразить в виде благодеяния русскому народу. Это с типичной для подобных проходимцев наглостью высказал один из подвизавшихся в России прусских офицеров: «Не подлежит сомнению, что невежество русского народа возросло бы до тех же размеров, каких оно достигало до Петра Великого, если бы у него отняли наставников-иностранцев». Автор этих записок вынужден был все же отметить, что русский народ ненавидел этих «благодетелей» и «выгнал бы их из империи, если бы только мог»1.
Приход к власти Елизаветы, как и назначение президентом К. Г. Разумовского, не внесли и не могли внести коренных изменений в положение академии. Юсуповы и Разумовские, Тепловы и Козловы, Адодуровы и им подобные решительно становились на сторону Шумахера и его приспешников и выполняли это с неменьшим усердием и энергией, чем в свое время делали это Бирон, Остерман или Лесток. Совершенно прав был «Современник», писавший по этому поводу: «Неужели нападать на пройдоху, которому дали власть, а не обвинять тех, кто дал ему эту власть», — и советовавший обратить внимание на своих «русских немцев»2.
Мы не будем касаться все большего замыкания академии в «чистую науку». Против этого решительно выступал Ломоносов, напоминавший,
77
что «по регламенту Академии Наук профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях»1. Но Академия Наук была создана не только как государственный центр научно-исследовательской работы в стране, но и как центр по подготовке русских специалистов в области науки и культуры. Если она хотя и с целым рядом недостатков в основном выполняла первую задачу, то с выполнением второй дело обстояло совершенно неудовлетворительно.
Академический университет влачил жалкое существование, в таком же положении находилась и академическая гимназия. Дети из знатных семей, поступившие в академическую гимназию при ее основании, очень скоро покинули ее в связи с открытием Шляхетских корпусов. После этого состав гимназистов коренным образом изменился, о чем с нескрываемой злобой говорили руководившие гимназией Миллер, Байер и Фишер. Весьма показательно, что с ними полностью солидаризировался известный реакционер, занимавший пост министра просвещения в XIX веке, — Д. А. Толстой. Отмечая, что в гимназию в 30-х гг. XVIII века были приняты «сыновья нескольких солдат, столяра, крестьянина, семи плотников, трех адмиралтейских десятских, одного господского человека», Д. А. Толстой заявлял, что это был «ненужный балласт», отвлекавший от нее «детей высших сословий»2.
Гимназисты академии терпели страшную нужду; вечно голодные, босые и полураздетые, они должны были жить и заниматься в нетопленном помещении с выбитыми стеклами, развалившимися дверями и стенами, покрытыми льдом. Учителя-иностранцы уклонялись от занятий под самыми различными предлогами. Когда же они и являлись на занятия, пользы от этого было мало. Учителя не знали русского языка, да и не хотели его знать, ученики же не знали немецкого. Все преподавание шло исключительно на латинском языке. Неудивительно, что в таких условиях за 30 лет (1726—1755) гимназия не подготовила ни одного человека для поступления в университет.
Ведя дело к полному развалу гимназии, представители клики в то же время на «основании многолетнего опыта» заявляли, что единственным выходом является выписывание студентов из Германии, так как из русских подготовить их будто бы все равно невозможно. Однако ход событий вынуждал руководителей академии периодически принимать в университет студентов, присылаемых из Славяно-греко-латинской академии и семинарий, — так, в 1732 году в академию
78
было прислано 12 человек, в числе которых был С. П. Крашенинников. Среди 10 человек, присланных в академию в 1736 году, были М. В. Ломоносов, Д. Виноградов и Н. Попов, в 1740 году академия получила еще 8 человек, в том числе С. Котельникова и А. Протасова. И, наконец, в 1748 году в академию прибыло из Славяно-греко-латинской академии и семинарий самое большое пополнение — 24 человека. Многие из них были тесно связаны с Ломоносовым, а впоследствии прочно связали свою судьбу с судьбой Московского университета. В числе присланных были Н. Поповский, А. Барсов, А. Константинов, Ф. Яремский, Н. Клементьев, С. Румовский и другие.
Положение студентов, присланных в академию, мало отличалось от положения гимназистов. Они были предоставлены сами себе. Вейтбрехт, Миллер, Фишер и другие демонстративно отказывались читать лекции, заявляя, что это не входит в круг их обязанностей и, кроме того, все равно «не принесет никакой пользы». Миллер прямо утверждал, что лучше не готовить студентов совсем, так как «академия не знала бы, что ей делать с теми, которые прошли бы основательно университетский курс»1. Это заявление не было случайной отговоркой. Оно отражало существо всей политики руководства академии в отношении университета. От студентов стремились избавиться всеми способами. Вот что писал Ломоносов о судьбе присланных в академию студентов в 1732 г.: «Половина взята в Камчатскую экспедицию... Оставшаяся в Санкт-Петербурге половина, быв несколько времени без призрения и учения, распределены в подъячии и к ремесленным делам. Между тем, с 1733 года по 1738 никаких лекций в Академии не преподавано Российскому юношеству»2. Судьба второго набора была не лучше. Ломоносова и Виноградова направили за границу, а «протчие 10 человек были оставлены без призрения. Готовый стол и квартира пресеклись и бедные скитались не малое время в подлости»3. Попытка студентов с помощью Сената добиться, чтобы им читали лекции, окончилась полной неудачей. Шумахер «главных на себя просителей студентов бил по щекам и высек батогами». Как рассказывает Ломоносов, студентам для отвода глаз несколько времени читали лекции, затем устроили экзамен, после чего лучших определили в переводчики при академии, других разослали по разным коллегиям, и лекции снова «пресеклись», теперь уже надолго4.
79
Если в этих условиях отдельным студентам все же удалось вырасти в крупнейших ученых, сказавших новое слово в науке и прославивших замечательными трудами свою родину и свой народ, то это было результатом преодоления ими бесчисленных трудностей, результатом того, что они были достойными представителями великого русского народа и в полной мере обладали его замечательными качествами, в том, что они своей деятельностью боролись за осуществление задач, выдвинутых перед народом всем ходом развития.
Состояние академии не могло не вызывать неудовольствия ее работой. Это неудовольствие отразилось даже в официальных документах. Так, «рассуждая о состоянии академии», сенат нашел, что «оная, получая на содержание свое из штатс-конторы превеликую сумму, через толь долгое время не приносит никакой пользы государству: не имеет по сие время довольного числа из российских людей профессоров, адъюнктов, переводчиков и студентов; что студенты и ученики академические по причине недостатка нужных для их учения профессоров и за нечтением лекций напрасно теряют свои лета и казенную сумму, что выписанные чужестранные профессора от слабого за ними смотрения по контрактам не читают лекций и напрасно получают великое жалование»1.
После своего возвращения из-за границы Ломоносов быстро разобрался в положении. Он понял, что академия будет действительным центром передовой русской культуры и просвещения только в том случае, если в ней будет налажена подготовка русских специалистов. Но наладить работу академического университета и находившейся при нем гимназии было невозможно до тех пор, пока в академии хозяйничала клика реакционеров и проходимцев. Органом, с помощью которого эта клика полновластно распоряжалась в академии, была академическая канцелярия. Поэтому требование ее ликвидации или, в крайнем случае, вытеснения из нее Шумахера, Тауберта, Штелина и Теплова оказывалось в центре непрерывной и самоотверженной борьбы Ломоносова, смысл и значение которой он определил в знаменитом письме к Теплову. «Что ж до меня надлежит, то я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятельми наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет; стоял за них смолода, на старость не покину»2.
В числе врагов Ломоносова и передовой русской науки и культуры мы назвали Штелина. Между тем под влиянием работ Погодина, Билярского и Пекарского в литературе установилось прочное мнение о том, что Я. Я. Штелин был одним из немногих друзей
80
и помощников Ломоносова. Редкая из работ не приводит последних слов, будто бы сказанных умирающим Ломоносовым Штелину: «Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог я совершить всего того, что предпринял я для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии, и теперь при конце жизни моей должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мною»1. С этой легендой мы встречаемся в работах, появившихся в последние годы. Дальше всех в этом отношении пошел Д. С. Бабкин2. Он объявил Штелина «одним из видных деятелей Академии Наук» и заявил, что за полвека работы в академии «он проявил себя во множестве самых разнообразных профессий». В работе Бабкина мы встречаемся с безоговорочными, но совершенно бездоказательными утверждениями о том, что Ломоносов в продолжение многих лет был очень близок со Штелиным, что «совместная работа по управлению делами Академии еще больше сблизила их». Документы, обнаруженные и опубликованные в 1950 году В. К. Макаровым, убедительно показали, что Штелин был одним из самых злейших врагов Ломоносова3. «Научная деятельность» Штелина сводилась к сочинению поздравительных стихов и надписей, составлению планов фейерверков и проектов медалей. Что касается стихов Штелина, то достаточно выслушать Ломоносова, которого заставляли переводить его вирши на русский язык. «Хотя должность моя и требует, чтобы по присланному ко мне ордеру сделать стихи с немецково: однако я того исполнить теперь не могу, для того, что в немецких виршах нет ни складу, ни ладу; и так таким переводом мне себя пристыдить весьма не хочется и весьма досадно, чтобы такую глупость перевесть на Российский язык и к такому празднеству»4. Никакого следа не оставил Штелин и в истории русского искусства.
Близкий к Шумахеру и активно выступавший в его защиту в 1741—1742 годах Штелин был таким же врагом Ломоносова и передовой русской науки и культуры, как и Шумахер или Тауберт. Вся разница была в том, что Штелин предпочитал действовать за спиной других. Эта тактика помогала ему быстро повышаться в чинах, выступать в роли воспитателя Петра III, получать награды от Екатерины II, стать депутатом Уложенной комиссии, секретарем Вольного экономического общества и после смерти Ломоносова и отстранения Тауберта фактическим правителем академии. Ломоносов
81
прекрасно понимал тактику Штелина. Отсюда имеющее вид прямого ультиматума письмо Ломоносова к нему 2 апреля 1761 года с требованием, чтобы Штелин, наконец, занял ясную и недвусмысленную позицию и изложил ее в письменном виде, иначе он (Ломоносов) будет вынужден обратиться непосредственно в Сенат1. В своих интимных записках Штелин говорил о Ломоносове с нескрываемой ненавистью: «дикарь», «мнимый художник», «непрошенный гость в искусстве», «интриган». Штелин не жалел самых резких выражений, чтобы очернить ломоносовский проект монумента Петру и его «Полтавскую баталию»: «нелепая выдумка», вызывающая «общий хохот и оханье»; «дрянная картина», «жалкая композиция» и т. д. Он один из главных виновников гибели мозаичной мастерской Ломоносова2. Штелин вместе с Таубертом пытался сорвать финансирование академического университета3. С ним, как со своим единомышленником, делился Тауберт своими планами борьбы против Ломоносова и изгнания его из академии4. Легенда о «Штелине — друге Ломоносова» создана самим Штелиным, и единственным основанием для нее являются сохранившиеся в его бумагах «Черты и анекдоты для биографии Ломоносова» и набросок речи о Ломоносове. Эта речь, которую выдают за похвальную, в действительности является злобной клеветой на Ломоносова. «Мужлан», «с низшими и в семействе суров», «образ его жизни общий плебеям», «желал возвыситься, равных презирал» и т. д. — вот, что говорил о Ломоносове человек, которого пытаются изобразить в качестве его «друга», в наброске, который пытаются выдать «за похвальную речь»5.
Не заслуживают никакого доверия и факты, сообщаемые Штелиным. Сравним проникнутые безнадежным пессимизмом слова, приводимые Штелиным, с тем, что говорил и писал сам Ломоносов:
И если в поле сем прекрасном и широком
Преторжется мой век недоброхотным роком,
Цветущим младостью останется умам,
Что мной проложенным последуют стопам.
Довольно таковых родит сынов Россия...6.
82
Исключительной силой оптимизма и верой в то, что начатое им дело никогда не умрет, проникнуты произведения Ломоносова.
Почти сразу же после своего возвращения из-за границы Ломоносов оказался в самой гуще борьбы. Именно в это время работавший в академии выдающийся русский машиностроитель А. К. Нартов подал в Сенат жалобу. К жалобе Нартова присоединились русские студенты, переводчики и канцеляристы, а также астроном Делиль. Смысл и цели их жалобы совершенно ясны — уничтожение господства реакционной клики и превращение Академии Наук в русскую не только по названию. На помощь академической клике пришла придворная. Во главе комиссии, созданной Сенатом для расследования обвинений, оказался князь Юсупов, незадолго до этого в таких выражениях писавший Бирону: «Припадая к Высочайшим стопам Вашей Высококняжеской Светлости, рабственно ноги целую и прославлять Высочайшее имя Вашей Высококняжеской Светлости и милость до смерти не престану»1. Этому сиятельному лакею «писал за Шумахера сильный тогда при дворе человек иностранный» — Лесток. Этого было достаточно. Комиссия увидела в выступлении А. Нартова, И. В. Горлицкого, Д. Грекова, П. Шишкарева, В. Носова, А. Полякова, М. Коврина, Лебедева и др. не смелое выступление патриотов за честь и достоинство русского народа, а бунт «черни», поднявшейся против начальства. В литературе много писалось о неумелых действиях доносителей, об их ошибках и т. д. Но заслуживает внимания не это, а то, с каким мужеством и достоинством они отстаивали правоту своих обвинений. Мы доказали обвинение по первым 8 пунктам и докажем по остальным 30, если получим доступ к делам2, — писали они в Сенат. Но они ничего не могли доказать, так как за «упорство» и «оскорбление комиссии» были арестованы. Ряд из них (И. В. Горлицкий, А. Поляков и др.) были закованы в кандалы и «посажены на цепь». Около двух лет пробыли они в таком положении, но их так и не смогли заставить отказаться от показаний. Решение комиссии было поистине чудовищным: Шумахера и Тауберта наградить, Горлицкого казнить, Грекова, Полякова, Носова жестоко наказать плетьми и сослать в Сибирь, Попова, Шишкарева и других оставить под арестом до решения дела будущим президентом академии.
Формально Ломоносов не был среди подавших жалобу на Шумахера, но все его поведение в период следствия показывает, что Миллер едва ли ошибался, когда утверждал: «господин адъюнкт Ломоносов был одним из тех, кто подавал жалобу на г-на советника
83
Шумахера, и вызвал тем назначение следственной комиссии»1. Недалек был, вероятно, от истины и Ламанский, утверждающий, что заявление Нартова было написано большей частью Ломоносовым2.
В период работы комиссии Ломоносов активно поддерживал Нартова. Он пытался опечатать документы конференции и в самой резкой форме подчеркивал свое презрение к проходимцам в науке. Он называл Шумахера и ему подобных «невеждами, и ворами» и обвинял их в том, что они действуют во вред русскому народу. Именно этим, были вызваны его бурные столкновения с наиболее усердными клевретами Шумахера — Винцгеймом, Трускотом, Миллером и со всей академической конференцией. Наряду с формальными отписками, которые он подал в комиссию, им было составлено и подано «Нижайшее доказательство о том, что здесь, при Академии Наук, нет университета»3. Ломоносов указывал, что университет не имеет студентов. Но и с теми студентами, которые есть в университете, фактически не занимаются. Профессора не экзаменуют студентов и не присваивают отличившимся ученых званий, предпочитая посылать их за границу. Нет в университете ни ректора, ни полного штата профессоров, нет деления на факультеты, не изучается ряд предметов. Ломоносов на основании всего сказанного делал вывод: «Следовательно, при здешней Академии Наук не токмо настоящего Университета не бывало, но еще ни образа, ни подобия Университетского не видно»4. Выступление Ломоносова было особенно опасно для академической клики. Выдающийся русский машиностроитель, создатель первого в мире механического супорта — изобретения, сделавшего переворот в машиностроении, А. К. Нартов был в глазах Сената просто «токарем Петра Великого», человеком, «не знающим по-латыни» и потому не компетентным в вопросах, касающихся «высоких наук». Студентов и переводчиков могли легко дискредитировать заявлениями о их «неучености», «непригодности», «зависти к ученым» и т. д. Ломоносов же только что вернулся из-за границы с хорошими отзывами Вольфа. Его научные достоинства клика недавно была вынуждена признать присвоением ему звания адъюнкта. Он прекрасно разбирался в том, как должна быть организована научная и учебная работа в академии. Наконец, Ломоносов уже был хорошо известен как выдающийся поэт. Отсюда стремление реакционной академической клики во что бы то ни стало расправиться с Ломоносовым. Спровоцировав бурное столкновение с ним, подали жалобу в комиссию. В ходе
84
работы комиссии Ломоносов понял, что от нее никаких изменений в положении академии ждать нечего, и демонстративно отказался давать ей какие-либо показания. Комиссия, приведенная в ярость поведением Ломоносова, арестовала его, но, и находясь под арестом, он повторил свой отказ, понимая, что комиссия стремится подменить дело Шумахера делом Ломоносова. В докладе комиссии, который был представлен Елизавете, о Шумахере почти ничего не говорится. «Невежество и непригодность» Нартова и «оскорбительное поведение» Ломоносова — вот лейтмотив доклада. Комиссия заявила, что Ломоносов «за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к академии, так и к комиссии и к немецкой земле» подлежит смертной казни, или, в крайнем случае, наказанию плетьми и лишению прав и состояния1. Почти семь месяцев Ломоносов просидел под арестом в ожидании утверждения приговора. Его морили голодом, не выдавая ему денег на пищу и лекарства. Указом Елизаветы он был признан виновным, однако «для его довольного обучения» от наказания «освобожден». Но одновременно с этим ему вдвое уменьшилось жалование, и он должен был «за учиненные им продерзости» просить прощения у профессоров2. Клика торжествовала: указ Елизаветы отдавал ей Ломоносова на поругание. Они спешили этим воспользоваться. Миллер составил издевательское «покаяние», которое Ломоносов был обязан публично произнести и подписать3. Но торжество было преждевременным. Это был первый и последний случай, когда Ломоносов вынужден был отказаться от своих взглядов. Она не смогла ни купить его и перетянуть на свою сторону, как это удалось ей в отношении Теплова и Адодурова, ни сломить, как Тредиаковского.
В 1747 году Шумахер и Теплов выработали новый регламент академии. Этот регламент закреплял всесилие канцелярии, ориентировал всю работу на приглашение иностранцев. В университете не предусматривалось никаких факультетов, в числе наук не было ни одной, посвященной изучению России. Регламент предусматривал, что все лекции читаются профессорами только на латинском языке. «А русский изучать незачем, кто латинский знает, в русском разберется сам»4, — говорилось в регламенте.
В 1748 году Ломоносов добился нового, самого большого набора в академический университет. В академию было прислано 24 семинариста.
85
В этом же году Ломоносов впервые в истории русского образования начал читать лекции студентам на русском языке. Ломоносов в это время был уже не один, ему в упорной борьбе удалось преодолеть «недопущение к высоким наукам через принуждение к переводам», от чего он «сквозь многие нападения прошед, избавился и Попова за собою вывел и Крашенинникова»1.
Ему удалось добиться того, что вместо Миллера ректором университета был назначен Крашенинников. Он сам много и с увлечением работал со студентами. В результате и лекции в университете, и учение в гимназии «шло с нехудым успехом». Это имело огромное значение для развития русской науки. С помощью Крашенинникова, Попова, Тредиаковского, Рихмана и Брауна Ломоносов подготовил из числа студентов этого набора будущий костяк первых профессоров и преподавателей Московского университета. Тем самым была решена одна из наиболее важных проблем, обеспечивающая успешность деятельности первого русского университета. В этот же период впервые за все время существования академии гимназия «произвела в студенты» 9 человек. Ломоносов рассматривал это событие как явное доказательство того, что отсутствие студентов в академии объясняется не «неспособностью русских к наукам», как утверждали Шумахер и его окружение, а умышленной политикой академической канцелярии. Он с гордостью отмечал, что «студенты почти все явились способны к слушанию лекций». Но правители академии одних студентов отправили в Москву, других за границу, третьи были определены в разные департаменты, и снова «течение университетского учения вовсе пресеклось»2. Чтение лекций для студентов было настолько ненавистно Шумахеру, что он велел даже вынести из аудитории кафедру, с которой, несмотря на запрещения продолжал читать лекции академик Браун.
В 1753—1755 гг., когда борьба Ломоносова и поддерживавших его русских ученых против Шумахера и Теплова достигла крайнего обострения, он написал настоящий обвинительный акт «О необходимости преобразования Академии»3. Первая часть «О худом состоянии академии» целиком посвящена неудовлетворительному состоянию
86
университета и гимназии. Она дословно повторяет выводы «Нижайшего доказательства», обосновывает их теми же доводами и добавляет, что «главного дела не было — университетского регламента»1. Особенно беспокоило Ломоносова состояние гимназии, так как он правильно видел в ней «главное дело и самое основание и начало к происхождению ученых россиян». Указывая на ничтожное число студентов и гимназистов в академии, Ломоносов отмечал, что число гимназистов по штату меньше числа студентов. Эта вопиющая нелепость обрекала университет на то, что он никогда не мог быть обеспечен собственными студентами. Присылка студентов из семинарий не могла помочь делу, так как они через 2—3 года рассовывались академической канцелярией по разным местам, и университет снова оказывался в тупике2. Ломоносов утверждал, что это не случайные ошибки, а результат того, что Шумахеру и академической клике «было опасно происхождение в науках и произвождение в профессоры природных россиян, от которых он уменьшения своей силы больше опасался. Того ради учение и содержание российских студентов было в таком небрежении, по которому ясно оказывалось, что не было у него намерения их допустить к совершенству учения»3.
Понимая, какие далекие политические замыслы стоят за этим, Ломоносов с гневом говорил о том, что регламент узаконивает эту преступную политику. В регламенте предусматривалось выписывание профессоров из-за границы, при которых должны были состоять русские адъюнкты лишь в качестве переводчиков. Другими словами, Академия Наук, как писал Ломоносов, критикуя регламент, «и впредь должна состоять по большей части из иностранных, т. е. что природные россияне к тому неспособны»4. Только пользуясь своей безнаказанностью и опираясь на совершенно непригодный регламент академии, Шумахер мог нагло заявлять: «я-де великую прошибку в политике своей сделал, что допустил Ломоносова в профессоры». Только этим можно объяснить, что, всячески препятствуя работе университета и подготовке русских студентов, ничтожный Тауберт нагло бросал: «Разве-де нам десять Ломоносовых надобно. И один-де нам в тягость»5.
Выражая интересы народа, Ломоносов выступил с требованием ликвидации сословных ограничений при поступлении в гимназию
87
и университет. Он указывал, что основным контингентом учащихся должны быть разночинцы, и протестовал против запрещения учиться в университете детям податных сословий. «В университете тот студент почетнее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды»1, — писал он. Для подготовки полноценных специалистов, Ломоносов требовал разделения университета на факультеты, публикации программ на каждое полугодие, устройства ежемесячных публичных диспутов, систематических экзаменов, производства окончивших университет в ученые степени. Для повышения качества лекций Ломоносов предусматривал, что профессора должны быть связаны между собой, кроме того, по каждому предмету должен быть не один профессор, а несколько, так как при одном профессоре, «что скажет, то и ладно, как бы худо не было»2.
Академия, университет и гимназия должны так строить всю свою работу, требовал Ломоносов, «дабы Академия не токмо сама себя учеными людьми могла довольствовать, но размножать оных и распространять по всему государству»3.
Но несмотря на все старания Ломоносова в эти годы, он не смог добиться изменений ни в регламенте академии, ни в положении университета и гимназии. Более того, именно в это время академическая клика попыталась повторить над ним расправу 1743—1744 гг. Теплов добился даже запрещения Ломоносову являться на заседания академии и объявления ему выговора за выступления против регламента.
С каждым годом Ломоносов все отчетливее видел, что его старания наладить подготовку русских студентов в Академии Наук встречают ожесточенное сопротивление реакционеров. Он все отчетливее понимал, что даже в случае успешного исхода этой борьбы один академический университет не сможет обеспечить подготовки кадров в таких количествах, которые бы могли удовлетворить растущие потребности страны. Он правильно понял, что правительство крепостников, во всяком случае наиболее дальновидные его представители, также считают необходимым создание в стране новых учебных заведений, хотя имеют при этом намерения, весьма далекие от его целей. В силу этого 1754—1755 годы были для него годами не только ожесточенной борьбы за налаживание работы университета и гимназии, находившихся при академии, но и годами напряженной работы по основанию университета в Москве, ставшего первым русским национальным университетом.
88
Одновременно с этим после основания Московского университета Ломоносов развертывает и возглавляет борьбу за создание на базе старого академического университета и гимназии нового Петербургского университета. Хотя по проектам Ломоносова он оставался формально частью Академии, но фактически университет превращался в самостоятельное учебное заведение. Сохранилось крайне ограниченное число документальных материалов, связанных с деятельностью Ломоносова по основанию Московского университета и налаживанию его работы в первые годы существования. Еще меньше дошло до нас материалов, позволяющих показать роль Ломоносова в превращении Московского университета в центр передовой русской культуры и науки. В силу этого особую важность приобретают материалы по руководству Ломоносовым университета и гимназии при Академии Наук. Они позволяют выяснить взгляды Ломоносова на организацию учебного процесса, структуру университета, организацию управления им, место гимназии, состав учащихся и профессуры и ряд других существенных вопросов. Все это заставляет нас прежде чем непосредственно перейти к деятельности Ломоносова по основанию Московского университета, остановиться на его работе по руководству академическим университетом в 1758—1765 гг.
В марте 1758 г. представители передовой науки в академии добились крупного успеха: университет и гимназия были поручены Ломоносову. Из бюджета Академии Наук были выделены средства на содержание университета и гимназии. Смета на их содержание была увеличена на 5 тысяч рублей. Число казенных студентов увеличилось до 30, при этом они были приняты целиком на содержание академии. Несколько позже Ломоносов добился увеличения числа гимназистов до 40 человек, на содержание которых ассигновывалось 1 200 рублей.
Ломоносов заботился о создании нормальных условий для учебы гимназистов1. Несмотря на упорное сопротивление Тауберта, он добился передачи университету купленного академией дома Строганова, в котором разместились аудитории, классы и общежития студентов и гимназистов. Ломоносов лично проверял условия, в которых живут гимназисты и студенты и, обнаружив, что помещение крайне запущено и грязно, предупредил инспектора Модераха, что если им не будут приняты необходимые меры, он будет отстранен от работы. Когда Модерах продолжал прежнюю шумахеровскую политику в отношении университета и гимназии «и большим прежнего нерадением привел университет и гимназию в бедное состояние
89
своим несмотрением»1, Ломоносов отстранил его от работы и, несмотря на протесты Тауберта и Разумовского, настоял на своем. Ломоносов добился, что вместо Модераха был назначен его деятельный помощник, талантливый русский ученый С. Котельников.
Как только гимназия поступила под управление Ломоносова, он решительно перестроил всю систему обучения и воспитания. Первым делом необходимо было навести в гимназии хотя бы элементарный порядок. Поэтому он начал с составления правил поведения гимназистов и распорядка в гимназии. Вслед за этим Ломоносов уничтожил систему обучения, которая господствовала в гимназии с начала ее существования. Русские гимназисты до этого времени изучали сначала немецкий язык, потом латинский. Абсолютное большинство занятий проводилось на одном из этих языков. Это приводило к тому, что, как писал в своем донесении Крашенинников, русские гимназисты не умели писать по-русски и очень плохо читали на родном языке. Они знали его гораздо хуже, чем немецкий или латинский. Теперь же центральной «школой» гимназии была сделана «русская». Изучение русского языка, русского «стиля» и риторики продолжалось и в немецкой, и латинских школах. Большинство занятий стало проводиться на русском языке.
Ломоносов требовал, чтобы занятия в гимназии и лекции в университете продолжались без перебоев. По его настоянию чтение лекций в университете было поручено людям, которые добросовестно относились к исполнению своих обязанностей: Брауну, Котельникову, Козицкому, Протасову, Румовскому. В число учителей гимназии он определил студентов, хорошо показавших себя в университете: Иноходцева, Горина, Петровского, Легкого и др. В борьбе по налаживанию университета и гимназии Ломоносову приходилось преодолевать бесчисленное число препятствий. В «Краткой истории о поведении академической канцелярии» Ломоносов рассказал о том, с каким трудом он добивался от Тауберта денег на гимназию и университет: «Так, что иногда Ломоносову до слез доходило; ибо, видя бедных гимназистов босых, не мог выпросить у Тауберта денег, видя, что на ненужные дела их употребляет... когда гимназистам почти есть было нечего»2.
Ломоносову удалось добиться значительного улучшения работы гимназии. По его выражению, «дело пошло лутчим порядком». Впервые за все время существования академии она начала получать студентов не со стороны, как было прежде, а приготовленных в своей собственной гимназии. Ломоносов с гордостью писал, что его стараниями
90
«начались в гимназии экзамены и произвождение из класса в класс и в студенты... и в четыре года произошли (произведены в студенты. — М. Б.) уже 20 человек, а в одно правление Шумахерово в 30 лет не произошло ни единого человека»1. Ломоносов еще в 1754 году решительно восстал против предлагавшейся Миллером выписки математика из Германии и настаивал на кандидатуре Котельникова. Он обвинял канцелярию в том, что она умышленно не пускает в академию Федоровича, Щепина, Козицкого. Теперь же после первых успехов в работе гимназии и университета Ломоносов требовал, «чтобы о выписывании вновь и о приеме иностранных профессоров беспрочное почти старание вовсе оставить, но крайнее положить попечение о научении и произведении собственных природных и домашних»2. Он предлагал послать за границу 7 студентов и сохранить вакансию по ботанике до возвращения из-за границы Ивана Лепехина, будущего крупного русского ученого и путешественника. В проекте устава Академии Наук, незадолго до своей смерти, он писал: «Честь российского народа требует чтоб показать способность и остроту его в науках и что наше отечество может пользоваться собственными своими сынами, не токмо в военной храбрости и в других важных делах, но и в рассуждении высоких знаний»3.
Благодаря стараниям Ломоносова в составе академии появилось несколько русских академиков и адъюнктов. Но Ломоносов понимал, что все эти успехи крайне непрочны, что академические реакционеры воспользуются первым же удобным случаем для того, чтобы уничтожить все завоеванное в результате этой длительной борьбы. Поэтому, после того как университет и гимназия были переданы в управление Ломоносову, в центре всей его деятельности стало стремление добиться утверждения устава университета. В 1759 году Ломоносов закончил работу по составлению устава университета, его привилегий, штата и бюджета и подготовил план его торжественного открытия (инавгурации). В начале 1760 года он представил все это в академическую конференцию. Как и следовало ожидать, его проект был встречен в штыки. В «Краткой истории академической канцелярии» Ломоносов рассказал, что, когда он составил устав гимназии и университета и передал на просмотр Теплову и 4 профессорам, один из них, повторяя слова Тауберта, заявил: «куда-де, столько студентов и гимназистов? Куда их девать и употреблять будет?» Сии слова твердил часто Тауберт Ломоносову в канцелярии, и хотя ответствовано, что у нас нет природных
91
Россиян ни докторов, ни аптекарей, да и лекарей мало, так же механиков, искусных горных людей, адвокатов, ученых и ниже своих профессоров в самой Академии и других местах, но, не внимая сего, всегда твердил и другим внушал Тауберт: «Куда со студентами?»1. В наброске речи на торжественной инавгурации университета Ломоносов посвятил особый раздел возражению на это утверждение. «Некоторые говорят: куда с учеными людьми?», — записал он и здесь же набросал пункты для ответа:«1. Сибирь пространна. 2. Горные дела. 3. Фабрики. 4. Ход севером. 5. Сохранение народа. 6. Архитектура. 7. Правосудие. 8. Исправление нравов. 9. Купечество и сообщение с ориентом. 10. Единство чистое (дружбы) веры. 11. Земледельство, предзнание погод. 12. Военное дело»2.
Если для Ломоносова успешная деятельность созданного им Московского университета являлась ярким доказательством возможности иметь такой же университет в Петербурге, то для Шумахера и Тауберта создание Московского университета было аргументом, «что университет здесь не надобен и что все, до того подлежащее, уступить Московскому Университету»3. Как указывал Ломоносов, они успели даже отправить лучших гимназистов для работы в монетную канцелярию. Однако Ломоносову удалось добиться того, что проект был подписан Разумовским и представлен правительству. Ломоносов был уверен в близкой победе и готовил речь, которая должна была быть произнесена на торжественном открытии Петербургского университета. В ней он высказывал свои самые заветные желания и мечты и заканчивал ее разделом, называвшимся «Предсказание». «Подвигнется Европа...», — набрасывал он. «Будет время, когда Сибирь, наполненная разными народами, на разных языках будет приносить похвалы дому Петрову, и как из Греции, так из России...»4. Он не закончил свою мысль, но она совершенно ясна.
Вещая мечта Белинского о внуках и правнуках, которым суждено видеть Россию, «стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества5», прямо перекликается с «предсказанием» Ломоносова.
Но надежды Ломоносова были снова обмануты. Ни Воронцов, ни всесильный тогда Шувалов, старательно изображавшие себя «друзьями и покровителями» Ломоносова, палец о палец не
92
ударили, чтобы осуществить утверждение его проекта Елизаветой. Трагическое впечатление производят письма Ломоносова к И. И. Шувалову и М. И. Воронцову. Он просит, уговаривает, умоляет о подписании проекта, представляет все благодатные последствия этого акта для работы академии, для распространения наук и просвещения в России, для успеха его собственной работы; но все оказывается напрасным. Не помогли ни официальные представления, ни частные письма, ни стихи. Ломоносов, прося об утверждении проектов, писал Шувалову: «Сие будет конец моего попечения о успехах в науках сынов Российских и начало особливого рачения к приведению в исполнение старания моего в словесных науках. Дело весьма Вам не трудное, и только стоит Вашего слова, которым многие наук рачители обрадованы будут и купно я с ними»1. Указывая, что он хлопочет не о себе лично, а об интересах всей страны, Ломоносов писал: «Ежели Вам любезно распространение наук в России... постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы отчества прошениях...». «Сие будет большее всех благодеяние, которое в. пр. мне в жизнь сделали»2. Не помогло и то, что, стараясь о скорейшем утверждении устава Петербургского университета, Ломоносов указывал Разумовскому, «что по сему можно и в Малороссии учредить университет», а Шувалову писал, что эта привилегия «может быть и для Московского Университета несколько послужит»3. Не помогли и неоднократные поездки в Петергоф, которые он предпринимал в надежде добиться приема у Елизаветы. В чем же причина того, что Разумовский подписал проект? Разумовский был человеком, который не испытывал какой-либо любви к наукам. Недаром издатель сатирического журнала «Адская почта» Ф. Эмин, издеваясь над жадным и невежественным Разумовским, писал, что он под словом «науки» понимает то город, то село, которые должны увеличить его владения4. Почему же этот человек поддержал проект Ломоносова? — Разумовский убедился, что Шувалов, разыгрывая роль покровителя наук, оказался несравненно дальновиднее его и укрепил свое положение. Отсюда желание противопоставить «шуваловскому» университету «свой», который бы находился на глазах двора. Отсюда и посещение Разумовским Московского университета и составление по его заказу Тепловым и Миллером проекта университета в Батурине. Что же касается Шувалова, ему ничего не стоило осуществить просьбу Ломоносова, но он думал лишь
93
о своих узкокорыстных интересах. Для него роль «мецената Ломоносова», «покровителя наук и художеств» была средством для того, чтобы укрепить свое положение.
В плане же основания Петербургского университета он видел только хитрый ход Разумовского, стремившегося пошатнуть его положение. Поэтому он не только ничего не сделал для проведения ломоносовского проекта в жизнь, но, наоборот, помешал его осуществлению. Шувалову, Воронцову, Разумовскому, думавшим лишь о своекорыстных или узкоклассовых интересах, была чужда и непонятна борьба Ломоносова за развитие передовой национальной культуры. Как на результат излишней самоуверенности, они смотрели на полное чувства гордости за себя и свой народ заявление Ломоносова: «Сами свой разум употребляйте. Меня за Аристотеля, Картезия, Невтона не почитайте. Если же вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопи; а моя слава падет и с вашею»1. Они не понимали и не могли понять, почему Ломоносов, стараясь закрепить за собой и за своей родиной приоритет на свои открытия, писал: «Сверх сего, не продолжая времени, должен я при первом случае объявить в ученом свете все новые мои изобретения ради славы отечества, дабы не воспоследовало с ними того же, что с ночезрительною трубою случилось»2. В страстных спорах Ломоносова по поводу своих теорий они видели лишь беспокойство неуживчивого человека. Они считали, что Ломоносов добивается утверждения нового регламента Академии Наук для того, чтобы получить новый чин или большее жалование, и думали, что могут относиться к нему, как к продажным писакам, вроде Юнкера, Штелина, Петрова или Рубана. Они не принимали всерьез его слов о том, что это «больше отечеству, нежели мне, нужно и полезно»3.
Отвечая продажным писакам, обвинявшим Ломоносова в лести и униженном поведении по отношению «к сильным мира сего», Пушкин писал: «Ломоносов достоин уважения всех честных людей, несмотря на его льстивые посвящения»4. Он восхищался тем достоинством, с которым держался Ломоносов в отношении своих «покровителей». «Он умел за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Он пишет этому самому Шувалову, представителю муз, высокому своему патрону,
94
который вздумал над ним пошутить — «Я в. п. не только у вельмож или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога...». Вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных идиллий!»1 — восклицал Пушкин.
Но то, что прекрасно понимал, чем восхищался Пушкин, не могли, не хотели понимать Шуваловы, Разумовские и Воронцовы. Поэтому-то они, «помогая» ему в мелочах, ничего не сделали для осуществления его главных требований. Так было и с проектом устава университета в 1760—1761 годах. В царствование Екатерины II Ломоносов сделал еще одну попытку добиться утверждения проекта с помощью Г. Орлова. Но Орлов, «покровительствовавший» Ломоносову и забавлявшийся опытами с электричеством, оказался ничуть не лучше Разумовского и Шувалова. Как и они, Орлов ничего не сделал для действительной помощи Ломоносову. Наоборот, удары сыпались на Ломоносова один за другим и удары один тяжелей другого. Сама Екатерина сделала немало для того, чтобы отравить последние годы жизни Ломоносова. В 1763 году по доносу Тауберта, Миллера, Штелина, Эпинусса и других Екатерина даже совсем уволила Ломоносова из академии. Тауберт и Миллер торжествовали, что они навсегда избавились от своего врага и строили планы, кого выписать из-за границы и как распределить места в академии2. Но Екатерина сообразила, что изгнание из академии Ломоносова, который был в это время признанным главой русской науки и литературы и которого хорошо знали в Европе3, может произвести внутри страны и за границей невыгодное для нее впечатление. Поэтому указ об его отставке был отменен. Популярностью Ломоносова в России и признанием его заслуг иностранными академиями объясняется и такой жест Екатерины, как посещение ею мастерской Ломоносова. В то же время с помощью своих приспешников она создала для него совершенно невыносимые условия работы. Отстранение от руководства географическим департаментом и назначение туда Миллера, попытка передать в распоряжение Шлецера материалы Ломоносова по языку и истории, назначение Шлецера академиком и открытие ему доступа к важнейшим государственным документам, препятствия в сооружении мозаичного монумента Петру — эти и десятки подобных фактов были проявлением травли великого ученого. Целью этой травли было уничтожить, сломить Ломоносова и духовно
95
и физически. В этих условиях даже у него вырываются жалобы, что не хватает больше сил для борьбы. «И так не могу больше терпеть таких злодейских гонений, и сил моих нет больше спорить, и наконец намерен остатки изнуренных на науки и на тщетные споры дней моих препроводить в покое...»1. В довершение всего тяжелая болезнь, результат нечеловеческой работы, которую он нес на себе почти четверть века, часто выводила его из строя и приковывала его к постели. Но Ломоносов и в этих условиях остался самим собой. Можно только поражаться, как тяжело больной, он не только продолжал напряженно и плодотворно работать, но и с исключительным мужеством и достоинством отстаивал дело, которому он посвятил всю свою жизнь. Его не могло остановить ни санкционирование действий его врагов Разумовским или Сенатом, его не могли остановить даже указы самой Екатерины. История с географическим департаментом и приглашением Шлецера ясно показала это. «Я положил твердое и непоколебимое намерение, чтобы за благополучие наук в России, ежели обстоятельства потребуют, не пожалеть всего моего временного благополучия»,2 — так заявлял он еще в начале своей деятельности и до конца жизни остался верен этому принципу.
Борьбу Ломоносова могла остановить только смерть. 4-го апреля 1765 года она вырвала его из строя борцов. Враги Ломоносова не скрывали своей радости. Они спешили сообщить друг другу эту новость, делились планами и торжествовали, что теперь им никто не будет мешать3. Придворные и академические реакционеры спешили использовать смерть Ломоносова в своих целях. Его объявили певцом религии и самодержавия, певцом Екатерины и Елизаветы. Его стремились оторвать, спрятать от народа, которому он верно служил всю свою жизнь. Одновременно с этим придворная клика и после смерти Ломоносова продолжала его травлю. Когда десятилетний Павел, будущий император, узнал о смерти Ломоносова, то он ответил: «что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал»4. В этих словах выражено отношение не только и не столько Павла, сколько отношение самой Екатерины и всей придворной клики. Именно Екатерина и придворная клика погубила его архив, его бесценные «манускрипты», о которых сам Ломоносов писал, что они «могут ныне больше служить, нежели я сам»5.
96
Придворные и академические реакционеры, при жизни Ломоносова всячески травившие его, стремившиеся дискредитировать его замечательные открытия и теории и относившиеся с нескрываемой злобой к его патриотической и демократической деятельности, после его смерти изменили свою тактику. С одной стороны, они стараются всячески замолчать, скрыть его материалистические теории, с другой, — фальсифицировать его литературную, научную и общественную деятельность, выхолостить из нее прогрессивное содержание, притупить демократическую, общенародную направленность его творчества. Извращая и опошляя содержание и направленность деятельности и творчества великого ученого, реакционеры всех мастей, учитывая огромную известность Ломоносова, пытаются вместе с тем предоставить известную славу его имени. Они используют имя и славу Ломоносова для оправдания и восхваления своей реакционной антинародной политики, против которой с такой страстью он боролся всю жизнь. Так поступали и поступают реакционные классы в отношении великих людей, прокладывающих новые пути в науке, литературе, в общественной жизни. Не избежал этой участи и Ломоносов.
Академические реакционеры не уступали придворным. Они выслушали посвященную Ломоносову речь домашнего врача Разумовского Леклерка, избранного по предложению Штелина академиком на освободившееся место. Это был тот самый Леклерк, на невежественную и клеветническую книгу которого о России и ее истории несколько лет спустя был вынужден отвечать историк Болтин. За пустыми и холодными восхвалениями Ломоносова, как верно отметил один из исследователей, в речи стояло безграничное самомнение и самодовольство Леклерка: «Ломоносова среди вас больше нет, но зато есть я — Леклерк!». Но даже и такая речь показалась излишней, ее сдали в архив и она пролежала в нем около сотни лет, когда ее приняли за чистую монету, и, умалчивая о том, что из себя представлял Леклерк, опубликовали с самыми лестными комментариями1.
Академическая клика, стремившаяся запрятать в пыль архивов работы Ломоносова, дискредитировать его открытия, 10 мая 1765 г., т. е. всего через месяц после смерти Ломоносова, решила «рассмотреть состояние университета и гимназии». Вывод был такой, какого и следовало ожидать от академических реакционеров: «употребленные с 1759 года (т. е. с того времени, как университет и гимназия
97
поступили под управление Ломоносова. — М. Б.) разные опыты... не мало не соответствовали намерению академии». Академическая конференция заявила, что обучение студентов в академии обходится гораздо дороже (!), чем их посылка за границу, что только за границей можно обучить студентов наукам, языкам и светским манерам. В противовес Ломоносову и Котельникову, писавшим незадолго до этого о хорошем поведении студентов и гимназистов, об их усердных занятиях и хороших успехах, академическая конференция объявила «что как между студентами, так и гимназистами находится почти половина пьяниц, забияк и ленивых, непонятных и в ученьи по ныне никакого успеха не оказывающих»1. Так же отозвалась конференция и об учителях гимназии, привлеченных Ломоносовым и Котельниковым, заявив, что они «всякими пороками заражены». Все зло эти реакционеры от науки видели в том, что студенты и гимназисты «набираемы были (Ломоносовым. — М. Б.) все из самой подлости»2.
Вопрос о социальном составе учащихся являлся одним из центральных пунктов противоречий между Ломоносовым и академической кликой. Еще при обсуждении составленного Ломоносовым устава гимназии представители клики требовали запрещения принимать в гимназию и университет детей из податного сословия. Модерах в бытность свою инспектором гимназии требовал, чтобы в гимназию «не принимали простонародья». Его горячо поддерживал Миллер, заявлявший: «гимназия испорчена тем, что состоит из мальчиков нисшего сословия»3. Тот же Миллер в 1761 году писал Теплову, что Ломоносов «разорит всю академию», если его не остановят. «Мы видим печальный тому пример на университете и гимназии, которыми он исключительно управляет: они никогда не были в таком плохом положении, как теперь»4. Улучшение работы университета и гимназии, ориентировка Ломоносова на разночинный состав учащихся — это как раз больше всего пугало академическую клику. Ломоносов же добился того, что гимназия и университет целиком состояли из разночинцев. Так называемые «Университетские дела» за 1759—1764 гг. архива АН СССР содержат значительное количество заявлений солдат, мастеровых, плотников, истопников, мелких приказных и других представителей низов о приеме их детей в гимназию академии. По ордерам Ломоносова почти все они были не только приняты, но
98
и зачислены на казенное содержание. Среди принятых Ломоносовым мы видим и солдатского сына Василия Зуева (будущего академика) и добравшегося до академии уроженца далекой Камчатки Ивана Мошкова и отпущенных крепостных Алексея Борисова и Тихона Замараева и многих других1. Но Ломоносов не ограничивался приемом тех разночинцев, которые сами шли в академию. Он звал их в науку, в руководимый им университет. В специальном объявлении он обращался с призывом к тем «дворянам и разночинцам, кои детей своих... к обучению гимназическим наукам своего достатку на содержание не имеют, чтобы представляли таких молодых людей при челобитьи академической канцелярии, которая о их определении к гимназическим наукам рассмотрит и попечение иметь будет»2. В результате его деятельности в 1760 г. в гимназию было принято 40 человек. Для сравнения укажем, что за все предшествующее десятилетие в гимназию академии было принято всего 24 человека. В 1761 г. в гимназии училось 46 человек. Их социальный состав чрезвычайно любопытен. Среди них было детей: солдат — 24, унтер-офицеров — 6, ремесленников — 3, мелких приказных — 2, учителей — 2, купцов — 4, духовенства — 2, прапорщиков — 1, прочих — 23. В 1763 г. из находившихся на казенном содержании 33 гимназистов было детей: солдат и матросов — 17, унтер-офицеров — 3, наборщиков — 3, садовника — 1, обозного — 1, сторожа — 1, приказчика — 1, купцов — 2, дьячка — 1, священника — 1, профессоров — 24. Еще более показателен был состав студентов руководимого Ломоносовым университета. Из 15 студентов, учившихся в 1761 г., 10 человек: А. Леонтьев, А. Поленов, И. Лепехин, Г. Иванов, Д. Легкой, Ф. Васильев, Н. Стрешнев, Г. Шпынев, А. Горин и П. Иноходцев были детьми солдат; В. Федотов — сын садовника, И. Машков — «камчатский уроженец, штурманов сын», Д. Макеев — сын купца, В. Савельев — сын живописца и П. Петровский — сын офицера5.
Заявление конференции, что «опыт Ломоносова себя не оправдал», на деле означало смертный приговор университету. В ордере Тауберта, охаивающем руководство университетом со стороны Ломоносова и обрушивающемся на демократический состав студентов и гимназистов, прямо говорится, что Екатерина «сама предписать соизволила регламент каким образом воспитывать обоего пола юношество».
99
Тауберт ссылается на регламент «института благородных девиц» и заключает, что, согласно указаниям Екатерины, академическая канцелярия считает необходимым «сделать точно такое ж учреждение»1.
Больше в протоколах академии нет упоминаний об университете. Лекции фактически прекратились. Одних студентов отправили за границу, постаравшись не пустить их в Академию Наук по их возвращении. Так было, например, с выросшим в академической гимназии и университете выдающимся русским юристом и экономистом Алексеем Поленовым. От остальных студентов под разными предлогами постарались избавиться2. Через полгода после смерти Ломоносова их осталось вместо 30 всего 9, а к концу 60-х годов в академии фактически не было ни студентов, ни университета. Ликвидация университета была далеко не единственной, но существенной причиной того, что Петербургский университет был основан только через полстолетия после смерти Ломоносова.
В свете сказанного более чем странно звучит утверждение историка Академии Наук Г. А. Князева, который пишет: «После смерти Ломоносова... Петербургский университет быстро распался, и деятельность его постепенно к концу века заглохла». Написав это, Г. Князев замечает: «Впрочем, этот вопрос потерял уже свою остроту (?!), так как развивался, основанный по мысли того же Ломоносова, Московский университет»3. Как раз наоборот: не потерял, а приобрел еще большую остроту. Заявлять так — значит на деле становиться на сторону Шумахера, Тауберта и Миллера, значит объявлять бессмысленной и ненужной всю ту борьбу за Петербургский университет, которую вели Ломоносов, Крашенинников и другие передовые русские ученые в 1754—1765 гг.
Не менее печальная судьба постигла академическую гимназию. Из нее была удалена почти половина учеников, неугодных клике. Крашенинников и Ломоносов были в могиле, Котельников был отстранен от руководства гимназией, и ему было приказано немедленно освободить квартиру. «Пусть ищет где хочет другую», — цинично распорядился Тауберт4. Гимназия была поручена вечно пьяному Фишеру и приглашенному Таубертом Бакмейстеру. Фишер и его подручные установили в гимназии настоящий террор. Резко ухудшилось материальное положение гимназистов. Они безуспешно жаловались на плохую пищу, указывая, что «кушанье нехорошо, порции
100
очень малы, похлебки не сыты», что «соленая рыба со столь худым запахом, что и есть не можно». Даже некоторые официальные лица были вынуждены отметить, что гимназисты постоянно бродят в поисках хлеба1. Своими действиями Фишер и его помощники довели гимназистов до того, что те, стремясь избавиться от истязаний, подожгли гимназию2. Разгоняя и терроризируя гимназистов, набранных Ломоносовым, Тауберт в соответствии с указаниями Екатерины набирает в гимназию 30 детей дворян и придворной прислуги 5—6 летнего возраста. Почти всем детям солдат, ремесленников и т. п. Тауберт отказывает в приеме. Те несколько детей бедняков, которые были все же приняты в гимназию, были отчислены Таубертом. Так, в ноябре того же года им были отчислены 5-летние сын солдата Иван Андреев и сын матроса Петр Леонтьев, так как «оказали себя в науке весьма неспособными»3.
В результате таких действий академической клики гимназию постигла судьба университета: она быстро зачахла и бесследно исчезла. Придворная и академическая клики сделали все, чтобы дело, начатое Ломоносовым, умерло вместе с ним. Но с помощью Ломоносова, под его руководством, на его книгах и идеях в Академии Наук выросли Степан Крашенинников, Семен Котельников, Иван Лепехин, Алексей Протасов, Алексей Поленов, Николай Озерецковский, Степан Румовский, Василий Зуев, Тимофей Малыгин, Никита Соколов, Петр Иноходцев, Василий Севергин и многие другие. Выражая и отстаивая насущные национальные интересы народа, они продолжали и развертывали борьбу за передовую культуру и науку.
Реакционеры погубили академический университет и гимназию, созданию которых Ломоносов отдал столько сил и времени, но задушить передовую русскую культуру и науку они были бессильны, как бессильны они были, несмотря на все репрессии, сломить борьбу народа против самодержавия и крепостничества.
Одним из важнейших центров в стране, где было подхвачено поднятое Ломоносовым знамя борьбы за передовую материалистическую науку, за демократические принципы образования, за развитие освободительного патриотического направления в русской культуре, был созданный по инициативе Ломоносова Московский университет.
101
Ломоносов был великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. А. С. Пушкин |
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПРОЕКТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
К середине XVIII века создание национального центра высшего образования в России превратилось в задачу большого государственного значения. Заслугой Ломоносова является то, что он не только понял общегосударственное, национальное значение этой задачи, но и добился ее осуществления.
Ломоносов правильно понял, какие преимущества для работы университета дает его основание не в Петербурге, а в Москве. Москва была инициатором объединения русского народа в единое национальное государство и его освобождения от иноземного гнета. Она являлась многовековым центром русской культуры и просвещения.
В середине XVIII века Москва являлась центром всероссийского рынка и была тесно связана со всеми районами страны. Она была одним из самых важных в стране центров развивавшегося мануфактурного производства. Ее торговые обороты быстро возрастали. Москва была огромным городом, большинство населения которого составляли «разночинцы». В Москве не было такого наплыва иноземных проходимцев, как в Петербурге. Все это создавало для основания и работы университета условия более благоприятные, чем в Петербурге.
102
Пламенный патриот, великолепный знаток прошлого своей Родины, Ломоносов прекрасно понимал место и значение Москвы в истории и жизни страны. Он сам начинал свою учебу в Москве, и это помогло ему убедительно обосновать выгоды основания университета именно в Москве. В «доношении», представленном в Сенат, указывалось, что основание университета в Москве «тем удобнее быть кажется» по следующим причинам: 1) в Москве живет огромное число дворян и разночинцев, 2) Москва занимает исключительно удобное положение по отношению ко всем частям страны, 3) содержание студентов и гимназистов обойдется в Москве дешевле, чем в Петербурге, 4) в Москве бо́льшая возможность получить значительное число своекоштных студентов, так как они легко могут найти там квартиры, 5) то обстоятельство, что многие стремятся дать своим детям образование и не останавливаются перед расходами по найму учителей-иностранцев, «которые не токмо учить наукам не могут, но и сами тому никакого начала не имеют», говорит как о необходимости создания университета, так и о наличии условий для его деятельности1.
Ломоносов понимал, что в существующих условиях он мог добиться осуществления своих предложений только в том случае, если будет действовать через лиц, обладавших значительной властью и влиянием. Он понимал, что без поддержки вельмож его представления, как бы ни было велико их значение, утонут в море канцелярской переписки, либо будут лежать без движения в одной из коллегий или канцелярий. Так было и в вопросе об основании Московского университета. Ломоносов воспользовался помощью И. И. Шувалова для осуществления мероприятия, которое являлось жизненно необходимым для страны.
Шувалов бесспорно сыграл известную роль в осуществлении плана Ломоносова по основанию Московского университета. Без его помощи эта работа никогда не была бы осуществлена так быстро. Дворянские и буржуазные историки видели в этом доказательство того, что Шувалов был единомышленником, другом, покровителем и учеником Ломоносова, что он использовал свою власть и свое положение для бескорыстного служения делу распространения науки и просвещения в России. Так, с некоторыми поправками рассматривают этот вопрос и авторы ряда исследований, вышедших уже в советское время2. Легенда об исключительной роли Шувалова в развитии русской национальной культуры и просвещения возникла
103
в дворянской и буржуазной литературе не случайно. Она имела своей целью доказать, что развитие русской культуры происходило при активной поддержке и помощи самодержавия. Распространение этой легенды в работах советских ученых является либо перепевом буржуазных концепций, либо их некритическим использованием.
И. И. Шувалов представляет собой одну из интереснейших фигур дворянской России середины XVIII века. Выходец из мелкопоместного дворянства, он превратился во всесильного фаворита. Вольтер был очень близок к истине, когда назвал его человеком, который «в течение пятнадцати лет неограниченно управлял империей протяжением в две тысячи лье»1. Можно только удивляться живучести версии о том, что «предоставив своему двоюродному брату П. И. Шувалову сферу государственных дел, он предпочел более скромную и, вместе с тем, более лестную роль мецената и покровителя наук и искусства»2. В действительности Шуваловы держали в своих руках все нити государственного управления. Руководство внутренней политикой осуществляли Петр и Александр Шуваловы. Иван Шувалов играл очень крупную роль в направлении внешней политики России, особенно после отстранения А. П. Бестужева-Рюмина3. «Власть его так велика, что иногда нет возможности ей противодействовать»4, — писал А. П. Бестужев-Рюмин английскому послу. Генерал-прокурор Сената Глебов и государственный канцлер М. Воронцов были ставленниками Шуваловых и покорными исполнителями их воли. Достаточно сказать, что М. Воронцов отчитывался перед И. И. Шуваловым и держал себя с ним как приказчик перед барином. Его письма к И. И. Шувалову переполнены униженными просьбами, сообщениями важнейших политических новостей и вопросами о том, как Шувалов прикажет ему действовать в том или другом вопросе5.
Никогда серьезно не интересовавшийся никакими науками и искусствами Шувалов не шел дальше увлечения французскими романами. Изнеженный, капризный и ленивый, в страсти к нарядам не уступавший ни одной моднице, он был в глазах современников наиболее ярким олицетворением тех представителей аристократии, которые получили название «петиметров». В его мировоззрении и деятельности сочетались либерально-просветительская фразеология, аристократически-салонная болтовня и обычное крепостничество.
104
Переписываясь с французскими просветителями, он кокетничал своим «свободомыслием», объявлял себя их учеником и выслушивал требования Гельвеция «поощрять свободную мысль и не давать ножницам суеверия и богословия подрезать духу крылья»1. Одновременно он заботился о том, чтобы с первого дня существования университета студентам и гимназистам регулярно преподавался катехизис, и настойчиво хлопотал об этом перед синодом2. Он возмущался тем «вредом в нравах», которое причиняет «даже до простых людей» «чтение сочинений Вольтера и энциклопедистов, устремившихся истреблять законы христовы» и требовал сурового наказания тех, кто выступает против догматов церкви3.
Шувалов выступал в роли «Северного Мецената», покровителя наук, литературы и искусства в России, покровителя Ломоносова и исполнителя его замыслов. Одновременно с этим он выдвигал и поощрял придворного проповедника Гедеона Криновского, рьяно нападавшего в своих проповедях на науку и особенно на Ломоносова4.
Показной «патриотизм» Шувалова преспокойно уживался с галломанией и космополитизмом. На средства Шувалова его секретарь, один из самых активных проповедников масонства, барон Чюди издавал на французском языке журнал «Le câméléon litteraire», использовавшийся Шуваловым для беззастенчивой саморекламы. В программной статье, которой открывался первый номер журнала, Чюди прямо заявлял, что космополитизм является его символом веры5. Он энергично выступал против атеизма и печатал «научные» статьи «о философском камне алхимиков» и т. п. Не удивительно, что Ломоносов был очень недоволен, когда его похвальное слово Петру в плохом переводе Чюди появилось в этом журнальчике6. Шувалов переписывался с доброй половиной аристократов Европы и почти 15 лет пробыл за границей, проводя время в аристократических гостиных Франции, Англии, Италии и Австрии. Там он чувствовал себя как рыба в воде и неизменно встречал самый радушный прием. К нему как нельзя лучше подходит характеристика русских помещиков, данная И. В. Сталиным. «В Европе многие представляют себе людей в СССР по-старинке, думая, что в России живут люди, во-первых,
105
покорные, во-вторых, ленивые. Это устарелое и в корне неправильное представление. Оно создалось в Европе с тех времён, когда стали наезжать в Париж русские помещики, транжирили там награбленные деньги и бездельничали. Это были действительно безвольные и никчёмные люди»1. Шувалов разыгрывал роль «друга философов» и переписывался с Вольтером, Гельвецием, Д’Аламбером и Бюффоном, но это было в действительности тем же самым «отвратительным фиглярством в сношениях с философами», о котором писал Пушкин, характеризуя Екатерину II. Отнюдь не случайно Екатерина и Павел награждали его высшими орденами и чинами и жаловали ему тысячи крепостных как раз тогда, когда они расправлялись с деятелями передовой культуры. Ему устраивали торжественные приемы Бирон и Фридрих II, римский папа и французский король. Шувалов платил им тем же: он восхвалял «заботы» Петра III по управлению шляхетским корпусом, восхищался Бироном и ставил действия Фридриха II по управлению страной в пример всем остальным государям2.
Столь же мало соответствует действительности и версия об его исключительной доброте, великодушии, уступчивости, скромности и т. д. Шувалов был ловким и умелым интриганом, положение которого было в конечном итоге основано только на некоторых преимуществах, не имеющих никакого отношения ни к науке, ни к государственной деятельности.
Фридрих II имел все основания предупреждать Петра III об опасности дворцового переворота со стороны Шуваловых3. Если им не удалось осуществить замышляемый ими переворот, то причины этого следует искать в их крайней непопулярности в гвардейских кругах, в том, что глава их партии П. Шувалов умер через несколько дней после смерти Елизаветы. Даже после того, как в 1762 году Екатериной II был успешно осуществлен дворцовый переворот, она продолжала опасаться интриг Шувалова и поспешила отправить его в почетную ссылку за границу, разрешив вернуться только через 15 лет, когда он был для нее уже не опасен4.
Действительно, Шувалов кое в чем помогал Ломоносову, но далеко не так много и далеко не так часто, как принято считать. Это совершенно правильно подчеркнул А. Морозов: «Всеми своими успехами Ломоносов был обязан не «щедротам» Елизаветы и не «покровительству» Шувалова, а самому себе, своей неустанной борьбе за все то, что отвечало насущным нуждам и потребностям исторического
106
и культурного развития русского народа»1. Ломоносов, боровшийся за интересы народа, видел, что «покровительство» Шувалова сплошь и рядом ограничивается красивыми жестами: Шувалов «любит и жалует», но от этого ни положение академии, ни положение самого Ломоносова не становилось лучше. «Все любят, да шумахерщина», — с горечью замечал он в одной из своих последних записок2.
Не раз Ломоносову приходилось давать решительный отпор вельможному самодурству и высокомерию Шувалова и ему подобных, стремившихся оскорбить и унизить великого ученого.
Ломоносов всегда сохранял чувство собственного достоинства, независимости и благородства. С какой силой, например, звучит его ответ Шувалову на упреки за то, что он «осмелился» противоречить недоучившемуся вельможе А. С. Строганову. Прося ускорить утверждение устава университета, Ломоносов не считал даже нужным отвечать на выпады Строганова и упреки Шувалова. «По окончании сего только хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне низкою моею породою попрекают, видя меня как бельмо на глазе, хотя я своей чести достиг не слепым счастием, но данным мне от бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения»3, — писал он.
Ломоносов был подлинным основателем Московского университета. Он был инициатором его создания, составителем его проекта и плана. Он, по его собственным словам, «подал первую причину к основанию помянутого корпуса» и «был участником при учреждении Московского Университета»4.
Шувалов, который не только ничего не сделал, но и мешал Ломоносову в налаживании работы университета при Академии наук,
107
на этот раз энергично поддерживал его проект и добился быстрого его осуществления. Причина этого проста. С одной стороны, необходимость университета для государственных нужд была совершенно очевидна. С другой — это позволяло Шуваловым вообще и И. И. Шувалову в особенности упрочить свое положение. Это, наконец, создавало определенную базу для просветительской демагогии и заигрывания с философами и писателями Европы.
Но Шувалов не просто поддержал проект Ломоносова и помог его осуществлению. Он присвоил себе славу «изобретателя сего полезного дела». Ни в официальных документах, представленных в Сенат, ни в речах, произнесенных на открытии университета, имя Ломоносова даже не было упомянуто1. Это отнюдь не было результатом случайности. Думавшему лишь о своекорыстных целях Шувалову было невыгодно, чтобы стала широко известна роль Ломоносова в основании университета. Поэтому даже через 30 лет, когда Академия издавала посмертное собрание сочинений Ломоносова и Шувалов передавал его письма для опубликования, он скрыл знаменитое письмо об основании Московского университета. Точно так же не были им переданы в печать и 14 других писем Ломоносова, в том числе письма о столкновении со Строгановым, письмо о попытках Шувалова «примирить» его с Сумароковым и другие. Шувалов передал в печать только то, что могло упрочить за ним славу «друга и покровителя» Ломоносова и скрыл все, что было невыгодно для этой славы. Ломоносовское письмо об основании Московского университета впервые увидело свет только через 70 лет после того, как оно было написано2.
Официальные поэты и ораторы на все лады восхваляли Елизавету и Шувалова «за их мудрый поступок». По случаю открытия университета была выбита медаль с изображением Елизаветы. Открытие университета сопровождалось иллюминацией в честь Елизаветы и Шувалова3. Ни одно торжество в университете не обходилось без
108
восхваления Елизаветы и Шувалова, как его основателей. Возвращение Шувалова из-за границы и его смерть были отмечены в университете специальными заседаниями и выпуском сборников стихов и речей. В то же время о смерти Ломоносова в «Московских Ведомостях» не появилось ни единой строчки. Через 60 с лишним лет после основания в отчете за 1822/23 учебный год говорилось, что Московский университет «священным долгом почел, в воспоминание бессмертной основательницы его, кроткой Елизаветы, и высокой покровительницы оного великой Екатерины, украсить портретами их свою большую аудиторию, в которою также поставлен портрет незабвенного Шувалова, первого куратора и учредителя университета»1. О помещении же портрета Ломоносова — истинного создателя университета, не было и речи. Даже после того как в 1825 году было опубликовано ломоносовское письмо, ему продолжали отводить только третье место в создании университета.
Летом 1754 года «к великой своей радости» Ломоносов получил от И. Шувалова черновой проект «доношения» в Сенат относительно основания университета в Москве. Об этом Шувалов уже говорил ему раньше, но Ломоносов знал цену подобных обещаний. Поэтому только получив письменное подтверждение, Ломоносов смог написать, что теперь он окончательно «уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно к истинной пользе и славе отечества»2 (стр. 275).
О том, что инициатором основания университета в Москве был Ломоносов, убедительно говорит вся его предшествующая деятельность. Об этом же совершенно недвусмысленно писал и сам Ломоносов, указывавший, что он первую причину «подал к основанию сего корпуса». Отвечая Шувалову, он писал: «Главное мое основание, сообщенное Вашему превосходительству, весьма помнить должно» (стр. 275) и излагал основные принципы проекта университета. «Сообщенное», т. е. уже сообщенное до письма Шувалова. Поэтому письмо в вопросе об основании университета было не началом действий Ломоносова в этом направлении, а лишь письменным оформлением того, что, очевидно, уже не раз говорилось им Шувалову.
Ответ Ломоносова на шуваловское письмо очень ярко показывает, насколько чужды были ему своекорыстные интересы. Он думал
109
только о «пользе и славе отечества» и поэтому не только соглашался уступить осуществление своей любимой идеи Шувалову, но и излагал ему основные принципы, на которых должен быть построен план будущего университета. Он знал, что Шувалов присвоит авторство, но боялся не этого, а другого: того, что Шувалов представит такой проект устава и штатов университета, которые погубят его еще при рождении. Он боялся, что Шувалов возьмет за основу регламент академии 1747 года и тогда вместо центра национальной культуры и рассадника просвещения страна получит второе издание академического университета. «Советуя не торопиться, чтобы после не переделывать», Ломоносов указывал, что план и штаты университета должны быть составлены так, чтобы они могли служить «во все будущие роды» (стр. 275). Кто-кто, а Ломоносов прекрасно знал, до чего трудны и зачастую безуспешны попытки изменить уже утвержденное Сенатом. Поэтому он и сообщал Шувалову основные принципы, на которых должен быть построен проект университета.
Рассматривая их, мы видим, что они полностью совпадают с теми требованиями, которые выдвигал Ломоносов и до, и после этого в Академии Наук. Не ограничиваясь сообщением этих принципов, он писал Шувалову: «Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целой полной план предложить могу». Совершенно очевидно, что «полдесятка дней» на составление «целого и полного плана» университета могло быть Ломоносову достаточно только потому, что он давно думал над этими вопросами, давно работал над составлением проекта, и речь шла по существу не столько о составлении нового плана, сколько об оформлении давно продуманного. В результате родился проект Московского университета, в основу которого легли принципы, изложенные Ломоносовым в письме к Шувалову, которые мы узнаем в ряде пунктов и предложений этого проекта. Но анализируя его, мы обнаруживаем ряд пунктов, не только не являющихся требованиями Ломоносова, но прямо противоречащим им. Одновременно с этим мы не находим в проекте ряда требований Ломоносова, которые он энергично отстаивал в академии.
Шувалов не только присвоил себе авторство проекта и славу создателя университета. Он значительно испортил ломоносовский проект, внеся в него ряд положений, против которых с такой страстью боролся Ломоносов и другие передовые русские ученые в Академии Наук1. Исправления Шувалова были направлены на то, чтобы приспособить проект Ломоносова к классовым интересам дворянства.
110
Анализируя проект университета, мы ясно видим борьбу этих двух тенденций, видим в ряде статей компромисс между ними и порождаемые этим противоречия. Проект в том виде, как он дошел до нас, является результатом не дружеской беседы и обсуждения, а результатом борьбы1. Об остроте этой борьбы отчетливо говорит тот факт, что почти сорок лет спустя Шувалов хорошо помнил о ней. «С ним он составлял проект и устав Московского университета. Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях и хотел удержать вполне образец Лейденского, с несовместными вольностями»2, — писал в своих воспоминаниях Тимковский, излагая рассказы Шувалова.
Каковы же основные положения ломоносовского проекта, придавшего деятельности Московского университета то демократическое, прогрессивное направление, которое обеспечило ему выдающуюся роль в истории передовой русской культуры и науки?
С самого начала необходимо оговорить, что ломоносовский проект являлся глубоко оригинальным. Он учитывал как конкретные исторические условия, в которых создавался университет, так и те специфические задачи, которые вставали перед ним в этих условиях. В спорах с Шуваловым, отстаивая свои требования, Ломоносов безусловно ссылался на опыт работы Лейденского и других западноевропейских университетов для того, чтобы обосновать необходимость отдельных пунктов в уставе университета. В своем письме к Шувалову он прямо писал: «Однако и тех совет Вашему превосходительству не бесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются» (стр. 275). Только в этом плане можно понимать фразу ломоносовского письма об учреждении Московского университета «по примеру иностранных» и только что цитированное утверждение Тимковского.
Мы решительно отвергаем утверждения Соловьева, Иконникова, Сыромятникова, Бахрушина и других, заявлявших, что проект Московского университета представляет собой лишь не совсем удачную копию западноевропейских университетских уставов. Ломоносовский проект был настолько же выше их, насколько его передовое материалистическое мировоззрение и научная деятельность были
111
выше погрязшей в средневековой схоластике и теологии казенной западноевропейской науки.
Ломоносов знал, что немецкие университеты совершенно не годятся в качестве образца. Раздробленная на множество мелких княжеств, переживавшая застой в развитии промышленности, торговли и ремесла, Германия представляла из себя в это время «одну гниющую и разлагающуюся массу», где «никто не чувствовал себя хорошо». Сотни мелких князьков установили режим дикого произвола и бесчинства, грабили и разоряли страну. Дворянство «относилось к народу с большим пренебрежением, чем к собакам, и выжимало возможно больше денег из труда своих крепостных»1. Трусливая и неспособная к сколько-нибудь решительным выступлениям буржуазия покорно плелась в хвосте у дворянства, преследуя всякое проявление свободной мысли. Неудивительно, что в этих условиях в немецких университетах господствовала затхлая атмосфера ханжества, лицемерия и средневековой схоластики. Главным факультетом в них продолжал оставаться богословский. Профессора богословия задавали тон и зачастую определяли направление учебной и научной работы университетов. Рядом с враждебными ко всему новому богословами стояли занимавшиеся заумной и бесплодной казуистикой юристы. О научном уровне немецких университетов легко составить представление, если учесть, что среди трудов членов университетов и академий видное место занимали труды по магии, колдовству, астрологии, алхимии. В университетской науке Германии того времени наблюдался крайний упадок экспериментальной исследовательской работы. Отсталость немецкой университетской науки в середине XVIII века ярко выражалась в том, что ее вершиной являлось «вольфианство», которое, по правильной характеристике А. Морозова, «противостояло передовым тенденциям идеологического развития — смелому антифеодальному натиску энциклопедистов, материалистической философии и свободной от богословского закваса эмпирической науке». Что же касается самого Вольфа, то он «как бы изобрел «новую схоластику», которая была не только тесно связана со старой религиозной схоластикой, но и стремилась вобрать в себя материал новой опытной науки»2.
В отличие от немецких и других западноевропейских университов, Ломоносов настаивает на подчеркнуто светском характере преподавания в Московском университете. В нем не только отсутствовал богословский факультет, но даже изучение богословия не предусматривалось. «Хотя во всяком университете кроме философских
112
наук и юриспруденции можно такожде должны быть предлагаемые богословские знания, однако попечение о богословии справедливо оставляется св. синоду» — уклончиво говорилось в проекте (§ 4)1. На деле это означало, что для изучения богословских наук существуют духовные семинарии; в университет же им доступа нет. Не вызывает никаких сомнений, что автором этого пункта был не Шувалов, а Ломоносов. Нам известно отношение к религии и того, и другого. Кроме того, формулировка пункта совпадает с тем, что писал Ломоносов еще в 1748 г. «в университете неотменно должно быть трем факультетам: юридическому, медицинскому и философскому (богословский оставляю синодальным училищам)»2.
Этот пункт проекта имел огромное прогрессивное значение. Он способствовал освобождению науки от религиозных пут и создавал более благоприятные условия для развития материализма3.
Одновременно с этим проект показывает, что Ломоносову не удалось добиться осуществления всех своих требований в этом вопросе. Известно, что он настаивал не только на изгнании теологии из учебных заведений, но и на решительном запрещении церковникам вмешиваться в дела науки и выступать против теорий и открытий, противоречащих «священному писанию». «Духовенству к учениям правду физическую для пользы и просвещения показующим не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях»4, — писал он. Это требование Ломоносова не вошло в проект, конечно, потому, что на него никак не мог согласиться Шувалов, старательно заботившийся, чтобы в речах и книгах профессоров университета не было ничего противоречащего религиозным догмам.
Насколько необходимо и правильно было требование Ломоносова, убедительно показывает выговор, полученный Иваном Третьяковым за то, что он 22 апреля 1768 года произнес речь, полную самых резких выпадов против церкви и той крайне вредной роли, которую играла она по отношению к науке5. Еще более ярко об этом говорит осуждение
113
и публичное сожжение атеистической диссертации Дмитрия Аничкова по доносу духовных и светских реакционеров в 1769 году.
Представители реакционной науки никак не могли примириться с отсутствием богословского факультета. В их глазах это было одним из главных «пороков» Московского университета и они неоднократно требовали его учреждения. Об этом говорил проект устава, составленный в 1765 году Керштенсом и другими профессорами.
Даже получив прямое указание Сената составлять устав из расчета 3-х факультетов, они продолжали отстаивать необходимость богословского факультета и снова представили смету на него. Создание богословского факультета в Московском и Батуринском университетах считал необходимым профессор-юрист Дилтей. Об этом же писали Миллер и неизвестный автор обширного проекта на французском языке. Учреждение богословского факультета в существующих и впредь создаваемых университетах предусматривала и Комиссия по составлению нового Уложения1.
В 60—70-х годах XVIII века в правительственных кругах при активном участии Теплова подготовлялось открытие богословского факультета в Московском университете. Дело зашло так далеко, что специально готовились и подбирались кадры ученых попов, предназначавшихся в профессора этого факультета2. Число подобных примеров можно значительно умножить.
Отстаивая подчеркнуто светский характер преподавания в основанном по его инициативе Московском университете, Ломоносов выражал интересы народа, боровшегося против крепостничества, в системе которого видное место принадлежало церкви. Отстаивая светский характер преподавания, Ломоносов опирался на национальные черты русского народа, никогда не отличавшегося глубокой религиозностью. Характерно, что в России все наиболее острые выступления народа против своих угнетателей имели ярко выраженную социальную окраску и были лишены той религиозной оболочки, в которой выступала борьба народных масс на Западе.
Крупным достоинством ломоносовского проекта было то, что он предусматривал деление на факультеты. Отсутствие факультетов в академическом университете крайне мешало подготовке квалифицированных специалистов. Характерно, что составленный Тепловым
114
значительно позднее проект Батуринского университета не предусматривал деления на факультеты. Требование установления факультетов было всегда одним из основных требований Ломоносова. Наибольшее место в его письме к Шувалову занимал как раз вопрос о 3-х факультетах университета. «Профессоров в полном Университете меньше двенатцати быть не может, в трех факультетах», — писал он (стр. 276) и указывал далее, какие профессора должны быть в составе Московского университета.
«В Юридическом три. I) Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные права, так же и узаконения Римской древней и новой империи. II) Профессор юриспруденции Российской, который кроме вышеописанных должен знать и преподавать внутренние государственные права. III) Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время» (стр. 276). Вся эта часть ломоносовского письма, относящаяся к юридическому факультету, дословно вошла в проект. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что ломоносовский проект предусматривал изучение русского права. В Академии Наук этому вопросу никогда не уделялось достаточного внимания. Правда, Штрубе-де-Пирмонт пытался стряпать компиляторские статейки по древнему русскому праву, но в академическом университете русское право не изучалось. Не предусматривали этого ни Теплов в своем проекте Батуринского университета, ни некий Крейдеман, которому было в 1784 году поручено составить планы предполагавшихся 6 университетов. В плане Крейдемана предусмотрено изучение истории, географии, права... Германии, изучение же истории, географии и права России он считал излишним1.
Вторым факультетом по плану Ломоносова был медицинский, охватывавший широкий круг наук естественного цикла. Проект университета полностью повторял соответствующее место письма Ломоносова, лишь уточняя, чему должен обучать каждый из 3-х профессоров этого факультета: химии, натуральной истории и анатомии. Такой совершенно неприемлемый и даже непонятный в современных условиях состав медицинского факультета целиком соответствовал крайне слабой дифференциации наук в то время. Проект Ломоносова вполне соответствовал уровню современной ему науки. Историки науки, обвинявшие Ломоносова в недооценке химии, в превращении ее в придаток медицинского факультета и ограничение
115
ее главным образом «аптекарским делом», совершенно не правы1. При тогдашнем состоянии науки не могло быть и речи о создании отдельного химического факультета. Что же касается второго обвинения, то оно основано просто на незнании действительного положения химии в Московском университете в первые десятилетия его существования. Как показывают дошедшие до нас документы, Московский университет с первых лет своего существования располагал хорошей для того времени химической лабораторией, в которой, судя по ее описи 1770 г., имелись необходимые приборы и реактивы для занятия в первую очередь горной и пробирной химией2. Результатом этого было то, что подготовленные университетом химики направлялись на горные заводы Урала и Алтая. Лишь в результате того, что преподавание химии в университете было сосредоточено в руках профессоров, в центре научных и учебных интересов которых стояла медицина, преподавание химии пошло постепенно по линии превращения ее в прикладную науку. Но в этом ломоносовский проект университета абсолютно не повинен.
Третьим факультетом по плану Ломоносова был философский. Он еще больше отличался от современного, чем медицинский, и по изучаемым предметам, и по тем задачам, которые перед ним стояли. Все студенты, поступавшие в университет, обязаны были вне зависимости от того, по какому предмету они хотели специализироваться, начинать с философского факультета. Студенты должны были обучаться на «философском факультете, по крайней мере три года, для приготовления себя к вышним факультетам, или к вышнему ж философскому классу, учрежденному для подробнейшего познания и совершенной твердости в одной или в некоторых из множества наук, философский факультет составляющих, как то в вышней математике, физике, механике, экономии и пр. А в вышних факультетах имеют оныя курс свой кончить в четыре года»3. Такое построение обучения было в середине XVIII века вполне оправдано. «Своеобразие развития философии заключается в том, что от неё, по мере развития научных знаний о природе и обществе, отпочковывались одна за другой положительные науки. Следовательно, область философии непрерывно сокращалась за счет развития положительных наук...»4, — говорил А. А. Жданов в своем выступлении на философской дискуссии. К середине XVIII века этот процесс отпочковывания был еще
116
далек от завершения. Поэтому в письме Ломоносова Шувалову в числе 6 профессоров философского факультета были предусмотрены: «1) Профессор философии. 2) физики. 3) оратории. 4) поэзии. 5) истории. 6) древностей и критики» (стр. 276). Раздел о философском факультете претерпел наибольшие изменения в проекте. Несмотря на указание Ломоносова, что 12 профессоров является минимальным числом, Шувалов сократил число профессоров философского факультета до трех: философию он объединил с физикой, ораторию с поэзией, историю с древностями и критикой, добавив к истории еще и геральдику (весьма характерное для дворянской идеологии Шувалова добавление) (стр. 276). В окончательном тексте проекта Ломоносову удалось отстоять физику, но профессоров по гуманитарным наукам на философском факультете было предусмотрено всего 2 человека.
Опыт работы Московского университета очень скоро показал, что число профессоров на философском факультете нужно было не уменьшать, а увеличивать. Профессорская конференция и администрация университета была вынуждена неоднократно просить об увеличении числа профессоров на философском факультете до 6 и добавления к ним 3 экстраординарных профессоров, так как философский факультет, «кроме философских, включает все математические, экономические, исторические, политические и так называемые словесные науки»1. Десятки раз обращался университет с просьбами о пересмотре штата, но Екатерина, щедро раздаривавшая своим фаворитам и приближенным сотни тысяч, экономила на единственном русском университете. Законная просьба Московского университета так и не была ею удовлетворена. Это еще раз подтверждает, насколько прав был Ломоносов, писавший Шувалову: «Несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных студентов довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем комплект наберется». Он указывал, что это гораздо лучше, чем «после как размножатся оной снова переделывать и просить о прибавке суммы» (стр. 275).
Ломоносовский план 3 факультетов и предусмотренные им 12 кафедр обеспечивали подготовку квалифицированных специалистов, необходимых стране по всем основным специальностям. Проект Ломоносова был основан на учете потребностей страны как в лицах, обладающих широкой общеобразовательной подготовкой, так и в специалистах, которые должны были работать в определенной отрасли хозяйства, управления и культуры. Силу настоящего раздела проекта
117
Ломоносова как раз и составляло то, что он исходил не из отвлеченных общих рассуждений, а из нужд страны.
Третьей особенностью ломоносовского проекта, коренным образом отличавшей его от всех иностранных университетов, было то, что неотъемлемой составной частью университета являлась гимназия. В тех исторических условиях это было совершенно правильно. Ломоносов прекрасно понимал, что до тех пор, пока не будет решен вопрос о гимназии, нечего и говорить о нормальной работе университета. «При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян» (стр. 276), — писал он Шувалову. В соответствии с этим гимназия рассматривалась в проекте как необходимая составная часть университета и занимала в нем видное место. § 28—40 проекта специально посвящены гимназии. О ней говорится и в ряде других параграфов, посвященных университету в целом. Но Ломоносов не ограничился этим, им был составлен специальный «Регламент Московской гимназии». В протоколе заседания Академии Наук от 15 июля 1756 года записано следующее: «Советник Ломоносов предлагает правила, сочиненные им для Московских гимназий, и заявляет, что он напишет в соответствии с ними правила для академической гимназии»1. В деле «Об учреждении и существовании в первые годы университета в Москве», находящемся в ЦГАДА, вслед за проектом Московского университета и «Инструкцией директору Университета», идет «Регламент Московских гимназий»2. Это несомненно и есть правила, составленные Ломоносовым и, так же как и проект, измененные и подписанные Шуваловым. Особенно подробно дано построение обучения. Регламент гимназии четко определяет ее цели и в соответствии с этим содержание и направление ее работы. «Намерение при заведении сих гимназий состоит в том, чтоб Российское юношество обучить первым основаниям наук, и, таким образом, приготовить оное к слушанию профессорских лекций в Университете, притом же тем родителям, которые не намерены детей своих определить к наукам, подается способ к обучению их иностранным языкам или одной какой-нибудь науке, от которой им в будущем состоянии их жития некоторая польза быть может». (Регламент, стр. 293.) Таким образом, гимназия готовила будущих студентов и одновременно с этим являлась местом, куда желающие могли отдавать своих детей для изучения отдельных предметов по их выбору. В соответствии
118
с этим обязательность предметов и строгая последовательность в их изучении была только для гимназистов, которые обучались на казенный счет. Общего же учебного плана в современном понятии этого слова не существовало. Для того чтобы внести в это необходимую систему, регламент предусматривал разделение гимназии на 4 школы: русскую, латинскую, немецкую и французскую. «Русская школа» это был бы, по существу, первый класс, в котором поступившие учились читать и писать на русском и латинском языках. По окончании этой «школы» учащихся, «родители их или родственники (которых. — М. Б.) при записке оных в гимназии прошением объявили, что желают обучить их латинскому языку и другим школьным наукам, тех переводить немедленно в нижний латинской класс, а которые похотят одному только иностранному языку обучиться, тех потом же определить в немецкую или французскую школу». (Регламент, стр. 293). Латинская школа делилась на три класса. В «нижнем» изучали русскую и латинскую грамматику, занимались «легкими» переводами с латинского на русский и с русского на латинский, изучали арифметику (действия с целыми числами) и занимались чистописанием. В «среднем» латинском классе продолжали изучение латинского языка — перевод и толкование легких текстов, синтаксис русского языка («российский штиль»), арифметики (дроби) и приступали к изучению геометрии, географии и греческого языка. Желающие могли начать изучение иностранного языка. В «вышнем латинском» классе продолжали изучение латинского языка («переводы и толкование трудных латинских авторов и стихотворцев»), арифметики, геометрии, греческого языка и начинали изучение истории, генеалогии, российского стихотворства и основ риторики, логики и метафизики. Аналогично этому строились и две другие школы — немецкая и французская, с той только разницей, что они имели не по 3 класса, а по два. Чтобы дать более ясное представление о том, как по плану Ломоносова были организованы занятия в гимназии, приведем для примера составленное им расписание немецкой школы (см. табл. на стр. 119, 120).
При рассмотрении «порядка учения» в гимназии бросается в глаза то внимание, которое уделяется русскому языку. Он изучается во всех классах школ гимназии. Вспомним, что регламент академии вообще не предусматривал изучения русского языка. Нет необходимости доказывать, что авторство этого «порядка» принадлежит Ломоносову. От него же идет требование неуклонно соблюдать расписание. Регламент гимназии требовал, чтобы занятия начинались и заканчивались точно по расписанию даже в том случае, если на занятиях присутствовал всего один ученик, чтобы «во время самого учения ни одной минуты без дела не пропускать», чтобы все учителя
119
Нижний класс
7—11 | 2—4 | 4—6 | |
Понедельник | Читать и писать по немецки и первые основания грамматики немецкой | Правила российского правописания и писать по русски | Сокращенная история |
Вторник | тож | Арифметика в целых числах | Сокращенная география |
Среда | Школьные разговоры, вокабулы и легкие переводы | Катехизис российской | Свобода1 |
Четверг | Читать и писать по немецки и притом первые основания немецкой грамматики | Правила российского правописания и писать по русски | Сокращенная история |
Пятница | тож | Арифметика в целых числах | Сокращенная география |
Суббота | Школьные разговоры, вокабулы и легкие переводы | Свобода | |
вели учет всем своим занятиям, успеваемости и поведению учащихся, подавали ежемесячные ведомости об их успехах. За работой гимназии должен был наблюдать особый инспектор из числа профессоров университета. Он должен был систематически ходить на уроки для проверки хода обучения и каждые 3 месяца проводить текущие экзамены и записывать «все, что как в рассуждении учителей, так и учащихся, требовать будет поправления» (Регламент, стр. 301). В конце каждого полугодия должны были проводиться публичные экзамены, на которых обязаны были присутствовать все профессора университета. В результате этих экзаменов осуществлялся перевод в старшие классы, и «производство в студенты». Такое внимание
120
Высший класс
7—11 | 2—4 | 4—6 | |
Понедельник | Толкование немецкого автора и переводы с немецкого на русское | Универсальная история и генеология | Писать по немецки и по латыни |
Вторник | Тож и переводы с русского на немецкое | Пространнейшая география и употребление глобуса | Арифметика и геометрия |
Среда | Штиль Российской и сочинение на русском языке писем | Универсальная История и генеология | Свобода |
Четверг | Толкование немецкого автора и переводы с немецкого на русское | Пространнейшая география и употребление глобуса | Писать по немецки и по латыни |
Пятница | Тож и переводы с русского на немецкое | Катехизис российской | Арифметика и геометрия |
Суббота | Штиль Российской и сочинение на русском языке писем | Свобода | |
к систематическому учету знаний учащихся также принадлежит Ломоносову. Мы уже видели, какое значение придавал он проведению экзаменов в академической гимназии.
Обращает внимание проведенное через весь устав требование чуткого, внимательного подхода и отношения к каждому ученику. «И как не все ученики равную остроту и способность к учению имеют, то и требовать не можно, чтоб оне каждой науке в равном совершенстве научились, чего ради учителям прилежно примечать склонность каждого ученика», — говорится в регламенте. Там же рекомендуется давать учащимся темы для переводов «смотря по способности каждого» (Регламент, стр. 301). Учителям и руководителям гимназии вменялось в обязанность уговаривать родителей — если они «в состоянии
121
содержать своих детей при науках, чтоб не окончив учения, не отлучали их от гимназии, дабы оне, будучи произведены в студенты, могли продолжать науки в Университете и, таким образом, к службе отечества и тем вящее учинить себя способными» (Регламент, стр. 300).
Поражает еще одна особенность «Регламента». В то время, когда слова «школа» и «розга» были почти синонимами, регламент запрещал телесные наказания в старших классах гимназии. Точно так же запрещалось учеников «скверными словами» бранить, бить по голове, в грудь, по спине рукою, или каким-нибудь «инструментом». «Регламент» вместо телесных наказаний рекомендовал «словесные увещевания», выговор. В качестве крайней меры разрешалось ставить на колени и наказывать несколькими ударами линейки по ладоням, «токмо чтоб по какому-нибудь пристрастию не приступать в том надлежащей мере». Лишь в самых исключительных случаях и только с разрешения инспектора «за великие продерзости, упрямство и ослушение» разрешалось применять розги и карцер, письменно извещая об этом родителей и требуя, чтобы они помогали исправить ученика. Вообще же регламент требовал, чтобы во всех наказаниях учителя воздерживались «сколько возможно от излишней строгости и от всех пристрастий» (Регламент, стр. 303). Совершенно очевидно, что такое направление раздела «о штрафах» гимназического «Регламента» принадлежит не вельможе Шувалову, а Ломоносову, на глазах которого не раз свистели розги в Славяно-греко-латинской академии. Ломоносов, видевший, как истязали учащихся в академической гимназии, решительно протестовал против применения наказания, как основного средства воспитания.
История первых десятилетий существования Московского университета показала, что Ломоносов был совершенно прав, придавая решающее значение работе гимназии и отводя ей такое почетное место в проекте. В то время как академический университет кое-как существовал только благодаря периодическим наборам семинаристов, гимназия Московского университета вполне обеспечивала его бесперебойную работу. Начиная с 1759 года, она регулярно производила выпуски. В 1759 году было «произведено в студенты» 18 человек, а в 1760 — 20, в 1763 — 25, в 1764 — 23, в 1769 — 18 и т. д. Напомним для сравнения, что Ломоносову в результате самой ожесточенной борьбы и буквально нечеловеческих усилий удалось за 4 года подготовить в академической гимназии лишь 20 человек студентов.
Но Ломоносов, как уже указывалось, не был единственным автором регламента гимназии. В него, так же как и в проект университета, был внесен ряд изменений Шуваловым. Учреждалась не одна гимназия, как предлагал Ломоносов, а две: одна для дворян, другая для разночинцев. Дворяне должны были заниматься отдельно, для
122
них было приказано «подобрать лучшие покои (классные комнаты. — М. Б.) по их приличеству», которые же похуже — отводились разночинцам. (Инструкция, введение). Дворяне-гимназисты, состоящие на казенном содержании, получали в старших классах по 25 рублей, в младших — по 18, разночинцы же в старших — по 15 и в младших — по 10 рублей в год1. Гимназистов-дворян запрещалось наказывать розгами, их могли только «бить по штанам линейкою» и т. д. Кроме того, проект закрывал доступ в университет и гимназию крепостным. «Понеже науки не терпят принуждения и между благороднейшими упражнениями человеческими справедливо счисляются того ради как в Университет, так и в Гимназию не принимать никаких крепостных и помещиковых людей», — говорилось в проекте (§ 26). Это же старательно подчеркивалось в «Доношении» Шувалова в Сенат, в «Регламенте гимназии» и «Инструкции директору университета».
Кто являлся автором этих пунктов, совершенно ясно. Всю свою жизнь Ломоносов боролся за демократические принципы образования. В намерении закрыть доступ в гимназию для людей податного сословия Ломоносов правильно видел стремление унизить русский народ и задержать процесс ликвидации экономической и культурной отсталости России. Ломоносов демонстративно отказался принимать участие в заседании Академии Наук, когда, несмотря на его энергичные протесты, было принято решение отделить дворян в особые классы и создать для них привилегированные условия. При утверждении протокола этого заседания Ломоносов потребовал отмены позорного решения. Когда после бурных споров конференция отказалась принять его предложение, он снова покинул заседание2. Ломоносов дал уничтожающий отпор требованию закрыть в гимназию доступ детям крестьян. «Удивления достойно, что не впал в ум господину Фишеру, как знающему латынь, Гораций и другие ученые и знатные люди в Риме, которые были выпущенные на волю из рабства, когда он толь презренно уволенных помещичьих людей от гимназии отвергает... Сих и нынешних примеров видно знать он не хотел». Не скрывая своего возмущения, он писал, что запрещая учиться в Академии людям податного сословия, боятся потерять 40 алтын, а не жалеют тысячи рублей на выписывание иностранцев. Но чем виноваты состоящие в подушном окладе? «Довольно б и того выключения, чтоб не принимать детей холопских»3, — с горечью спрашивал Ломоносов.
123
Взгляды Шувалова мало отличались от взглядов Миллера, Фишера, Шумахера и им подобных, требовавших запрещения доступа в университет и гимназию лицам податного сословия. Он считал главной задачей воспитать «истинного христианина, верного раба и честного человека»1. Исходя из таких крепостнических установок, Шувалов не допускал возможности допуска в университет крепостных. «Что касается до впущения в университет крепостных людей, то хоть уважение к общему праву человечества при первом виде кажется и не позволяет исключать никакого состояния людей в приобретении просвещения, однако есть в обществе причины коих отвратить почти невозможно. 1) Существо самое университета есть соединение наук свободных. Сие нарицание присвоено ему потому, что науки во все времена по общему мнению были участием людей свободою пользующихся. 2) Университет для преуспевания в учении имеет свои степени и произвождение, которые не согласуются со званием крепостных людей; но они и сами через учение познав цену вольности возчувствуют более свое униженное состояние. 3) Отцы детей благородных и свободных не согласятся чтоб дети их смешаны были с детьми крепостных. 4) Разные училища своими регламентами показывают свободу состояния учащихся не говоря о многих еще неудобствах по сему учреждению. Впрочем ныне всякого состоянию юношество может пользоваться первоначальным учением»2. Так писал Шувалов через 30 лет после основания Московского университета, отстаивая запрещение крепостным доступа в университет.
Оставляя «юношеству всякого состояния» «первоначальное учение», Шувалов рассматривал школу лишь как средство натаскивания покорных и расторопных рабов. «Настоящее» же образование он считал привилегией дворянства. Поэтому всю свою деятельность по управлению университетом он строил так, чтобы превратить его в дворянский. Проекты, доношения, привилегии, указы, направленные на привлечение дворян в университет, следовали один за другим. В своих донесениях он уменьшал число разночинцев, обучавшихся в университете, и стремился изобразить его чисто дворянским учебным заведением3.
124
Таковы две линии в отношении состава студентов и гимназистов: линия Шувалова и линия Ломоносова. Шувалов отстаивал интересы крепостников и требовал осуществления сословного принципа в образовании. Выставляемое же Ломоносовым требование бессословной школы всем своим существом было направлено против крепостного строя. Как показал опыт истории, требование бессословной школы являлось основным требованием буржуазии в области образования1.
Все же Ломоносову удалось добиться больших уступок в этом направлении, используя и ссылки на западноевропейские университеты, в большинстве которых формально не было сословных ограничений при поступлении. Ломоносову удалось отстоять право податных сословий на поступление в гимназию и университет. Кроме того, в университете дворяне и разночинцы занимались вместе и получали одинаковое жалование. Правда, через несколько лет Шувалов установил, что отличившиеся дворяне награждаются золотой медалью, а разночинцы серебряной, но это было уже не столь существенно. Конечно, судьба дворян, окончивших университет или университетскую гимназию, была совершенно иной, чем судьба разночинцев, но это без ломки всего существовавшего строя изменить было невозможно.
Ломоносову удалось создать и отстоять проект университета, прямо ориентировавшийся на разночинный состав. Это видно даже в «доношении», представленном в Сенат. Указав, что дворянство может учиться, кроме академии, еще в шляхетских корпусах, в инженерных и артиллерийских училищах, «доношение» говорит, что для остальных дворян «и для генерального учения разночинцев» необходимо учреждение университета в Москве. Разночинная направленность проекта сказывается особенно сильно в том, что он предусматривал содержание на казенный счет 20 студентов (еще до открытия университета это число было увеличено до 30) и 100 гимназистов. С самого начала половина мест казенного содержания была отведена для разночинцев. Тот факт, что для дворян предусматривалась стипендия, ясно говорит о том, на каких дворян был рассчитан университет. Заинтересовать богатых дворян грошевой стипендией было невозможно. Ведь даже стипендия студента составляла всего 30 рублей в год. Дворянин же гимназист младших классов гимназии получал
125
всего 18 рублей. Совершенно очевидно, что проект рассчитывал на привлечение мелкопоместного и беспоместного дворянства, по своему имущественному положению мало отличавшегося от разночинцев. Подтверждение этому мы находим и в шуваловской инструкции директору, где он предлагает зачислять на казенное содержание только тех дворян, родители которых имеют менее 50 душ крепостных (Инструкция, § 4).
Конечно, от Ломоносова идут пункты, запрещающие «знатным» являться в гимназию со шпагами, «знатным презирать тех, кто меньше их» (Регламент, стр. 304). В проекте университета и регламенте есть еще один пункт, который следует рассматривать как большую победу Ломоносова. Он добился того, что устав предусматривал возможность поступления в университет крепостных. В условиях, когда крепостное право расцвело наиболее пышным цветом и дворянство смотрело на крепостных как на скотину, это приобретало важное значение. «Ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особливую остроту, пожелает ево обучить свободным наукам, оной должен наперед того молодого человека объявить вольным и, отказавшись от всего права и власти, которую он прежде над ним имел, дать ему увольнительное письмо...». При приеме такого ученика или студента увольнительную полагалось хранить в университете, а после окончания она выдавалась вместе с аттестатом «чтоб никаким образом никто ево в холопство привести не мог» (§§ 26, 27). Как видим, поступление крепостных в университет было обставлено такими условиями, которые делали эту возможность трудно осуществимой, в первую очередь потому, что это целиком и полностью зависело от «великодушия» помещика. Но следует обратить внимание и на вторую сторону этой статьи проекта. Дети крепостных, попавшие в университет, переставали быть крепостными и их «никто никаким образом в холопство привести не мог». Что автором этого пункта мог быть только Ломоносов, не вызывает никаких сомнений. Это подтверждается и практикой Ломоносова по управлению академическим университетом. О каком-либо более или менее значительном числе крепостных, обучавшихся в университете в первый период его существования, нечего и говорить. Но даже при условии гибели архива университета и отсутствии полных данных о составе его студентов и гимназистов мы все же знаем, что такие случаи имели место. В университете учились бывшие крепостные Гаврила Журавлев и Николай Грязев1. Шевырев сообщает, что он видел «любопытные документы» о крепостном
126
студенте Алексее Лебедеве1. Дело одного из «крепостных интеллигентов» недавно опубликовал профессор Сивков2. В Московском университете учился известный крепостной архитектор Шереметьева А. Ф. Миронов — один из строителей Останкинского дворца3. Даже эти скудные сведения показывают, что подобные случаи имели место.
Все это говорит за то, что Ломоносов своим проектом значительно содействовал тому, что в первые десятилетия жизни университета состав его учащихся был демократическим, разночинным. А это, в свою очередь, предопределило развитие всей работы университета в прогрессивном, демократическом направлении.
Чтобы не возвращаться к вопросу о гимназии, необходимо ответить еще на один вопрос. Почему дворянство не шло в гимназию при Академии Наук и устремилось в гимназию Московского университета? Причина этого в том, что правильно было выбрано место для университета. Москва не имела ни одного учебного заведения для дворян. Кроме того, организация преподавания в Московской гимназии привлекала дворян возможностью изучать не все предметы, а лишь те, которые оно считало нужным. Несмотря на крайнюю неполноту и ограниченность такого образования, это все же способствовало повышению общего культурного уровня и давало минимальные знания, необходимые для службы. В этом причина успеха Московской дворянской гимназии, которая уже в мае 1755 года имела полный комплект учащихся4.
Московский университет твердо помнил завет Ломоносова: «Университет без гимназии, как пашня без семян». В 1758—1759 году Московским университетом была создана гимназия в Казани. Академическая клика утверждала, что невозможно обеспечить русскими учащимися даже единственную и притом крайне немногочисленную гимназию, находившуюся при Академии Наук. Московский университет на опыте своей трехлетней работы убедительно опроверг клеветническую сущность этого утверждения. Число гимназистов университета во много раз превышало первоначальные наметки. Это давало университету твердую уверенность в успехе Казанской гимназии. Действительно через полгода после ее открытия в ней было уже 116 гимназистов5.
127
Московский университет рассматривал Казанскую гимназию как часть университета. В продолжение всего XVIII века он обеспечивал ее преподавателями и учебниками. Основание гимназии в Казани было не просто созданием третьей по счету гимназии в России. Это была подготовка базы, на которой вырос впоследствии Казанский университет.
Казанская гимназия не была исключением. Московский университет очень скоро стал основным центром подготовки учителей для учебных заведений России. Недаром он с гордостью заявлял, что к 1773 году им подготовлено 8 профессоров, 1 кандидат медицины, учителей для Московского университета и Казанской гимназии 57 и для шляхетского корпуса — 8 человек. В 1775 году университет заявлял, что им за 20 лет существования выпущено «в учителя и другие службы 318 студентов»1.
Московский университет не только готовил кадры учителей; одновременно с этим он вел большую работу по проверке знаний иностранцев, претендовавших на получение аттестата учителя2. О том, каким авторитетом пользовались Московский университет и выдаваемые им аттестаты, говорит следующий факт. В 1771 году некий Маргас де Заммер определялся в Киевскую семинарию преподавать французский язык. Для этого он был обязан предварительно получить соответствующий аттестат от Московского университета. Кроме того, администрация академии потребовала с Заммера обязательство, что он будет учить чтению, произношению и письму «по преподаваемой в Московском университете российско-французской грамматике»3.
Говоря о Казанской гимназии и условиях, в которых она развертывала свою деятельность, необходимо отметить, что она постоянно испытывала крайнюю нужду в деньгах. При ее учреждении Шувалов заявил, что она может с успехом существовать за счет средств, отпускаемых Московскому университету4. Это столь характерное для Шувалова заявление повлекло за собой бесчисленное количество трудностей и для Московского университета и для Казанской гимназии. 2000 рублей в год, отпускавшихся университетом, нехватало на самое необходимое. Уже в начале 1760 года, т. е. после первого года работы гимназии, был составлен проект штата гимназии на 5040 рублей. Университет ходатайствовал об отпуске этой суммы перед Сенатом, «чтоб Казанская гимназия не была университету
128
в тягость». Но судьба этого штата была общая с судьбой штатов университета1. Из Казанской гимназии шли рапорта о том, что ее дом разваливается, что «записавшиеся в гимназии солдатские дети за крайней бедностью, в рубищах в классы свои приходят, а по выходе из оных многие милостынею питаются»2. Разночинцы, находившиеся на казенном содержании, получали всего 3 рубля в год! На эти деньги они должны были питаться и одеваться. Неудивительно, что они ходили «в рубищах», собирали милостыню и бежали из гимназии в солдаты.
Вопрос о Казанской гимназии интересен для истории Московского университета еще с одной стороны. Именно с ее деятельностью связано претворение в жизнь требования Ломоносова относительно необходимости изучения восточных языков. С 1769 года в Казанской гимназии был основан класс татарского языка. Этот класс послужил ядром будущего восточного отделения, созданного сначала в гимназии, а позднее в Казанском университете. Несколько лет спустя после учреждения класса татарского языка в Казанской гимназии, он был создан и в университете.
В этой связи необходимо отметить, что Московскому университету принадлежит честь издания азбук и грамматик на языках народов, населявших Россию. В течение 1758—1778 годов, помимо составления, перевода и издания грамматик немецкого, латинского, французского и итальянского языков, была издана «Турецкая грамматика» (1778). Кроме того, Московский университет издал «Азбуку грузинскую» (1758), «Грамматику чувашскую» (1770), «Азбуку татарского языка» (1778).
Тем самым русский университет оказывал практическую помощь делу развития культуры и распространения образования среди других народов, входивших в Российскую империю. Эта тесная связь и помощь другим народам всегда составляла характерную черту прогрессивного направления в русской культуре.
Четвертой отличительной особенностью проекта, имевшей огромное прогрессивное значение, являлось то, что Московский университет был рассчитан на русских студентов и гимназистов, с ними должны были работать русские профессора и учителя; они были предназначены для удовлетворения насущных нужд России.
В «доношении» говорилось, что цель университета — подготовить
129
«довольно национальных достойных людей в науках, которых требует пространная... империя к разным изобретениям сокровенных в ней вещей и ко исполнению начатых предприятий и ко учреждению впредь по знатным городам российскими профессорами училищ»1.
В соответствии с этим изучение русского языка в гимназии занимало центральное место. В университете же проект устанавливал равноправие русского и латинского языков. Если регламент академии предусматривал, что все лекции читаются студентам только на латинском языке, то в проекте университета указывалось, что лекции читаются на латинском, либо русском языке, «как по приличеству материи, так и потому иностранной ли профессор или природной русской» (§ 9). Это было исключительно важно: ведь всего 6 лет назад состоялась первая публичная лекция на русском языке, прочитанная Ломоносовым в Академии Наук. Московский университет подхватил начинание Ломоносова, и наука впервые заговорила полным голосом на русском языке. Для того чтобы осуществить это, ученикам и последователям Ломоносова пришлось вести долгую и напряженную борьбу, но в конце концов они вышли из нее победителями. Переход к преподаванию на русском языке имел огромное значение в деле развития науки и распространения образования в России.
Следующую особенность проекта университета составляет ярко выраженное стремление к «публичности», т. е. к популяризации научных знаний, которое всегда было свойственно деятельности Ломоносова. Этого же он требовал и от основываемого им университета. Каждый профессор должен был читать лекции по своей специальности не менее 2 ч. в день «в университетском доме публично», — говорилось в уставе (§ 6). Проект предусматривал также систематическое проведение публичных диспутов студентов. Производство в студенты, перевод в старшие классы, вручение наград студентам и гимназистам должны были происходить также на публичных заседаниях. Следует отметить, что половина публичных речей, диспутов, премированных работ студентов и гимназистов должна была быть обязательно на русском языке. Это превращало Московский университет в центр национальной культуры и науки.
Одной из главных причин неудовлетворительного состояния Академии Наук Ломоносов считал то обстоятельство, что с помощью академической канцелярии в ней безраздельно хозяйничали люди, не имеющие никакого отношения к науке. Господство «приказных от науки» крайне мешало и научной и учебной деятельности академии.
130
Борьба за уничтожение академической канцелярии составляла одну из самых важных целей Ломоносова. Это нашло яркое выражение в составленном им проекте университета. Канцелярия, как таковая, в проекте отсутствовала. Резко повышалась роль профессорской конференции, которая должна была собираться каждую неделю и ведать всеми «распорядками и учреждениями, касающимися до наук и до лучшего оных произвождения». Она утверждала программы лекционных курсов и «авторов», принимаемых за основу курсов; она же решала все дела, касающиеся студентов (§ 7, 8, 13, 17, 21, 35 и др.).
Все лица, связанные с университетом: профессора, учителя, студенты, подлежали ведению только своего университетского суда и не могли быть ни арестованы, ни судимы без его ведома и согласия. Эта привилегия хотя в какой-то степени ограждала работников русской культуры от произвола полицейско-бюрократического аппарата самодержавной России1.
Такое же значение имела привилегия университета, подчинявшая его непосредственно Сенату.
Улучшалось правовое и материальное положение работников университета и наличием в проекте пункта об освобождении «всех принадлежащих к Московскому Университету от постоя и всяких полицейских тягостей також от вычетов из жалования и всяких других сборов»2. Все эти привилегии университета несомненно выдвинуты Ломоносовым, хлопотавшим о них же в Академии Наук3. Но раздел об управлении университетом носит так же, как и другие части проекта, явные следы изменений, внесенных в него Шуваловым. Ломоносов отстаивал требование, чтобы во главе университета стоял выборный ректор. В проекте же, представленном в Сенат, мы этого не находим. Во главе университета ставились одна или две «знатнейших особы» кураторами университета, «которые бы весь корпус в смотрении имели» (§ 2). Наличие куратора едва ли противоречило планам Ломоносова. Он понимал, что без помощи высокого
131
«покровителя» университет едва ли сможет добиться удовлетворения своих насущных нужд. Вместо выбираемого из профессоров ректора проект предусматривал особого чиновника-директора. Вельможа Шувалов не мог допустить, чтобы во главе университета, приравненного к коллегиям, стоял какой-то профессор, не имеющий чина и вышедший к тому же из «подлого» состояния. Это противоречило классовым интересам дворянства и всему строю самодержавно-крепостнической России.
На практике куратор превратился в полновластного диктатора, который, сидя в Петербурге, управлял университетом в Москве, ничем не отличаясь от Разумовского, который управлял Академией Наук из Батурина. До 1779 года Шувалов ни разу не был в университете, однако ничего там не делалось без его распоряжения. Постройка нового здания, ремонт помещения, покупка одежды для казенных студентов и гимназистов, размер жалования профессоров, учителей и студентов, штат университета и гимназии, «реестр учений», объявление о публичном диспуте или речи, текст этой речи, покупка книги или инструмента — все эти и десятки подобных дел из повседневной жизни университета нуждались в санкции куратора. Протоколы Университетской конференции пестрят жалобами на то, что профессора в течение многих месяцев не могут получить ответа на свои просьбы о покупке книг и т. п.1. Особенно тяжелым сделалось положение университета, когда его куратором оказался друг и приятель Теплова и такой же «приказной от науки», как и он, ставленник Екатерины II Василий Адодуров. Заклятый реакционер, враг Ломоносова и русской передовой науки, он открыто поддерживал реакционную группу профессоров университета и всячески мешал деятельности прогрессивных ученых.
Еще большие отступления от первоначального проекта Ломоносова произошли в отношении директора. Обладавший крупным чином и получавший жалования в 2—3 раза больше профессоров, директор университета очень скоро оказался в положении человека, стоящего над конференцией профессоров. Рядом с ним оказался с каждым годом растущий аппарат чиновников и несколько асессоров, каждый из которых получил в свое распоряжение отдельные части университета. Прошло всего несколько лет, и в Московском университете была создана такая же канцелярия, стоявшая над конференцией и управлявшая университетом столь же бюрократически и полновластно, как канцелярия Академии Наук. Канцелярия университета
132
все более сужала компетенцию профессорской конференции и все более подчиняла ее себе1. Особенно резко увеличился аппарат канцелярии и ее власть с приходом в университет Адодурова, который прямо брал за образец канцелярию Академии Наук. Не случайно в составляемых профессорами университета проектах устава одно из центральных мест занимает требование уничтожения канцелярии и замены ее небольшим аппаратом, находящимся в подчинении профессорской конференции2.
Такой разрыв с первоначальным проектом был совершенно не случаен. Это вполне соответствовало общему состоянию чиновничье-бюрократического аппарата Российской империи. Соответствующий раздел проекта Ломоносова, фактически дававший университету самоуправление, находился в противоречии с системой самодержавно-крепостнического строя, поэтому он был скоро уничтожен при самом активном содействии Шувалова.
По этим же причинам в проект университета не вошло и требование Ломоносова, чтобы профессора и студенты университета получали «по здешним законам пристойные ранги и по генеральной табели на дворянство дипломы»3. Ломоносов стремился хотя бы в какой-то мере изменить бесправное положение деятелей русской культуры и науки, большинство которых были выходцами из разночинцев. Он стремился оградить их от произвола ничтожных чинуш, издевавшихся над ними. На опыте Крашенинникова, Котельникова, Попова и на своем собственном он видел, сколько унижений и горя приходилось им преодолевать из-за того, что какой-нибудь пройдоха,
133
вроде Теплова или Шумахера, обладал чином, которого не было у них.
Не вошло в проект и еще одно очень важное требование Ломоносова: «Чтобы университет имел власть производить в градусы»1. Он видел, что отсутствие у Академии Наук права производить студентов в ученые степени магистров и особенно докторов умело использовалось академическими реакционерами для того, чтобы не пускать в науку неугодных ей людей.
Не получил этого права и Московский университет, где реакционеры, пользуясь поддержкой кураторов, пускались на все уловки, чтобы преградить передовым ученым путь на кафедры. Прямое издевательство было устроено над Десницким и Третьяковым. Они несколько лет учились в университете Глазго. Испытывая там постоянную нужду, молодые ученые почти все свое скудное жалование тратили на оплату профессорам и покупку необходимых книг. Доведенные до отчаяния своим материальным положением, они писали русскому представителю в Лондоне: «Целый год совершится, как мы не получаем жалования и сие нерадение и забвение Московского Университета в такую нетерпеливость наших должников, равномерно как и профессоров самих привело, что Английская академия решила ходатайствовать о помощи нам»2. Посол, пересылая это письмо Н. И. Панину, со своей стороны добавлял: «Я неоднократно уже подобные их жалобные письма отправлял в иностранную коллегию, только поныне без действа»3. Запрос Сената по поводу этого письма привел Адодурова в ярость. Вместе с чинами университетской канцелярии (Херасковым, Тейлсом, Жигулиным) он составил и направил в Сенат бумагу, в которой заявлял, что Десницкий и Третьяков обеспечены прекрасно, но «самовольно нажили долгу... до 400 рублей». В довершение всего Адодуров заявлял, что их ученье признано «не весьма порядочным» и высказывал «опасение», как бы «употребляемой на них казенный кошт бесполезно не пропал»4. Десницкий и Третьяков после всего этого обратились с жалобой непосредственно в Сенат. Адодуров ответил на это требованием указа о их немедленном возвращении в Московский университет «для освидетельствования в науках» и дачи отчета в издержанных ими самовольно сверх их жалования деньгах5. В таком положении находились и остальные студенты Московского университета, обучавшиеся за границей. Два с лишним года тянулось дело
134
о долгах Матвея Афонина, нажитых им во время его обучения у Линнея. Даже русский посол в Швеции писал: «Он Афонин в тот долг впал не самопроизвольно, но по необходимой нужде и большей частию на зарплату его учителям, прежней его 300 р. оклад недостаточен ему (был) на самое пропитание и необходимое содержание»1. Несмотря на все это, даже Сенат не дал университету разрешения не вычитать этого долга из жалования Афонина2.
Десницкий и Третьяков блестяще защитили свои диссертации в Глазго и получили ученые степени «докторов обоих прав». Следует отметить, что это было в то время большой редкостью. Так, в 1767 г. из всех воспитанников Глазговского университета степени доктора были удостоены только Десницкий и Третьяков. За двадцать лет, с 1767 по 1786 г., степень доктора в университете Глазго получило всего 7 человек3. Когда после долгих мытарств Десницкий и Третьяков попали в Москву, то для получения права читать лекции по юриспруденции от них потребовали, чтобы они сначала сдали экзамен... по математике. Поводом для этого было то, что в одном из своих отчетов они указали, что некоторое время слушали лекции по математике. При этом в качестве официального мотива для обоснования своего требования об экзамене Адодуров выставлял заботу о том, «чтобы не пострадали напрасно интересы казны». Напрасно Десницкий и Третьяков доказывали, что они математикой никогда специально не занимались, что у них уже есть дипломы докторов наук, что они согласны держать экзамены по юриспруденции, хотя и в этом нет никакой необходимости. Несмотря на приказания и угрозы Адодурова, Десницкий категорически отказался идти на этот экзамен, Третьяков же в конце концов согласился. Как и следовало ожидать, экзамен носил характер прямой расправы. Ему задавали нелепые и провокационные вопросы, а затем заявили, что у него нет знаний, необходимых не только для профессора, но и для студента.
Исход этого экзамена явился одним из главных поводов для того, чтобы не давать Третьякову звания ординарного профессора и для той систематической травли, которую проводило в отношении его университетское начальство. Прямым результатом этой травли было и то, что Третьяков не выдержал и в 1773 г. подал в Сенат челобитную «о награждении его чином и определении в статскую службу»4.
135
Его челобитная потонула в дебрях герольдмейстерской конторы, а он сам в 1776 г. умер, так и не получив звания ординарного профессора1.
Отсутствие у университета права производить в ученые степени поставило в особенно тяжелое положение профессоров и студентов медицинского факультета. Они оказались в полной зависимости от медицинской коллегии, так как только она давала звания докторов медицины и разрешение на практику. Характерно, что иностранцы, приезжавшие в Россию, получали подобные дипломы немедленно, русским же профессорам, даже имевшим дипломы, приходилось терпеть годами длившиеся мытарства, чтобы быть «признанными» медицинской коллегией. С. Зыбелин и П. Вениаминов, учившиеся за границей, представили свои диссертации с похвальными отзывами тех университетов, где они обучались. Эти диссертации были направлены на заключение к проф. Керштенсу, который издевательски заявил, что не видит смысла читать их, так как не уверен, что они написаны Зыбелиным и Вениаминовым, а не немецкими студентами. Несмотря на то, что Зыбелин, Вениаминов и Афонин успешно защитили свои диссертации за границей и возвратились в Россию с дипломами докторов медицины, медицинская коллегия отказалась их признавать. Лишь только после длительной переписки Екатерина приказала устроить им экзамен для выяснения того, «достойны ли они, чтобы их к практике допустить». Но и этот экзамен не состоялся2. Понадобилось почти 40 лет для того, чтобы университет получил, наконец, право давать ученую степень доктора.
Эти примеры, а число их можно умножить, говорят о том, насколько осложнялось положение отсутствием у университета права присваивать ученые степени, на котором настаивал Ломоносов.
Следует обратить внимание еще на одну сторону проекта. Ломоносов в своем письме к Шувалову выдвигал требование, чтобы проект «служил во все будущие роды» и предусматривал бы такое число профессоров и студентов, чтоб через несколько лет не пришлось «оный снова переделывать и просить о прибавке суммы» (стр. 275). Между тем смета на содержание университета и гимназии, приложенная к проекту (по терминологии того времени «штат»), поражает
136
крайней скупостью. Уже говорилось о тех сокращениях, которые были произведены Шуваловым в числе профессоров. Еще меньше предусматривалось учителей в гимназии. Трудно даже поверить, что на обе гимназии (дворянскую и разночинную) Шуваловым было запланировано всего 6 учителей, да и то из них четверо были преподавателями иностранных языков. Все же остальные занятия с гимназистами должны были бесплатно вести студенты университета1. Ломоносов считал, что на содержание студента должно отпускаться 100 рублей в год, а проект отпускал всего 36 рублей. Согласно «штату» в университете предусматривалось всего 20 студентов и 50 гимназистов, находившихся на казенном содержании. При этом на содержание гимназиста «штат» отпускал всего 12 рублей в год (Ломоносов предлагал 30 рублей)2. И совсем уж нищенскими были ассигнования на хозяйственные и учебные нужды. На содержание университетского дома, дрова, свечи, бумагу, книги, инструменты и т. д. Шувалов считал достаточным отпуск в год 460 (!) рублей3. Даже Сенат увидел всю несуразность шуваловского «штата» и постановил увеличить сумму на содержание университета до 15 тысяч. Кроме того, он решил «на первый случай для покупки книг и прочего сверх годовой определенной суммы дать единожды еще до 5 тыс. рублей»4. И эта сумма была, конечно, совершенно недостаточной. «Штат», составленный из расчета 15 тыс. руб., не очень сильно отличался от первоначального. Смета на университет увеличилась немногим более тысячи рублей, да и то из них 580 рублей отпускалось на оплату секретарей при кураторах. Бюджет гимназии, хотя и увеличился в три раза, был совершенно недостаточным. В нем оставалось всего 6 учителей и только 50 гимназистов, а студентам-учителям предполагалась прибавка от 30 до 60 рублей. На все же хозяйственные, учебные и прочие расходы университета и гимназии отпускалось всего 2700 рублей5. По другому варианту «штата» их оставалось и того меньше — 1700 рублей6.
В смете совершенно не предусматривалось специальных сумм ни на пополнение библиотеки, ни на приобретение необходимых приборов и инструментов, ни на содержание ботанического сада, химической лаборатории, физического и минералогического кабинетов,
137
обсерватории, типографии и т. д. Мы уже не говорим о том, что сумма, отпускавшаяся на жалование профессорам, студентам и гимназистам, была совершенно недостаточна для обеспечения сколько-нибудь нормальной научной и учебной работы университета. Тем самым Московский университет с первых дней своего существования оказывался в необычайно тяжелом материальном положении, которое ставило его в полную зависимость от подачек всякого рода «меценатов». Уже в первый год работы университета расходы на жалование учителям, содержание гимназистов и т. п. возросли в несколько раз против сметы. Не помогли ни пожертвованные Демидовым 13 тыс. руб., ни самоотверженная деятельность директора университета Алексея Аргамакова, заложившего свои имения и окончательно запутавшегося в долгах для того, чтобы помочь университету. Частично сохранившиеся бумаги университета за 1757 год показывают, что университет не только не мог производить какие-либо капитальные расходы, но и даже выплатить жалование профессорам и учащимся, переживавшим страшную нужду1. С 1758 года бюджет был увеличен. 29 декабря 1757 года было определено отпускать Московскому университету дополнительно по 20 тыс. рублей2. Это на несколько лет ослабило остроту финансового положения университета, но уже через 5—6 лет с увеличением объема его работы и падением стоимости денег положение стало снова очень тяжелым, дойдя к концу 60-х годов снова до катастрофического состояния. В Сенат и Екатерине подаются доношения, проекты «штатов» и т. д., но Екатерина II, несмотря на неоднократные представления, так и не пересмотрела «штат» университета и ограничивалась тем, что изредка «жаловала» ему по несколько тысяч рублей3.
В этом не было ничего нового по сравнению с Шуваловым, который в 1757 году заявлял, что «штатной суммы» в 15 тыс. рублей университету вполне достаточно4. Более того, в проекте университета, представленном в Сенат и написанном писарской рукой, § 45 вписан самим Шуваловым. Очевидно, имея ввиду типографию при университете, хлопоты об открытии которой начались почти одновременно с открытием университета, Шувалов писал: «Со временем как Университет размножится, то не сомневаюсь, что Правительствующий Сенат соблаговолит установить другие полезные учреждения, от
138
которых доходы казну е. в. заменить могут»1. Ему казалось, что на университет отпускается «слишком много» денег, со временем их можно будет заменить доходами от университетской типографии.
Вторая часть внесенного Шуваловым параграфа носит несколько иной характер. Она говорит о том, что в университете «за нужное почитается» изучение греческого и восточных языков. Это дополнение внесено Шуваловым, вероятно, по настоянию Ломоносова, указывавшего на огромное значение изучения Востока. «В европейских государствах, которые ради отдаления от Азии меньшее сообщение с ориентальными народами имеют, нежели Россия по соседству, всегда бывают при университетах профессоры ориентальных языков. В академическом стате о том не упоминается.., хотя по соседству не токмо профессору, но и целой ориентальной академии быть полезно»2, — писал он как раз в то время, когда шла подготовка к открытию университета. Но, внося в проект требование Ломоносова, Шувалов придал ему отнюдь не ломоносовскую формулировку. Изучение их предполагалось лишь со временем, «когда будут довольны университетские доходы и сысканы достойные к тому учители»3. Это было как раз то, против чего протестовал Ломоносов в академии, регламент и «штат» которой был составлен Тепловым и Шумахером с учетом наличных сил сегодняшнего дня и против чего предостерегал Ломоносов в письме по поводу проекта университета.
Черты, отмеченные в проекте Московского университета, нашли свое выражение и в проекте Академии Художеств, выросшей на базе специального художественного класса Московского университета, созданного вскоре после его основания. В 1758 году художественный класс был преобразован в Академию Художеств и переведен в Петербург. В представлении об ее учреждении указывалось, что в то время, как «науки в Москве приняли свое начало и там ожидается желанная польза от их успехов», с развитием художеств обстоит значительно хуже. Как на причину этого указывалось на то, что большинство иностранцев «за некоторые посредственные знания получая великие деньги, обогатясь возвращаются не оставя по сие время ни одного русского ни в каком художестве, который бы что (нибудь) умел делать». Наилучшим выходом из создавшегося положения являлось, по мнению «Представления», учреждение специальной Академии Художеств, для чего «можно некоторое число
139
взять способных из университета учеников, которые уже и определены учиться языкам и наукам принадлежащим художествам»1.
Представление Шувалова показывает ряд черт, знакомых нам по его «доношению» относительно Московского университета. Во-первых, он заявлял, что на ее содержание вполне хватит 6 тыс. рублей в год. Между тем, уже в первый год понадобилось 10 тыс., а через два года нехватило и 20 тысяч2. Это все то же соединение его поразительного легкомыслия с экономией за счет расходов на культуру и науку, которые так дорого обошлись университету.
В представлении Шувалова мы встречаемся еще с одной знакомой чертой: его ориентацией на преподавателей-иностранцев. Об этом совершенно недвусмысленно говорил Шувалов, утверждая, что Академия Художеств должна быть основана в Петербурге, так как иностранные «лучшие мастера не хотят в Москву ехать»3. Привлекая иностранцев, не оставивших сколько-нибудь заметного следа в истории русского искусства, Шувалов, а впоследствии Бецкий, совершенно недостаточно привлекали и использовали лучших представителей русского национального искусства: Аргунова, Антропова, Рокотова, Шубина, Баженова и др.
Но у Академии Художеств с самого момента ее рождения была черта, сближавшая ее с университетом: демократический состав учащихся. Дети солдат, крестьян, матросов, ремесленников составляли основную массу обучавшихся в академии. В числе ее воспитанников и преподавателей в XVIII веке были крепостные: Козлов, Соколов, Шибанов; дети солдат: Щедрин, Иванов, Матвеев, Мартынов, Антропов; дети ремесленников: Козловский, Щукин, сын сторожа Алексеев, сын скотника Гордеев, сын черносошного крестьянина Федот Шубин и т. д. Демократический состав учащихся и части преподавателей был одной из причин, способствовавших сохранению и укреплению тенденций народного искусства в живописи, скульптуре и архитектуре.
Академия Художеств и Московский университет продолжали быть очень тесно связаны вплоть до назначения президентом академии в 1763 году Бецкого. В протоколе университетской конференции от 22 апреля 1760 года значится: «Еще троих отправили в Академию Художеств тех, кто является в искусстве наиболее способными»4. Еще в конце 1761 г. в списке архитекторов, поданном в Сенат, значится: «при Московском университете и того университете
140
в Петербурге при Академии Художеств — 1) архитектор Кокоринов Алексей... 2) помощник Баженов Василий... 3) ученик Федор Яковлев...»1.
Архив Академии Художеств показывает, что и после ее формального отделения целый ряд вопросов, относящихся к Московскому университету, решался в Академии Художеств, и наоборот. Тесно они были связаны и в финансовом отношении2.
В число почетных членов Академии Художеств был избран и Ломоносов. Правда, в первую очередь Шувалов провел избрание почетными членами представителей знати, не имевших никакого отношения к искусству. В наброске речи на открытии Академии Художеств Ломоносов высказывал свои заветные мысли о русской национальной культуре и задачах русских художников. Он отмечал, что деятельность многих иностранных художников, работающих в России, не способствует развитию русского искусства. «Не изображаю здесь препятствий происходивших от зависти учивших и от опасения, чтобы искусство их в России не размножилось, не унизилась бы их плата и приобретения бы их не умалились», — писал он.
Отмечая, что в академии имеются только русские ученики, Ломоносов особенно подчеркивал их демократический состав. Он показывал им задачи, которые стояли перед русскими архитекторами, скульпторами и художниками. Предостерегая их от слепого копирования образцов западноевропейского искусства, от увлечения мифологическими сюжетами, которое довело «едва уже не до отвращения», Ломоносов призывал их «оживить металл и камень», и «показать древнюю славу праотцев наших», и создать образы «героев и героинь Российских в благодарность заслуг их к отечеству». Он высказывал твердую уверенность, что «сыны Российские» смогут «представить пред очами просвещенной Европы проницательное остроумие, твердое рассуждение, и ко всем искусствам особливую способность нашего народа»3.
*****
Подведем итоги рассмотрению проекта Московского университета и других документов, непосредственно примыкающих к нему («Инструкции директору», «Доношения», «Регламента гимназии»).
Мысли и предложения Ломоносова легли в основу проекта университета. Именно они позволили университету успешно выполнить
141
стоявшие перед ним задачи. Предложения Ломоносова и составленный им проект исходили из национальных интересов русского народа и были направлены на превращение Московского университета в центр передовой русской национальной культуры и науки. Проект Ломоносова опирался на прогрессивные явления, возникавшие в социально-экономической жизни страны. Выражая интересы народа, который вел борьбу против крепостничества, Ломоносов придал проекту университета демократический антифеодальный характер. Поэтому мы имеем все основания утверждать, что Московский университет создан не только по инициативе, но и по плану Ломоносова.
Но анализ проекта и других документов показывает, что Шуваловым в них было внесено значительное число серьезных изменений. Из них выпал ряд важных требований и предложений Ломоносова и, наоборот, появились пункты, прямо противоположные его требованиям. Эти изменения, внесенные в ломоносовский проект с его прогрессивным и демократическим содержанием, выражали своекорыстные узкоклассовые интересы помещиков-крепостников. Являясь ярким выражением реакционной направленности политики правительства крепостников в отношении культуры и просвещения, эти изменения крайне тормозили работу первого русского университета и развитие национальной культуры и науки.
Совершенно очевидно, что требования и предложения Ломоносова, а также требования и изменения Шувалова не были выражением их личных взглядов и устремлений. Оба они являлись выразителями двух направлений, двух тенденций в русской культуре: прогрессивного, демократического, антифеодального — Ломоносов, и реакционного, монархического, помещичьего — Шувалов. Все содержание проекта свидетельствует о борьбе этих двух тенденций, являвшихся в конечном счете проявлением борьбы «двух культур в каждой нации», проявлением борьбы русского народа против крепостничества, сковывавшего и душившего его творческие силы.
142
143
Главное мое основание... весьма помнить должно, чтобы план Университета служил во все будущие роды... Советую не торопиться, чтобы после не переделывать. М. В. Ломоносов |
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В июле 1754 года Шувалов представил в Сенат «доношение», проект и «штат» Московского университета. Сенат в тот же день рассмотрел их и, найдя предложение об основании университета в Москве «весьма полезным и государственным делом», одобрил их. Вопрос об открытии университета в Москве был фактически решен уже 19 июля 1754 года1. Он не был открыт сразу же только потому, что этому должна была предшествовать большая подготовительная работа: подбор учителей и профессуры, набор студентов и гимназистов, подготовка оборудования и в первую очередь здания. Все это и определило сроки открытия университета. Здание было найдено быстро. Уже 8 августа 1754 года П. И. Шувалов передал Сенату именной указ: «Е. и. в. всемилостевейшая государыня указать соизволила для учреждающегося вновь в Москве университета дом состоявшей в Курятных ворот в коем прежде была аптека починкою исправить и в состояние привести»2. Этот указ и все последующие действия, относящиеся к августу — декабрю 1754 года, говорят об учреждении
144
Московского университета, как о деле окончательно решенном.
Указ отводил для университета большое и старое здание, находившееся в центре Москвы, на Красной площади у Воскресенских (Курятных) ворот (на этом месте сейчас находится Исторический музей). Но для того чтобы разместить в нем университет, необходимо было сначала привести его в порядок, переселить находившиеся там три правительственные учреждения. Контроль за ходом подготовки здания осуществлял лично генерал-прокурор Сената Н. Ю. Трубецкой. «Велеть находящиеся в означенном состоящем в Москве у Курятных ворот доме Ревизион-коллегию, Главный комиссариат и Провиантскую контору из того дома вывести. Имеющиеся в том аптекарском доме ветхости осмотреть и что где исправить надлежит учиня опись, план и смету прислать в Сенат немедленно»1, — гласил его ордер Московской сенатской конторе.
18 августа Московская сенатская контора объявила этот указ руководителям учреждений и приказала известному русскому архитектору Дмитрию Ухтомскому составить план дома и смету на производство ремонта. 24 августа руководителям учреждений, находившихся в «аптекарском доме», было указано, куда они должны переселиться2. Одновременно с этим Ухтомский получил ордер Трубецкого, из которого было ясно, что правительство ставило своей целью открыть университет еще в 1754 году. «Понеже исправность сего дома требуется зело скоро и неотменно, так, что (бы) еще до наступления нынешней зимы, оное окончано было», — писал Трубецкой, приказывая Ухтомскому осмотреть дом, составить план всех помещений с указанием, где какой ремонт требуется, и прислать ему, «а между тем оный дом неослабно исправлять»3.
Составленная Ухтомским «опись ветхостей» показывала, что ремонт предстоит значительный. В доме нужно было перестлать полы и лестницы, переложить печи, сделать новые оконные рамы, заменить стропила, перекрыть крышу, покрасить здание снаружи и внутри, отремонтировать и восстановить орнаменты и колонны вокруг купола здания и выполнить целый ряд других работ.
Получив рапорт Ухтомского, Московская сенатская контора приказала требуемые им 1000 рублей отпустить, а «оказавшиеся по осмотру ветхости... исправлять неослабно»4. 9 сентября последовало еще одно решение Сената: «на исправление вышеобъявленных покоев,
145

Первое здание Московского университета
146
деньги, сколько необходимо надлежит по требованию архитектора князя Ухтомского, дать из Московской конторы немедленно, чтобы в исправлении того и малой остановки последовать не могло»1. В середине сентября Ухтомский доложил Трубецкому и Московской сенатской конторе, что он не может приступить к работе, так как занимающие дом учреждения все еще не выехали. Московской сенатской конторе пришлось много возиться с их переселением. То оказывалось тесным здание, куда их предполагалось переводить, то там требовался ремонт. Особенно много хлопот доставило переселение главного комиссариата, в помещениях которого хранилось около 3-х миллионов рублей медной монетой. Несмотря на принятые меры и строгие указы, главный комиссариат закончил переселение лишь 15 ноября2.
В ходе ремонтных работ выяснилось, что примыкавшее к аптекарскому дому «здание австерии» (харчевни) находится в таком состоянии, что его отремонтировать невозможно. 29 сентября Ухтомский доносил, что после того, как «австерия» была очищена от накопившегося в ней огромного количества мусора и нечистот, обнаружилось, что стены сгнили, своды подвалов покрыты расселинами и отремонтировать здание совершенно невозможно. Он предложил разобрать здание «австерии» и «построить до Никольского мосту зал с внешними и внутренними украшениями». Сенат согласился с предложением Ухтомского и к 1 ноября «австерия» была разобрана. Предлагаемая же постройка зала так и не состоялась, хотя Ухтомским были составлены планы и смета этой постройки3.
Задержка с развертыванием ремонта и наступление зимы, когда строительные и ремонтные работы значительно осложнялись, вызывали серьезное беспокойство за сроки их окончания. Ордером Трубецкого от 24 ноября 1754 года «наикрепчайше подтверждено, чтоб в показанном бывшем аптекарском доме строение происходило с поспешностью и неотменно в такое состояние привести чтоб генваря с 1 числа 1755 году в тот дом все училища и со учениками немедленно ввести и в нем то, всей империи полезное дело... неотменно начать можно было». Трубецкой приказывал все жилые помещения дома так хорошо высушить, «что еще наступающей зимою во оный дом действительно ввести можно было»4.
147
К началу декабря основные работы в верхнем этаже были закончены и началась просушка помещения. К концу января дом был в основном готов1.
Спешка с окончанием ремонтных работ в зимних условиях привела к тому, что осталось много недоделок, о которых в июне 1755 года доносил Московской сенатской конторе директор Московского университета А. М. Аргамаков2. Но дело не ограничивалось недоделками. Несравненно важнее было другое: дом был крайне тесен. С ним произошло то же, что и со штатами университета. Если в штате предполагалось всего 6 учителей гимназии, то через год их было уже около 30 человек. Если Шувалову казалось, что помещения на Красной площади хватит с избытком для университета, гимназии и всех подсобных учреждений, то в действительности оказалось, что разместить в нем университет и насчитывавшую несколько сот учащихся гимназию невозможно. Почти сразу же после открытия университета возник вопрос об обмене дома университета на принадлежавший Медицинской коллегии дом на Моховой. Так как дом Медицинской коллегии был не намного больше, а переоборудование требовалось большое, то обмен не состоялся, хотя вопрос о нем поднимался не раз3. Для университета был срочно необходим еще один дом. Через полгода после открытия университета Сенат слушал следующее донесение: «Всегдашнее учеников в гимназии Московского Университета приращение, требует надлежащего к тому пространного дому, а пожалованный для университета близь Никольских ворот дом, как местом, так и построенными покоями тесен... и для нынешних оказавшихся из обоих гимназиев достойных к слушанию профессорских лекций... так же для аудиторий, канцелярии, библиотеки и типографии, которой при университете быть непременно должно, доволен быть не может»4. Университет просил о покупке дома кн. Репнина на углу Моховой и Никитской улиц за 14 600 рублей.
Однако и покупка репнинского дома не разрешила полностью вопрос о помещении. Поэтому в делах университета неоднократно встречаются распоряжения о постройке каменных и деревянных флигелей и т. п. построек во дворе репнинского дома5. Но построить что-либо капитальное университет не мог — у него не было средств ни на строительство, ни на капитальный ремонт. Их не хватало даже
148
на повседневные нужды. Это привело к тому, что здание университета у Воскресенских ворот находилось под угрозой полного разрушения.
Архитекторы, осматривавшие в 1775 г. по поручению Сената дом университета, отметили, что все своды и стены дома в расселинах, полы, потолки и лестницы пришли в негодность, стена, обращенная к Кремлю, угрожает скорым падением. Они утверждали, что если летом 1776 года не начать капитального ремонта дома университета, то он неминуемо развалится.
В своем донесении Сенату Московский университет указывал, что его второй дом, находившийся на Моховой, где жили студенты и гимназисты и были расположены классы и аудитории, все это лишь «крайнем утеснением едва помещать может», и просил о немедленном отпуске 7 тысяч рублей на ремонт дома. Стремясь ускорить получение денег, Московский университет выставлял на первый план то обстоятельство, что в здании университета на Красной площади находятся типография, библиотека, анатомический театр, минералогический и физический кабинеты, химическая лаборатория и книжная лавка, имеющие казенного имущества более чем на полтораста тысяч рублей, и поэтому обвал дома может принести значительный ущерб казне, не говоря уже о том, что в результате обвала могут погибнуть профессора и студенты, находящиеся на «анатомических и физических лекциях»1. Провалившиеся 13 марта 1775 г. во время занятий полы в двух классах убедительно показывают, что это не было преувеличением.
Одновременно с этим в апреле 1775 года была составлена и направлена генерал-прокурору Сената записка «О недостатках и нуждах Московского Университета»2. В записке ставился вопрос о необходимости принять меры, которые обеспечили бы сколько-нибудь нормальные условия для работы университета. В ней указывалось, что 35 тысяч рублей, отпускаемых с 1757 года, совершенно недостаточно. На эту сумму университет должен был содержать на полном пансионе 30 студентов и 100 гимназистов, платить жалование 12 профессорам, 28 учителям и многочисленному обслуживающему персоналу, покупать книги, инструменты, приборы, реактивы, посуду и прочее, необходимое для занятий, покупать дрова, свечи, осуществлять текущий ремонт, выделять три с половиной тысячи на содержание Казанской гимназии и т. д. ... «На все сии вышепоименованные расходы показанною 35 тысячной суммою университет при самой строгой бережливости едва справляться мог». В записке говорилось, что для удовлетворения только первоочередных нужд университета необходимо увеличить его бюджет минимум на 10 тысяч рублей.
149
Так как дом на Моховой был очень тесен, а дом у Воскресенских ворот «крайне ветх и становится опасен», то ставился вопрос о необходимости «отвести для университета другое способное место, на котором бы расположить и совсем вновь построить для оного дом», или, в крайнем случае, вдобавок и к существующим построить новый каменный дом на Моховой.
Наилучшим для себя выходом Московский университет считал перевод на Воробьевы горы, где должно быть построено новое большое здание, в котором могли бы разместиться не только все учебные и научные учреждения университета, но и квартиры для профессоров, студентов и гимназистов. «А если бы е. и. в. всемилостивейше благоволила повелеть для университета построить дом вне города Москвы, однако по близости оного, например, на Воробьевых горах, близь села Голенищева... то от сего произошли бы отменные выгоды, как для Университета самого, так и для всех к оному принадлежащих»1.
Составители проекта указывали, что это создаст прочную базу для учебной и научной работы Московского университета. Университет получит возможность создать ботанический сад, «который для студентов, обучающихся врачебной науке необходимо нужен». «На свободном месте удобно будет можно построить астрономическую обсерваторию, которая разными образами полезна быть может... Не меньше так же полезно будет и для учащихся математики, коим открытые места подадут способ производить в геодезии и инженерном искусстве практические действия»2. Гораздо благоприятнее будут условия для устройства анатомического театра и лазарета. Наконец, значительно улучшатся условия для создания ряда подсобных учреждений, обслуживающих университет: бумажной фабрики, бани и т. п.
Составители записки указывали, что перевод университета на Воробьевы горы одновременно с этим значительно улучшит материальное положение профессоров университета и облегчит их работу, так как в условиях отсутствия городского транспорта проезд в университет отнимал массу времени и поглощал значительную часть их жалования. «Сим способом могли бы профессора и учители гимназии своим жалованием быть довольны потому, что они сим учреждением освобождены бы были от многих излишних расходов. Не надобно будет им ни квартир нанимать, ни экипажей содержать, без чего сейчас им никак обойтиться невозможно и на что они более половины своего жалования издерживают», — писали они. В лучшую сторону изменится и положение студентов и гимназистов, которые «в свободное
150
от учения время будут иметь место для прогуливания и забав на чистом воздухе ко увеселению и ободрению своему, что и здоровью их не мало способствует, но сего однако теснота места в городе отнюдь не позволяет»1.
Рассмотрев все преимущества, которые дает университету его перевод на Воробьевы горы, составители записки заявляли, что в случае согласия на их предложение, они немедленно представят планы, сметы и прочую документацию. Но реакция правительства была прямо противоположной тому, что ожидал университет. В ответ на это предложение Сенат занялся исследованием того, не слишком ли «много» отпускается средств на университет и нельзя ли сократить число профессоров и преподавателей2. Лишь через год, после долгой переписки и справок, Екатерина II, наконец, подписала указ об отпуске 7 тысяч рублей на неотложный ремонт дома. Вопрос же о строительстве нового здания на Воробьевых горах безнадежно утонул в пучинах канцелярской бюрократической переписки3. Лишь через 6 лет, в 1782 году, Екатерина прибавила на содержание университета 6 тысяч рублей. Десяти тысяч показалось ей слишком много для единственного университета в России. Так потерпела полную неудачу попытка поставить вопрос о переводе Московского университета на Воробьевы горы.
Планы профессоров Московского университета оказались несбыточной мечтой в условиях самодержавно-крепостнической России. Они смогли превратиться в действительность только в нашу советскую эпоху. Сооружение новых зданий университета на Ленинских горах намного превосходит самые смелые мечты передовых людей XVIII века.
*****
Несмотря на все старания, здание в 1754 г. готово не было, и открыть университет в этом году не удалось. А что к этому стремились, доказывают не только уже приводившиеся «ордера» генерал-прокурора Сената Трубецкого, но и специально выбитая к открытию университета медаль с изображением Елизаветы и датой «1754» и проекты медалей, которые составлял в 1754 г. Штелин4. Об этом же говорит и следующее обстоятельство: на докладе Сената об учреждении университета, представленном Елизавете, имеется пометка «Возвращен
151
2 декабря». То место, где обычно помещалась резолюция, вырезано и заклеено чистой бумагой. Вполне вероятно, что доклад был в ноябре 1754 года утвержден. Затем же, когда выяснилось, что здание все еще не готово, резолюция Елизаветы была вырезана и доклад возвращен в Сенат для переписки1. Лишь когда здание было в основном готово, Елизавета подписала 12 января 1755 года доклад Сената и назначила кураторами университета И. Шувалова и Л. Блюментроста и директором А. М. Аргамакова2.
О Шувалове уже было сказано достаточно. Что же касается Блюментроста, то по традиции, идущей от работ Пекарского и Шевырева, его деятельности в качестве президента Академии Наук и куратора Московского университета дается положительная оценка. Однако факты показывают обратное: назначенный президентом академии Блюментрост привлек в ее состав своих приятелей, не отличавшихся никакими научными достоинствами. В 1727 г. Блюментрост целиком отдался придворным интригам, а всю власть в академии передал Шумахеру и энергично встал на его защиту, когда Бернулли и Делиль требовали устранения этого проходимца. Покидая академию, он присвоил себе 5 тыс. рублей из ее средств. В 30-х годах он проявил себя как один из наиболее усердных клевретов Бирона. Его деятельность в Московском университете продолжалась всего 2—3 месяца, так как еще до открытия университета, в марте 1755 года он умер3. В каком направлении действовал Блюментрост в эти несколько месяцев показывает краткая, но ясная запись Ломоносова.

Медаль на открытие Московского университета
Бронза, Библиотека им. Горького
152
«Блюментрост был с Шумахером одного духа, что ясно доказать можно его поступками при первом основании Академии, и Ломоносов, будучи участником при учреждении Московского Университета, довольно (приметил) в нем нелюбия к Российским ученым, когда Блюментрост (был. — М. Б.) назначен куратором и приехал из Москвы в С.-Петербург. Ибо он не хотел, чтобы Ломоносов был больше в советах о Университете, которой и первую причину подал к основанию помянутого корпуса»1, — писал Ломоносов в «Краткой истории о поведении академической канцелярии».
На первом директоре университета А. М. Аргамакове следует остановиться подробнее. А. М. Аргамаков и его деятельность в Московском университете получили в литературе совершенно неправильную оценку. Его изображали растратчиком, обвиняли в развале университета и т. д. Эта нелепая версия была впервые опровергнута только Н. А. Пенчко в ее работе «Основание Московского университета»2.
Прекрасно образованный А. М. Аргамаков был по своим общественно-политическим и научным взглядам одним из прогрессивных людей середины XVIII века. О прогрессивности научных взглядов и его патриотизме говорит представленное им в Сенат «генеральное мнение» о превращении Московской Оружейной палаты в музей национальной славы, открытый для широкого доступа публики3. Предложения Аргамакова относительно каталога, экспозиций и пр. значительно опережали состояние музейного дела не только в России, но и в Западной Европе. Только с открытием Исторического музея и Музея изобразительных искусств в Москве были созданы музеи такого типа, как предлагал А. М. Аргамаков.
О прогрессивности его общественных взглядов говорит и то, что при основании университета 7 человек крепостных с женами и детьми были им отданы «в университетскую службу и дано на них от оного Аргамакова отпускное письмо, в котором написано, что... ему Аргамакову до оных его людей дела нет и детям и наследникам его не вступаться»4. Часть из отпущенных Аргамаковым крепостных продолжала и после его смерти служить при университете, часть (Алексей и Тимофей Грязевы) получила от университета паспорта и жила в других городах. Сын одного из бывших крепостных Николай Грязев успешно учился в гимназии Московского университета. Кроме того, в числе студентов был Гаврила Журавлев «бывшего директора
153
Аргамакова крепостной человек, определен по данному ему вечно на волю отпускному письму»1.
Аргамаков отпустил на волю своих крепостных как раз в период расцвета крепостного гнета, в период, когда один за другим издавались указы, отдававшие крепостных в неограниченную власть помещиков. Аргамаков же не только отпускал на волю своих крепостных, но и помогал им получить образование.
В царствование Екатерины II крепостники устроили отвратительную расправу над бывшими крепостными Аргамакова. Через 8 лет после их отпуска на волю, в августе 1764 года, Адодуров, Херасков и Тейлс, управлявшие в это время университетом, направили в Сенат специальное «доношение». Они доказывали, что поскольку крепостные, отпущенные Аргамаковым, находятся при университете «не для наук», их отпуск на волю был незаконен «и им при университете быть не надлежит». Они предлагали ликвидировать выданную им вольную, «отобрать паспорта и вернуть в крепостные»2. Сенат немедленно санкционировал это гнусное предложение, и через неделю Херасков рапортовал Сенату: «Означенные, числящиеся при университете помянутого Аргамакова люди (кроме одного малолетнего обучающегося наукам Николая Грязева) и данная на них подлинная отпускная оного Аргамакова законным наследникам отданы с распискою»3.
Руководя университетом в 1755—1757 гг., А. М. Аргамаков поддерживал в нем демократическое передовое направление. Недаром ученик Ломоносова Николай Поповский, стремясь отметить его заслуги перед Родиной, выступил перед студентами, гимназистами и профессорами со специальной речью, посвященной его памяти. Такая «вольность» показалась недопустимой начальству. Речь была срочно затребована Шуваловым, и разрешение на ее печатание не было им дано4.
*****
В период, предшествующий открытию университета, велась деятельная подготовка к созданию научной базы для его работы5. Мы уже отмечали, что Сенат, утверждая смету Московского университета,
154
ассигновал 5 тысяч рублей «для покупки книг и прочего». 16 марта 1755 года Академия Наук слушала просьбу Аргамакова помочь в составлении списка книг, которые необходимо приобрести для библиотеки Московского университета, и указать, где они могут быть приобретены. Академики решили, что каждый из них составит список книг по определенному разделу1. Через неделю были заслушаны предложения академиков, составлен общий список и передан Московскому университету. Это было реальной помощью академии создаваемому университету, но вместе с тем необходимо учитывать, что большинство академиков, участвовавших в этой работе, не принадлежало к числу передовых ученых, что не могло не отразиться на составе университетской библиотеки. Как бы то ни было, но к началу 1756 года, т. е. всего через полгода после открытия университета, библиотека уже была приобретена. Весной 1756 года она спешно приводилась в порядок, составлялся ее каталог и т. д.2. В отличие от академии, где, по выражению Ломоносова, библиотека служила больше для декорации3, Московский университет уже через год после своего открытия сделал ее публичной. Он специальным объявлением известил всех «любителей наук»: «Московского Университета библиотека, состоящая из знатного числа книг на всех почти Европейских языках, в удовольствие любителей наук и охотников до чтения книг, отворена была сего июля 3 числа, и впредь имеет быть отворена каждую среду и субботу с 2 до 5 часов»4. Превращение библиотеки университета с первых дней ее существования в публичную являлось одной из форм пропаганды научных знаний и демократизации просвещения.
Одновременно с комплектованием библиотеки шла закупка инструментов и приборов для физического кабинета университета, на что была ассигнована тысяча рублей. Консультантом и по этому вопросу выступила также Академия Наук, к которой обратился Аргамаков с просьбой помочь в приобретении «механического оборудования для показывания и изъяснения явлений природы экспериментами»5. Академия решила, что лучше всего заказать приборы через лейпцигского профессора Мушенброка. Очевидно, отсутствие Ломоносова на заседании академии, которому в это время из-за интриг
155
Теплова было запрещено там присутствовать, сказалось на том, что для изготовления приборов не были привлечены первоклассные мастера, имевшиеся в мастерских самой академии.
Физический кабинет был оборудован, и через год университет располагал всем необходимым для преподавания экспериментальной физики. Не было только лектора. С профессорами физики университету не повезло. В качестве первого физика, конечно, без участия Ломоносова, Шуваловым был приглашен некий аббат Франкози. Так как он не имел никакой ученой степени, то по ходатайству Шувалова он был проэкзаменован на квартире у Миллера. Даже весьма благожелательные к нему экзаминаторы, отметив, что Франкози знает латинский язык и лишь элементы математики и физики, пришли к выводу, что Франкози может преподавать физику только в том случае, «если будет тщательно готовиться к лекциям»1. Лекции Франкози не имели никакого научного значения, и он быстро исчез из университета, хотя Шувалов и давал указание об увеличении ему числа часов и проявлении к нему всяческого внимания2.
Настоящее преподавание физики в университете началось только с тех пор, как оно было поручено Д. В. Савичу, преподававшему экспериментальную физику и оптику в 1758—1761 годах3.
Физический кабинет полностью обеспечивал преподавание оптики, о чем говорят документы, связанные с ремонтом инструментов и приборов университета. Он обладал таким количеством приборов, что университет имел специального механика, на обязанности которого лежал ремонт, хранение и изготовление новых приборов. Этот механик получал почти такое же жалование, как и профессора, и имел учеников, выделенных ему университетом, что говорит о размерах кабинета и о значении, которое ему придавалось4.
Очевидно, уже в этот период велась подготовка к созданию химической лаборатории, минералогического кабинета и типографии.
К началу 60-х годов Московский университет располагал большой и хорошо подобранной библиотекой, большим, снабженным всеми необходимыми инструментами физическим кабинетом. В университет поступили купленные им и подаренные ему богатые минералогические коллекции. К 1760 году уже действовала химическая лаборатория. 30 марта 1758 года Шувалов приказывал: «лабораторию строить каменную и чтоб для первого случая не весьма велика была»5.
156
По всей вероятности, она помещалась не в специально построенном помещении, а в первом здании университета на Красной площади. Во всяком случае, когда в 1760 г. был назначен куратором Ф. Веселовский, то, как сообщали «Московские ведомости», при осмотре университета он посетил и химическую лабораторию1. Все эти кабинеты, лаборатории, так же как и анатомический театр и библиотека, помещались в доме университета на Красной площади.
Таким образом, уже в первые годы своего существования Московский университет располагал вполне достаточной базой для экспериментальной работы профессоров и опытной работы студентов. Это было крупным достижением молодого университета, который получал возможность развивать принципы передовой русской науки, провозглашенные Ломоносовым, требовавшим соединения лекционного преподавания с опытом, экспериментом, наблюдением. Значение организации кабинетов и лабораторий в Московском университете становится особенно ясно, если вспомнить, сколько препятствий незадолго до этого пришлось преодолеть Ломоносову при создании в Академии Наук первой в стране научной химической лаборатории. Но и в этом вопросе победа передовой науки была далеко не полной. Имевшаяся в университете база для научной и учебной работы использовалась крайне недостаточно.
Этому мешало два обстоятельства: 1) преступное отношение царского правительства к субсидированию научной и учебной работы университета, 2) безответственное отношение к своим обязанностям реакционной профессуры, в ведении которой находились кабинеты и лаборатории.
Царское правительство, выделив однажды средства на покупку библиотеки, приборов и инструментов, не отпускало более средств на их содержание и пополнение. Денег, положенных университету по штату, с трудом хватало лишь на выплату жалования. На лаборатории и кабинеты ничего не оставалось. Ненормальность такого положения остро ощущалась учеными. В проекте штата, составленном университетом в 60-х годах, предусматривалось ассигнование специальных средств на жалование обслуживающему персоналу этих учреждений, пополнение и т. д.
Подобные суммы предусматривал и проект, представленный Адодуровым. Сенат, рассматривавший проект, в основном согласился с проектом профессоров.
В таблице, приведенной на стр. 157, наглядно показана сумма (в рублях), которая была запроектирована на содержание этих учреждений.
157
По проекту профессоров | По проекту Адодурова | По проекту Сената | |
1. Кабинет натуральной истории | 1000 | 543 | 1000 |
2. Физический кабинет | 1000 | 728 | 1000 |
3. Астрономическая обсерватория | 1000 | 818 | 818 |
4. Химическая лаборатория | 1000 | 770 | 1000 |
5. Анатомический театр | 1000 | 690 | 1000 |
6. Ботанический сад | 1100 | 880 | 880 |
7. Библиотека | 3000 | 2000 | 2500 |
Всего | 9100 | 6429 | 81981 |
Таким образом, на содержание кабинетов, лабораторий и т. п. проектировалось от 6 с половиной тысяч (по плану Адодурова) до 9 тыс. рублей ежегодно. Примерно половина средств по каждому из учреждений предусматривалась на жалование и половина на пополнение необходимым оборудованием (исключение представляла библиотека, где на пополнение предусматривались 5/6 всех ассигнований).
Примерно к этому же времени относится составленная университетом и представленная в Сенат «Ведомость... какие теперь непременные расходы есть и быть должны при Московском Университете»2. «Ведомость» любопытна тем, что она показывает состояние ассигнований и обосновывает необходимость их увеличения. На основании этой «Ведомости» видно, что на содержание перечисленных выше 7 научных учреждений средств фактически не отпускалось. Так, в графе «имеется» значилось лишь:
1. Машинисту физического кабинета — 410 р.
2. Лаборанту химической лаборатории — 210 р.
3. Просектору при анатомическом театре — 250 р.
4. На выписывание иностранных книг в библиотеку — 310 р.
5. На чернила, бумагу, мел, физические инструменты, материалы для лабораторий, рапиры, краски и т. д. — 391 р.
Всего: на жалование 870 р. и на все остальное около 700 р., причем в эту сумму входили расходы на бумагу, мел, чернила и т. д.3. В записке указывалось, что «понеже при университете библиотека хотя и учреждена, но как оная без присовокупления вновь до разных наук
158
надлежит книг довольной быть не может», то необходимо отпускать на ее пополнение 900 р. в год (включая 400 р. на приобретение древностей) и 228 р. на жалование. «Для обучения натуральной истории надлежит быть кабинету натуральных вещей». На кабинет соответственно предназначалось 400 и 143 рубля. По физическому кабинету 300 и 428 рублей. «Необходима астрономическая обсерватория, как для показания учащихся сей науки, так и для учинения небесных и воздушных наблюдений». На нее предусматривалось соответственно 500 и 318 рублей. Необходимо иметь химическую лабораторию «для обучения потребной медикам, рудокопам, монетным мастерам и прочим химической науки». На химическую лабораторию предполагалось 400 и 370 р., на анатомический театр — 300 и 390 рублей. На ботанический сад, который «должен быть при университете непременно», 400 и 480 руб.1.
Таким образом, ведомость предусматривала, что в числе тех расходов, которые «быть должны при Московском Университете», на содержание кабинетов и лабораторий необходимо средств: 1) на жалование — 2356 р. против отпускающихся 870 р., 2) на пополнение и содержание — 3200 против отпускающихся 700 р.
Разница между необходимым и отпускаемым получается огромная. Она еще более увеличится, когда мы увидим, что получали кабинеты и лаборатории на самом деле. Так, за 1776 г. (когда деньги уже значительно упали в цене) на все кабинеты и лаборатории (не считая жалования) было израсходовано:
1) отпущено «профессору Зыбелину по требованию его для химических опытов для лаборатории на покупку разных материалов» — 20 р.; 2) уплачено книгопродавцу Веверу за физические инструменты и книги — 500 р.; 3) уплачено за математические инструменты — 24 р.
Всего за год было израсходовано 544 рубля2.
И это был еще один из «щедрых» годов. Обычно тратилось еще меньше: рублей 200—300. Весьма показательны следующие факты: в 1765 году университетская конференция сделала канцелярии университета представление о необходимости приобрести для занятий по анатомии медицинских инструментов на 100 рублей и на 160 рублей инструментов, приборов и литературы для занятий по химии. Канцелярия категорически отказалась выполнить это требование, ссылаясь на то, что нет приказа куратора, а по штатам таких расходов не положено3.
159
В 1769 году в Московский университет обратился выдающийся русский хирург, ученик С. Крашенинникова, К. Щепин. Крашенинников предназначал Щепина себе в преемники, но заправилы выжили Щепина из академии. Благодарный своему учителю Щепин после смерти Крашенинникова воспитывал одного из его сыновей1. Щепин предлагал университету купить у него гербарий растений России и Западной Европы, насчитывавший свыше 2500 экземпляров. Профессора университета Вениаминов, Зыбелин и Керштенс осмотрели гербарий и пришли к выводу, что «оной травник для университетской библиотеки и ботанических лекций нужен и достаточен». Профессорская конференция согласилась с ними, что 400 рублей являются минимальной ценой гербария. Почти год тянулась переписка конференции с Адодуровым, который требовал то одних, то других дополнительных сведений о составе, состоянии, цене гербария и т. д. После получения всех этих сведений Адодуров все же отказал в отпуске денег на его приобретение, заявив: «Я не нахожу нужным покупать оной травник, да особливо такой недешевой ценой». Адодуров писал, что гораздо целесообразнее купить несколько немецких книг по ботанике с рисунками этих растений2.
Подобные просьбы или отклонялись, или откладывались до утверждения нового штата. Между тем, как уже указывалось выше, несмотря на неоднократные представления, несмотря на самые убедительные ведомости и записки о состоянии и нуждах Московского университета, его штат так и не был пересмотрен за все 34 года царствования Екатерины II. Это положение было не только показателем преступного невнимания царского правительства к нуждам университета, но и результатом сознательной политики. Эта политика была направлена на то, чтобы помешать развитию передовой материалистической науки. Царское правительство стремилось помешать развитию естественных наук не только путем репрессий, но и урезыванием ассигнований на работу кабинетов и лабораторий.
Вторым обстоятельством, крайне вредно отражавшимся на работе кабинетов и лабораторий, было безответственное отношение к своим обязанностям большинства профессоров-иностранцев. В Московском университете повторялась буквально та же картина, которая известна по Академии Наук. Большинство иностранцев смотрело на заведование кабинетом только как на источник добавочного жалования (за это прибавлялось к жалованию 100 рублей в год). Керштенс,
160
в продолжение полутора десятков лет «руководивший» минералогическим кабинетом, получил в свое распоряжение богатейшую коллекцию, насчитывавшую свыше 60 000 образцов. За все время он даже не удосужился составить ее каталог. Когда в связи с его отъездом за границу заведование было передано Матвею Афонину, то последний был вынужден принимать образцы по... счету. Прошнурованная книга, предназначавшаяся для каталога кабинета, была обнаружена Афониным засунутой в один из шкафов. Кроме заголовка, Керштенс не написал за все годы ни единой строки. Когда и при таком примитивном способе приема кабинета обнаружилось, что не хватает несколько десятков наиболее ценных образцов, то Керштенс начал доказывать, что многие минералы обладают свойством испаряться, и этим объясняется их отсутствие1.
Совершенно очевидно, что под руководством Керштенса богатейшие коллекции превратились в ненужные украшения, загромождавшие залы университета и годившиеся только для того, чтобы показывать их знатным гостям и щеголять перед ними размерами и стоимостью коллекции. Конечно, ни о каком полноценном использовании этих коллекций в учебном процессе при том состоянии, в котором они находились, нечего было и думать.
Профессор Рост и механик Демулен, ведавшие физическим кабинетом университета, занимались бесконечными жалобами друг на друга, бездельничали и довели физический кабинет университета до развала.
Механик Петр Демулен был до этого известен в Москве как владелец своеобразного балагана, где выставлялись для обозрения «самодействующие машины, куклы» и прочие «механические фокусы»2. В Московском университете на его обязанности лежал ремонт физических и математических приборов и изготовление новых3. Демулен получил себе в помощь двух учеников, которые должны были учиться у него изготовлению приборов и их демонстрации во время занятий. Но, несмотря на высокое жалование, он и не думал заниматься ни приборами, ни обучением учеников. Приборы ломались, ржавели, приходили в полную негодность. Учеников же Демулен превратил в своих лакеев и запретил им ходить на лекции. Определенный к нему способный и хорошо занимавшийся гимназист-разночинец Иван Бабушкин не выдержал и обратился в профессорскую конференцию с жалобой, в которой писал, что Демулен «уже год ничему не обучает», и просил дать приказ о том, чтобы его либо обучали, либо
161
«уволили для продолжения обучения наукам вместе с другими учениками». В конце концов Бабушкин не выдержал издевательств Демулена и бежал из университета1.
Принятый в университет по рекомендации Миллера на должность преподавателя английского языка, Рост оказался через некоторое время профессором физики. Звание профессора Московского университета было для него лишь удобным прикрытием для его торговых дел: он являлся главным представителем голландской торговой компании. В его ведении было несколько сот русских приказчиков, находившихся в разных городах России. Попутно с этим Рост систематически занимался ростовщичеством. За годы своей жизни в России этот «ученый» нажил огромный капитал, приобрел свыше тысячи крепостных и построил богатые особняки в Москве и Петербурге. Неудивительно, что этот делец уделял минимальное внимание физическому кабинету. Его постоянные жалобы на Демулена и пререкания с ним были лишь средством оправдать свое собственное безделье. Рост считался знатоком новых и древних языков. Шевырев с восторгом рассказывает о том, что, когда австрийский император Иосиф II посетил Московский университет, Рост прочел свою лекцию на итальянском языке. Шевырев и другие авторы приводят этот факт в качестве доказательства «выдающихся научных достоинств» Роста2. Но при этом упускается из вида одно очень существенное обстоятельство. Подобно небезизвестному Байеру, этот «выдающийся филолог», проживший почти всю жизнь в России, рассматривал себя «цивилизатором», очутившимся в стране, за счет которой удобно жить, но язык и культуру которой изучать незачем. Проработав около 30 лет в Московском университете, он не знал и не хотел знать русского языка и преподавал русским студентам английский язык... на латинском языке. Рядом с Ростом в университете мы все время видим кого-либо из студентов, на обязанности которых было переводить его лекции с латинского или немецкого на русский. В приходно-расходной книге Московского университета за 1776 год значится: «Коллежскому переводчику Стахию Винчевскому... за должность переводчика при профессоре Росте физических лекций с латинского языка на российский — 15 рублей»3. Короче говоря, перед нами все та же, знакомая нам по Академии Наук фигура самодовольного реакционера, враждебного русскому народу и его передовой культуре.
162
Нечего и говорить о том, что Рост абсолютно не заслуживает похвал, которые расточает по его адресу Шевырев1.
Библиотека Московского университета находилась в продолжение многих лет в ведении Рейхеля, выписанного по рекомендации Миллера и Штелина на должность преподавателя немецкого языка и скоро превратившегося в профессора истории. На его научных и общественно-политических взглядах мы остановимся ниже. Сейчас же отметим, что он рассматривал должность библиотекаря исключительно как источник получения добавочного жалования. Всю работу вели так называемые суббиблиотекари — сначала Данила Савич, потом Харитон Чеботарев и студенты, выделенные ему в помощь. Сам же Рейхель библиотекой не занимался. Через десять лет после того, как она была открыта и поступила в его ведение, он все еще не удосужился составить каталог2. Не лучше Рейхель относится и к чтению лекций: в протоколах конференции мы встречаем записи о неоднократных его столкновениях с администрацией университета, вызванных стремлением уклониться от чтения лекций. Так, с 8 декабря 1765 по апрель 1766 г. он прочел всего 2 лекции3. Это не помешало Рейхелю в 1767 году потребовать, чтобы его жалование было увеличено с 600 рублей до 900. Правда, ему в этом было отказано, поскольку ни он, ни Рост, требовавший увеличения жалования до 1000 р., «не оказали во всю свою при Университете бытность такой пользы, которая бы столь знатное прибавление в жаловании по справедливости заслуживала»4. Получив отказ на свое ультимативное требование (в случае отказа они грозили отъездом в Германию), они остались и постепенно добились требуемой прибавки. В 1776 году Рост и Рейхель получали уже по 900 рублей. В то же время жалование остальных профессоров было значительно меньше. Дилтей и Шаден получали по 700 рублей, Зыбелин, Аничков и Десницкий — по 600 рублей, Барсов — 500 рублей, Афонин и Третьяков — по 400 рублей (т. е. столько же, сколько получали иностранцы, преподававшие в гимназии), Чеботарев — 250 р., Сибирский — всего 200 р.5. Необходимо отметить, что в указанную сумму входило и жалование, получаемое Зыбелиным, Десницким, Аничковым, Чеботаревым за их работу в университетском госпитале, библиотеке, за выполнение ими обязанностей инспектора гимназии, надзирателя над студентами и т. д.
163
Думавшие только о своекорыстных интересах, Рост, Рейхель, Керштенс, Демулен и им подобные препятствовали правильному и полноценному использованию той научной базы, которой располагал Московский университет в первые десятилетия своего существования.
Прямую противоположность им представляли передовые русские ученые. Трудами Вениаминова и Афонина был собран богатейший гербарий флоры центральной части России. Эту работу они осуществляли с помощью студентов в течение ряда лет.
Большую ценность представлял физический кабинет, созданный у себя на квартире П. И. Страховым. Кроме того, у Страхова, Зыбелина и Барсова были значительные библиотеки и ценнейшие собрания древних русских рукописей, книг, монет, печатей и т. д., подаренные ими Московскому университету. Эти сокровища, к сожалению, погибли в 1812 году.
Столь разное отношение к университету и его нуждам показывает, что одни смотрели на него лишь как на источник получения доходов и старались работать поменьше, но зато энергично требовали повышения жалования за свои «труды». Другие рассматривали свою работу как служение своему народу, своей родине и все свои силы и знания отдавали любимому делу.
Подведем итоги. Уже в первое десятилетие своего существования Московский университет располагал необходимой базой для научной и учебной работы в виде библиотеки, кабинетов и лабораторий. Эта база вполне соответствовала требованиям науки того времени. Ученики и последователи Ломоносова самоотверженно трудились над укреплением и расширением этой базы; добивались наиболее рационального ее использования. Однако политика самодержавия приводила к тому, что университет не только не проводил дальнейшего укрепления и расширения этой базы, но не мог правильно использовать и имеющуюся.
164
165
Дерзайте ныне ободренны М. В. Ломоносов |
ГЛАВА ПЯТАЯ
ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ И ПРОФЕССОРА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ
Чем ближе становилось открытие университета, тем все большую важность приобретал вопрос о его будущих студентах.
При анализе проекта университета уже было показано, что Ломоносов и Шувалов занимали в этом вопросе диаметрально противоположные позиции. В силу этого вопрос о наборе первых студентов приобретал еще большую остроту. Гимназия могла обеспечить университет студентами только через 3—4 года. Пока же единственным резервуаром, откуда университет мог почерпнуть первых студентов, была Славяно-греко-латинская академия в Москве и семинарии, существовавшие в целом ряде городов России. Правда, вся система преподавания в них была проникнута средневековой схоластикой и основывалась на всевозможных антинаучных теориях: Однако слушатели семинарий неплохо знали славянский и латинский языки, греческую и римскую литературу и арифметику. Они знакомились с русскими летописями и другими видами древнерусской книжности.
Основанная в 1685 году Славяно-греко-латинская академия сыграла видную роль в развитии русской культуры в первой половине XVIII века. Почти все первые русские ученые вышли из ее стен.
166
Постников и Магницкий, Тредиаковский и Кантемир, Ломоносов и Крашенинников и многие другие начали свой славный путь в «спасских школах». В петровское время Славяно-греко-латинская академия утратила характер чисто духовного учебного заведения. Так, с 1701 по 1729 гг. из 236 человек лишь 68 человек сделались церковниками. В 1735 году ректор академии жаловался, что почти никто из его воспитанников не доходит до класса богословия. Их либо забирают для отправления в экспедиции, направляют в Академию Наук, типографию, монетную канцелярию и т. д., либо они сами устраиваются с помощью светского начальства в канцелярии, госпитали и прочие учреждения Москвы. «А в Академии почти самое остается дрождие», — жаловался он1.
Ломоносов живо помнил пять лет, проведенных в ее стенах. Совсем недавно он работал с пришедшими из нее в 1748 году Поповским, Клементьевым, Барсовым и другими семинаристами. И после 1748 г. он не раз поднимал вопрос о новом привлечении семинаристов в академию. Когда стал вопрос о первых студентах для Московского университета, Ломоносов указал на знакомый и многократно проверенный путь. Едва ли это совпадало с желаниями Шувалова, но до открытия университета оставались считанные дни. Запись в гимназию превысила все ожидания, а студентов не было ни одного. Приходилось обращаться к синоду, хотя семинарии были по своему составу демократическими. Правда, в 1728 году было запрещено принимать в Славяно-греко-латинскую академию лиц податного сословия. Но даже и после этого основной контингент учащихся академии составляли люди, мало отличавшиеся по своему экономическому и правовому положению от принадлежавших к податным сословиям. Это были главным образом дети пономарей, дьячков, дьяконов, сельских и городских попов. В. И. Ленин писал об этом слое низшего духовенства, что ему «приходится жить бок о бок с мужиком, зависеть от него в тысяче случаев, даже иногда — при мелком крестьянском земледелии попов на церковной земле — бывать в настоящей шкуре крестьянина»2. В условиях XVIII века, когда некоторые представители низшего сельского духовенства были даже крепостными и во всяком случае полностью зависели от помещиков, это положение выступало особенно ярко. Конечно, не следует забывать, что, несмотря на это, духовенство верой и правдой служило самодержавно-крепостническому строю, представляло собой одну из основ этого строя и усиленно отравляло духовной сивухой задавленные вечной работой и нуждой народные массы.
167
10 апреля 1756 года синод слушал следующее «доношение» Шувалова: «Учреждающемуся императорскому Московскому Университету потребно некоторое число учеников, которые в латинском языке и в знании классических авторов имели искусство: чтоб тем скорее приступить к наукам можно было. А как известно, что в Новгороде, в Троицкой лавре, в Александроневском и Иконоспасском монастырях, старанием духовных властей — при семинариях находится их довольное число: того ради не угодно ли будет... для общей пользы повелеть из всех вышепоказанных мест достойных учеников для скорейших и полезнейших успехов императорского Московского университета уволить, сколько рассудить изволит»1. До открытия университета оставалось всего две недели; дел, связанных с подготовкой к открытию, в Москве было много, но директор университета Аргамаков понимал, как важен вопрос о наборе студентов, и отправился в Петербург. В журнале заседаний синода его выступление записано так: «Яко оный университет имеет быть в Москве, в Китае городе, где прежде была аптека, а о числе учеников, колико оных в том университете быть потребно, хотя де точно назначить не можно, оставляется де оное на рассмотрение синода. Однако де ныне на первый случай за довольное быть оных признается до тридцати, или по нужде и до двадцати человек»2. Для того чтобы решить, сколько человек можно направить в университет, синод постановил составить предварительно ведомость, сколько каждая семинария имеет семинаристов в «риторическом отделении». На основании рапортов семинарий такая ведомость и была составлена. Оказалось, что в Московской и Киевской академиях и 22 семинариях (сведений по семинарии Троицкой лавры в синоде не оказалось) в классе риторики учатся 783 семинариста3. Однако составление сведений затянулось, и лишь через месяц, уже после официального открытия университета 3 мая синод решил: «Для надлежащего в оный университет определения отослать из Московской Академии из обучающихся ныне в риторике и философии студентов жития и состояния доброго, и к наукам понятных и способных шесть, да из семинарий, из таковых же в риторике и философии обучающихся и такого же жития и состояния доброго и понятных и способных... из Новгородской — трех, из Псковской и из Крутицкой по два, из Белгородской — двух, из Нижегородской — двух, из Смоленской — двух, из Вологодской — трех, из Тверской — двух, из Святотроицкой Сергиевой лавры — шесть. Всего тридцать человек... без всякой отмены и без замедления и притом
168
дать им надлежащее число подвод и на дорожной смотря по расстоянию от того места до Москвы, проезд без излишества и без оскудения... на щет вышеупомянутого Университета»1.
Указ синода был немедленно разослан, и 22 мая Славяно-греко-латинская академия направила в Московский университет 6 человек: сыновей московских священников Семена Герасимова (будущего профессора С. Г. Зыбелина), Петра Семенова и Василия Троепольского, сыновей умерших дьяконов Данилу Яковлева и Петра Дмитриева (будущего профессора П. Д. Вениаминова) и сына пономаря Ивана Алексеева. 26 мая в Московский университет были направлены воспитанники Крутицкой семинарии Илларион Мусатов (Садовский) и Иван Ильин2.
28 мая был получен рапорт Новгородской консистории о том, что в Московский университет отправлены сыновья умерших новгородских дьячков Вукол Петров и Илья Федулов, а также сын валдайского попа Иван Артемьев. Нижегородский архиерей сообщил об отправке сына дьячка Сергея Федорова и сына павловского попа Федора Иванова. 31 мая Псковская консистория сообщила об отправке Тимофея Заборова и Семена Зубкова. В начале июля Троицкая лавра донесла, что ею отправлены из класса философии Аввакум Рудаков, Данила Полиносовский, Иван Федоров, из класса риторики Федор Пушкин, Иван Тихомиров и Дмитрий Аничков. И лишь в начале августа смоленский епископ сообщил об отправке сына деревенского священника Ивана Раткевича и сына умершего дорогобужского священника Георгия Лызлова3. В июле прислала 2 студентов Белгородская семинария, но они вскоре были возвращены обратно с требованием, чтобы были присланы «самоохотные, а не с принуждением». Университет сам и назвал этих «самоохотных» — Федора Левицкого и Егора Булатницкого, которые и прибыли в октябре месяце4. Всего в Московский университет было направлено из Славяно-греко-латинской академии и из Крутицкой, Новгородской, Псковской, Нижегородской, Смоленской, Белгородской и Троицкой семинарий 25 человек. Вологодская семинария не прислала ни одного человека5. Известно, что первый выпуск университетской гимназии состоялся в 1759 году, когда 26 апреля 19 гимназистов были «произведены в
169
студенты»1. Между тем в «Московских ведомостях», объявлениях и протоколах университетской конференции за 1756—1757 гг. мы встречаем фамилии студентов, неизвестных по делам синода. Возможно, что часть из них была прислана не к открытию университета, а несколько позже2. Кроме того, в середине XVIII века разночинцы еще не имели твердо установившихся фамилий, а ни в одном из названных документов не указывается отчество. Поэтому трудно сказать, имеем ли мы дело с новым человеком или с тем же, но под другой фамилией. К 25 студентам, о которых мы уже говорили, необходимо добавить пытавшегося поступить в 1753 г. в академический университет Киевского семинариста Антона Любинского, присланного из Тверской семинарии Семена Лобанова, а также Матвея Елисеева, Ефима Орлова, Панкратия Полонского, Максима Тихомирова и Илью Семенова, о которых неизвестно, из каких они прибыли семинарий. Студенты Сергей Малиновский, Вукол Федотов — это, очевидно, уже упоминавшиеся Сергей Федоров, Вукол Петров3.
На основании архивных документов устанавливается, что в мае — августе 1755 г. Московский университет получил из семинарий не менее 30 студентов. Это полностью подтверждается ордером Шувалова от 9 октября 1755 года: «Студентам тридцати человекам, которые лекции математические и философские слушают, в изъятие университетского штата жалование производить по 40 рублей в год»4.
Первый набор студентов был успешно произведен. Как видно из этого же ордера Шувалова, к осени 1755 года занятия в университете уже шли полным ходом. Но начались они еще летом. Доказательством
170
этого является, что вступительная лекция по философии для студентов Московского университета, прочитанная Николаем Поповским, была напечатана уже в августовском номере журнала Академии Наук «Ежемесячные сочинения»1.
Первый набор студентов был очень удачен по своему составу. Из его рядов вышли три профессора Московского университета, принадлежащие к передовому направлению (Д. С. Аничков, С. Г. Зыбелин, П. Д. Вениаминов), 3 магистра (Алексеев, Лобанов2 и Тихомиров) и 7 учителей.
Первый набор знаменателен еще и потому, что среди первых студентов Московского университета не было ни одного дворянина. Это обстоятельство сыграло большую роль в жизни Московского университета. Из числа первых студентов и гимназистов, поступивших в старшие классы гимназии в 1755 году, к середине 60-х годов выросла значительная группа русских ученых, высоко поднявших знамя передовой русской национальной науки. За счет первого же набора университет в основном обеспечил себя и преподавателями гимназии.
Демократический состав первого набора студентов не был чем-то исключительным, он был характерен для университета в 50—70-х годах XVIII века. Такой состав учащихся очень мало удовлетворял правительство и самого Шувалова. Но их попытки привлечь в университет дворян дали мало результатов. Дворяне сотнями записывались в гимназию, но, как правило, проучившись 2—3 года и изучив французский или немецкий языки, арифметику, танцы и фехтование, торопились в полк или в одну из коллегий, куда они записывались одновременно с поступлением в университет. Протоколы университетской конференции пестрят записями вроде следующих: «Выдан аттестат князю Вяземскому в том, что он в течение 3 лет изучал французский язык и арифметику»; «Братьям Васильчиковым о том, что они 10 месяцев изучали французский язык и арифметику»; Чеславскому, что он «за время пребывания в университете учил только геометрию и мало в ней успел, поведения был безукоризненного тем более, что мало бывал на занятиях, и поэтому трудно говорить о его проступках»; «отказано в выдаче аттестата Николаю Тихменеву, так как в течение года он был, неизвестно где, и ничего не делал» и т. д.3. Не случайно в июне 1759 года университетская конференция
171
вынуждена была отметить: «Большая часть студентов из дворян (студентами в протоколах очень часто называют и учеников университетской гимназии. — М. Б.) пользуется правом уходить в любое время и записывается в университет незадолго до того срока, как им нужно поступать в службу. Этот сорт людей является сюда, чтобы скрыть свое нежелание учиться. По выходе из университета эти люди могут только позорить университет своим глубоким невежеством». Конференция просила куратора «принять какие-либо меры для устранения этой ненормальности»1.
В свете приведенного становится совершенно ясно, насколько извращает действительное положение прочно вошедшее в литературу утверждение Шувалова, что будто бы университет в XVIII веке был по своему составу чисто дворянским, что с 1755 года по 1763 год «из университета вышло 1800 учеников, из которых только 300 разночинцев»2.
С первых дней своего существования Московский университет был демократическим, разночинным по своему составу. Имущественное положение студентов было таково, что университету пришлось принимать спешные меры, чтобы как-нибудь одеть и обуть первых студентов, так как они находились в совершенно бедственном положении3. Так называемые своекоштные редко кончали университет, а казенными студентами и гимназистами были самые настоящие бедняки. В протоколах университета указывается: «Одной из причин недостаточной успеваемости является то, что пансионеров во время не снабдили книгами, а они по своей бедности были не в состоянии их купить»4. Племянник Шувалова, князь Ф. Н. Голицын, прямо говорит о том, что большинство учившихся в университете были бедняки и люди без всякого состояния5. Недаром Шувалов в «Инструкции директору» приказывал: «Не дозволять ходить в классы в нагольных шубах и серых кафтанах, в лаптях и тому подобных подлых одеяниях». (Инструкция, § 22).
«Студенты и ученики, которым жалования хватает только что на пищу, просят милостивого вашего превосходительства повеления к нам, чтобы их одели», — писали в марте 1757 года администраторы университета Шувалову. В ноябре—декабре этого же года Шувалов был вынужден отдать приказ об отпуске денег на обувь и платье студентам
172
и гимназистам. Тогда же было приказано выдавать студентам «в прибавок жалования для пищи по полтине в месяц каждому»1. Среди пансионеров встречались и дворяне, но это были главным образом дети беспоместных или окончательно разорившихся дворян. Так, отец будущего ректора университета, знаменитого физика П. И. Страхова, служил пономарем в одной из московских церквей, но числился дворянином. Подобных примеров можно привести много.
Случайно сохранившийся суточный рапорт Хераскова от 9 октября 1758 г. директору университета И. И. Мелиссино ясно показывает, что из себя представляли дворяне-пансионеры. «Прошедшую ночь студенты и ученики ночевали все при своих каморах и сего дня на молитве все были. Больных 2 студента: 1 благородный ученик и один разночинец. За неимением обуви в классах не было 9 благородных учеников и 6 разночинцев»2.
Что этот рапорт рисует положение, типичное для университета первых лет его существования, подтверждает ордер Шувалова от 3-го ноября 1757 года. «Я слышал, что не только разночинцы, но и благородные ученики, как сказывают и сожаления достойно, великую нужду терпят в платье, обуви и пище»3, — писал он в канцелярию университета. Нужда студентов и гимназистов была так велика, что Шувалов предлагал немедленно принять необходимые меры и положить конец невыгодным для университета разговорам.
Получается довольно ясная картина. «Благородные» студенты и гимназисты не имеют средств на покупку учебников, голодают, сидят без сапог и платья и не могут ходить из-за этого на занятия. Являясь по сословному признаку дворянами, они по имущественному положению мало чем отличаются от разночинцев. Когда в мае 1762 г. Шувалов явился в Академию художеств и установил, что ряд учеников не ходит в классы из-за отсутствия обуви, это не вызвало у него удивления4. Ведь Академия художеств с самого начала комплектовалась из разночинцев. Титулованные и богатые дворяне, о пребывании которых в университете с восторгом писал Шевырев, в действительности редко кончали гимназию, очень редко кончали университет и никогда не оставались в нем после окончания.
Основную массу и профессуры, и студенчества в первые десятилетия существования Московского университета составляли разночинцы. Гибель университетского архива в 1812 году лишает нас возможности проследить состав студентов год за годом.
173
Однако в ЦГАДА сохранилась ведомость студентов за 1764 год, подписанная В. Адодуровым и М. Херасковым1. В момент составления ведомости на казенном содержании состояло 25 человек: 5 дворян и 20 разночинцев. В отношении дворян составители ведомости употребили весьма характерную оговорку, «а подлинно ли из дворян университету неизвестно». Один из этих дворян был сыном армейского прапорщика, двое — армейских капитанов, о чинах родителей двух остальных неизвестно. Точно так же нет данных и о занятиях родителей ряда студентов-разночинцев, но и те данные, которые имеются в ведомости, достаточно ясны:
Илья Федоров — сын отставного капрала,
Иван Кудрин — сын солдата,
Иван Смирной — сын солдата,
Харитон Чеботарев — сын сержанта,
Петр Барышников — сын солдата,
Николай Рубиновский — сын ротмистра Слободского полка,
Федор Юдин — сын сержанта,
Дмитрий Синьковский — сын учителя Коломенской семинарии,
Николай Данилевский — сын канцеляриста Белгородской консистории,
Михаил Пермский — сын дьячка,
Василий Санковский — сын священника,
Семен Сватковский — сын церковника.
О Федоре Левицком, Иване Калиновском, Родионе Гвоздиковском, Александре Лятошевиче, Федоре Щербатском, Петре Лицине и Александре Райче говорится лишь, что они разночинцы, прибывшие из Киевской, Троицкой, Новгородской и Белгородской семинарий. О студенте же Андрее Нарвинском сказано, что он польский шляхтич, обучавшийся прежде в смоленской семинарии. Судя по тому, что он долгое время работал в младших классах гимназии на грошевом жаловании, ясно, что никакого имения у него не было. Таким образом, из 12 человек, о родителях которых имеются сведения, — 7 солдатских детей, 3 детей церковников, 1 сын канцеляриста, 1 сын учителя2.
Но в ведомости имеется еще одна очень интересная и важная вещь. После списка казенных студентов следует «Ведомость о студентах, которые за неимением вакаций состоят на казенном ученическом содержании».
Эта ведомость показывает, что студентов, находившихся на казенном содержании, в действительности было значительно больше,
174
чем значилось официально. Из года в год число студентов, находящихся на казенном содержании, показывалось 30 человек. В действительности же часть студентов не указывалась в списках лишь потому, что для них не было свободных штатных вакансий. В ведомости значится 15 человек: 3 дворянина и 12 разночинцев. Из студентов-дворян: 1 — сын сержанта, один — прапорщика и один — поручика. Другими словами, все трое являются детьми служилой мелкоты. Очень ярок и показателен состав разночинцев, входящих в эту часть ведомости:
Гаврило Журавлев — «бывшего директора Аргамакова крепостной, определен по данному ему вечно на волю отпускному письму»,
Алексей Гладкой — сын отставного сержанта,
Трофим Вишняков — сын отставного солдата,
Иван Зыков — сын солдата,
Матвей Донской — сын отставного солдата,
Иван Травкин — сын солдата,
Иван Федоров — сын солдата,
Андрей Максимов — сын солдата,
Сергей Иванов — сын сержанта,
Максим Егоров — сын церковника,
Яков Яковлев — сын церковника,
Григорий Расповский — сын польского архимандрита (?!).
Из 12 разночинцев оказывается: 1 крепостной, 8 детей солдат, 3 детей церковников1.
Третью часть ведомости составляет список 8 студентов, «обучающихся на своем иждивении». В их числе один дворянин и 7 разночинцев. Двое разночинцев (Андрей Рогов и Иван Мастинский), очевидно, являются детьми канцеляристов, так как против их фамилий отмечено: «содержатся за счет конюшенной канцелярии». Один (Иван Шиллинг) сын учителя и 4 украинца — дети сотников, есаулов и т. п.2
Подведем итоги всем трем разделам ведомости. В 1764 г. в университете было 48 студентов, из них только 9 дворян, 39 студентов (или более 80%) были разночинцами. Из 31 разночинца больше половины были детьми солдат (19 человек), 6 — дети церковников, 3 — канцеляристов, 2 — учителей, 1 — крепостной (о 8 человеках мы не имеем никаких сведений, кроме того, что они были разночинцами).
Картина получается еще более яркая, чем в 1755 году. За 9 лет своего существования Московский университет не только не «одворянился»,
175
но стал еще более демократическим, разночинным. К концу 1764 года, как это показывает «известие об учениках и студентах Московского Университета», составленное Адодуровым и Херасковым для Екатерины II, было на казенном содержании 55 студентов (вместе со студентами, получавшими жалование учеников). Из них 10 дворян и 45 разночинцев (82%). В 1766 году из гимназии в университет было переведено 18 человек, из них 3 дворянина и 15 разночинцев (83,4% )1.
Все эти данные говорят о том, что разночинный состав был не случайным явлением, а определенным направлением в работе университета. Разночинцы, солдатские дети составляли большинство и студентов, и профессуры как Московского, так и руководимого Ломоносовым академического университета, о составе которого говорилось выше.
Мы уже говорили о той расправе, которая была устроена после смерти Ломоносова над академическим университетом по прямому указанию Екатерины II. Совершенно не устраивало крепостников и превращение Московского университета в центр передового направления в русской культуре и науке, чему способствовал демократический состав его учащихся. Через своего секретаря Олсуфьева Екатерина II «советовала» университету подготовить и представить ей на утверждение проект воспитательного училища, взяв за основу Смольный институт благородных девиц. Она «советовала» составить проект таким образом, чтобы учащиеся не только не получали жалования (стипендии) во время учебы, но, наоборот, чтобы за их содержание и обучение платили их родители2. Этот проект был прямо направлен против разночинного демократического состава учащихся университета и старался превратить университет в дворянское учебное заведение. Осуществление предложения Екатерины в тех условиях могло привести только к гибели университета, как это произошло с академическим университетом после смерти Ломоносова (об этом говорилось в главе второй).
В 60-х гг. этот продворянский проект Екатерины в отношении Московского университета не был осуществлен. Но в 1779 году при университете был создан так называемый университетский благородный пансион. Инициатором его основания выступил М. М. Херасков. К этому времени от его былой, хотя весьма и весьма умеренной, либеральности не осталось и следа. Он постепенно превратился в певца официальной самодержавно-крепостнической культуры, одного из лидеров
176
дворянско-монархического направления в русской культуре, в активного пропагандиста мистицизма. Поворот Хераскова в сторону реакции и отказ его от умеренной критики существующих порядков, которая ему была свойственна в начале 60-х гг., был значительно ускорен крестьянской войной под предводительством Пугачева.
К началу 80-х гг. 1) дворянство в новых условиях гораздо охотнее идет учиться; 2) образование становится необходимым для занятия постов в правительственных учреждениях; 3) без наличия образования карьера становится серьезно затрудненной, а подчас и невозможной. Правительство, проводившее политику укрепления дворянской диктатуры, было весьма заинтересовано в подготовке образованных дворян-чиновников.
Совокупность всех этих причин обусловила возможность создания благородного пансиона, ставившего дворян-пансионеров в университете в привилегированное положение и дававшего им облегченный курс наук. Мы не будем касаться сейчас вопроса о той известной положительной роли, которую играл пансион, так как это не имеет прямого отношения к теме. Нас интересует другое: основание благородного пансиона было по существу не чем иным, как осуществлением продворянского проекта Екатерины II, выдвинутого ею в 60-х гг.
Создание благородного пансиона значительно увеличило число дворян в университете и соответственно уменьшило удельный вес студентов-разночинцев. Кроме того, именно в стенах пансиона особенно активно развернулась пропаганда мистики и монархических идей. Но в науку попрежнему шли главным образом разночинцы. Причину этого хорошо определил советский академик С. И. Вавилов. В своей работе «Наука сталинской эпохи» он писал.
«Господствующие классы — богатое дворянство и буржуазия — редко отпускали своих детей учиться. Это была невыгодная, неясная, да и трудная профессия. Многие при этом подозревали (и не без основания) в науке опасность идеологического подрыва своего классового господства. Вследствие такого естественного классового отбора русских ученых определился ясно выраженный, в основном демократический, характер русской науки, ее, правда, робкая и скрытая, но все же несомненная и постоянная оппозиция классово-враждебному правительству, не понимавшему вдобавок роли и перспектив науки»1.
177
Поповский был человек острый, ученый и совершенно искусный в стихотворстве Н. И. Новиков |
ПЕРВЫЕ ПРОФЕССОРА
Ученик и соратник Ломоносова Н. Н. Поповский
В период между подписанием указа об основании университета и его открытием руководители университета были заняты подбором профессоров и преподавателей.
Стремясь превратить рождающийся университет в центр русской национальной культуры, Ломоносов направил в Москву трех молодых русских ученых, заботливо выращенных им в Академии Наук, — Антона Барсова, Филиппа Яремского и своего любимого ученика и соратника Николая Поповского. Реакционеры, руководившие в этот период Академией Наук, охотно согласились на их отправку в Москву. Они понимали, что присутствие в академии учеников Ломоносова усиливало его позиции и позиции других представителей передовой русской культуры. Кроме этих трех молодых ученых, направленных из академии, в университете скоро оказались магистр математики, ученик и будущий зять Ломоносова Алексей Константинов1, получивший образование за границей физик Данило Савич, воспитанник Славяно-греко-латинской академии, «чтец» московской синодальной типографии Сергей Ворошнин и ряд русских учителей2.
Совсем в другом направлении действовал Шувалов: он пригласил в университет приятелей и родственников Миллера — Дилтея, Фроммана, Рейхеля, Шадена, Роста и других реакционеров. Характерно, что Шувалов обращался со всеми делами, касающимися университета, не к кому-либо иному, а именно к Миллеру, являвшемуся злейшим врагом передовой русской культуры и принимавшему самое активное участие в травле Ломоносова. Через Миллера он и выписывал профессоров для Московского университета, хотя отношение его к академическому университету и русским студентам было
178
прекрасно известно1. На составе приглашенных несомненно сказалось и то, что Ломоносов в это время не принимал участия в работе академии.
Но, несмотря на эту крайне неблагоприятную обстановку, Ломоносов постоянно «советы давал о Московском университете» и выдвигал ряд предложений, связанных с работой академии, которые могли «послужить» для улучшения работы университета2. С ним была связана передовая часть работников университета. В частности, к нему неоднократно приезжал из Москвы Поповский. К сожалению, гибель архивов Ломоносова и его учеников и последователей, трудившихся в Московском университете, не дает возможности конкретизировать эти связи и сказать что-либо о содержании этих встреч. Однако практическая деятельность университета в первые десятилетия его существования и особенно передовой части профессуры убедительно показывает значительное влияние ломоносовских идей и традиций. Выражая интересы русского народа и опираясь на его борьбу, поддерживая и приветствуя новые явления в социально-экономической жизни страны, передовые ученые университета превратили Московский университет в важнейший центр национальной культуры и науки. Вопреки реакционной политике самодержавия, в упорной борьбе с реакционной иностранной и русской профессурой, с университетскими и московскими властями, они придали деятельности Московского университета общенародное значение. Даже в условиях самодержавно-крепостнического строя «императорский Московский университет» никогда не играл той роли, которую для него предназначили правительство и господствующие классы. Создавая университет, правительство рассчитывало превратить его в идеологическую опору самодержавия и крепостничества, в оплот религии, в место подготовки верных слуг существующего строя. Вместо этого, с первых лет основания и на протяжении всей двухвековой своей истории, Московский университет являлся одним из центров передового материалистического направления в науке, демократического направления в культуре, одним из центров освободительной антикрепостнической мысли, важнейшим центром подготовки национальных научных и культурных кадров. Конечно, на разных этапах двухвековой истории менялся удельный вес и значение университета в общем процессе развития русской науки и культуры, в освободительной и революционной
179
борьбе народа, но общее направление его деятельности сохраняло черты и тенденции, зародившиеся еще в XVIII веке под непосредственным влиянием идей и традиций того направления в культуре и науке, которое возглавлялось Ломоносовым. Именно то, что университет, опираясь на эти традиции, являлся, хотя и не всегда последовательным, защитником и выразителем национальных общенародных, а не классовых интересов дворянства, позволило ему играть выдающуюся роль в жизни России.
В зарождении и становлении этих традиций большую роль играли первые профессора университета и в первую очередь ученик Ломоносова Николай Поповский.
Краткие биографии Поповского, помещенные в различных изданиях XVIII и XIX века, говорят о нем только как о поэте и переводчике и ограничиваются перечислением внешних фактов его биографии, Наиболее полная из этих биографий, написанная Шевыревым, наряду с фактическими ошибками содержит грубую фальсификацию мировоззрения и деятельности Поповского. Шевырев изображает его автором торжественных од и речей, ратовавшего за союз науки с религией и восхвалявшего существовавший тогда строй1. В работах по истории русской литературы XVIII века, появившихся в советское время, вскользь говорится о Поповском, как о поэте ломоносовской школы, но и в них содержится немало фактических и методологических ошибок2. В оставшейся неопубликованной докторской диссертации Л. Б. Модзалевского3 собран большой материал о пребывании Поповского в Академии Наук, установлен ряд важных фактов его биографии и сделан ряд правильных выводов о его мировоззрении. Однако деятельность Поповского в Московском университете и ее значение показаны Модзалевским совершенно неудовлетворительно, так как при решении этих вопросов он основывался в значительной степени на работе Шевырева. Кроме того, Модзалевский рассматривает вопрос в чисто литературном плане. Об этом уже говорит название главы: «Ломоносов и его ученик Поповский (о литературной преемственности)». В работах М. Горбунова, В. Бобровниковой, Н. Пенчко и И. Щипанова содержится хотя и неразвернутая, на в целом правильная оценка деятельности Поповского. Вполне понятно,
180
что авторы этих работ, посвященных другим вопросам, не ставили перед собой задачи дать всестороннюю характеристику деятельности Поповского1.
Биографические данные о Поповском весьма скудны. Неизвестен даже год его рождения. Н. И. Новиков, а за ним и все последующие биографы Поповского считают, что он родился в 1730 году2. В то же время Тредиаковский в своем рапорте академической канцелярии в марте 1748 года указывал, что Поповскому в это время было 22 года, а в отзыве, составленном 30 января 1753 года, говорится: «от роду ему 25 лет»3; Штелин называл его украинцем, но в действительности он был «москвичем, сыном Никиты Васильева, попа в церкви Василия Блаженного»4.
Весной 1748 года по требованию Ломоносова несколько студентов Славяно-греко-латинской академии были направлены в университет при Академии Наук. В их числе был и Николай Поповский. Эти студенты оказались в несколько более благоприятных условиях по сравнению со студентами предыдущих наборов. К этому времени в академии уже было несколько русских ученых, стремившихся наладить работу академического университета.
Ломоносов проэкзаменовал присланных студентов и нашел, что 17 из них, в том числе и Поповский, достаточно подготовлены, «так что на академические лекции... могут быть допущены»5.
Уже к концу года Поповский проявил явную склонность к гуманитарным наукам. Он значился в числе лучших студентов по «российскому стилю, истории и латинским авторам», а 5 мая 1750 года
181
подал в канцелярию академии доношение о том, что хочет посвятить себя изучению философии1.
В конце 1750 года Ломоносов сделался непосредственным руководителем занятий Поповского, который слушал его лекции, изучал литературу и философию, выполнял по его заданиям и под его руководством различные литературные и научные работы. Начиная с 1751 года, Ломоносов в отчетах, представленных в канцелярию академии, регулярно писал о своих занятиях с Поповским2. Как в официальных отчетах, так и в письмах к И. И. Шувалову Ломоносов с радостью отмечал блестящие успехи своего ученика. Уже в мае 1751 года он одобрительно отозвался о его стихотворении «Зима». Если год назад Миллер и Фишер пытались представить его весьма посредственным учеником, то после экзамена 21 мая 1751 г. и они вынуждены были признать, что Поповский «в словесных и философских науках такой опыт искусства оказал, что все вопросы изрядно ответствовал, а сверх того и собственного сочинения стихи на российском и латинском языках, которые с немалою его похвалою читаны» (заслуживали похвал. — М. Б.).3
Конференция признала его достойным продолжать обучение с тем, чтобы со временем «быть ему стихотворцем или оратором Академии». В 1752 году Поповский сочинил оду ко дню коронации Елизаветы и перевел оду Горация. Ломоносов высоко оценивал эта работы Поповского. «А в последних месяцах минувшего 1752 г. подал он мне свой перевод Горациевых стихов о стихотворстве (ars poetica) и некоторых од, который так хорошо сделан, что напечатания весьма достоин... Того ради Канцелярия Академии наук да соблаговолит оные напечатать, а помянутому студенту Поповскому сделать отличное одобрение от прочих награждением ранга и жалованья: ибо он уже ныне в состоянии искусством своим в чистоте российского штиля и стихотворства приносить Академии наук честь и пользу»4, — писал Ломоносов. В марте 1753 года этот перевод был издан академией в количестве 600 экземпляров.
Ломоносов поручил Поповскому перевод философской поэмы английского поэта Александра Попа «Опыт о человеке». Поповский напряженно работал над ее переводом и в феврале 1754 года закончил его. Пересылая этот перевод Шувалову, Ломоносов писал:
182
«В нем нет ни единого стиха, который бы мною был поправлен». Считая, что выполненная работа свидетельствует не только о способностях, но и о научной и поэтической зрелости Поповского, Ломоносов писал: «Я весьма опасаюсь, чтобы его в закоснении не оставили. Он давно уже достоин произведения. Ныне есть место ректорское в гимназии... которое он весьма способно управлять может, зная латинской язык совершенно, и при том изрядно разумея греческой, французской и немецкой; а о искусстве в российском сей пример об нем свидетельствует... Ш[умахер] хотя кажет вид, что тоже хочет делать, однако отнюдь верить нельзя, и больше чаю, противное сделать намерен.»1.
Добиваясь назначения Поповского ректором академической гимназии, Ломоносов старался помочь своему ученику и единомышленнику и одновременно с тем поставить во главе гимназии человека, который смог бы вывести ее из тупика. Он снова и снова обращался с просьбами о том, чтобы Поповского поощрили «чином и жалованием» и «квартирою... чтобы он с хорошими людьми обращаясь, привык к пристойному обхождению»2. Его опасения были не напрасны, ему так и не удалось добиться ни напечатания в академии перевода «Опыта о человеке», ни назначения Поповского ректором гимназии.
Когда в сентябре 1752 г. было решено напечатать стихи Поповского и произнесенную им речь, то они были направлены на отзыв Тредиаковскому. Отзыв Тредиаковского содержал грубые выпады не только против Поповского, но и против Ломоносова. Тредиаковский писал о «погрешностях», которые повторяют постоянные «ошибки» Ломоносова в стихосложении3. Этот отзыв был использован тогдашним руководством академии для отказа от издания работы Поповского.
В 1754 году Ломоносов снова поднял вопрос о назначении Поповского ректором гимназии. «Дабы академическая гимназия была учительми нужными удовольствована, а от излишних освобождена, то должно определить ректором Николая Поповского, конректором Филиппа Яремского... Студентов достойных десяти человек из синодальных училищ требовать, дабы лекции могли скоро опять начаться», — писал он. Но и эта попытка не увенчалась успехом. Однако Ломоносову все же удалось добиться того, что в сентябре 1753 года Поповский был произведен в магистры. Он был первым русским магистром. Вскоре по настойчивым представлениям Ломоносова и Крашенинникова были произведены в магистры его однокурсники Барсов, Яремский и Константинов, а Румовский и Сафронов — в адъюнкты.
183

Титульный лист книги Поповского «Опыт о человеке»
Издание Московского университета в 1757 г., Библиотека им. Горького
184
Одновременно с этим Поповский был назначен помощником ректора гимназии (конректором). Кроме того, ему и другим магистрам было поручено переводить стихи и статьи академиков-иностранцев для академического журнала «Ежемесячные сочинения»1. Как Поповский справлялся с обязанностями переводчика и стихотворца, говорят его 12 стихотворений и од, написанные им к разным торжественным праздникам. Одно из них было написано Поповским с таким мастерством, что почти сто лет приписывалось Ломоносову и включалось в собрания его сочинений2. Обязанности конректора гимназии Поповский исполнял настолько добросовестно, что после его переезда в Москву академия не смогла найти ему достойной замены3.
Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба Поповского и его товарищей в Академии Наук. В конце 1753 года Крашенинников в одном из своих «доношений» отмечал, что «для тех, которые больше упражнялись в философии и гуманиорах (гуманитарных науках. — М. Б.), т. е. для Барсова, Яремского, Константинова, при университете места ныне нет», а в академии их не используют4. В июле 1754 г. все четверо первых магистров жаловались на крайнюю неопределенность своего положения в Академии Наук. Они указывали, что «за новостью нашего чина, в который мы первые из российского народа произведены, точного о том от канцелярии Академии Наук определения не имеется». Они просили назначить их членами «исторического собрания» и уравнять их в правах с адъюнктами академии. Они выражали надежду, что им, «как ныне Поповскому, учить кого-нибудь поручено будет»5. В «принуждении к переводам» Ломоносов справедливо видел стремление академической клики отстранить молодых русских ученых от научной и преподавательской деятельности. В этом плане весьма показательно «доношение» запрятанного в переводчики видного русского ученого и просветителя А. Поленова: «При произведении моем в переводчики велено мне по ордеру из канцелярии единственно упражняться в переводах... и как канцелярии небезизвестно переведено мною оных довольно, но по сие время валяются они еще неисправлены и так повидимому и труд и время терял я напрасно, да и впредь миновать сего, ежели только при
185
оном деле останусь, невозможно будет»1. В конце концов клика выжила Поленова из Академии Наук. Возможно, что такая же судьба ожидала Поповского и его товарищей, но в 1755 г. воспитанники Ломоносова были направлены в Москву для работы во вновь учрежденном университете. После 7 лет учебы и работы под руководством Ломоносова Поповский возвратился в Москву.
Менее пяти лет продолжалась деятельность Поповского в Московском университете, но она была богата и многообразна. Он вел преподавательскую работу в университете и гимназии, где он был ректором с первых дней ее существования. Ему были поручены старшие классы обеих гимназий, преподавание нача́л философии в гимназии, чтение лекций по философии и «красноречию» в университете. Ему, как «человеку, усердия университету исполненному», вверялось общее руководство студентами университета2.
Шувалов откладывал начало лекций до того времени, когда студенты будут в совершенстве знать латинский язык. Он приказывал директору Аргамакову: «Определенных на жалование школьников крайне стараться, чтоб их прилежно обучать латинскому языку... чтобы можно было через непродолжительное время сделать их способными к слушанию профессорских лекций, и начинать с божьею помощию Университет, который единственно за неимением знающих латинский язык ныне начаться не может» (Инструкция, § 11).
Профессора-иностранцы, работавшие в Академии Наук и в Московском университете, читали свои лекции на латинском, немецком и французском языках. В этих условиях не могло быть и речи ни о доступности университетского образования, ни о сколько-нибудь широком распространении знаний. Преподавание на латинском языке придавало науке и образованию замкнутый, кастовый характер.
Ломоносов и его последователи из Московского университета прекрасно знали латинский язык и понимали его значение. Они видели, что в современных им условиях без знания древних языков невозможно использовать накопленные до этого наукой материалы, невозможно следить за новейшими достижениями науки в других странах. Фонвизин в своих воспоминаниях рассказал, как его, тогда гимназиста Московского университета, подвели к человеку, «которого вид обратил на себя мое почтительное внимание. То был бессмертный Ломоносов! Он спросил меня: чему я учился? «По-латыни», отвечал я. Тут начал он говорить о пользе латинского языка с великим,
186
правду сказать, красноречием»1. Этот маленький пример ярко показывает, что Ломоносов и его соратники боролись не против латинского языка, а против стремления противопоставить латинский язык русскому, против использования его в качестве средства для удушения национальной культуры и науки. Ломоносову и другим представителям передовой русской культуры была чужда национальная ограниченность. Они с чувством глубокого уважения относились к культуре и науке других народов и своей работой показывали пример творческого освоения и использования открытий и теорий лучших представителей западноевропейской культуры и науки. Но одновременно с этим они видели, что реакционеры, засевшие в Академии Наук, пропагандировали клеветнические теории о неполноценности русского языка и его непригодности для научных исследований. От академических реакционеров не отставали и университетские. Они восстали против чтения лекций по философии на русском языке, утверждая, что это слишком облегчает учебу студентов, и прямо заявили, что считают «изучение латинского языка главной целью, для которой был основан университет»2.
Последователи и ученики Ломоносова рассматривали борьбу за преподавание на русском языке как часть борьбы за русскую национальную культуру и науку. Поэтому все свои занятия с первого дня существования университета они проводили на русском языке. Особенно важное значение имело чтение на русском языке лекций по философии, начатое Поповским летом 1755 года. Необходимо иметь в виду, что в это время философия в большинстве западноевропейских университетов читалась еще на латинском языке.
До нас дошла только одна вступительная лекция Поповского, но значение ее огромно3. Ломоносов высоко оценивал вступительную лекцию Поповского. Об этом убедительно говорит то, что он напечатал ее в академическом журнале «Ежемесячные сочинения», отредактировав и усилив ее материалистическую направленность4. Следует отметить, что лекция Поповского была первой печатной лекцией в истории высшего образования в России.
С самого начала на лекциях могли присутствовать все желающие. Привлечение широкого круга слушателей преследовали и «каталоги лекций», систематически издававшиеся университетом два
187
раза в год. В каталогах указывалось, кто из профессоров и на каком языке будет читать курсы, давалась их краткая аннотация и сообщалось, в какие дни и часы и в какой аудитории они будут происходить. Сохранившиеся материалы позволяют с уверенностью сказать, что лекции университета были публичными не только по названию1.
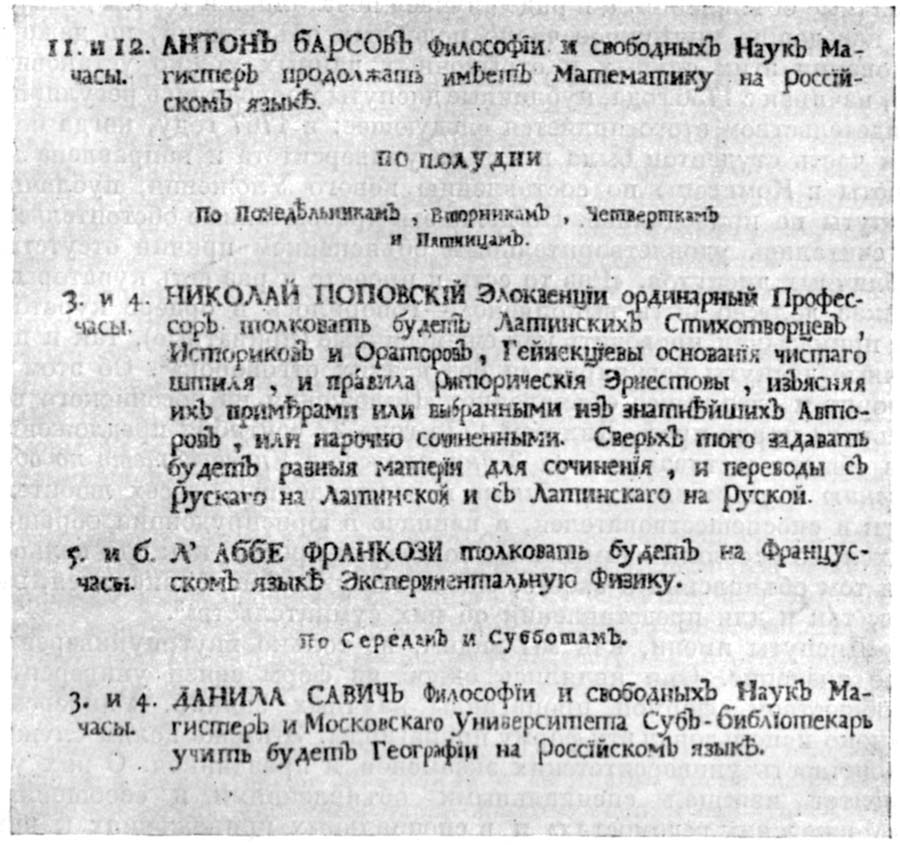
Из объявления о публичных лекциях в университете и гимназии на 1757 г.
В университете должны были проводиться «приватные» или внутренние диспуты. Своеобразным итогом этих «приватных» диспутов являлись предусмотренные дважды в году публичные диспуты. О них объявлялось в «Московских ведомостях», печатались специальные
188
объявления, а в ряде случаев печатались и тезисы диспута. До нас дошло ничтожное число подобных объявлений, но даже на основании этих скупых и отрывочных данных можно установить, что, начиная с 1756 года, публичные диспуты проводились регулярно1. Свидетельством этого является следующее: в 1767 году, когда большая часть студентов была взята из университета и направлена для работы в Комиссию по составлению нового Уложения, публичные диспуты не проводились. Но даже эти чрезвычайные обстоятельства не считались удовлетворительным объяснением причин отсутствия публичных диспутов. «Раз то есть в проекте и раз есть кураторский приказ должно быть выполнено», — говорилось в ордере куратора. Он приказывал проводить как ежемесячные (приватные), так и публичные диспуты регулярно «и без всяких отговорок»2. Об этом же говорит и следующее объявление: «Положения из российского вексельного права проф. Дилтеем 1775 года 23 сентября предложенные для общего состязания... за 3 дни прежде в Университете по обыкновению и узаконению прибитые к рассуждению... всех любителей наук и споспешествователей, а наипаче в юриспруденции обращающихся, со особливейшим нашем почтением просит, как для вольного при том объявления и своего, ежели кому за благо покажется, мнения, так и для представления об них сумнительств»3.
Диспуты имели, как мы видим, не только внутриуниверситетское значение. Они являлись одной из форм связи университета с обществом, формой пропаганды научных знаний. Университет широко использовал эту форму пропаганды. Этим же целям служила публичность университетских экзаменов и праздников. О них университет извещал специальными объявлениями и сообщениями в «Московских ведомостях» и в специальных приложениях к ним4.
Но безусловно наибольшее значение имели речи, произносившиеся передовыми профессорами на этих праздниках. Несмотря на то, что инструкция предписывала ораторам посвящать свои речи восхвалению «щедрот» императрицы и «покровителей» университета, несмотря на предварительную цензуру этих речей со стороны администрации
189
университета и профессорской конференции1, последователи Ломоносова сумели превратить кафедру торжественных заседаний в трибуну для пропаганды передовой науки, в трибуну для борьбы с реакцией в науке и в политике. Отведя несколько первых страниц своей речи неизбежным официальным похвалам, они переходили к изложению основной темы, не только ничего общего не имеющей с этими восхвалениями, но и прямо противоположной им.
Такое использование кафедры и торжественных речей передовыми учеными университета было прямым продолжением ломоносовских традиций. Ломоносов не только смело двигал науку вперед, но и стремился широко популяризировать ее достижения. Его величайшие открытия в области электричества, астрономии, геологии изложены им в публичных речах, произнесенных на заседаниях Академии Наук. Речи Ломоносова «О явлениях воздушных», «Явление Венеры на Солнце» и ряд других замечательны не только теми гениальными теориями, которые излагаются в них, но и изумительным мастерством популярного изложения этих теорий. До нас не дошли курсы лекций, читанные Д. Аничковым, С. Десницким, М. Афониным, С. Зыбелиным, но их публичные речи дают все основания говорить о их выдающемся вкладе в науку. Они подобно Ломоносову сумели преодолеть неизбежную ограниченность торжественных речей и превратить их в блестящее изложение достижений русской национальной науки и передовой общественной мысли2.
Представители русской общественности высоко оценили эти публичные лекции передовых ученых. «Московские ведомости», извещая о речах, часто добавляли о «великом числе собравшихся любителей наук», «немалом числе всякого звания любителей наук».
Но университет не ограничивался этим. Речи, произнесенные на торжественных собраниях, немедленно издавались типографией университета. Так как русские профессора произносили свои речи на русском языке, то читатели получали на родном языке издание публичных речей тотчас после их произнесения в Московском университете. Представители прогрессивного направления стремились еще более расширить пропаганду достижений русской науки. Они
190
выступили с предложением о переводе речи Десницкого и речей других русских профессоров на латинский язык для посылки их за границу и обмена на соответствующие издания этих стран. Это предложение не было осуществлено лишь потому, что на него не дал разрешения куратор Адодуров. Он заявил, что перевод, печатание и пересылка могут привести к «напрасному убытку казне, который возвратить и взыскивать будет не с кого и потому как в соблюдение казенного интереса так и для других не безосновательных причин перевод таких речей и высылку оных на казенный кошт в чужие государства почитает он за ненужные и к пользе университета не служащие»1.
Так ордером чиновника, думавшего только о том, что не с кого будет взыскать возможный убыток, и утверждавшего, что книги русских профессоров не могут рассчитывать на спрос за границей, было сорвано это важное мероприятие.
Естественно, что содержание и направление многих речей никак не могло нравиться чиновникам, управлявшим университетом. Особое их недовольство вызывало, если подобная речь произносилась и тем более появлялась в печати без цензурных купюр. Уже говорилось о задержке Шуваловым речи Поповского, посвященной памяти Аргамакова. 3 мая 1768 г. директор университета Херасков писал в своем «ордере»: «Потому, что в последних речах, говоренных... 22 апреля 1768 года оказались многие сумнительства и дерзновенные выражения... и оные речи по причине моей болезни без моего рассмотрения и напечатаны; Того ради сим предлагаю Университетской конференции дабы впредь в отвращение подобных непорядков всякие речи приготовляемые для публичного чтения, вносимы были в общее собрание университетской конференции; где бы они прочтены и рассмотрены дабы не вышло чего противного благопристойности и кем подлежит подписаны и конфирмованы были, а потом уж печатать»2. Можно только удивляться, как вопреки этим крайне неблагоприятным условиям ученики и последователи Ломоносова все же проводили пропаганду передовых научных и общественно-политических идей.
Читая на русском языке курс философии, Поповский шел по пути, проложенному Ломоносовым, автором написанных по-русски «Риторики» и «Экспериментальной физики», который физику и химию читал на родном языке и только что закончил работу над «Российской грамматикой». В своей лекции Поповский зло высмеивал всех, кто утверждал, что философию можно изучать только на латинском
191
языке, и раскрывал всю реакционность этого утверждения. Он показывал, что основную трудность в изучении философии создает то, что до этого необходимо «пять или больше лет употребить на изучение латинского языка... Но напрасно мы думаем, будто ей (философии. — М. Б.) столь много латинский язык понравился. Я чаю, что ей умерших и в прах обратившихся уже римлян разговор довольно наскучил. Она весьма соболезнует, что при первом свидании никто полезнейшими ее советами наслаждаться не может. Дети ее — арифметика, геометрия, механика, астрономия и прочие — с народами разных языков разговаривают, а мать... ни одного языка не научилась! ...Мы причиняем ей великий стыд и обиду, когда думаем, будто она своих мыслей ни на каком языке истолковать, кроме латинского, не может», — утверждал Поповский1. Он дал решительный отпор придворным, поддерживающим эти реакционные теории. «Начнем философию не так, чтобы разумел только один изо всей России, или несколько человек, — говорил он, — но так, чтобы каждый, российский язык разумеющий, мог удобно ею пользоваться». Пламенным патриотизмом и безграничной верой в силу и могущество русского народа исполнено утверждение Поповского: «Что ж касается до изобилия российского языка, в том перед нами римляне похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было невозможно»2.
Если Ломоносов первым в России начал читать на русском языке лекции по физике и химии, то Поповский начал преподавание на русском языке философии, Аничков и Барсов — математики, Десницкий и Третьяков — юридических наук, Зыбелин, Вениаминов, Афонин — медицины, ботаники, минералогии, агрономии.
Чтение лекций на русском языке завоевывалось передовыми учеными университета в борьбе с администрацией и профессорами-реакционерами, которые не только сами читали лекции на латинском либо на одном из иностранных языков, но заставляли делать это русских профессоров. Поповский, начавший курс философии на русском языке, был вынужден передать его Фромману. Не увенчались успехами и его попытки добиться для Яремского разрешения читать философию на русском языке параллельно с курсом Фроммана3.
В 60-х годах эта борьба разгорелась с новой силой. Выращенные университетом молодые русские ученые энергично отстаивали требование Ломоносова и Поповского. Иван Третьяков в публичной речи, произнесенной 22 апреля 1768 года, связывал развитие национальной
192
культуры, доступность образования и его распространение с преподаванием на русском языке.
Прямую поддержку в этом вопросе оказывала реакционерам администрация университета. Особенно рьяно реакционную политику проводил куратор Адодуров, мечтавший насадить в Московском университете те же порядки, какие были в академии. Он прямо запрещал чтение лекций на русском языке. В ответ на просьбу Десницкого и Третьякова разрешить им чтение лекций по всеобщему и русскому праву на русском языке, Адодуров писал: «Оные лекции иметь им на латинском языке, ровно как и прочие господа профессоры оные имеют, дабы не токмо они в том языке час от часу большую могли получать способность, но и прочие господа профессоры удобнее о пользе и исправности оных рассуждать могли. В рассуждении ж слушателей тем менее в том может быть затруднения, что они все почитаются в латинском языке уже довольное знание имеющими»1. Лишь после долгих мытарств с помощью директора Хераскова, поддержавшего их просьбу, Десницкий и Третьяков добились разрешения Екатерины II начать чтение лекций на русском языке2.
Об этом университет объявлял: «С сего 1768 г. в императорском Московском Университете, для лучшего распространения в России, наук, начались лекции во всех трех факультетах природными россиянами на российском языке, любители наук могут в те дни и часы слушать, которые оным в лекционном каталоге назначены»3.
Замечательно, что уже в первой своей лекции Поповский выступил продолжателем Ломоносова в области создания русской научной терминологии. В предисловии к «Вольфианской экспериментальной физике» Ломоносов писал: «Принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем через употребление знакомее будут»4. Ту работу, которую Ломоносов проделывал в области естественных наук, Поповский продолжал в отношении философии. Он стремился, чтобы философские понятия и категории соответствовали реальному содержанию, и в своей лекции точно определил пути выработки русской философской терминологии. «Что ж до особливых надлежащих к философии слов, называемых терминами, в тех нам нечего сумневаться. Римляне по своей силе слова греческие, у коих взяли философию, переводили по-римски,
193
а коих не могли, те просто оставляли. По примеру их то ж и мы учинить можем». Поповский считал, что большинство терминов можно перевести на русский язык, отдельные же общепринятые и трудно переводимые термины можно взять латинские: «...оставя грамматическое рассмотрение, будем только толковать их знаменование и силу»1. История русской философии подтвердила, что в этом отношении Поповский стоял на совершенно правильном пути.
И во время учебы в Академии Наук, и во время своей деятельности в Московском университете Поповский активно поддерживал Ломоносова в его борьбе за чистоту и развитие общенародного русского языка. В одном из своих стихотворных произведений он дал яркую картину развития языка и подчеркнул, что подлинным творцом языка является народ:
Не меньше же и в том опасну должно быть,
чтоб смысла новыми словами не затмить,
но если свяжешь их с другими так рассудно,
что силу их узнать читателю не трудно,
иль нужда позовет дать новое совсем
название вещам незнаемым никем...
Как наши прадеды сносили терпеливно,
так никому и впредь не будет то противно,
что новую кто речь в стихах употребит,
которую народ давно уже твердит.
Как лист на деревах по всяку осень вянет,
так честь старинных слов со временем престанет.
На место их опять другие возрастут.
...Иные после нас везде возобновятся,
что в наши времена и слышать все стыдятся,
иные напротив народу будут смех,
которые теперь в почтении у всех.
Слова подвержены одной народной власти,
который по своей располагая страсти,
одни приемлет в речь, другие гонит вон,
употребление считая за закон2.
Стиль Поповского получил высокую оценку не только у современников, но и в XIX веке. «Стихотворство его чисто и плавно, а изображения просты, ясны, приятны и превосходны», — отмечал
194
Новиков. Биограф Поповского указывал: «Если ораторский слог Ломоносова был образцом силы и великолепия, то философский язык Поповского мог служить примером ясности и чистоты»1.
Вместе с Поповским над изучением русского языка много работал и второй ученик Ломоносова — А. А. Барсов. Целиком на преподавание языка и литературы он перешел в 1760 г. после смерти Поповского. Барсов и Поповский первыми начали в университете изучение русской литературы. Вот что, например, говорилось в одном из «каталогов» университета о лекциях Барсова: «Кратко повторяя грамматику Российскую, преподавать будет риторику и приобщая к ней краткие наставления поэзии российской и латинской с примерами особливо из Горация, из Ломоносова и из других российских стихотворцев взятыми». «В российском же языке во-первых будет следовать Ломоносову и его за образец предлагать; хотя и других при том российских писателей употреблять не оставит»2. Барсов впервые в России издал собрание русских пословиц и поговорок3. Одновременно с этим он много работал над вопросами грамматики, уделяя особое внимание тем разделам, которые остались неразработанными или мало разработанными в «Грамматике» Ломоносова. Уже в первые годы работы в университете он составил «Азбуку» (учебник по русскому языку для начальной школы), которая неоднократно издавалась университетом и являлась основным учебником в «русской школе» гимназии. В конце 70-х гг. встал вопрос о создании сети общеобразовательных школ в стране и для этой цели правительством была создана специальная «Комиссия о народных училищах». Эта комиссия обратилась к Барсову, как к человеку, «в слове российском много упражнявшемуся, и более прочих себя в нем оказавшему», с просьбой о составлении новой русской грамматики4. 6 лет Барсов напряженно работал над грамматикой. Он не раз горько жаловался, что ему мешают работать «трутни» из университетской канцелярии, приносившие, как он писал, много вреда университету. Свою грамматику Барсов предназначал в первую очередь для учителей и ученых, работающих в области языкознания. В основных положениях своей грамматики Барсов шел за Ломоносовым и творчески развивал его идеи.
195
В своих работах по истории языкознания академики Виноградов и Обнорский отмечают важное значение грамматики Барсова, ее самостоятельный, творческий характер, наличие в ней серьезной разработки раздела о глаголах, интересных наблюдений и выводов о фонетических явлениях и синтаксических процессах. Комиссию, возглавляемую графом Завадовским, который был известен своими реакционными взглядами, испугали не столько значительные размеры барсовской грамматики, сколько смелые нововведения, которые она предлагала, стремясь сблизить правописание с живым языком народа. Барсов вводил в грамматику и особенно в приводимые им грамматические примеры разговорный язык и предлагал уничтожить буквы «ять», «фита», отбросить твердый знак в конце слова после согласных и т. д.
Отказавшись издавать грамматику Барсова, комиссия отказала в этом и Н. И. Новикову, который хотел издать ее в своей типографии. Но и оставшаяся неизданной грамматика Барсова была использована Российской академией в конце XVIII века, во время работы по составлению грамматики русского языка.
В своих языковедческих трудах Барсов показывал богатство и безграничные возможности русского языка. Когда анонимный автор, прикрывшийся весьма характерным псевдонимом «англомана», выступил в печати с заявлением, что русский язык беден и недостаточно гибок по сравнению с английским, Барсов страстно защищал русский язык и энергично протестовал против «порабощенного подражания чужим примерам»1.
Барсов был одним из инициаторов создания и бессменным руководителем Вольного Российского Собрания при Московском университете. Это общество ставило своей задачей «распространение наук для пользы отечества», «исправление и очищение российского слова», обследование архивов, публикацию исторических и литературных памятников, наиболее интересных судебных дел. В изданных в 1774—1783 гг. 6 томах «Опытов трудов Вольного Российского Собрания» было опубликовано значительное количество работ по истории и филологии, а также ряд исторических и литературных памятников. Но главной своей целью Общество считало работу по составлению первого словаря русского языка. В этом направлении им была проведена большая подготовительная работа. Когда была создана Российская академия, основной задачей которой являлось составление словаря русского языка, Вольное Российское Собрание превратилось в своеобразный московский филиал академии.
196
Оно координировало работу всех членов академии, находившихся в Москве, давало поручения, обсуждало спорные вопросы и т. д. Ряд профессоров университета был избран членами академии и принимал самое активное участие в ее работе. Характерно, что в этой работе принимали участие не только словесники, но и представители других наук (Десницкий, Зыбелин и др.). Московский университет привлек к работе над словарем не только профессуру, но и студентов, о чем особенно заботился А. Барсов. Возглавлявший в академии работу по составлению словаря выдающийся ученый и путешественник И. И. Лепехин поддерживал с Московским университетом тесную связь и получал от него постоянную помощь1.
Но большая положительная роль Барсова в разработке вопросов русского языка не должна закрывать и отрицательных сторон его деятельности. Его философские и общественно-политические взгляды были значительным шагом назад по сравнению с материалистическими и демократическими взглядами Ломоносова. Это нашло свое выражение в том, что Барсов присоединился к реакционерам, требовавшим осуждения материалистической диссертации Аничкова; в том, что он в своих речах выступал защитником монархии и религии. Отдавая все свои силы и время университету и деятельно помогая Н. И. Новикову в его просветительском книгоиздательском деле, Барсов был крайне непоследователен. Это часто сближало его, особенно в 80—90-х гг., с представителями монархического, дворянского направления в Московском университете (Мелиссино, Херасковым и др.). Эта непоследовательность Барсова сказалась, хотя и в меньшей степени, и в области языкознания. Так, руководимое им Вольное Российское Собрание выпустило «Церковный словарь» Петра Алексеева и «добавления» к нему. Этот словарь отражал стремление церковников превратить в основу литературного русского языка не живой язык народа, а мертвую церковнославянскую книжную речь, что находилось в явном противоречии со всем ходом развития русского языка и было явно реакционным.
В отличие от Барсова деятельность Поповского отличалась материалистической направленностью. В эпоху господства метафизики и эмпиризма Поповский требовал философского осмысления наблюдений и накопленных наукой материалов. Следуя за Ломоносовым, он правильно определял место философии среди других наук и ее значение. «От нее зависят все познания; она мать всех наук и художеств. Кратко сказать, кто посредственное старание приложит к познанию философии, тот довольное понятие, по крайней мере довольную
197
способность, приобрящет и к прочим наукам и художествам. Хотя она в частные и подробные всех вещей рассуждения не вступает, однако главнейшие и самые общие правила, правильное и необманчивое познание натуры, строгое доказательство каждой истины, разделение правды от неправды от нее одной зависят»1. Поповский сравнивал философию с архитектором, который, «не вмешиваясь в подробное сложение каждой части здания», определяет размеры здания, его положение, отношения частей и указывает место и задачи строителям и мастерам. Считая, что наука может успешно развиваться только на основе философского метода, Поповский выражал твердую веру в безграничную силу человеческого разума: «Нет ничего в натуре толь великого и пространного, до чего бы она (философия. — М. Б.) своими проницательными рассуждениями не касалась. Все, что ни есть под солнцем, ее суду и рассмотрению подвержено; все внешние и нижние, явные и сокровенные созданий роды лежат перед ее глазами»2. Рассуждения Поповского показывают, что он материалистически решал основной вопрос философии, считая природу источником всех философских и иных идей. Правильно определяя место философии среди других наук и указывая на тесную связь наук между собой, Поповский тем энергичнее выступал за преподавание философии на русском языке, чтобы «всяк мог требовать ее совета». В противовес презрительному отношению к русскому народу со стороны «ученых»-иностранцев и неверию в творческие силы русского народа со стороны аристократов Поповский говорил о «простых русских людях», которые, «не слыхавши и об имени латинского языка, одним естественным разумом толь изрядно и благоразумно о вещах рассуждают, что сами латинщики с почтением им удивляются»3.
Поповский активно поддерживал Ломоносова в его борьбе с антинаучными средневековыми теориями о строении вселенной. В своей лекции по философии он смело выступил в защиту системы Коперника. Это тесно связано со всем его мировоззрением. Уже говорилось, что еще в 1754 году он по указанию и под руководством Ломоносова перевел поэму «Опыт о человеке». Когда духовная цензура изуродовала его перевод, Поповский напечатал измененные стихи другим шрифтом, предупреждая читателя о том, что они принадлежат не ему. Отстаивая свою правоту, Поповский писал в предисловии: «А как материя сия нежная, то может найтись кому-нибудь нечто и сомнительное, в рассуждении нашей религии; в чем однако справедливый читатель меня извинит, для двух причин: первая,
198
что я не богослов, и потому простительно мне будет, если где не мог усмотреть несходства с нашей религией; второе, что я не критиком был, но переводчиком; следовательно, хотя бы и усмотрел нечто противное, однако поправлять не имел никакого права... По крайней мере мое намерение услужить обществу сею книжкою, не весьма, как кажется бесполезною, должно быть освобождено от всякого нарекания...»1, — решительно заявлял он в заключение. Перевод Поповского, в котором он продолжал традиции соединения науки и поэзии, получившие в русской литературе такое яркое выражение в творчестве Ломоносова, был высоко оценен современниками. Он вышел большим для того времени тиражом — в 1200 экземпляров и выдержал еще четыре издания2. В своем словаре Н. И. Новиков дал высокую оценку работе Поповского и искусству его перевода. Хорошо отзывался о нем и Д. И. Фонвизин3.
Лекции и другие произведения Поповского пронизаны пламенным патриотизмом. Обращаясь к своим слушателям, Поповский показывал им, какая важная и благородная задача стоит перед ними. «Уверьте свет, что Россия больше за поздным начатием учения, нежели за бессилием, в число просвещенных народов войти не успела... на вас обратила очи свои Россия; от вас ожидает того плода, которого от сего университета надеется... покажите, что вы того достойны, чтоб через вас Россия прославления своего во всем свете надеялась»4. Эти же патриотические положения Поповский развивал и в своей речи к первой годовщине университета. Он призывал «российских детей» отдать все свои силы овладению знаниями и высказывал твердую уверенность, что Московский университет с честью выполнит свой долг в деле развития русской национальной культуры и науки. Поповский утверждал, что недалеко то время, когда из русских гимназий и университетов выйдут люди, «ко всякому званию, ко всякой должности способные, понятные и искусные», которым всякое дело поверить и поручить можно, когда отпадет всякая необходимость приглашения иностранных специалистов и «все что надобно к пользе или славе» будет в избытке в нашей стране5.
Как истинный гуманист и просветитель Поповский считал, что славу и бессмертие историческим деятелям обеспечивают только те
199
их дела, которые приносят пользу всему народу. Он называл бессмысленной постройку пирамид, так как они обрекли на мучительный труд тысячи людей и этим обесценили славу их создателей. На примере Юлия Цезаря он показывал, что истинной славы нельзя завоевать силой и «тиранством»:
Скажу про Юлия, что в Риме он тиран,
Что вольность он теснит неправедно граждан,
Но меч в его руке обуздывает слово,
Отцом его признать все общество готово...
Но только слух прошел, что отчества отец
Достойный получил делам своим конец...
Уж отчества отца тираном стали звать,
Доброты прежние пороками считать.
С гневом говорил он о «славе завоевателя», который
Чрез раны, через кровь, чрез кучи бледных тел,
Развалины градов, сквозь дым сожженных сел,
Отверз себе мечем путь к вечности кровавый
И с пагубой других достиг бессмертной славы;
Но плач и вопль сирот и стон оставших жен,
Родителей печаль и треск упадших стен
Гремящую трубу их славы заглушает...1.
Не обагренная кровью слава завоевателя, а мир — «возлюбленный покой и надежнейшая тишина» — вот, что нужно народу, заявлял Поповский. Весьма показательны слова, сказанные им почти двести лет тому назад: «Пускай другие ищут бессмертия в завоевании новых земель, в обагрении полей человеческой кровью, в воинской славе и победах; пусть приобучают народ свой к свирепству, бесчеловечию и убийствам». «Мы в том общую пользу империи полагаем, — писал Поповский, — чтобы душевные его (человека. — М. Б.) силы, свойства и дарования возбудить, увеличить и украсить»2. Он требовал от правительства распространения образования и указывал, что это одна из самых главных его обязанностей. История будет судить государей, утверждал Поповский, по тому, что они сделали для народа, для его просвещения, для распространения наук и образования в стране. Он выступал страстным пропагандистом науки и образования.
200
«Учение есть старости жезл, юным увеселение, утверждение в счастьи, в несчастьи отрада»1.
Патриотизм Поповского был неразрывно связан с высоким чувством долга. В противовес профессорам, крайне халатно относившимся к своим обязанностям, а зачастую прямо срывавшим дело воспитания и обучения русского юношества, Поповский требовал добросовестного отношения к своим обязанностям. «Что касается до трудности сего учения, то я всю тяжесть на себя принимаю; ежели же снесть его буду я не в состоянии, то лучше желаю обезсилен быть сею должностию, нежели оставить вас без удовольствия»2. Поповский требовал такого же отношения к работе и от других. Когда бездельник и псевдоученый Дилтей, отстраненный от руководства гимназией, выступил на публичном собрании с отчетом о своей «работе», Поповский, чтобы подчеркнуть безделье Дилтея, ответил ему речью: «Сколь многотрудна должность учащих, если ее исполнять по надлежащему». Через несколько месяцев он отказался подписать аттестацию Дилтею и потребовал его устранения из университета3.
Поповский твердо верил в силу русских профессоров и преподавателей и в возможности русских студентов и гимназистов. «Если будет ваша охота и прилежание, — обращался он к ним, — то вы скоро можете показать, что и вам от природы даны умы такие ж, какие и тем, которыми целые народы хвалятся»4.
Первыми книгами, напечатанными в типографии Московского университета, было двухтомное собрание сочинений Ломоносова и «Опыт о человеке» Поповского. В отличие от издания Академии Наук в сочинения Ломоносова были включены не только его поэтические произведения, но и ряд его публичных речей на научные темы. Кроме того, в университетском издании была впервые опубликована знаменитая статья «О пользе книг церковных», содержавшая изложение теории «трех стилей». Впервые в истории русской литературы к сочинениям русского автора был приложен его портрет. В помещенной под портретом стихотворной подписи Поповский дал первую печатную оценку заслуг Ломоносова перед русским народом и его культурой:
Московский здесь Парнас изобразил витию,
Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию.
201
Что в Риме Цицерон и что Виргилий был,
То он один в своем понятии вместил.
Открыл натуры храм богатым словом Россов;
Пример их остроты в науках Ломоносов1.
Следует отметить, что до этого стихотворные надписи были обращены только к портретам королей и полководцев, к статуям богов и героев античности. Л. Б. Модзалевский правильно показал, что Поповский первый использовал стихотворную надпись, чтобы отметить выдающиеся заслуги перед родиной крестьянского сына Ломоносова. Активно поддерживая Ломоносова в его борьбе за передовые принципы в литературе и эстетике, за насыщение поэзии общественным содержанием, Поповский еще в период своей учебы в академии в 1753 г. выступил против придворного писаки Елагина:
Парнасского певца для бога не замай,
Стократ умней тебя — его не задевай, —
писал Поповский в ответ на выпады Елагина против Ломоносова2. Активное участие принял Поповский и в полемике, разгоревшейся вокруг «Гимна бороде».
Выход в свет сочинений Ломоносова с его портретом и стихотворной надписью Поповского был встречен крайне враждебно литературными его противниками. Весьма показательны в этом отношении действия Сумарокова, написавшего пародию на надпись Поповского и пытавшегося ее опубликовать в печати. Его письмо по этому поводу к Шувалову полно самых резких выпадов как против Ломоносова, так и против Поповского и возглавляемого им литературного общества при университете3. Причина этого отнюдь не в личных отношениях Ломоносова и Сумарокова, а в различии их общественных и эстетических принципов. Сумароков, сыгравший значительную роль в развитии русской литературы, русской драматургии, в частности, их сатирического направления, был идеологом дворянства и отстаивал незыблемость существовавшего тогда общественного строя. Поэтому его выступления против Ломоносова по вопросам литературы в действительности являлись защитой и пропагандой
202
дворянского содержания литературы в противовес общенациональному демократическому направлению произведений великого ученого. В этом и была причина таких резких выпадов Сумарокова против Ломоносова и его последователей, против Поповского, развивавшего ломоносовские традиции в университете. Именно трудами Поповского и его товарищей Московский университет был превращен в своего рода литературный центр — «Московский Парнас», от имени которого Поповский писал надпись к портрету Ломоносова и от имени которого он говорил об объединении «Московских» и «Невских» муз, о значении Москвы как исторического центра русской национальной культуры1. Ломоносов горячо приветствовал создание «Московского Парнаса». «Как не быть ныне Виргилиям и Горациям?.. Великая Москва, ободренная пением нового Парнаса, веселится своим сим украшением и показывает оное всем городам российским как вечный залог усердия к отечеству...»2, — писал он.
Московский университет издавал целую серию литературных журналов: «Полезное увеселение», «Свободные часы», «Невинное упражнение», «Доброе намерение». Хотя эти журналы по своим общественно-политическим позициям и были крайне умеренны и не выходили за рамки нравоучительной сатиры Сумарокова и Хераскова, их появление было важным свидетельством развития русской литературы и журналистики. Журналы, издававшиеся Московским университетом в начале 60-х гг., в какой-то степени подготовили новый этап в развитии русской журналистики, связанный с возникновением сатирических журналов конца 60-х годов и в первую очередь с сатирическими и антикрепостническими журналами Н. И. Новикова «Трутень» и «Живописец», которым принадлежит видная роль в развитии русской освободительной общественно-политической мысли, в развитии русской передовой культуры. Следует отметить, что значительная часть издателей этих журналов получила воспитание в стенах Московского университета (Новиков, Чулков, Рубан, Фонвизин).
Важную роль играла и книгоиздательская деятельность университета. В университете неоднократно издавались работы Ломоносова, Поповского, Татищева, Феофана Прокоповича и других деятелей русской культуры. Был издан ряд книг по истории и географии родины. Систематически печатались речи Десницкого, Аничкова, Третьякова, Зыбелина, Вениаминова, Афонина и других. Все это являлось результатом деятельности «Московского Парнаса», созданного
203
учениками Ломоносова Поповским и Барсовым. Совершенно не случайно Дм. Аничков в одной из своих речей, почти дословно повторяя Ломоносова, говорил: «Москва доселе ревновала, смотря на муз в Петровом граде процветающих; но ныне ободренная пением Нового Парнаса, красуется собою, и к музам в оном обитающим вещает приятно: здесь вы, мудрые музы, обитайте; здесь для вас будут спокойные часы; настали ваши блаженные времена... Коль славный предлежит вам труд! Вы к моей древности присутствием своим придадите красоты, а ваши труды не пропадут втуне»1.
Поповский принимал активное участие в создании и издании первой московской газеты «Московские ведомости», издававшейся университетом с 1756 года. Он много писал и переводил, вел деятельную подготовку к изданию в Москве литературного журнала2.
Незадолго до смерти Поповский завершил перевод двухтомной работы Локка о воспитании детей. Пропагандируя прогрессивные принципы воспитания, он в предисловии к переводу обращал внимание читателей на недопустимость механического применения теорий Локка в русских условиях. Поповский подчеркивал, что главной целью школы является воспитание гражданина, полезного члена общества. Характерно, что, в отличие от Локка, писавшего свою книгу для английских аристократов, Поповский особое внимание обращал на то, что может быть использовано «простым народом»3.
Следует отметить, что Поповский энергично поддерживал требование Локка о запрещении телесных наказаний. Университетская конференция стояла на тех же позициях. Когда в 1765 году Барсов установил, что один из учителей нарушил это запрещение, конференция потребовала немедленно удалить его из университета или сделать ему последнее предупреждение и оштрафовать в размере полугодового жалования. Лишь вмешательство Адодурова, увидевшего в этом покушение на основы крепостнического строя, помешало осуществлению решения профессоров4.
Крупную роль сыграл Поповский и в воспитании деятелей русской культуры и науки. Достаточно сказать, что в числе его учеников и слушателей были Фонвизин, Аничков, Новиков, Десницкий, Чулков и др. Они слушали лекции и речи Поповского, участвовали в диспутах под его руководством и были на его стороне в той борьбе,
204
которую он вел против врагов культурного и научного развития России.
Самоотверженная, патриотическая деятельность Поповского в Московском университете встречала сопротивление реакционеров. У него отняли курс философии и передали его иностранцу Фромману, восстановившему чтение лекций на латинском языке и отстаивавшему идеалистические взгляды. На него клеветали, изводили мелкими придирками, срывали проведение его предложений, направленных на укрепление демократических, прогрессивных тенденций в работе университета1. Это подорвало и без того слабое здоровье Поповского (он, очевидно, был болен туберкулезом), и 13 февраля 1760 года в расцвете своих творческих сил Поповский умер2. Его смерть была тяжелой утратой не только для Московского университета, но и для всей русской культуры.
Очень показательно, что Ломоносов, подводя итог своей деятельности в обширной «Росписи сочинениям и другим трудам», из всех своих учеников называет лишь Поповского. «Читал лекции стихотворческие, и по оным обучился поэзии студент Поповский, который после того был профессором красноречия в Московском университете»,3 — писал он. Уже упоминание его имени в законченной незадолго до смерти записи указывает, как высоко ценил Ломоносов заслуги Поповского перед русской национальной культурой и наукой.
Современники и потомки также высоко ценили деятельность Поповского. Многократно переиздавались его произведения: «Опыт о человеке», переводы Локка, Горация. В первых номерах издававшегося Московским университетом в 1760—1762 годах литературного еженедельника «Полезное увеселение» были напечатаны его уцелевшие переводы из Горация и двух французских стихотворений «О добродетели» и «О человеке»4. Особую роль в популяризации творчества Поповского и его идей сыграл замечательный русский просветитель Николай Новиков. Он заботливо собирал сведения о жизни и творчестве Поповского и составил первую его биографию. В 1772 году, через 12 лет после смерти Поповского, он в своем журнале «Живописец» рядом со знаменитым «Отрывком из путешествия в*** И***
205
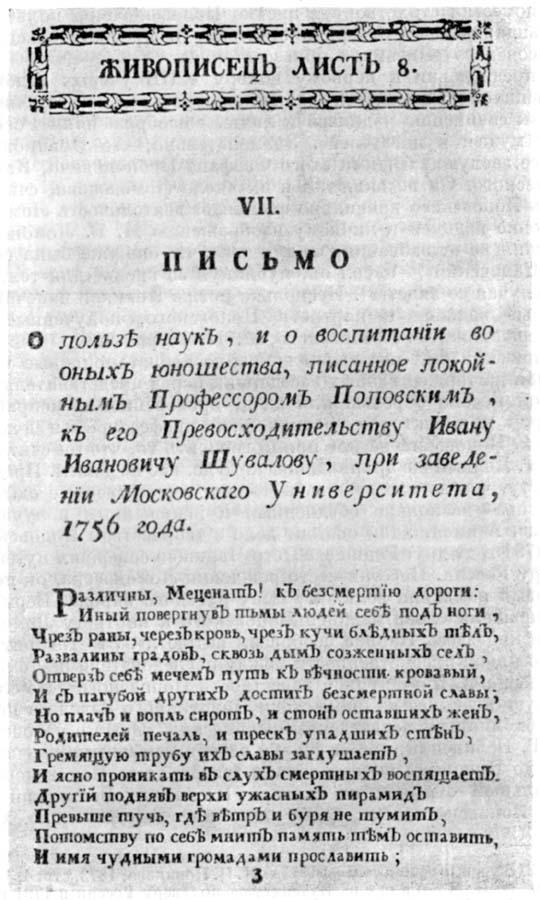
«Письмо о пользе наук» Поповского, «Живописец», 1772, № 8
Библиотека им. Горького
206
T***» поместил стихотворное письмо Поповского «О пользе наук», пропагандировавшее материалистические и просветительские идеи ломоносовского «Письма о пользе стекла».
В предисловии к первому номеру «СПБ ученых ведомостей», издававшихся им в 1777 году, Новиков обратился к читателям с призывом «к сочинению надписей к личным изображениям Российских ученых мужей и писателей». Знаменательно, что Новиков считал наиболее заслуживающими этого Феофана Прокоповича, Кантемира и Поповского. Он не включил в их число Ломоносова, считая, что надпись Поповского правильно оценивает деятельность Ломоносова: «Сочинение надписи к личному изображению М. В. Ломоносова не предложил не от забвения, но для того, что она уже была сочинена Н. Н. Поповским», — писал он, публикуя ее вновь «для тех, кои не имели случая ее видеть»1. Несколько позже Новиков напечатал стихотворные надписи к портрету Поповского, полученные им от Г. Р. Державина, Ф. Козловского, М. Н. Муравьева.
Поповский был поставлен в крайне неблагоприятные условия. Выступая на торжественных заседаниях перед представителями официальной России с речью или одой, проверенной и исправленной куратором и директором, реакционной профессурой и духовными властями, Поповский не мог прямо говорить то, что он считал необходимым. Личный же архив Поповского до нас не дошел. Представим на минуту, что до нас дошли бы только торжественные оды и речи Ломоносова — насколько обедненным и искаженным получился бы его образ. А именно так обстоит дело с творчеством Поповского.
В 1791 году друг Радищева Петр Челищев совершил путешествие по северу России. Посетив место рождения Ломоносова, он поставил там первый памятник великому сыну русского народа. Верх памятника украшали слова надписи Поповского к портрету Ломоносова: «Московский здесь Парнас изобразил витию...». Это говорит о многом — и о явной преемственности между последователями Ломоносова и радищевцами, и о широкой известности Поповского2. Не случайно А. С. Пушкин вывез из библиотеки Полотняного Завода и поместил в свою библиотеку переведенный Поповским «Опыт о человеке»3.
В. Г. Белинский, характеризуя историю развития русской литературы до Пушкина, высоко оценил деятельность Поповского. Приведя большой отрывок из словаря Новикова, Белинский писал: «Стихи Поповского, по своему времени, действительно хороши,
207
а недовольство его несовершенством трудов своих еще более обнаруживает в нем человека с дарованием. Замечательно, что многие места переведенного им «Опыта» были не пропущены тогдашнею цензурою»1.
Московский университет всегда гордился своим первым профессором. Его лекцией по философии и речью в день первой годовщины университета он открыл четырехтомное издание речей русских профессоров. Отмечая выдающуюся речь Поповского в истории русской литературы и просвещения, автор предисловия подчеркивал, что своей славой он, как и другие профессора университета, обязан «не происхождению и случаю, а неустанным трудам своим», которые проходили в непрерывной борьбе с «бедностью и унижением».
В XIX веке дворянские буржуазные историки и литературоведы замалчивали и фальсифицировали прогрессивное направление деятельности Поповского. Лишь в советское время ученый, философ, поэт, патриот Поповский по праву занял достойное место в ряду представителей русской передовой культуры и науки середины XVIII века. Верой в силу человеческого разума, жизнеутверждающим оптимизмом было воодушевлено все творчество Поповского, патриота, гуманиста и просветителя. Ему, как и многим его современникам, оказалось не под силу выйти из рамок, которые были ему поставлены эпохой. Но по своему содержанию вся его деятельность и творчество были протестом против того положения, в котором находился русский народ в условиях господства самодержавно-крепостнического строя. Нельзя забывать, что Поповский умер в 1760 году — еще при жизни Ломоносова, почти за десятилетие до появления сатирических, просветительских журналов Новикова и задолго до крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева, появления радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и французской революции.
Московский университет имеет все основания гордиться тем, что уже в первые годы своего существования он стал центром пропаганды передовых материалистических и демократических идей и теорий. Важную роль в этом сыграл первый профессор университета, ученик и соратник Ломоносова Николай Поповский.
*****
Мы проследили, как в течение второй половины 1754 и первых месяцев 1755 года была проведена и завершена подготовка к открытию университета в Москве.
208
Был составлен и утвержден проект и «штат» университета, подготовлено здание, подобран состав преподавателей, создана база для научной и учебной работы, осуществлен набор студентов и гимназистов.
В значительной степени именно Ломоносову университет обязан тем, что при решении каждой из этих задач в нем были созданы условия для развития демократического, прогрессивного направления в русской культуре и науке.
К весне 1755 года все приготовления были закончены. 26 апреля (7 мая) 1755 года состоялось торжественное открытие университета. По причинам, о которых говорилось выше, Ломоносова не пустили из Петербурга на открытие университета, и он в этот день произносил в Академии Наук известное «Похвальное слово Петру Великому», проникнутое гордостью за героическое прошлое народа, верой в его неиссякаемые силы и уверенностью в славном будущем великого народа. Университет открылся речами двух учеников Ломоносова — Поповского и Барсова. Но точнее говоря, в этот день был открыт не сам университет, а университетская гимназия. Об этом единодушно говорят все источники: и заранее напечатанное «Приглашение», которым «все любители наук» приглашались «к торжественному начинанию при Московском Университете двух гимназий», и помещенный в «СПБ ведомостях» отчет об «инавгурации при начинании гимназии императорского Московского Университета»1. Собственно университет не мог быть открыт в этот день уже потому, что первые студенты прибыли в университет только через месяц — 25 мая.
Но и современники и участники этого события справедливо рассматривали его как начало существования университета. Именно этот день праздновался в XVIII и начале XIX века как день годовщины университета. Лишь через много десятков лет эта дата была заменена днем подписания проекта Елизаветой — 12 января.
26 апреля (7 мая) 1755 года явилось днем, когда началась двухсотлетняя деятельность первого русского университета на благо народа и его передовой науки и культуры.
209
Не бездарна та природа, Н. А. Некрасов |
ГЛАВА ШЕСТАЯ
УЧЕНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛОМОНОСОВА
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
60—70-х гг. XVIII в.
Одним из центральных вопросов в первый период работы университета был вопрос о составе профессуры, так как он в значительной степени определял направление всей деятельности университета и пути его дальнейшего развития. В. И. Ленин писал: «Во всякой школе самое важное — идейно-политическое направление лекций. Чем определяется это направление? Всецело и исключительно составом лекторов... Никакой контроль, никакие программы и т. д. абсолютно не в состоянии изменить того направления занятий, которое определяется составом лекторов»1.
К открытию университета в Москву были направлены Поповский, Барсов и Яремский. Вскоре к ним присоединились Константинов и Савич. Из числа воспитанников Славяно-греко-латинской академии в университетскую гимназию пришли С. Ворошнин, М. Агентов, Я. Иванов и др. Учителями гимназии начали работать студенты Ермолаев, Зубков, Аничков, Любинский, Булатницкий, Тихомиров, Алексеев и другие. Через несколько лет после открытия университет полностью обеспечил гимназию собственными учителями. Совсем иная картина
210
была в самом университете. В 50-х гг. со студентами работало лишь три русских магистра (Поповский, Барсов, Савич), из них лишь Поповский, и то только через год после открытия университета, получил звание профессора. Барсов же получил это звание в 1761 г. после смерти Поповского. В этом же году был произведен в профессора и Савич, назначенный ректором Казанской гимназии1. К началу 1762 г. в университете сложилось следующее положение: Поповский умер, Савич и Константинов работали вне университета; Яремский опустился и как преподаватель погиб. В университете оставался единственный русский профессор — Барсов. Все же остальные профессора были выписаны Шуваловым главным образом из Германии. Это положение находилось в кричащем противоречии с задачами университета и национальными интересами русского народа. Профессора-иностранцы не только читали свои лекции на латинском или немецком языке, но и проповедовали реакционные общественно-политические, научные и философские теории и концепции. Это заводило молодой Московский университет в тупик и грозило превратить его во второе издание академического университета.
Но с середины 60-х годов начался перелом. Он был обусловлен всем ходом общественно-экономического развития страны и всем ходом развития национальной культуры и науки. Он был предусмотрен ломоносовским проектом университета и подготовлен всей предшествующей работой университета. С середины 60-х годов на профессорскую кафедру университета начинают один за другим подниматься молодые русские профессора, подготовленные за эти годы университетом из числа первых студентов. Большинство этих профессоров принадлежало к прогрессивному направлению в науке.
Проект университета, учитывая состояние высшей школы в стране в тот период, указывал, что подготовка профессуры должна осуществляться университетом путем направления за границу лучших студентов — выпускников университета. Этот пункт проекта принадлежал Ломоносову, о чем свидетельствуют его требования систематического направления русских студентов Академии Наук за границу для завершения образования. Хлопоты о посылке за границу большой группы студентов академии занимали последние месяцы жизни Ломоносова. Работая над регламентом Академии Наук, он требовал «чтобы на академической сумме всего содержать природных российских студентов за морем не меньше 10 человек, которое число в каждые пять лет из академического университета производить можно будет удобно. А когда случится недостаток, наполнить
211
из синодальных семинарий или из Московского университета» Таким образом, Ломоносов уже в 1764 году говорит о Московском университете как о резерве и помощнике Академии Наук. В Московском университете требование Ломоносова нашло практическое осуществление. Как только первые студенты закончили философский факультет, из их числа была отобрана группа студентов для подготовки к профессорскому званию. В 1758—1760 годах Московский университет направил Зыбелина и Вениаминова в Кенигсберг для изучения медицины и естественных наук; Десницкого и Третьякова — в Глазго, где они изучали право; Афонина и Карамышева — в Швецию, где они изучали химию, горное дело и ботанику2. Таким образом, университет сразу же начал готовить для себя шесть профессоров. Ни количество студентов, ни выбор предметов, для изучения которых они направлялись, не были случайными. В первые годы существования университета из-за отсутствия студентов, закончивших философский факультет, и из-за отсутствия профессоров-юристов и естественников фактически работал только один философский факультет. Работа же так называемых «вышних» факультетов — медицинского и юридического, не была развернута. Для этих двух факультетов и предназначались в качестве будущих профессоров студенты, направленные за границу. Напомним, что согласно «штату» число профессоров на этих двух факультетах составляло именно 6 человек. В 1755—1765 годах университет не замещал всех своих кафедр, очевидно, сохраняя вакансии для тех, кого он готовил за границей. К отбору кандидатов университет подошел очень внимательно. Все его 6 воспитанников блестяще окончили заграничные университеты и стали видными представителями передовой науки. Одновременно с ними в стенах университета сформировался замечательный русский ученый Дмитрий Аничков, а несколько позже — химик Иван Сибирский.
Московский университет имел все возможности с середины 60-х годов XVIII века полностью обеспечить себя собственными кадрами. Однако эта возможность не была полностью использована
212
С одной стороны, продолжалась выписка иностранцев, хотя в этом уже не было никакой реальной необходимости. С другой — была совершенно прекращена посылка русских студентов за границу. После первой шестерки, которая была послана в самые первые годы существования университета, наступил перерыв в два десятка лет.
Так как деятельность этой группы молодых профессоров развернулась через десять лет после основания университета и после смерти Ломоносова, то, казалось бы, она не имеет отношения к теме «Ломоносов и основание Московского университета». Но в действительности деятельность этой группы молодых русских профессоров органически связана с нашей темой. В своем мировоззрении и деятельности они отразили влияние материалистических и патриотических идей основателя университета. Они, каждый в своей области, творчески продолжали и развивали ломоносовские традиции в науке, литературе, общественно-политической мысли и в силу этого с полным правом могут быть названы учениками и последователями Ломоносова. В новых условиях они боролись за торжество в русской науке и культуре материалистического, освободительного направления и выступали как выразители национальных интересов и чаяний русского народа.
Деятельность Аничкова, Десницкого, Третьякова, Афонина, Зыбелина, наряду с деятельностью Новикова, Фонвизина, Козельского, Поленова, Лепехина, Зуева, Севергина и других, трудившихся вне университета, составляет важнейшее связующее звено между Ломоносовым и Радищевым. Их деятельность и развитие ими материалистической философии, национальной науки и культуры, освободительной антикрепостнической мысли, являлись необходимой предпосылкой зарождения и формирования революционной идеологии в стране. Они готовили революционное выступление А. Н. Радищева — первого русского революционера.
Историческая роль Ломоносова в отношении университета не ограничивается тем, что он был инициатором его основания и составителем его проекта. Идеи и теории Ломоносова оказали огромное влияние на направление работы университета, особенно в первые полвека его существования.
В этом отношении Московский университет XVIII века может быть назван по направлению своей работы ломоносовским.
Мировоззрение и деятельность каждого из передовых ученых университета заслуживают самостоятельного исследования. Мы вынуждены ограничиться лишь краткой их характеристикой, выделив те моменты их мировоззрения и деятельности, которые являются продолжением и развитием ломоносовских идей. Исследователи, занимавшиеся
213
историей русской культуры и науки (в данном случае мы имеем ввиду настоящих исследователей, а не фальсификаторов), обычно обходили вопрос о преемственности между Ломоносовым и его последователями на том основании, что в их работах по существу отсутствуют цитаты из Ломоносова и ссылки на него. Но настоящая преемственность и выражается не в цитировании и не в ссылках, а в общности идей и воззрений.
Дмитрий Аничков
3 июля 1755 года в числе 6 других семинаристов Троицкой семинарии в Московский университет был прислан «студент класса Риторики — Дмитрий Аничков»1. Официальные биографы называли его «сыном бедных, но благородных родителей из дворян». Однако, как это правильно указала Н. Пенчко, Аничков в действительности был типичным разночинцем. Его отец был монастырским подьячим, и сам он лишь незадолго до этого был исключен из подушного оклада как ученик духовной семинарии2.
Годы учения Аничкова в университете ознаменовались его блестящими успехами. Он выступал с публичными речами на торжественных собраниях, участвовал в публичных диспутах и за успехи в науках был 5 раз награжден золотой медалью3.
В отличие от Зыбелина, Вениаминова и других однокурсников, которые были направлены для продолжения образования за границу, Аничков завершал обучение в Московском университете. Именно здесь, под руководством Поповского и Барсова, сложилось его мировоззрение4.
Еще будучи студентом, он напечатал в университетском журнале «Полезное увеселение» философскую работу «О бессмертии души»
214
и злую сатиру «Сон», в которой он беспощадно высмеивал низкопоклонство аристократов1.
В 1762 году Аничков выступил с публичной речью «О мудром изречении греческого философа: «рассматривай всякое дело с рассуждением»2. Эта речь, отличавшаяся своей патриотической направленностью, положила начало серии его публичных выступлений на философские темы. В своей речи он шел за Ломоносовым и Поповским в определении места и значения науки в развитии общества.
Занимаясь много вопросами философии, выступая с речами и статьями на философские темы, Аничков одновременно с этим настойчиво работал над изучением математики. Результатом этой работы явилось создание им русских учебников по всем разделам математики. Уже в марте 1762 года Университетская конференция решила «напечатать сокращенную арифметику, геометрию, алгебру и тригонометрию, составленную студентами Аничковым и Алексеевым и просмотренную и исправленную Барсовым для употребления в классах»3.
Первый учебник Аничкова «Теоретическая и практическая арифметика» вышел в 1764 году в издании Московского университета. В последующие годы вышли составленные им учебники по алгебре, геометрии, тригонометрии, которые он неоднократно перерабатывал и дополнял. Они являлись основными учебниками по математике вплоть до конца XVIII века. Для Аничкова в его учебниках по математике характерно стремление сделать их доступными, приблизить их к практике, к работе естествоиспытателей. В этом плане весьма показательно то определение, которое Аничков давал задаче: «Понеже знание математических истин есть весьма полезное, того ради должно относить оное к самой практике. Почему такое предложение, которое учит нас сношению истины с самим делом, т. е., что сделать должно, называется задачею»4. Одновременно с этим Аничков решительно выступал против ученых, противопоставлявших абстрактные понятия реальным вещам и явлениям материального мира, наделявшими абстрактные понятия самостоятельным существованием, «отдельным» от предметов, от сопоставления которых было образовано это понятие. Такое направление работ Аничкова в области математики было тесно связано с развитием производительных сил страны. Создание русских учебников по математике и утверждение русской
215
научной терминологии в этой области является заслугой Аничкова перед русской культурой и наукой.

Прибавления к «Московским ведомостям», 12 мая 1758 г.
Подобно своим учителям Поповскому и Барсову, Аничков уделял большое внимание вопросам разработки русского языка, борьбе за преподавание на русском языке и принимал активное участие в работе Вольного Российского Собрания. Не случайно Н. Новиков включил Аничкова в свой «Опыт словаря о Российских писателях» и дал высокую оценку его работам1.
216
Закончив университет, Аничков получил звание магистра и в 1762 году приступил к преподаванию в гимназии и университете. Объем работы был так значителен, что конференция определила ему жалование в 200 рублей в то время, как остальным учителям платили всего 20—50 рублей в год1.
В 1765 году в связи с тем, что Фромман возвратился в Германию, преподавание философии было поручено Аничкову. С кафедры университета снова стала пропагандироваться материалистическая философия, излагаемая на русском языке.
Несмотря на то, что Аничков успешно справлялся со своими обязанностями, он не мог получить ни звания профессора, ни доступа в Университетскую конференцию. В 1767 году университет поднял вопрос о «прибавке жалования магистру Аничкову за преподавание сверх обучения их геометрии и тригонометрии, логических и метафизических лекций... в том рассуждении, что Аничков те логические и метафизические лекции в Университете преподавал с довольным прилежанием и успехом...»2. Хотя Адодуров и согласился с представлением, но оно так и не было удовлетворено.
В марте 1769 года университет снова подал представление «о производстве магистра Аничкова в публичные профессора и о даче ему места в профессорской конференции, в рассуждении того, что он четвертый уже год сверх его математических лекций, читает публично философскую лекцию». Адодуров ответил, что Аничков должен «доказать свою способность ученым сочинением на латинском языке», которое надо напечатать, и «иметь об ином публичную диспутацию. До тех пор пока оное им будет учинено в получении ординарного профессорского достоинства надлежит обождать»3.
Аничков быстро выполнил это требование. К началу августа работа была готова, напечатана на русском и латинском языках и представлена на обсуждение Университетской конференции.
Авторы коротких заметок о защите диссертации (Евгений [Болховитинов], Шевырев, Соловьев, Е. Бобров) изображают это событие
217
следующим образом: Аничков, будто бы отличавшийся «благочестием», поручил издание диссертации своему другу С. Е. Десницкому. Тот составил тезисы, в которые включил некоторые «неосторожные мысли и положения». На несчастье Аничкова в Московском университете в это время подвизался известный кляузник протоиерей Петр Алексеев, который написал донос в синод. Коллеги Аничкова переругались и осудили диссертацию. Впрочем, Аничков внес незначительные изменения, и диссертация вышла вторым изданием. Таким образом, диссертация Аничкова и события, связанные с ее защитой, изображались как случайный эпизод и в деятельности самого Аничкова, и в жизни университета в целом.
В 1950 г. было опубликовано небольшое сообщение А. В. Петровского. В основном правильно изложив содержание диссертации Аничкова, автор рассматривает ее защиту изолированно как от той острой идейной борьбы, которая развернулась в это время в Московском университете, так и от других работ Аничкова. Кроме того, следуя за Бобровым, автор допускает ряд ошибок при изложении обстоятельств, связанных с защитой и уничтожением диссертации Аничкова, сводя все к доносу склочника Алексеева1.
Между тем в университете диссертация Аничкова не была ни случайным, ни изолированным явлением. В речах Третьякова — «О происшествии и учреждении университетов в Европе», Десницкого — «О прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции», «О вещах священных, святых и принятых в благочестие», Зыбелина — «О причине внутреннего союза частей человеческого тела», произнесенных в 1767—1768 годах, мы встречаем многие из тех материалистических и атеистических идей, которые лежат в основе диссертации Аничкова.
Десницкий участвовал в составлении тезисов и редактировании диссертации Аничкова. Третьяков в речи, которая навлекла на него выговор куратора, говорил о том, что в середине века духовенство благодаря своему сану обеспечивало «себе важность, достоинство и попечение, которые суеверные им всегда готовы отдавать даже до раболепства». Третьяков, точно так же как и Аничков, показывал, что церковь, препятствуя развитию науки, стремилась к «умножению власти и доходов»2. За год до этого при рассмотрении тем для публичной речи он предлагал выступить с речью на тему «Удивление, невежество и страх — вот причины всякого суеверия»3.
218
В диссертации Аничкова выразились материалистические идеи, близкие всей группе передовых ученых Московского университета. Она была прямым вызовом церковникам и поповщине. Потому работа Аничкова и вызвала размежевание двух направлений в науке, и защита ее закончилась таким бурным их столкновением. Это правильно отмечено в работе И. Щипанова и небольшой статье А. Гагарина1.
Диссертация Аничкова с ее материалистическим характером и открыто атеистической и антиклерикальной направленностью вызвала дикую злобу церковников и реакционеров в науке. 24 августа 1769 года состоялось ее обсуждение на заседании Университетской конференции. Реакционеры во главе с Рейхелем решительно выступили против диссертации Аничкова. Рейхель произнес речь, в которой обвинял Аничкова в безбожии и требовал осуждения диссертации2. В протоколе Университетской конференции записано: «Профессора Дилтей, Керштенс, Рост, Барсов, Рейхель, Шаден и Лангер объявляют, что они не могут согласиться с мнениями, рассыпанными по всей диссертации Аничкова, посвященной происхождению и развитию религии... и что они торжественно протестуют против этих мнений, т. к. от них может произойти лишь ущерб и позор для университета»3. Несмотря на то, что Десницкий, Третьяков, Зыбелин и Вениаминов отказались присоединиться к этому решению, выступление реакционеров привело к изъятию только что напечатанной диссертации и выпуску нового, измененного издания.
Необходимо отметить, что, вопреки возражениям реакционеров, Аничков оставил неприкосновенным содержание диссертации. В новом издании отсутствовали лишь тезисы, два примечания и одна фраза. Было изменено и название диссертации4. Однако это не меняло ни существа, ни смысла диссертации, а лишь усиливало эзоповский прием, использованный автором работы. После этого в борьбу включились церковники: протоиерей Петр Алексеев и московский архиепископ Амвросий, прекрасно понявший атеистическую сущность диссертации Аничкова. Цензор «Опыта о человеке» Поповского, автор изданного в 1765 году «Рассуждения против атеистов и натуралистов»,
219
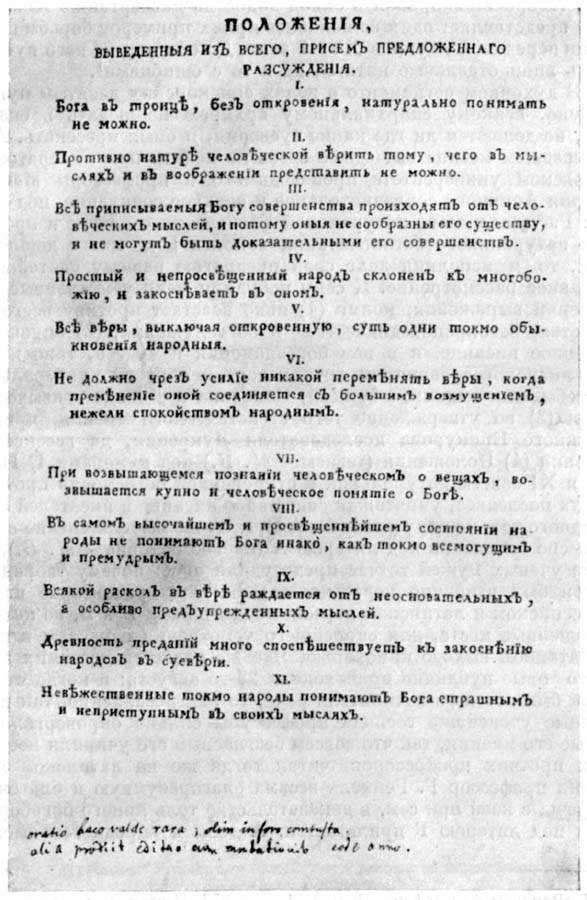
Тезисы диссертации Аничкова.
Библиотека им. Горького
220
Амвросий направил в синод донос на диссертацию Аничкова. Донос представляет один из наиболее ярких примеров борьбы церкви против передовой науки в XVIII веке. До сих пор из него публиковались лишь отдельные цитаты, да и то с ошибками1.
«В духовном регламенте о делах епископских девятым пунктом повелено, всякому епархиальному архирею наблюдать в епархии своей, не делаются ли где какие суеверия, и оныя пресекать. А как в прошедшем месяце вышедшее здесь из печати при императорском Московском университете производимого в профессоры Магистра Дмитрия Аничкова соблазнительное и вредное сочинение под заглавием: Рассуждение из натуральной Богословии о начале и происшествии натурального богопочитания наконец и до моего дошло сведения, то я исполняя долг свой предлагаю вашему святейшеству на главное рассмотрение. К сему побудили меня усмотренные в сем сочинении выражения, коими (1) явно восстает противу всего христианства, богопроповедничества и богослужения, (2) опровергает священное писание, и в нем богознамения и чудеса, тако же рай и ад и диаволов, соравняя их хитроковарным образом с натуральными или небылыми вещьми, а Моисея, Сампсона и Давида с языческими богами (3) во утверждение того атеистического мнения, приводит безбожного Епикурова последователя Лукреция, да всескверного Петрония (4) Положения (тезисы. — М. Б.) под нумерами I, II, III, V, X и XI совсем натуральной и откровенной богословии противны, из коих последнее, уничтожая священное писание и писателей оного, для одного только виду упоминает. Прежде же нежели читано в аудитории сие сочинение под литерою А (первое издание. — М. Б.), многие из ученых мужей тотчас предосудили оное: почему творец принужден был вторично перепечатать, как явствует второе издание на российском и латинском языках под литерами Б и В, из которого выброшенные места, для скорейшего усмотрения означены в первонапечатанном выходе киноварью. Что же касается до самих диспутов, то оные публично происходили 25-го августа: и когда чтением начата была от него сочинителя речь, то как российские, так и иностранные ученейшие господа профессуры сильно опровергали безбожные его мнения, так что совсем безгласным его учинили невежею. Сверх протчих профессоров, читал тогда же на латинском языке истории профессор Г. Рейхель весьма благоразумную и благочестивую речь, с коей при сем, в доказательство толь явного богоборства, копия под литерою Г прилагается. А дабы и впредь таковые, или
221
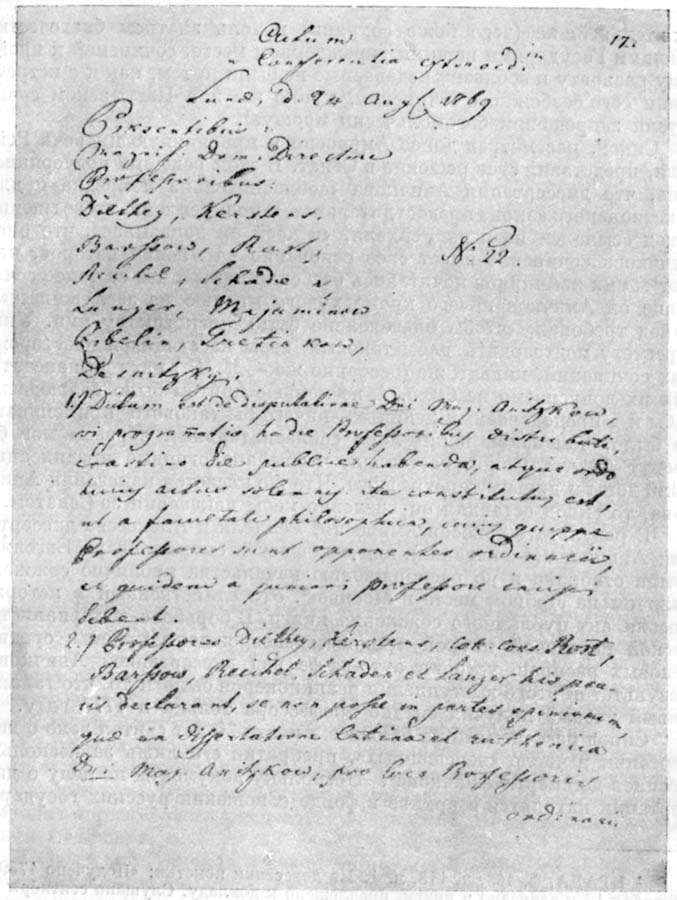
Протокол Университетской конференции об осуждении диссертации Аничкова.
Лист 1 Библиотека им. Горького.
222
хулительнейшие (чего боже сохрани) в толь знатном благочестивейшими Государями нашими учрежденном месте, сочинений к крайнему разврату и соблазну издаваемые не были, о том, как и о истреблении сего безбожного сочинения, купно же и о Пастырском сочинителя запрещении богомольчески прошу»1.
Синод, рассмотрев донос Амвросия и присланную им речь Рейхеля, представил свое решение в Сенат. В этом решении подчеркивалось, что диссертация Аничкова «соблазнительна и вредна и для христианского закона предосудительна». В подкрепление этого мнения синод ссылался на речь Рейхеля, «в коей он доказывает, что оное Аничкова сочинение имеет свое основание на мнении авторов, как и от самих язычников почитались безбожниками и что за такое сочинение он Аничков ничего кроме худого мнению не заслуживает»2. Синод требовал, «чтобы благоволено было Московскому имп. Университету подтвердить дабы таковых веры касающихся неосторожных сочинений, кольми же (особенно же. — М. Б.) паче до напечатания их допускаемо не было. А не меньше притом было наблюдаемо дабы и в преподаваемых лекциях — ничего бы такового применивано не было, чем закон каким-либо соблазнительным образом мог бы тронут быть»3. Синод настаивал, чтобы аналогичные предписания были даны и другим типографиям. Что же касается наказания Аничкова, то синод оставлял определение меры наказания за Сенатом.
В результате доносов Амвросия, Рейхеля и Алексеева диссертация Аничкова (1-е издание), как сообщает в своем словаре Евгений, «была отобрана и по распоряжению начальства публично сожжена палачом на Лобном месте в Москве»4. Это единственный в истории России акт публичного сожжения книги. В борьбе с материалистической передовой наукой мракобесы возрождали приемы средневековых расправ, устроив ауто-да-фе над диссертацией Аничкова. Результатом этого выступления реакционеров было и то, что талантливый ученый получил звание профессора только в 1777 году.
Синод рассчитывал на большее и почти 20 лет считал дело о диссертации в числе «нерешенных», прекратив его лишь за несколько месяцев до смерти Аничкова5. Поскольку документы по делу о диссертации находятся в архиве в фонде «Сношения русских государей
223
с правительственными местами», есть все основания полагать, что синод представил их Екатерине II. Ожидавшиеся синодом репрессии в отношении Аничкова не последовали, очевидно, лишь потому, что Екатерина изображала себя в это время покровительницей науки и просвещения и кокетничала с французскими просветителями Вольтером, Дидро и другими. Если бы история с диссертацией Аничкова произошла на два десятка лет позднее, то он не миновал бы судьбы Радищева.
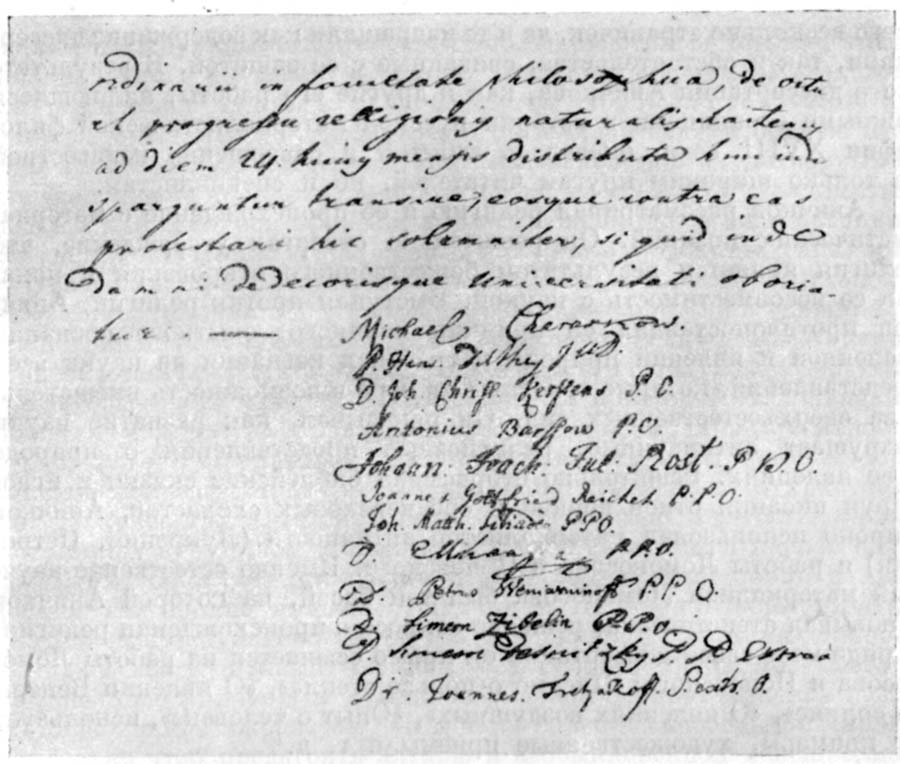
Протокол Университетской конференции об осуждении диссертации Аничкова.
Лист 2. Библиотека им. Горького
Но если сам Аничков избежал тюрьмы и Сибири, то судьба его диссертации была не менее тяжела, чем судьба «Путешествия из Петербурга в Москву». Она была уничтожена, при жизни автора ни разу не переиздавалась и не была включена в четырехтомное собрание речей профессоров Московского университета, вышедшее в 20-х гг. XIX века. В XIX и XX веках в печати появилось о ней
224
всего несколько страничек, да и те извращали как содержание диссертации, так и обстоятельства, связанные с ее защитой. В результате этого диссертация Аничкова, как и другие его работы, являющиеся важными страницами в истории русской материалистической философии XVIII века, оказалась забытой и совершенно неизвестной не только широким кругам читателей, но и специалистам.
Аничков рассматривал религию и ее происхождение с материалистических позиций. Он решительно отвергал утверждение, что религия является результатом божественного откровения и показал ее несовместимость с наукой. Выступая против религии, Аничков противопоставлял ей принцип научного, опытного познания вселенной и явлений природы и требовал изгнания из науки всех представлений, которые основаны на вере в возможность вмешательства сверхъестественных сил. Он показывал, как развитие науки разрушает антинаучные, религиозные представления о природе и ее явлениях. Решительно отбрасывая библейские сказки и игнорируя писания отцов церкви и средневековых схоластов, Аничков широко использовал материалистов античности (Лукреция, Петрония) и работы Ломоносова и Поповского. Именно естественно-научный материализм Ломоносова был той базой, на которой Аничков основывал атеистическое решение вопроса о происхождении религии. В ряде мест своей диссертации он прямо ссылается на работы Ломоносова и Поповского: «Письмо о пользе стекла», «О явлении Венеры на солнце», «О явлениях воздушных», «Опыт о человеке», использует их примеры, художественные приемы и т. д.1
Аничков видел причину возникновения религии в страхе первобытного человека, в его удивлении и беспомощности перед непонятными ему силами природы. Не останавливаясь на этом, Аничков указывал, что в современных ему условиях религия держится на суеверии одних и сознательной лжи других, всячески поддерживающих эти суеверия из материальных соображений.
Хотя Аничков делал вид, что он ограничивается рассмотрением происхождения языческой религии и, критикуя современную ему религию, не имеет в виду христианства и особенно православия, в действительности он выступал против всякой религии. Он писал о «восхищенном страхом воображении» человека, который «дичится, ужасается и трепещет и думает, что во всяком встречающемся с его чувствами предмете присутствует некоторое невидимое существо, вооружающее всю тварь и всякую вещь против него»2. Ясно, что это общее положение Аничкова, к тому же подкрепленное им специально
225
подобранными примерами, вполне относилось и к христианской религии с ее верой в чертей, искушения дьявола, нечистую силу, всяческие чудеса и т. д. С другой стороны, приводимые им примеры отчетливо показывали, что он имеет в виду в первую очередь христианскую религию. Так, издеваясь над «чудотворными» или «явленными иконами», Аничков писал: «Если для обмана простых людей и для скверной прибыли выдумлет жрец какое-либо изваяние или образ, плачущий водою сквозь потаенные скважины, или оракул, глаголющий необыкновенным механическим голосом, то к такому месту тотчас толпами пойдут идолопоклонники молиться и удивляться как новоявленным чудесам»1. Не менее резкую оценку давал Аничков и современному ему духовенству. Делая вид, что он осуждает действия только языческих жрецов, и указывая, что причиной их появления является невежество первобытного человека, а также «хитрость и проворство» шарлатанов, злоупотреблявших этим невежеством, Аничков приводил примеры жизни не из языческого, а христианского духовенства. Он показывает, что за мнимой «святостью» римского папы, капуцинов, монахов, иезуитов скрывается наглое шарлатанство, дикое корыстолюбие, невежество, грубый обман и ханжество. По вполне понятным причинам Аничков говорит только о католическом духовенстве, но все содержание диссертации таково, что даже неискушенный читатель без всякого труда мог отнести все сказанное Аничковым и к православной церкви. Аничков называл церковников «жрецами», ни к чему более неспособными, «кроме как только чтоб предстоять алтарю в необыкновенной испещренной одежде», которые «приватный из благочестия делают интерес, простирая алчные руки к ненасытному сребролюбию и под именем спасения разоряют порученное... стадо, сделав самую веру завесою мнений своих ложных»2.
Рассматривая вопрос о происхождении религии с рационалистических позиций, отрицая, что в основе ее лежит «божественное откровение», Аничков доказывал ее земное происхождение. Он показывал, какой огромный вред причиняли и причиняют развитию науки религия во всех ее видах и «жрецы». «Мы видим из истории, — указывал он, — сколь великое в том неблагополучие рода человеческого, что те самые, которые назывались проповедниками повелений небесных,
226
толкователями божества и во всем не иными, как богомудрыми богословами, неоднократно доказывали себя наиопаснейшими роду человеческому и столько же вредными обществу, сколько они были неясны и непостоянны в своем учении, и которые, сверх того, имели еще сердце, столько наполненное ядом и гордостию». «Всякий благоразумный человек, который не держался неосновательного их мнения, почитался безбожником... проклинаем и от церкви ими отлучаем был... Они мучали людей и истребляли знатных и ученых мужей»1, — обвинял он церковников. С гневом и возмущением Аничков говорил о религиозном фанатизме, нетерпимости и религиозных преследованиях. Обличая одно из наиболее диких проявлений религиозного фанатизма — Варфоломеевскую ночь, он называл ее «варварским заколением и бесчеловечием», «кровопролитием навеки поносительным»2. Предвидя возможность выступления церковников против него, Аничков писал: «Ежели кто поумнее станет доказывать простому человеку, каким образом точно происходит что в натуре, на такового знатока еще и вознегодуют» и будут желать его наказания. Аничков усилил это положение большим примечанием, в котором высмеивал попытки церковников изобразить в качестве «кары божией» гибель профессора Рихмана во время опытов по изучению атмосферного электричества. Характерно, что в этом примечании Аничков почти буквально воспроизвел то место из «Явления Венеры на солнце» Ломоносова, в котором он высмеивал распространение суеверных сказок и небылиц богомолками3.
Высказывая твердую веру в силу человеческого разума, Аничков утверждал, что в условиях развития естественных наук «нынешний ученый свет довольно в состоянии удовольствовать и во всем почти любопытство человеческое», и отмечал, что главным препятствием для этого является господство религии4.
Боевая атеистическая направленность диссертации была с особой силой выражена в приложенных к диссертации тезисах, или, как их озаглавил Аничков, «Положениях, выведенных из всего при сем предложенного рассуждения»5. Если в самой диссертации Аничков прибегал к своеобразному эзоповскому языку, делая вид, что имеет в виду в первую очередь языческую религию, то в тезисах он говорит о всякой религии вообще и в первую очередь о христианской.
227
Уловка Аничкова не смогла обмануть ни духовных, ни светских реакционеров. Они прекрасно понимали, что выводы Аничкова о происхождении религии и ее роли в отношении науки, о чудесах, жрецах, о системе лжи и репрессиях по отношению к передовым ученым и т. д. полностью относятся и к католической, и к православной религиям. Не помогло, конечно, и замечание, сделанное Аничковым в своей диссертации: «Никто, разве мой недоброхот и завистник... не может против предприятого мною рассуждения восстать с клеветою или с поношением»1.
Диссертация Аничкова была, как уже указывалось, выдающимся произведением русской материалистической философии XVIII века. Она опиралась на материалистические и атеистические произведения Ломоносова, пропагандировала и развивала его идеи. Она была составной частью той борьбы, которую в это время вели представители передовой русской культуры против религии и церковников. Достаточно вспомнить появившиеся в это время «Философические предложения» Якова Козельского, работу А. Каверзнева «О перерождении животных», «Послание к слугам» Д. И. Фонвизина и недавно обнаруженное произведение неизвестного автора «Зерцало безбожия».
Атеистическая и материалистическая направленность диссертации Аничкова и работ русских просветителей этого времени была тесно связана с той классовой борьбой, которая развертывалась в стране и находила свое отражение в идейной борьбе против церкви и религии как надстройки крепостнического общества. Она сливалась с борьбой, которую вел в это время русский народ против крепостничества.
Не может быть никаких сомнений, что диссертация Аничкова оказала серьезное влияние на развитие передовой русской науки и культуры XVIII века. Об этом говорит и та высокая оценка, которую дал диссертации Н. И. Новиков. Через три года после защиты он писал, что Аничков сочинил «Слово» «о истинном богопознании, весьма много похваляемое за свободное и ясное сей важной материи объяснение»2. Новиков, по всей вероятности, изменил название сожженной диссертации Аничкова исключительно из цензурных соображений. Не мог не знать диссертации Аничкова и А. Н. Радищев, связанный с Московским университетом через Новикова и решительно боровшийся против мистики и религии.
Конечно, в диссертации и в тезисах было немало ненаучного
228
и наивного, характерного для всей атеистической литературы XVIII века. Так, например, анализируя вопрос о происхождении религии и ее роли в человеческом обществе, он, как и другие просветители, не видел социальных корней религии, не понимал, что религия является идеологическим оружием эксплуататорских классов и что простого развития науки и распространения образования далеко не достаточно для того, чтобы покончить с религией. Эти воззрения определились уровнем современной ему науки и ограниченностью материализма XVIII века, а выйти за рамки, поставленные ему эпохой, Аничков, конечно, не мог.
Анализ речей Аничкова, произнесенных им в 1770—1783 годах, показывает, что, несмотря на репрессии со стороны духовных и светских властей, он стоял на материалистических позициях и мужественно их отстаивал. М. Горбунов ошибается, изображая его речь «О свойствах познания человеческого» (30 июня 1770 года) как вынужденное раскаяние1. В действительности и эта речь, и речи 30 июня 1779 г. и 22 апреля 1783 года как раз являются яркими доказательствами материализма Аничкова.
Материалистически решая основной вопрос философии, он отстаивал первичность материального мира и указывал, что он существует независимо от наших чувств. Рассматривая взаимоотношение реального мира и человеческого сознания, он утверждал, что материальный мир воздействует на наши органы чувств, а с их помощью человек и познает материальный мир, являющийся единственным источником идей. Аничков указывал, что стоит оборвать или повредить те или иные нервы, как возбуждение, вызываемое вещами, не дойдет до мозга человека и он не получит никакого представления об этих вещах и никакой «идеи» вещи у человека возникнуть не сможет2.
Для правильного понимания соотношения между материальным миром и представлениями, существующими в нашем разуме, Аничков сравнивал реально существующего попугая с картиной, на которой изображен попугай. Бытие и качества действительного попугая, утверждал он, не зависят от живописца, хотя картина, изображающая попугая, и помогает познать его качества. Это она выполняет тем успешнее, чем лучше художник изучит настоящих попугаев и осмыслит свои наблюдения3. Доказывая, что источником человеческого познания является внешний материальный мир и человеческие ощущения,
229
Аничков решительно выступал против идеалистической теории врожденных идей, пропагандировавшейся картезианцами. «Чтоб врожденные о вещах идеи в нас находились, сего допустить не можно... Опыт довольно научает нас, что мы на сей земной шар вступаем, не имея еще никакого ни о чем понятия, а потом постепенно снискиваем идеи вещей телесных»1. Столь же решительно отвергал Аничков и идеалистическую теорию «предуставленного согласия» Лейбница и Вольфа. Он прямо заявлял, что «система предуставленного согласия... несправедлива, и последователей сей системе объяснение философическим почтено быть не может, поколику основания и начала, на коих они утверждают свои мнения, суть неизвестные, сомнительные и произвольные»2.
Рассматривая историю развития философии, Аничков высказал правильную догадку о том, что ее развитие является борьбой двух основных философских течений — материализма и идеализма.
Материалистами, писал он, «именуются те, кои утверждают, что одно только существо находится в свете и оное вещественное есть»3. Называя идеалистами тех, «кои хотя и допускают, что душа человеческая есть вещественная, токмо вещественное бытие мира и тел опровергают, допуская одно идеальное бытие оных», Аничков показывал всю бесплодность попыток философов-идеалистов объяснить мир. «Плотин славный платонический философ... целые три дни разговаривал о соединении души с телом, но мало в том успел. Подобным образом славный Лейбниций хотя не три дни и не три года, но более 10 лет упражнялся... токмо толикими своими трудами точно и прямо совершенного не произвел дела»4. Решительно выступая против идеалистов, Аничков говорил, что, только безнадежно запутавшись в решении этого сложного вопроса, можно дойти до «отрицания вещественных тел бытия».
Рассматривая идеалистическую философскую систему Лейбница, Аничков отмечал, что, по Лейбницу, следует, «что понятия, производимые о вещах, не суть подобия оных, и мы имеем оные врожденные себе». Наша душа, отвечал Лейбницу и другим философам-идеалистам Аничков, «всегда начинает свои размышления о тех вещей, которые прежде чувствам подвергаются, и никогда далее сего не поступает»5.
230
Свои возражения идеалистам, отстаивавшим приоритет идеи, он подкреплял ярким и убедительным примером. Сколько бы философы ни размышляли над «идеей Сатурна», язвительно замечал Аничков, до тех пор, пока мы не начнем изучать Сатурн с помощью телескопов, мы ничего не будем знать о нем, и «от идеи Сатурна никакой пользы нет»1.
Отвергая идеалистические теории относительно соотношения души и тела, Аничков писал: «Ежели сказать, что ничего кроме души не находится, то идеалисты своим мнением одержат верх над нами»2. Он указывал, что нельзя противопоставлять душу (разум) вещественному миру, так как «справедливо именуется душа формою или видом человеческого тела»3.
Вслед за Ломоносовым и Поповским Аничков подчеркивал единство материального мира и стремился рассматривать его во взаимосвязи и взаимодействии. «Мир есть порядок всех вещей вместе пребывающих, последовательных, переменяемых и взаимно между собою связанных... Все в свете сем состоящие вещи имеют такое свойство, что одна из них содержит в себе причину другой, то есть, все вещи взаимно между собою связаны»4. Отстаивая реальный характер времени и пространства, Аничков решительно отвергал чистое пространство, рассматриваемое «как бы некоторым существом, в особливости стоящим»5. Он считал пространство протяжением, а время — следованием вещей друг за другом в пространстве.
Аничков материалистически решал и вторую сторону основного вопроса философии, утверждая, что человечество в состоянии познать реально существующий мир. Он решительно возражал Лейбницу и Декарту, утверждавшим, что мы не должны доверять нашим чувствам. «Платоновы последователи, — писал он, — советуют, чтоб мы всегда мысль свою отвлекали от всякого чувствования; ибо утверждают они, что действия всякого чувства часто обманывают нас, и мысль наша светом истины тогда токмо озаряется, когда она не утверждается на чувственных представлениях, но сама к себе возвращается и не верит никакому чувству, как токмо себе»6.
В речи 1770 года Аничков дал развернутую картину процесса человеческого познания: «Справедливее мне кажется, когда во всяком
231
познании человеческом три степени различаются. Первый... состоит в движении или возбуждении телесного органа; второй заключается в некотором понимании оного изображения... — третий, наконец, состоит в рассуждении... Например, как скоро увижу я какой предмет, тотчас отвлеченный от оного свет доходит до моего глаза и приводит оный в движение; ибо из вещей ничего до наших чувств не доходит, кроме движения или впечатления. Потом такое изображение, впечатленное в самых нижних частях моего глаза, через посредство оптических нервов и тоненьких оного жилок к самому мозгу... переносится, от чего в душе (душа в терминологии Аничкова — это разум, сознание. — М. Б.) и последует понятие о том мною видимом предмете»1.
Показывая процесс перехода от конкретного мышления к абстрактному, отвлеченному, Аничков подчеркивал, что последнее основано на познании человеком «телесных вещей». «Ум наш... невидимые вещи познает из видимых, от особенных вещей отвлекает всеобщие понятия, о будущем рассуждает из настоящего и из бытия вещественных сущих понимает о невещественных»2. Отстаивая материалистическое миропонимание, Аничков решительно выступал против уступок, делаемых некоторыми материалистами религии и идеализму. Он считал недопустимым попытки объяснять какое-либо явление вмешательством сверхъестественных сил в тех случаях, когда по недостаточности наших знаний мы не можем объяснить его сущность. Именно за подобные уступки в пользу религии он резко критиковал Декарта. «Не почитается философическим такое объяснение, когда сказано будет: магнит притягивает к себе железо, и магнитная стрелка всегда и постоянно обращается к полюсу потому только, что бог, присутствуя при магните, движет железо и магнитную стрелку к полюсу...». Аничков указывал, что «никто чрез такое знание не делается разумнейшим»3.
И диссертация Аничкова, и его речи дают полное основание утверждать, что в его лице мы имеем дело с выдающимся русским философом-материалистом, глубоким и оригинальным мыслителем ломоносовской школы. Его материалистическая и атеистическая диссертация не отдельное и не случайное событие в его деятельности, а органическая часть его материалистического мировоззрения. Последователь Ломоносова и ученик Поповского, он, несмотря на репрессии, до конца дней своих стоял на материалистических позициях.
232
Интересно отметить, что в том же году, когда в Москве происходила защита и сожжение диссертации Аничкова, во Франции впервые вышла одна из важнейших работ французских материалистов — «Разговор Даламбера и Дидро». Анализ диссертаций Аничкова и его речей, произнесенных как до защиты, так и после нее, показывает, что он независимо от французских материалистов работал над теми же вопросами и приходил к таким же выводам, которые лежали в основе «Разговора...» и других произведений французских просветителей. Одинаковое решение вопросов о соотношении материального и духовного, о источниках, средствах и процессе познания человеком материального мира и его явлений, отношение к религии и одинаковое объяснение ее происхождения свидетельствовали, что Аничков шел в ногу с наиболее передовым и боевым отрядом тогдашней материалистической философии. Причина общности их взглядов объясняется тем, что и перед Францией, и перед Россией стояла задача — борьба против феодализма в экономике, органах государственного управления и идеологии. Несмотря на все различие в социально-экономических условиях обеих стран, на известные отличия в общественном строе и на значительную разницу в расстановке классовых сил, выразители общенациональных интересов своих народов приходят к одинаковым выводам и положениям в своей борьбе с феодализмом.
О высоком уровне, достигнутом в это время материализмом, говорит то, что в своей борьбе против махистов, воскрешавших наиболее реакционные идеи субъективных идеалистов, В. И. Ленин использовал, в частности, и упоминавшийся «Разговор Даламбера и Дидро» как одну из первых работ, рассматривающих процесс человеческого познания с материалистических позиций и наносящих серьезный удар идеализму1.
Конечно, материализм Аничкова, как и других материалистов XVIII века, был исторически ограничен, и ему были свойственны все недостатки метафизического материализма. Выше уже говорилось об ограниченности материализма Аничкова по вопросу о религии и ее происхождении. Но эта ограниченность сказалась и в ряде других вопросов. Рассматривая взаимоотношение тела (материи) и души (психики, разума) и указывая, что в основе духовного лежит материальное, Аничков в то же время делает ряд уступок идеализму, пытаясь интерпретировать теорию перипатетиков в материалистическом направлении, запутывая и затемняя свое изложение, не решаясь открыто отвергнуть бога и прибегая к целому ряду жалких
233
оговорок1. Правильно подчеркивая огромную роль человеческого опыта в процессе познания реального мира, он, как и другие просветители, сводил опыт лишь к наблюдению, чувственному восприятию и эксперименту, не понимал, что опыт включает в себя всю совокупность общественно-исторической и производственной деятельности людей.
Несмотря на то, что мировоззрение и деятельность Аничкова были объективно направлены против господства крепостнического строя, он, как и другие просветители того времени, не поднимался до понимания необходимости уничтожения этого строя революционным путем.
Указывая на эти черты ограниченности в материалистическом мировоззрении Аничкова, необходимо иметь в виду, что он выступал со своими речами перед аудиторией, состоявшей из знати, духовенства и чиновников, враждебно относившихся к материализму. Кроме того, после истории с защитой диссертации, его речи, несомненно, подвергались особенно тщательной цензуре. Очевидно, в результате этого в ряде речей Аничкова мы встречаемся как с похвалами по адресу Екатерины, так и с неоднократными упоминаниями о боге и даже с возражениями против атеистов. Однако все эти упоминания о боге и т. п. находятся в непримиримом противоречии с материалистическим содержанием речей. Они совершенно несовместимы и с теми резкими выпадами против идеализма, которые содержатся в его выступлениях.
Огромное значение всей деятельности Аничкова в Московском университете заключалось в пропаганде материалистических идей, в борьбе за развитие и победу материалистического направления в русской науке и культуре. А это было важнейшим условием не только для развития науки, но и для уничтожения феодального строя.
Творчески развивавший материалистические идеи Ломоносова, отстаивавший и пропагандировавший их, Дмитрий Аничков много сделал для развития материалистической философии в России, для развития передовой общественно-политической мысли, для развития деятельности Московского университета в материалистическом, демократическом направлении. На примере Аничкова отчетливо видно, какое большое и плодотворное влияние оказали идеи Ломоносова на мировоззрение и деятельность передовых ученых Московского университета второй половины XVIII века. В истории русской культуры Аничкову по праву принадлежит почетное место наряду с Ломоносовым и Радищевым.
234
Семен Десницкий и Иван Третьяков
Крупнейшими представителями передовой науки в области права были в Московском университете XVIII века С. Е. Десницкий (умер в 1789 г.) и И. А. Третьяков (около 1734—1776 гг.).
Семен Ефимович Десницкий был сыном нежинского мещанина. Он поступил в гимназию Московского университета из Троицкой семинарии и окончил ее в 1759 г. в числе первых выпускников. После полутора лет учебы на философском факультете он вместе с Третьяковым был направлен в университет города Глазго в Шотландии для изучения юридических наук. Несколько месяцев перед отправлением за границу они провели в Академии Наук. Учитывая, что в это время работой академического университета и гимназии руководил Ломоносов, можно предположить, что и Десницкий с Третьяковым занимались под его руководством. О блестящих успехах Десницкого и Третьякова во время их обучения за границей уже говорилось. По возвращении в Москву Десницкий приступил к работе в университете и занимал профессорскую кафедру до 1787 г., когда он по неизвестным причинам был уволен из университета.
По своим философским взглядам Десницкий был материалистом. Он принимал деятельное участие в издании диссертации Аничкова и отказался присоединиться к тем, кто требовал ее осуждения. В своих собственных работах он проводил те же атеистические идеи, что и Аничков, но, как правильно отметил И. Я. Щипанов, наученный горьким опытом своего друга, он делал это более осторожно и завуалированно1. О материализме Десницкого говорят и его отзывы о представителях идеалистической философии и, в частности, о Платоне: «Светило древнего мира, знаменитый Платон, является разсказщиком побасенок и небывальщины сравнительно с Ньютоном, обогатившим науку ...действительными и великими открытиями»2, — писал он.
Следуя за Ломоносовым, он требовал освобождения философии от вмешательства богословия, очищения ее от мистики и считал необходимым основываться исключительно на реальной действительности. Борясь за земную, общественную направленность философии, Десницкий связывал философию с решением основных вопросов общественной жизни. Отсюда рассмотрение и решение философских вопросов у Десницкого неразрывно связано с правом. И, наоборот,
235
решая те или иные вопросы юриспруденции, он старался опереться на философию.
Как и Ломоносов, Десницкий отстаивал теорию эволюционного развития мира. Он говорил о «порывчивом движении» «мира сего и его видимое с одного состояния на другое прехождение». «И весьма уповательно, — замечает Десницкий, — что человек, равномерно как и все животные и растущие на земле вещи, из всех таких всеобщих свету перемен исключен быть не может»1.
В области права С. Е. Десницкий являлся ученым мирового значения. Почти за сто лет до Моргана он связывал возникновение семьи с разделением труда и возникновением частной собственности. В то время когда даже передовые ученые Западной Европы не шли дальше теорий, связывавших происхождение и развитие семьи с религиозными и правовыми представлениями общества, Десницкий считал основой развития и изменения форм семьи развитие частной собственности. В его изложении процесс развития семьи выглядел следующим образом: на первоначальной стадии человечества не было «никакого порядочного супружества и ниже имени оного. Смешение у них обоего пола невозбранное есть вместо супружества»2. Переход к скотоводству повлек за собой появление многоженства, а возникновение хлебопашества привело к тому, что возникла моногамная семья. Новая ступень, «коммерческая», сопровождалась установлением господства единобрачной семьи. Исследуя вопрос о семье, Десницкий стремился выяснить процесс ее развития и подчеркивал, что в основе этого процесса лежит хозяйственное развитие. Чем выше хозяйственное развитие, тем более совершенной является и форма семьи — вот основная идея Десницкого. Рассматривая взгляды Десницкого по вопросу о происхождении и развитии семьи, следует подчеркнуть, что он выступал решительным сторонником равноправия женщин. Он считал, что наиболее совершенной формой семьи является та, где брак доброволен и не связан с экономическими расчетами, где женщина равноправна с мужчиной. Энергично высказываясь за женское образование, он писал, что женщины «мужскому (полу) не уступающими в науках доказали себя перед ученым светом»3.
В то время когда в вопросе о происхождении государства вершиной западноевропейской науки была бесконечно далекая от выяснения действительных причин теория «общественного договора», Десницкий связывал происхождение государства с развитием частной
236
собственности. Он утверждал, что основой власти является не божественное ее происхождение, не голое насилие, а «превосходное богатство есть первый источник всех достоинств, чинов и преимущества над другими. Превосходное також богатство действительное есть начало и основание всех чиноположений и оного разделения властей, которые столько ныне взошли в употребление во всех государствах». Единственно с его помощью, писал он, правители «делаются повелителями над своими согражданами и удерживают свое достоинство и власть над всеми»1. Эти замечательные утверждения Десницкого говорят о самостоятельности его научных воззрений.
Исследуя формы государственной власти, Десницкий связывал их развитие с изменениями в экономике общества и прежде всего с развитием института частной собственности. В истории человечества Десницкий различал четыре «состояния», отличавшиеся между собой по занятиям людей и степени развития частной собственности. По Десницкому, эти периоды характеризуются следующими признаками: 1-й период — ловля диких зверей, охота и сбор дикорастущих плодов. Пользование общее, нераздельное, и собственность выступает как общественная. Обмен отсутствует. 2-й период — пастушество. Возникает частная собственность. Но собственности на землю еще нет, и скот пасется на земле, находящейся в общем владении. Возникает обмен. 3-й период — хлебопашество. Люди переходят к оседлости. Обработка земли ведет к возникновению собственности на землю и развитию обмена. 4-й период — коммерческий. Развивается торговля и ремесло. Право собственности расширяется. Обмен становится важнейшей чертой хозяйственной жизни.
В периодизации Десницкого было много наивного и ненаучного. Достаточно сказать, что в ней нет намека на производственные отношения. Но для науки того времени она была огромным шагом вперед.
Несомненной заслугой Десницкого было использование для подкрепления своих положений, относящихся к характеристике первого и второго периодов, этнографического материала русских путешественников и особенно классической работы С. Крашенинникова о Камчатке.
Десницкий утверждал, что образование государства и возникновение законов связано с развитием собственности и прежде всего собственности на землю. «Начало и происхождение собственности... соединено с непосредственным происхождением и самых правлений государственных»2, — писал Десницкий и указывал, что именно
237
собственность на землю привела к возникновению института баронов и маркграфов, к возникновению «феодального правления», которое, по его мнению, представляло собой власть земельной аристократии с «неполномощным» государем во главе. Дальнейшее развитие собственности привело к разложению и гибели «феодального правления» и к созданию современных европейских государств. Десницкий был одним из первых ученых, поставивших вопрос о том, что между феодальным землевладением в Западной Европе и землевладением в России нет никакой принципиальной разницы2.
Рассматривая происхождение и роль законов в истории общества, Десницкий подчеркивал, что они в первую очередь имеют своей целью защиту частной собственности.
Очень важна мысль Десницкого о причинах, вызывающих сходство законов у различных народов. В то время даже передовые ученые при исследовании данного вопроса ограничивались выяснением того, у какого народа законы возникли раньше, а затем сводили исследование к доказательству, что сходство объясняется либо влиянием, либо непосредственным заимствованием. Десницкий шел совсем иным путем, свидетельствовавшим как о его самостоятельности, так и о прогрессивности его научных взглядов. «Само через себя разумеется, что в натуральном состоянии люди не имеют почти никакого понятия о собственности и живут по большей части управляемы не законами, но застарелыми обычаями, каковыми управляемы были древние афиняне, лакедемоняне и нынешние камчадалы. Удивительное сих народов примечается сходство», — говорил Десницкий и высмеивал любителей во всем видеть заимствования. «Суеверные любители древностей подумают, что камчатские народы переписывали когда-нибудь законы у Ликурга, хотя в ликурговы времена, может статься, люди столько ж искусны были в рукописании, сколько и нынешние камчадалы. Народные обыкновения везде бывают сходны, когда самые народы находятся в подобном между собой... состоянии»2. Этот важный тезис Десницкий подтверждал примерами, относящимися к обычаям и законам разных народов.
Являясь выдающимся ученым-новатором, Десницкий решительно выступал против схоластической школы юристов и представителей этой школы в Московском университете. Десницкий указывал, что они занимаются казуистикой либо метафизическими, схоластическими словопрениями о том, что «согласно с волею божиею и что не согласно, разделяя притом человеческую совесть по логически,
238
на предыдущую и последующую, на известную и вероятную, на сомнительную и недоумевающую. В таком лабиринте они ищут общего всем натуральным правам начала»1. «Ручаюсь, что все это абсурд», — замечал Десницкий и, издеваясь над схоластикой этих горе-теоретиков, писал: «Суть и другие основы естественного права, которые изысканы больше для меридиана немецкого нежели к делу в судах. Сей род ученых, чем недостаточнейший в своем знании, тем тщеславнейший в своих изобретениях, и гремит подобно пустой бочке — свет еще ничего не видит, а он уже в газетах гремит, что им сыскана квадратура круга. В следующую почту, может статься, и его же вечный двигатель выйдет!»2.
Иностранные профессора-юристы, работавшие в Московском университете, — Дилтей, Лангер, Шаден на все лады превозносили и пропагандировали труды одного из таких схоластов — Пуффендорфа, который был для них непререкаемым авторитетом. В противовес им Десницкий отказывал трудам Пуффендорфа в каком-либо научном значении. «Пуффендорфов труд, подлинно был излишний, ибо писать о вымышленных состояниях рода человеческого, не показывая, каким образом собственность, владение, наследство и пр. у народов происходит и ограничивается, есть такое дело, которое не совсем соответствует своему намерению и концу»3, — говорил он.
Десницкий выступил как создатель истории русского права и отводил ей большое место в целом ряде своих речей. Избранный при учреждении Российской академии ее членом, Десницкий выбирал для словаря, составлявшегося академией, юридические термины из «Русской правды», «Судебников», «Уложения 1649 г.»4.
Десницкий был инициатором и неутомимым пропагандистом изучения русского права в Московском университете. В 1778 году он выступил с «Юридическим рассуждением о пользе знания отечественного законоискусства и о надобном возобновлении оного в государственных училищах». В этой речи Десницкий подчеркивал исключительное значение изучения русского права и считал совершенно ненормальным такое положение, при котором вот уже 20 лет римское право изучается в Московском университете, а к изучению русского права все еще не приступили. Как указывал Десницкий,
239
«без сомнения, всякому бы лучше советовать не знать права римского, нежели российского», так как без знания отечественного права немыслимо соблюдение свободы и собственности каждого гражданина1.
Особенно недопустимым считал Десницкий то, что отечественного права не знают даже люди, управляющие государством и занимающие административные и судебные должности. Чем выше должность, тем хуже и страшнее следствие незнания законов отечественных2. Каждый дворянин, считая себя «врожденным судьей» и правителем и претендуя на получение соответствующей должности, абсолютно ничего не делает для того, чтобы хоть как-то готовить себя к этому, говорил Десницкий.
Рассматривая причины плохого состояния изучения отечественного права в Московском университете, он указывал, что это объясняется двумя главными причинами: отсутствием собрания российских законов, начиная с древнейших времен, и неправильным способом изучения русского права, при котором все сводится только к изучению практики.
Для того чтобы наладить изучение русского права, Десницкий считал необходимым создание специального архива, где бы сосредоточивались тексты всех законов и указов, изданных до этого времени. В этот архив должны были поступать и все новые законы и указы. Отражая давно назревшую потребность, Десницкий считал необходимым составление свода действующего законодательства, которое должно было быть расположено по соответствующим разделам в зависимости от содержания. Насколько назрела необходимость такого свода, убедительно говорит работа комиссий по составлению нового Уложения в 50-х, а затем в 60-х гг. XVIII века. Известно, что работа по кодификации развернулась только в 30-х годах XIX века под руководством Сперанского, но и она остановилась на полпути. Отсутствие свода действующих законов открывало широкие возможности для произвола, крючкотворства и взяточничества чиновников.
Десницкий считал необходимым учреждение специальных кафедр для изучения русского права и его истории в Академии Наук или Московском университете.
Одновременно с этим Десницкий указывал и наиболее целесообразную структуру юридического факультета, на котором, помимо профессора всеобщего права, должны быть: 1) профессор теории русского права, на обязанности которого лежит толкование законов по разделам, показ их отношения к «правам естественным и народным»;
240
2) профессор «практического русского законоположения», который бы на примере отдельных дел проводил практический их разбор с учащимися. При нем должен быть адъюнкт из чиновников, хорошо знающих практику судопроизводства и действующее законодательство. Они должны организовать обучение так, чтобы студенты были готовы к исполнению любой должности в суде.
К речи было приложено «Оглавление 1 книги прав Российских». Содержание, вкладываемое Десницким в эту книгу, видно из его речи, произнесенной еще в 1768 году. В ней он следующим образом определял задачи и содержание натурального права: показать «причины и натуральное происшествие власти и старшинства у народов, изъясняя оные историческим описанием.., что учинив, показывать должно правления европейских держав, описывая оных начало феодальное, и их перемену из сего в аристократическое или монаршеское... в заключение сей первой части должно показывать начало, возвышение и совершенство своего отечественного правления»1. Содержание первой части книги составляла история всеобщего и русского права.
Второй раздел книги предусматривал изучение «прав, происходящих от различного состояния и звания людей». Десницкий считал, что здесь должны рассматриваться права человека на защиту себя и имения, права государя и подданных, судьи и судимого, раба и господина, родителей и детей, мужа и жены, а также процесс формирования этих прав и причины этого процесса.
Очень важно следующее замечание Десницкого: «Сверх сего здесь должно показывать историческим, метафизическим и политическим порядком введение в государствах порабощения и закрепления народов, какое бывает порабощения действие в рассуждении целого отечества, каким образом и для каких причин в иных государствах оное уничтожено, а в других закоснело»2. Формулировки Десницкого не оставляют сомнения в характере ответа, который он предлагал дать на этот вопрос.
Третий раздел книги Десницкий посвящал «правам, происходящим от различных и взаимных дел между обывателями», т. е. изучению того, что входит в состав уголовного и гражданского права.
Четвертый раздел он отводил для изучения «полиции или благоустроения гражданского». В этом же разделе, по его мнению, должны были рассматриваться «введение и ободрение мануфактур, покровительство коммерции, надежное учреждение банков и монеты для
241
благопоспешности купечества... приведение хлебопашества в совершенство... собирание казны»1 и т. д.
Анализируя речи и другие работы Десницкого, мы видим, что по своему содержанию и по характеру выдвигаемых им мероприятий, они носили антифеодальный характер и своим острием были прямо направлены против самодержавно-крепостнического строя России. Он говорил, что дворянам «все достается чужими руками и (они. — М. Б.) ни за что своего поту не проливают». Показывая, что они незаслуженно занимают руководящее положение в государстве, Десницкий требовал: «Пущай тот больше преимущества, чести и достоинства наслаждается, который больше в оном тягости имеет»2.
С особой силой антидворянская сущность предложений Десницкого выражена в поданном им в Комиссию по составлению нового Уложения «Представлении о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи» и его комментариях к переводу трехтомной работы английского юриста Блекстона. Основным принципом его «Представления» было требование строгого соблюдения законности. Оно находилось в прямом противоречии с системой произвола, царившего в екатерининской России. По его проекту высшим законодательным и судебным органом страны являлся выборный сенат, избираемый по губерниям, провинциям и учреждениям от землевладельцев, купцов, ремесленников, «училищных мест», из «любых, кто в состоянии отправлять эту должность». Правом избирать пользовались все платящие подати свыше 50 рублей. По «Представлению» Десницкого, сенатор избирался на пятилетний срок из числа имеющих годовой доход не меньше 2 тысяч рублей. Избрание в сенат более двух раз не допускалось, чтобы «многие, а не одни только, люди имели больше случаев оказать свои услуги отечеству». Все члены сената заседали в одной палате и имели равные права. «Дворяне, разночинцы, равномерно как духовные и светские, находящиеся при сенаторской должности, будут уравнены без всякой отличности»3.
Предвидя возможные возражения дворян, Десницкий указывал, что, поскольку сенат будет заниматься не частными делами, а нуждами всего государства, его члены должны отказаться от защиты своих чисто сословных своекорыстных интересов. Стремясь оградить депутатов от возможных репрессий со стороны самодержавия, Десницкий подчеркивал их неприкосновенность. С точки зрения роли, которую Десницкий отводил выборному сенату, следует рассматривать
242
и настойчивое подчеркивание им того, что права депутатов Комиссии по составлению Уложения являются священными и неприкосновенными. По проекту Десницкого, в функции сената входило издание новых и надзор за соблюдением старых законов, установление налогов, объявление войны и заключение мира, заключение договоров с другими государствами, контроль над государственными расходами; одновременно с этим сенат являлся высшим судебным апелляционным органом. Десницкий подчеркивал, что «Сенат должен находиться при монархе безотлучно завсегда». Утверждение такого сената на деле означало ограничение самодержавной власти в России и установление буржуазной парламентской формы правления. В условиях укрепления самодержавной власти, превратившейся в реакционную силу, охранявшую незыблемость крепостнического способа производства, предложение Десницкого имело большое прогрессивное значение. Конечно, оно не вело и не могло вести к подлинному народовластию, так как не всегда последовательно проводило даже принципы буржуазной демократии, но оно превращало государство в силу, помогающую развитию новых буржуазных отношений.
Огромное прогрессивное значение имело положение Десницкого о равноправии народов России. Он считал необходимым, чтобы в сенате были представлены все народы, населявшие Российскую империю. Именно поэтому он приветствовал наличие в числе депутатов Комиссии по составлению Уложения депутатов от народов Севера. Прогрессивность требования Десницкого особенно возрастала, так как в это время происходило воссоединение с Россией ряда народов и значительный территориальный рост страны.
Предлагаемая Десницким организация судебной власти была несовместима с самодержавным строем крепостнической России. Он требовал независимости суда от административных властей, несменяемости судей, публичного и гласного суда, учреждения института присяжных и адвокатуры, печатания всех решений судов, специальной подготовки и проверки всех судей и адвокатов. Десницкий требовал абсолютного равенства перед законом и равного наказания для всех независимо от их сословной принадлежности. Десницкий прямо указывал, что это направлено против судебных привилегий дворян, и писал, что всякие послабления сделают недействительными и все самые спасительные законы1. О прогрессивности предложений Десницкого убедительно говорит уже то, что даже во время проведения судебной реформы в 60-х гг. XIX века далеко не все его требования были осуществлены. Это тем более показательно, что в судебной
243
реформе буржуазные принципы были проведены более последовательно, чем в других реформах 60—70-х гг. XIX в.
Решительно выступая против «послаблений» в наказаниях из сословных соображений, Десницкий одновременно с этим указывал на необходимость всячески избегать ненужных и излишних жестокостей. Особенно резко протестовал он против казней за так называемые государственные преступления, указывал, что в действительности по таким делам «часто казнят благороднейших и верных сынов отечества»1. Следует подчеркнуть, как факт, имеющий первостепенное значение, что Десницкий предусматривал подчинение административной власти судебному контролю.
Значительный интерес имеет раздел «Представления», посвященный организации «гражданской власти» или управлению городом. Оно отдавалось фактически в руки купцов и ремесленников. По проекту Десницкого, городом управлял выборный орган с явным преобладанием купечества (в столице из 73 членов — 55 купцов, в губернских городах из 12 членов — 7 купцов)2. Построение власти в России, предлагаемое Десницким, показывает, что его требования были направлены против основных принципов самодержавно-крепостнического строя. Они отражали новые общественно-экономические явления, нарождавшиеся в недрах этого строя.
Такой же характер имели и его требования относительно людей «нижнего рода», т. е. крепостных крестьян. Он указывал, что «нижний род», «всех выгод лишен и не имеет ни малейшей собственности».
Десницкий требовал, чтобы повинности крестьян в отношении помещиков были строго ограничены и регламентированы и чтобы крестьянам было предоставлено право на владение как движимой, так и недвижимой собственностью. Называя торговлю людьми вопиющим злоупотреблением, он предлагал полностью запретить продажу крестьян без земли, продажу их в розницу и на вывод, так же как и перевод из одной деревни в другую без согласия своих крестьян. Десницкий требовал категорического запрета всякого превращения вольных и государственных крестьян в крепостных. Одновременно с этим он считал необходимым ограничение числа дворовых и предусматривал, что помещик обязан возмещать убытки в семье крестьянина, один из членов которой был взят в дворню3.
Мы видим, что при решении вопроса о крепостном праве ярко сказывалась ограниченность Десницкого. Он не выступал с требованием полного уничтожения крепостного права и тем более не
244
поднимался до идеи крестьянской революции. Он ограничивается лишь стремлением регламентировать повинности крестьян, резко сократить эти повинности, значительно ограничить привилегии помещиков в экономическом, политическом и правовом отношении; вместе с тем требования Десницкого исключали возможность распространения крепостного права на новые категории крестьян и на новые территории.
Прогрессивность предложений Десницкого о крепостном праве, несмотря на всю их ограниченность, совершенно очевидна, особенно если мы вспомним, что они выдвигались в условиях укрепления диктатуры помещиков-крепостников, небывалого усиления крепостного гнета, когда дворянам раздаривались сотни тысяч крестьян и происходило закрепощение миллионов крестьян на юге и юго-востоке страны. Именно поэтому предложения Десницкого отражали, хотя и не всегда последовательно, интересы крестьян, интересы новых, буржуазных общественных отношений. Эти предложения Десницкого совпадали с теми предложениями, с которыми выступали в стране в этот период лучшие представители передовой общественно-политической мысли. С аналогичными предложениями по крестьянскому вопросу выступил в 1766 году видный русский просветитель и экономист Алексей Поленов, представивший в Вольное Экономическое общество свою известную работу «О крепостном состоянии крестьян в России». Предложения Десницкого не только совпадали, но и шли дальше тех выступлений в защиту крепостных крестьян, с которыми выступили в комиссии по составлению нового Уложения Г. Коробьин и Я. Козельский. По широте охвата вопросов и по предлагаемым им мероприятиям проект Десницкого несомненно был самым радикальным из всех наказов, предложений и выступлений, имевших место в этой комиссии. Не случайно он не только не был представлен на обсуждение депутатов Комиссии, но о нем даже не упоминалось, а увидел свет он только полтораста лет спустя. Нельзя не отметить того, что предложения Десницкого по крестьянскому вопросу соответствовали позициям, которые занимала передовая русская общественно-политическая мысль в сатирических журналах конца 60-х и начала 70-х годов XVIII века. Таким образом, проект Десницкого был непосредственно связан с той классовой и идейной борьбой, которая происходила в это время в стране, и занимал в ней место на крайнем левом фланге.
Рассматривая речи Десницкого, нельзя упускать из вида обстановку, в которой они произносились, и состав аудитории, для которой они были рассчитаны. Точно так же нельзя забывать и того, что «Представление» писалось для Комиссии по составлению Уложения и поэтому оно могло отражать действительные взгляды Десницкого
245
далеко не полностью. Ведь не случайно Десницкий изложил свое учение о личных правах граждан на жизнь, честь и собственность и противопоставил эти «природные» права сословным правам самодержавно-крепостнической России не в официальных речах и не в «Представлении», а в комментариях к переводу работы Блекстона. Формулировки Десницкого в комментариях таковы, что они могут восприниматься как предтеча «Прав человека и гражданина».
До нас не дошли сведения о последних годах жизни Десницкого, и поэтому трудно понять, что означает фраза его первого биографа «Уволен из Университета в 1787 году»1. Он умер в апреле 1789 года. Вполне вероятно, что это было увольнение, вызванное политическими причинами. Ведь это были годы дальнейшего укрепления дворянской диктатуры в стране и жестоких репрессий по отношению к деятелям передового, антикрепостнического направления.
Мы уже отмечали, что Десницкий был пламенным патриотом своей родины. Начиная с первой своей речи в университете, он славил мужество и стойкость русского народа, который преодолел «непреоборимые и внутрь и вне отечества препятствия» и, «аки некий исполин, проходя сквозь горы, огнь и воду.., неоднократно увенчан славою в средине льдов и в пределах знойных носил неувядаемый венец за свой кровавый подвиг»2. Используя образы и сравнения Ломоносова, Десницкий славил боевые и мирные дела русского народа и твердо верил в его творческие возможности и светлое будущее. В этом плане любопытно сравнить речи, произнесенные в один день Дилтеем и Десницким. Если речь Дилтея являлась пустым восхвалением Павла и Екатерины, то Десницкий, следуя традиции Ломоносова, выдвигал целую программу действий. Он требовал, чтобы Павел употребил свою власть и могущество на «благоустроение гражданства, учреждение порядочных судов, совершение нелицеприятной истины, защищение и просвещение отечества. Это будет превыше всех побед», — заявлял он. «К чему завоевания, к чему покорение народов и распространение держав будет служить, ежели оным просвещение и благоденствие не будет доставлено?» — спрашивал Десницкий. Он говорил и о том, что без развития науки, художеств «вера превращается в гнусное суеверие, воинство в варварское бесчеловечие и гражданство — в сущее политическое грабительство3».
246
В то время как Поповский и Аничков были по существу забыты, Десницкому посвящен ряд работ, появившихся как до революции, так и в советское время. В 1946—1948 гг. появились статьи Б. Сыромятникова, С. Покровского и М. Загряцкова1. Однако ни с одним из этих авторов в оценке мировоззрения и особенно общественно-политических взглядов Десницкого полностью согласиться нельзя.
Совершенно неправильно как сближение требований Десницкого с «Наказом» Екатерины II, так и объявление его идеологом русской буржуазии, «которая в сознании своей слабости ищет своей опоры в абсолютной монархии «просвещенного абсолютизма», что делает Б. Сыромятников2.
Неправомерно и утверждение С. Покровского, что Десницкий был «представителем раннего буржуазного либерализма, с его опасениями народной инициативы и революции, с его упованиями на реформы сверху». С. Покровский сожалеет, что не изучена роль Десницкого в развитии буржуазной либеральной идеологии3. Не соглашаясь с этими оценками, М. Загряцков утверждает, что Десницкий был «выразителем идеологии эксплуататорских классов», «выражал раболепное преклонение перед Екатериной II», «пытался обосновать и утвердить самодержавную власть». М. Загряцков пишет, что «о прогрессивном характере воззрений Десницкого можно говорить лишь с определенной оговоркой», так как «он был далек от защиты интересов и прав народных масс»4.
Как нам представляется, все эти характеристики извращают просветительский, ярко выраженный антифеодальный характер мировоззрения Десницкого и смазывают значение его выступлений против самодержавия и крепостничества. Говоря о Десницком как представителе буржуазного либерализма, авторы этих статей отрывают его от той эпохи, в которой протекала его деятельность, и переносят его в XIX век. Требования Десницкого выражали интересы всей нации, а не только крупной буржуазии. Буржуазный характер требований Десницкого отнюдь не снимает вопроса об их большом прогрессивном значении, о том, что они являлись выражением интересов всего народа. Напомним классическое высказывание
247
В. И. Ленина о просветителях: «....необходимо оговориться, что у нас зачастую крайне неправильно, узко, антиисторично понимают это слово («буржуа». — М. Б.), связывая с ним (без различия исторических эпох) своекорыстную защиту интересов меньшинства. Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40 до 60 годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его...»1. В мировоззрении Десницкого нашли яркое выражение как слабые, так и сильные стороны просветителей, но это не дает никаких оснований сомневаться в его прогрессивности или признавать ее лишь с оговорками. Десницкому была чужда защита своекорыстных интересов меньшинства. Продолжая и развивая линию, начатую Ломоносовым и Поповским, которые дали уничтожающую картину бесчинств европейских колонизаторов («Письмо о пользе стекла», «Письмо о пользе наук»), Десницкий подверг бичующей критике буржуазные порядки в Англии. Он под личиной демократии сумел рассмотреть истинное лицо отвратительной власти денежного мешка. В примечаниях к переводу работы Блекстона он пишет об «обмане, чинимом при выборе членов парламентских», во время которых помещик «может не токмо сам избран быть, но с собою и других премногих по сердцу своему выбрать в члены парламентские». Он указывает, что «сокровиществующие миллионщики ужасное во всем правительстве могут делать наваждение, influence и могут нечувствительно тьмы народов от себя зависящими сделать». Он с гневом говорит о тех «немногих богачах, которые своим безмерным достатком задавляют всех прочих», о том, что «у сокровиществующих миллионщиков даже и самое правосудие может быть нечувствительно на откупе»2.
Утверждение М. Загряцкова о «раболепном преклонении Десницкого перед Екатериной II» основано лишь на похвальных вступлениях к публичным речам Десницкого и свидетельствуют о непонимании самих речей, которые всем своим содержанием были направлены против политики Екатерины. Правильную оценку мировоззрению Десницкого, как впрочем и ряда других учеников и последователей
248
Ломоносова, трудившихся в Московском университете (Поповского, Аничкова, Третьякова), дал И. Я. Щипанов в обстоятельной вводной статье к I тому «Избранных произведений русских мыслителей второй половины XVIII века». Одновременно с этим необходимо отметить, что благодаря этому изданию читатель получил наиболее важные работы Поповского, Аничкова, Десницкого и Третьякова, не переиздававшиеся с 60—70-х гг. XVIII века или, в лучшем случае, с 1820 года.
Мероприятия, предлагаемые Десницким, имели несомненно прогрессивный, антифеодальный характер. Они были прямо направлены против укрепления дворянской диктатуры, против политики Екатерины, сущность которой заключалась в закреплении крепостнических отношений и сохранении и укреплении власти помещиков-крепостников. Осуществление предложений Десницкого открывало путь для ускорения развития новых общественных отношений, рождавшихся в недрах феодального строя. Их осуществление превращало государственную власть в силу, способствующую формированию нового базиса, а не тормозившую всячески его создание, как было с русским самодержавием в XVIII веке. Они выражали и отражали интересы народа, а не интересы господствующего класса крепостников, которые говорили о реформах, писали проекты, не брезговали либеральной фразой, но одновременно с этим предусматривали сохранение феодального землепользования и власти в руках помещиков. В этом коренное, принципиальное отличие программы Десницкого от «Наказа» Екатерины, проектов Н. Панина или Дм. Голицина, преследовавших диаметрально противоположные цели. Всякое отождествление или сближение этих документов говорит о непонимании целей, поставленных перед собой их авторами, и тех результатов, к которым привело бы их воплощение в жизнь.
Соратником и единомышленником Десницкого был Иван Андреевич Третьяков (около 1734—1776). Одновременно с ним он пришел в университет из Тверской семинарии. Вместе они учились в университете, вместе были направлены в Глазго для подготовки к профессорскому званию. Вместе защитили там докторские диссертации и, возвратившись в Московский университет, начали свою работу на юридическом факультете. Научная и преподавательская деятельность Третьякова продолжалась менее 8 лет. Биографические сведения о нем крайне скудны. Небогато и дошедшее до нас его литературное наследство — всего 3 речи.
Дилтей и Лангер, работавшие в университете до Третьякова и одновременно с ним, изучали римское право и преподавали его догматически. Третьяков же стремился показать историю развития римского права, выяснить причины и предпосылки появления новых
249
законов. Он указывал на огромную роль развития собственности в истории общества. Основу силы и процветания страны Третьяков видел в ее экономике и в первую очередь в развитии обмена и торговли. Он называл разделение труда источником развития общества и утверждал, что «по разделении трудов натурально происходит в обществе разделение и самих людей, как то: на хозяев и работников»1.
Третьяков был оригинальным мыслителем и экономистом. Его идеи содержат зачатки теории трудовой стоимости, получившей законченное оформление в работах Адама Смита. Он, называя заблуждением положение о том, что «государственное богатство заключается во множестве злата и серебра»2, утверждал, что богатство страны определяется в первую очередь количеством товаров, имеющихся в стране. Одновременно Третьяков рассматривал труд в качестве основного источника богатства и, разбирая вопрос о «дешевизне и довольстве» той или иной вещи, указывал, что ее стоимость определяется количеством затраченного труда. Останавливаясь подробно на стоимости денег, он отмечал, что когда «люди начинают проницать в земные недры, доставать руды и преображать из них некоторые в монету», когда европейцы «завладели рудокопными заводами Мексиканскими», количество драгоценных металлов значительно возросло и стоимость денег резко понизилась. Третьяков указывал, что развитие промышленности, дальнейшее разделение труда и повышение культурного уровня населения ведут к росту производительности труда, следствием чего является понижение стоимости денег. Вместе с тем Третьяков утверждал, что человечество всегда в состоянии своим трудом обеспечить себя всем необходимым, и, в отличие от Адама Смита, отмечал большую роль государства в развитии хозяйственной деятельности людей и создании народного богатства3.
Большое место в речах Третьякова занимал вопрос о положении людей «нижнего сословия». Он указывал, что «закоснение в одном (состоянии), есть такое злополучие смертных, что к претерпению оного и у самих стоиков великодушия не достает», и называя законы, закрепляющие это, «противными натуре человеческой»4.
Он клеймил тех, кто «по своему высокоумию на вольность народную посягнул», и указывал, что монархия привела Рим к гибели.
Третьяков придавал огромное значение развитию наук и отмечал, что их развитие тесно связано с разделением труда, со все возрастающими потребностями общества, с развитием торговли и
250
промышленности. Он указывал, что ремесла и «художества издревле и поныне во всех государствах всегда предваряют науки»1. Рассматривая развитие и роль науки, он отмечал тесную взаимосвязь наук между собой.
С большой силой он говорил о той крайне вредной роли, которую сыграла в истории науки церковь. Он утверждал, что церковь поддерживала и распространяла самое дикое невежество и суеверие, «заставляла воевать за свои софизмы» и пользовалась невежеством народа, чтобы упрочивать и расширять свою власть и свои доходы.
В своих речах Третьяков очень резко обрушивался на вредную деятельность иезуитов, монахов, церкви. «Истинно удивления достойно, что Цицерон и Демосфен с неподражаемым красноречием не могли столько слушателей в свою сторону склонить, сколько гугнивый и косноязычный капуцин с безосновательным учением в своих школах успел»2.
Он приветствовал отстранение духовенства от гражданского управления и изъятие университетов из-под непосредственного подчинения духовным властям. Позиции Третьякова по вопросу о происхождении религии, как уже указывалось выше, совпадали с позициями Аничкова.
Говоря о развитии наук, Третьяков указывал, что имеется «два рода учащихся людей: одни учились для испытания натуры и оныя испытанием и сами питались; другие, не входя в такую глубину, для препровождения праздного времени подражать и последовать первым за украшение себе почитали»3. Он отмечал, что целиком посвящали себя науке и двигали ее вперед именно «поднявшиеся из нижнего состояния». Такое положение Третьяков считал типичным не только для далекого прошлого, что он подтверждал целым рядом примеров, но и для настоящего времени. «Нынешние ученые все почти такого ж происшествия и существа», — говорил он и призывал своих слушателей следовать их примеру. Что же касается представителей «вышнего состояния», то от них, по его характеристике, «никакой пользы науке нет»4.
Занимаясь вопросами истории, Третьяков считал необходимым изучение народных преданий, легенд и других форм устного народного творчества.
Подобно другим представителям ломоносовского направления Третьяков подчеркивал, что необходимым условием развития наук
251
и их широкого распространения является преподавание на родном языке. Одновременно с этим Третьяков требовал от преподавателей ревностного исполнения своих обязанностей.
Работы Третьякова по своему содержанию и направлению были тесно связаны с потребностями экономического развития страны и были выражением активной поддержки ростков нового, пробивавших себе дорогу в условиях крепостничества. Как и работы Десницкого, они занимают видное место в истории русской передовой философской и общественно-политической мысли третьей четверти XVIII века.
Семен Зыбелин, Петр Вениаминов, Матвей Афонин
В 60—70-х гг. в Московском университете развернулась научная и общественная деятельность группы ученых-естественников, отстаивавших передовые принципы в науке и основывавшихся на материалистических идеях Ломоносова. К этой группе принадлежали естественники С. Г. Зыбелин, П. Д. Вениаминов, М. И. Афонин и И. А. Сибирский. Все они, за исключением Сибирского, были в числе первых питомцев университета. Их ближайшими руководителями были непосредственные ученики Ломоносова и в первую очередь Н. Поповский.
Семен Герасимович Зыбелин (1735—1802) и Петр Дмитриевич Вениаминов1 были в числе первых студентов Московского университета. По окончании философского факультета они были направлены для подготовки к должности профессоров сначала в Кенигсберг, а затем — в Лейден. После защиты в 1764 году диссертаций и получения звания докторов наук, они возвратились в 1765 г. в Москву и приступили к преподаванию в университете анатомии, хирургии, химии, ботаники и других предметов естественно-научного цикла.
Занимаясь изучением человеческого организма, Семен Зыбелин основывался на материалистических взглядах Ломоносова. Он по праву может быть назван отцом русской профилактики и педиатрии, одним из создателей русской научной терминологии в области медицины.
252
Он шел за Ломоносовым, когда утверждал, что наука не может двигаться вперед, если будет держаться за устаревшие теории. «Науки страдают особенно от тех, кои обожают древность мнения, старость сочинителя или его знатность, почитая таких мыслителей за неотложных законодателей и подражают им по единому только предубеждению». Если бы люди науки боялись касаться утвержденных традициями и авторитетами «изобретаний и мнений», то мы до сих пор все еще были бы погружены в «глубокую глупость». «Робость в открытии своих мнений свободности наук неприлична; но смелость, разумом и искусством сопровождаемая, честь и похвалу заслуживает»1, — утверждал Зыбелин. В качестве примера такого смелого и исключительно важного открытия он приводил открытие кровообращения.
В многочисленных речах, произнесенных им в университете, Зыбелин рассматривал целый ряд вопросов, но через все его речи проходит красной нитью идея обеспечения долголетия человека, сохранения человеческой жизни и здоровья. Его речи лишь формально называются похвальными, в действительности это — серьезные научные работы, к которым в начале или в конце механически присоединены 2—3 страницы похвал по адресу Екатерины.
Значительное место в его речах занимает вопрос о строении человеческого тела. В его изложении нет места ни душе, ни божественному вмешательству. С материалистических позиций он рассматривал вопрос о происхождении теплоты, строении воздуха, процессе дыхания, устройстве внутренних органов человеческого тела.
Зыбелин настойчиво пропагандировал идею о том, что основной задачей является не столько лечение болезней, сколько предотвращение их. Он требовал закалять организм человека, добиваться, чтобы он был невосприимчив к болезням.
Особенно большое внимание уделял Зыбелин вопросам охраны здоровья детей. На основе изучения смертности в разных странах и материалов о детской смертности в России Зыбелин указывал на исключительную важность этого вопроса для России. Он создал первые русские руководства по уходу за грудными детьми и наставления для беременных женщин. Оценивая работы Зыбелина в этом направлении, проф. Конюс замечает, что речи Зыбелина «предвосхитили будущие достижения науки в области диэтетики раннего детства». Что касается сохранения здоровья детей и предупреждения детской смертности, тот же автор пишет: «Зыбелин, почти
253
200 лет назад, давал советы, под которыми мог бы подписаться и сейчас любой из современных педиатров»1.
Уделяя большое внимание вопросам народонаселения, Зыбелин творчески развивал и дополнял положения, выдвинутые Ломоносовым в «Письме о сохранении Российского народа». Он утверждал, что причиной медленного роста народонаселения является тяжелое экономическое положение крестьянства, а «особливо чрезвычайные налоги и утеснения, кои заставляют больше воздыхать, нежели помышлять о браке»2. Голод, крайне плохие материальные условия, полное отсутствие медицинской помощи уносят колоссальное количество людей, говорил Зыбелин и требовал, чтобы правительство рассматривало этот вопрос как вопрос исключительной важности.
Один из лучших врачей в Москве, он в продолжение 15 лет работал бесплатно в университетском госпитале, бесплатно лечил бедняков и пользовался огромным авторитетом и любовью. Он, как и его друг Вениаминов, во время эпидемии чумы в Москве в 1771 году был одним из организаторов и руководителей борьбы с этой эпидемией и сотни раз рисковал своей жизнью.
Ученый-патриот, он славил свою родину и, обращаясь к слушателям, требовал, чтобы они «учились быть полезны в обществе». «Проходите дебри и горы, презирайте пучины, попирайте землю, подавляйте море, побеждайте и карайте востревоживших Россию, отечество ваше...»3, — звал Зыбелин. Он страстно ратовал за распространение просвещения и медицинских знаний среди своего народа. Он принимал деятельное участие в работе Вольного Российского Собрания и Российской академии. По его инициативе и под его руководством университет предпринял издание истории Татищева. Свое единственное богатство — большую библиотеку — Зыбелин завещал университету. Характерно, что после его смерти администрация университета упразднила кафедру практической медицины и химии, которая была восстановлена лишь по уставу 1804 года.
Как рядом с Десницким действовал его друг и товарищ Третьяков, так рядом с Зыбелиным шел Вениаминов. Вместе они пришли в университет, вместе учились за границей, одновременно получили профессорские кафедры. В Московском университете Вениаминов был первым профессором ботаники. Изучая растения, он указывал на то, что по составу веществ они одинаковы с телами животных. Вениаминов проделал большую работу по изучению флоры
254
Московской губернии. Под его руководством студенты составили подробнейший гербарий этого района.
Почти 10 лет Вениаминов редактировал газету Московского университета «Московские ведомости». Так же как и Зыбелин, он пользовался известностью первоклассного врача и принимал деятельное участие в борьбе с чумой. Вениаминов весь отдавался преподаванию, и смерть застала его в 1775 году во время одного из занятий со студентами.
Матвей Иванович Афонин (1739—1810) вошел в историю русской науки как первый русский ученый, занимавшийся вопросами почвоведения и агрономии. Он поступил в университетскую гимназию в 1755 году и еще в годы своего учения обнаружил явную склонность к естественным наукам. В 1758 году он был направлен в Кенигсбергский университет, откуда переехал в Упсалу, где занимался под руководством Линнея изучением ботаники, зоологии, минералогии и других предметов, относящихся к естественной истории. Кроме того, находясь в Швеции, Афонин изучал горное дело и самостоятельно работал над изучением земледелия и луговодства. В Упсале Афонин защитил диссертацию и получил степень доктора. Линней очень высоко ценил его диссертацию и дважды ее издавал.
По возвращении в Россию (в 1769 г.) Афонин преподавал в университете естественную историю. Им впервые было начато преподавание «основ земледелия» (агрономии). Он первым стремился связать химию с земледелием.
В своих работах Афонин продолжал и развивал положение ломоносовской статьи «О слоях земных». Он изучал происхождение и виды почв, делал попытку их классификации и ставил вопрос о наиболее рациональном их использовании. Афонин разрабатывал вопрос о значении в сельском хозяйстве торфа и одним из первых в России поставил вопрос о его использовании в качестве удобрения.
Заслугой Афонина перед русской наукой является пропаганда изучения почв страны. Он выдвинул идею о необходимости создания почвенного музея, где должны быть сосредоточены основные виды почв для каждого из районов страны. Следует отметить, что эта важная идея Афонина была воплощена в жизнь только в наше время. Его предложение о присылке из всех частей страны образцов почвы для этого музея (по его терминологии, коллекции) прямо перекликалось с известным предложением Ломоносова о сборе образцов русских минералов. В своих работах Афонин показывал значение лесов для сельского хозяйства и требовал систематических посадок леса и необходимости производить рубку леса так, чтобы было обеспечено сохранение и восстановление основных лесных массивов страны.
255
Постоянные придирки администрации и травля, которой подвергался Афонин со стороны реакционной профессуры, завершились в 1777 году изгнанием этого выдающегося русского ученого из Московского университета1. После нескольких лет работы по химии в Петербурге Афонин переселился в Крым, где он продолжал свою работу по химии и агрономии. Ученики Афонина профессор Ливанов и другие выступили организаторами первых сельскохозяйственных учебных заведений в России. Следует отметить, что Шевырев и другие представители буржуазной науки фальсифицировали биографию Афонина, утверждая, что он покинул университет по собственному желанию по причине «слабого здоровья»2. Как первый русский профессор, работавший над вопросами почвоведения и агрономии, Афонин занимает видное место в истории отечественной науки.
В конце 60-х годов кафедру профессора занял выращенный университетом молодой химик и физиолог Иван Андреевич Сибирский. Он рано умер, но его немногочисленные работы показывают, что Сибирский был химиком ломоносовской школы. Он изгонял из химии флогистон и рассматривал горение как химический процесс.
Деятельность и труды передовых ученых-естественников университета показывают, что они двигали русскую науку вперед, укрепляли и расширяли базу для дальнейшего развития материалистической философии и были тесно связаны с насущными потребностями и жизнью страны.
*****
Работа передовых ученых университета развертывалась в условиях острой борьбы с реакционерами. Именно научная, учебная и общественная деятельность передовых русских ученых, выступавших за развитие и претворение в жизнь ломоносовских традиций, обеспечила успешное выполнение Московским университетом стоявших перед ним задач.
Между тем не только в старых работах (Шевырев, Снегирев, Бартенев, Ашевский и др.), но и в новых (Сыромятников, Гажинцев, Бахрушин) все успехи университета в XVIII веке в научной и учебной работе приписываются иностранным профессорам, приглашенным Шуваловым и Адодуровым в Московский университет (Рейхель,
256
Шаден, Дилтей, Рост, Складан и др.). В связи с этим необходимо хотя бы кратко показать действительный характер их деятельности.
Большая часть иностранных профессоров, работавших в университете в 50—70-х годах XVIII века, не принадлежали к представителям передовой науки. Причина в том, что Шувалов и Адодуров приглашали через Миллера и Штелина отъявленных реакционеров.
При изложении вопросов о преподавании на русском языке, о составе студенчества, о работе лабораторий и кабинетов университета, об отношении профессоров к своим обязанностям и при характеристике деятельности отдельных представителей ломоносовского направления реакционная роль иностранной профессуры Московского университета уже была показана. Реакционеры в науке и в политике, иностранные профессора боролись против ориентации последователей Ломоносова на демократизацию науки и образования. Эта борьба сливалась с их борьбой против материализма. История с диссертацией Аничкова является ярким примером этой борьбы.
С позицией, занятой ими во время защиты диссертации Аничкова, смыкается их настойчивое требование об учреждении в Московском университете богословского факультета.
Первым иностранным профессором Московского университета был Ф. Г. Дилтей. Представитель прусской школы схоластического догматизма и крючкотворства в области права, он следовал в своих лекциях за Пуффендорфом. Впрочем, Дилтей не слишком утруждал себя лекциями в университете. Вся его энергия была направлена на организацию платных лекций у себя на дому. Едва приехав, он начал читать частные лекции по натуральному праву, к которым вскоре добавились геральдика, «универсальная история от сотворения мира до рождества христова», география и «политика». Причина такого «усердия» вполне понятна. Уже через два года после приезда Дилтей мог объявить, что «чтение лекции происходит в собственном доме профессора». О целях Дилтея достаточно ясно говорит опубликованное им объявление. «Чтобы не терять время в писании оных уроков, то он сочинил и перевел свои исторические лекции и их издал в печать по 2 рубля. Кто желает пользоваться книжкой не слушая толкования профессора, пусть пришлет 2 рубля»1. В погоне за деньгами, Дилтей открыл впоследствии пансион для подготовки крепостных приказчиков, секретарей и дядек2.
«Труды» Дилтея по праву, истории, географии представляют из себя псевдонаучные компиляции, поражающие своей отсталостью
257
Чтобы не быть голословными, возьмем для примера изданную Дилтеем в 60-х годах трехтомную работу по всеобщей истории1. Написанная в форме вопросов и ответов, она является попыткой насадить в Московском университете средневековую схоластику. Книга Дилтея представляла из себя пересказ библии и давно устарелых работ по истории. Убогая по содержанию, она не имела ничего общего с наукой. Рассуждения Дилтея о славянах, скифах и других народах Восточной Европы столь же нелепы и безграмотны, как и его сведения по ряду других вопросов.
Поповский еще в 1758 году отказался подписать аттестат этому бездельнику, указывая, что он не нужен Московскому университету, но требование Поповского не было удовлетворено Шуваловым. В 1764 г. не выдержала даже профессорская конференция и куратор Адодуров. Дилтей был уволен из университета. В числе других обвинений, предъявленных Дилтею, фигурировало, что он часто не бывал на лекциях, а когда и бывал, то приходил лишь на последний час, однако и в этом случае «часто выходил не читав лекций», что в его сочинениях «из других весьма известных книг целые страницы от слова до слова выписаны к стыду университета и самого сочинителя»2, что его «Универсальная история» такова, «что публиковать и публике показывать не можно и стыдно»3; что все свое старание он употребил не на пользу университету, а «к одному своему прибытку». Университет указывал, что в результате таких действий Дилтея «студенты к слушанию его лекций никакого желания не оказали и ходить на оные не хотели»4.
Дилтей подал жалобу в Сенат, она два года странствовала от одной инстанции к другой, пока не попала в руки Екатерины. Ее решение по делу Дилтея заставляет вспомнить ее же решение по делу Шлецера. Оно было неожиданным для университета, но вполне закономерным для политики Екатерины II. Екатерина приказала восстановить Дилтея в качестве профессора, заплатить ему жалование за те два года, пока тянулось дело, прибавить ему жалование в дальнейшем, выделить ему немедленно студентов, и если он захочет, то поручить ему за особую плату преподавание греческого языка5. Впрочем, с греческим языком у Дилтея получился полный конфуз. Он не справился с переводом нескольких строк Гомера и дал
258
совершенно безграмотный перевод отрывка из речи Демосфена. В отчете не без иронии отмечается, что когда он выпросил пять дней для перевода десятка строчек Гомера, «то и совсем там был еще меньший успех»1.
И этого-то невежду и бездельника Шевырев объявил «основателем юридического факультета, первым, кто начал изучать русское право» и преподавать его историю. Фальсифицируя факты, он писал, что Дилтей «был замечателен у нас и своей педагогическою деятельностию: издал много полезных учебных, особенно географических книг»2. Эту совершенно неправильную оценку повторил и С. В. Бахрушин3.
Вместе с Дилтеем на юридическом факультете подвизался и некий Лангер, не имевший никакого ученого звания. Это не помешало Адодурову, по рекомендации Миллера, выписать его из Германии, сделать профессором и поставить в особо привилегированные условия. В том, что Адодуров всячески препятствовал получению кафедр последователями Ломоносова и одновременно с этим всячески покровительствовал реакционерам, которых рекомендовал Миллер, нет ничего удивительного. Это полностью соответствовало политике Екатерины II и отношениям Адодурова с Миллером. Именно в это время Адодуров писал ему: «Я так много с молодых лет Вами одолжен, что Вы имеете повелевать мне во всем»4.
Выше были показаны принципы, лежавшие в основе мировоззрения и деятельности Десницкого и Третьякова. Их прогрессивный характер выступает с особой силой при сопоставлении с идеалистическими, реакционными утверждениями Лангера. Он идеалистически решал основной вопрос философии. «Всемогущий бог благоволил оставить в человеке некоторые предложения и начала практические, которые философы называют начальными в душе изображавшимися понятиями, дабы вглубь самого сердца его иметь провозвестники своей воли»5. Лангер называл законы «божьим даром» и утверждал, что они божественного происхождения. Он подробно расписывал, как Моисей получил первые законы непосредственно от бога и они легли в основу всех человеческих законов. Само возникновение
259
и развитие человеческого общества Лангер называл «проявлением божественного промысла». При объяснении вопроса о происхождении власти и государства Лангер основывался на священном писании и работах Пуффендорфа. Он проповедовал, что люди добровольно «прибегли к одному добродетельнейшему», который «не считаясь с силой и богатством, одними и теми же правами удерживал самых знатных и самых незнатных» и таким путем учредил судебную и государственную власть1. Лангер рассматривал царя как правителя, данного народу богом, и утверждал, что власть одного человека над всеми существовала всегда. Он отрицал, что человечество когда-либо находилось в первобытном состоянии, на том основании, что в таком случае оно не могло бы пользоваться божественными законами и получать от бога себе правителя. Неудивительно, что самым тяжелым преступлением Лангер считал оскорбление бога. Он восхвалял самодержавную власть и утверждал, что любое желание монарха имеет силу закона2.
Идеалистическая и антинаучная сущность этих и подобных утверждений Лангера не требует никаких пояснений.
Мы уже говорили об отношении к своим обязанностям профессора Керштенса. Яркое представление о его мировоззрении дает его утверждение, что Россия будет пользоваться внутренним и внешним спокойствием до тех пор, пока в ней будет сохраняться монархия. «И ежели в России находятся поселяне, которые для себя ни пищи, ни других нужных к житию припасов сыскать не могут, то в том ни на суровость климата, ни на неплодородие земли, жаловаться не можно». Все дело в их лени и неумении работать, объяснял Керштенс. «Кто вздумает жаловаться на подати и пошлины, то тот несправедлив и великий клеветник»3, — заявлял он. В довершение всего Керштенс делал следующее откровение: «Труд не приносит крестьянину вреда, особенно когда он не столько для себя, сколько для помещика трудится»4.
Одним из самых крайних реакционеров, главой этого лагеря, был профессор И. Г. Рейхель. По рекомендации Миллера и Штелина в 1757 году он был выписан для преподавания немецкого языка, но скоро оказался в роли профессора истории. Шевырев, расписывая его «выдающиеся заслуги», утверждал, что «Рейхель принадлежал
260
к числу профессоров иностранных, действовавших с большою пользою на молодое поколение студентов»1.
В действительности Рейхель был злейшим врагом всего прогрессивного. Он выступил со злобным доносом на Аничкова и его диссертацию. Он переводил на немецкий язык «догматы православной церкви» и речи, посвященные памяти такого же мракобеса и изувера, как он сам, московского архиепископа Амвросия. Он расточал особые похвалы Екатерине II за «ревностное её старание о утверждении православия и веры» и видел в этом яркое проявление «ее мудрости»2. Рейхель был сторонником подчинения науки религии. Утверждая, что наука основана на «божественном провидении», он рассматривал историю в качестве «зерцала божеского провидения»3.
Рейхель на все лады расхваливал философов-идеалистов, особенно Платона, которого он называл великим философом, противопоставлял «нынешним заблудившим философам» и утверждал, что сам Юпитер не сказал бы лучше, чем говорил Платон4.
Идеализм у Рейхеля сочетался с крайней политической реакционностью. Он называл государя «представителем бога на земле», которому «сам бог даровал величие, силу и управляющую власть». Его действия Рейхель называл выполнением воли бога, а исполнение желаний и повелений государя — «высшей честью для подданных». Сравнивая монархию с республикой, Рейхель утверждал, что только монархия «обеспечивает воспитание подлинной любви к отечеству», и называл ее «несравненно совершеннейшим образом правления». Высшим проявлением этого божественного провидения Рейхель называл Екатерину II и расточал самые безудержные похвалы по ее адресу, называя начало ее царствования началом новой эпохи в истории человечества5.
Рейхель был ярым врагом русской национальной культуры, он презирал русский народ, его язык и не верил в его творческие силы. В связи с составлением нового устава и штата Московского университета Рейхель злопыхательски издевался над проектом
261
расширения университета. Он заявлял, что такой университет чересчур велик и не нужен для России1.
Рейхель пропагандировал в университете идеализм и мистику и боролся против материалистического и демократического направления в университете. В этой борьбе его активно поддерживали профессора Шаден и Скиадан.
Шаден так же, как и Рейхель, на все лады восхвалял монархию и утверждал, что перед ней должны отступить все другие формы государственного правления. Курс философии, который он читал в университете, представляет собой яркий образец пропаганды религии и идеализма. «Бог — вот главная и первая истина, составляющая душу всех истин; как бог есть начало и конец всего, так существенная и притом чистейшая любовь к богу есть душа всех законов», — утверждал Шаден. Он требовал, чтобы ученые и студенты усердно молились, прежде чем начинать заниматься философией. Шаден настаивал на подчинении науки и разума могуществу веры и уверял, что только религия может «объяснить тайну соединения души с телом»2.
Скиадан, как и Шаден, доказывал, что особенности России требуют для нее монархического правления, и утверждал, что ничего лучше для русского народа нельзя придумать. Он настаивал на божественном происхождении законов и монархической власти3. Скиадан пропагандировал идеалистические концепции, восхвалял Платона и других философов-идеалистов. В центре его речей — душа, религия, бог.
Существование материальных вещей, их качества Скиадан объяснял действиями «некоторого существа, само по себе необходимо существующего, все прочие вещи сотворившего, следственно всемогущего, премудрого, всеправедного, святейшего, всеистинного и всеблагого, богом называемого»4. В данном случае можно согласиться с Шевыревым, писавшим, что «Скиадан своим учением старался противодействовать материализму наук медицинских»5. Сопоставление речей Скиадана и представителей ломоносовского направления в медицине
262
и естественных науках — Зыбелина, Афонина и Вениаминова, показывает, какая пропасть лежит между ними.
Та острая идейная борьба, которая развернулась в университете, отнюдь не была борьбой «русских и немцев», как это пытались изобразить представители официальной историографии. Это была борьба передовой, материалистической науки против реакции и идеализма, борьба формирующейся освободительной общественно-политической мысли против монархических и продворянских концепций, борьба течений, которые выражали, с одной стороны, интересы новых общественно-экономических явлений и широкие общенациональные интересы, а с другой — интересы помещиков-крепостников. Выше уже говорилось, что реакционные профессора опирались на постоянную поддержку со стороны администрации университета, которая целиком состояла из русских аристократов и русских чиновников. Во время обсуждения острых вопросов размежевание проходило не по национальному признаку, а в зависимости от того, какую позицию в науке и политике занимали те или другие ученые. Сошлемся снова на диссертацию Аничкова.
Среди иностранцев, работавших в университете, мы встречаем профессоров, которые честно относились к своим обязанностям. Назовем хотя бы медика Керестури Ф. Ф. (1735—1811), систематически проводившего изучение органов человека на трупах и введшего в практику занятий применение микроскопических исследований. За время своей работы в университете Керестури подготовил значительное для того времени количество врачей, а в начале XIX века выступил как один из организаторов первого в России научного медицинского общества.
О том, что реакционная профессура выступала против передовой науки независимо от того, кто являлся ее представителем, как нельзя лучше говорит дело молодого немецкого ученого проф. Иогана Мельмана, работавшего в университете в 1786—1795 гг. Вскоре после расправы над Радищевым, Новиковым и другими представителями передовой русской культуры московские власти узнали, что Мельман в своих лекциях выступал против религии и советовал студентам отбрасывать все, что противоречит человеческому разуму и реальной действительности. В университете против Мельмана единодушно ополчились и потребовали его немедленного увольнения из университета и русские, и немецкие реакционеры. Подвергнувшийся аресту и пыткам в тайной канцелярии, Мельман был доведен до психического расстройства и самоубийства.
На основе всего сказанного совершенно ясно, что Шевырев имел все основания превозносить до небес мнимые научные достоинства Рейхеля, Дилтея, Шадена, Лангера, Скиадана и им подобных. Совершенно
263
понятно, почему он так старательно раздувал и приукрашивал их роль в деятельности Московского университета и в то же время замалчивал и фальсифицировал деятельность и заслуги выдающихся деятелей русской передовой науки. Совершенно прав был Щапов, когда называл Дилтея и Шадена «немецкими Катковыми прошлого столетия» и утверждал, что своей деятельностью они долго и сильно сдерживали развитие в России естественно-научного реализма (читай материализма). Он был совершенно прав, когда обвинял их в том, что они не только не содействовали развитию науки, а мешали этому. Своей пропагандой схоластики, мистики и идеализма они стремились задушить передовое, материалистическое направление в русской науке1.
Характеристика деятелей передового направления с одной стороны, показ содержания деятельности реакционеров — с другой, со всей убедительностью раскрывает ошибочность очерков по истории Московского университета, появившихся в 1940 году. Автор раздела по истории университета в XVIII веке С. В. Бахрушин извратил роль и место Ломоносова и его последователей и вслед за Шевыревым поднял на щит представителей реакции.
В данной работе мы лишены возможности осветить деятельность и мировоззрение просветителей, связанных с Московским университетом, но непосредственно в этот период в Московском университете не работавших. Сказанное в первую очередь относится к просветительской деятельности Николая Новикова, которую Белинский назвал благодетельным подвигом необыкновенного человека, «которого вся жизнь и деятельность была направлена к общей пользе»2. Из Московского университета Новиков вынес страстную любовь к русскому слову, к русскому народу, его истории и столь же страстную ненависть к крепостничеству. Новиков, на всю жизнь сохранивший чувство глубокого уважения к Ломоносову, заботливо собирал и публиковал материалы о Ломоносове и его ученике Поповском. В свой словарь он включил биографии всех представителей ломоносовского направления в Московском университете. О связях Новикова с университетом говорит то, что он был избран членом Вольного Российского Собрания. Его замечательная деятельность по изданию журналов и книг была непосредственно связана с университетом и была подготовлена просветительской деятельностью последователей Ломоносова и издательским делом самого университета.
264
То же можно сказать о Денисе Фонвизине, получившем образование в университете, начавшем еще в его стенах свою литературную деятельность и связанном с ним и в последующие годы, о Василии Баженове, Петре Плавильщикове, Михаиле Чулкове и многих других деятелях русской культуры и науки. Но это так же, как и вопрос о развитии в университете ломоносовских традиций и борьбе за научное и философское наследство Ломоносова в Московском университете XIX века, составляет темы для больших самостоятельных работ.
265
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование документов и материалов, убедительно показывает, что Ломоносов был инициатором создания Московского университета, что основание университета — это не частный или второстепенный факт в его многогранной деятельности, а одно из наиболее важных, одно из центральных действий всей жизни. Основание Московского университета было органической частью всей деятельности Ломоносова, его борьбы за развитие русской культуры и науки, за победу в нем материалистического, демократического направления. Оно было тесно связано с самоотверженной борьбой Ломоносова против низкопоклонства господствующих классов.
Создание Московского университета было важным и крупным событием в жизни страны и истории русской национальной культуры и науки. Значение этого события было особенно велико потому, что составленный Ломоносовым проект университета обеспечивал наличие необходимых условий для развития в первом русском университете передовых научных направлений, для развития в нем материалистических, демократических и патриотических тенденций.
266
Учебная, научная и общественная деятельность Московского университета и в первую очередь его передовых ученых убедительно показывает, что история Московского университета и история его основания — это отнюдь не второстепенный вопрос, который может представлять лишь частный, узкий интерес.
Основание Московского университета и его деятельность в XVIII веке — это одна из важнейших страниц в истории формирования материалистического и демократического направления в русской культуре и науке, в истории зарождения русской материалистической философии, в развитии передовой русской общественно-политической мысли и, в частности, в формировании ее освободительного, антикрепостнического, демократического направления, в истории формирования русского просветительства.
В условиях, когда развитие национальной культуры и науки являлось первостепенным вопросом, русский народ выдвинул из своей среды целую группу передовых ученых и мыслителей, которые в условиях крепостнического гнета, вопреки реакционной политике самодержавия и помещиков-крепостников, смело двигали науку вперед и ломали препятствия, стоявшие на пути развития русской национальной культуры и науки. Трудами передовых ученых Поповского, Аничкова, Десницкого, Афонина и других Московский университет превратился в крупнейший центр русской культуры и науки.
Роль Ломоносова в истории Московского университета не ограничивается тем, что он выступил инициатором его основания и составителем его проекта. Идеи и теории Ломоносова, его передовые материалистические и патриотические традиции оказали большое и плодотворное влияние на мировоззрение и деятельность передовых ученых университета. Поповский и Барсов, Аничков, Десницкий и Третьяков, Зыбелин и Вениаминов, Афонин и Сибирский, каждый в своей области, творчески применяли и развивали передовые идеи Ломоносова. Достаточно вспомнить диссертацию Аничкова и его работы, относящиеся к теории познания, идеи о происхождении семьи и государства у Десницкого и его предложения, направленные на ограничение самодержавия и крепостного права, вопросы народонаселения и их трактовку Зыбелиным, вопросы почвоведения и их трактовку Афониным, чтобы увидеть, что это — творческое продолжение и развитие соответствующих сторон мировоззрения и научной деятельности Ломоносова. Их замечательные работы представляют следующий после Ломоносова шаг в истории развития русской передовой науки и материалистической философии.
Деятельность передовых ученых университета показывает, что ни Ломоносов, ни Радищев не были одиночками. Ученики и последователи
267
Ломоносова, трудившиеся в университете, Академии Наук и вне этих учреждений, отстаивали и развивали идеи Ломоносова, его материалистические и патриотические традиции. Их мировоззрение и деятельность представляют собой важное связующее звено между Ломоносовым и Радищевым. Что на формирование философских взглядов и мировоззрения Радищева огромное влияние оказал материализм Ломоносова, давно не вызывает никаких сомнений. Но не следует забывать и того, что в период развития русской культуры и общественно-политической мысли, в период, который может быть условно назван «от Ломоносова до Радищева», развернулась деятельность целого ряда замечательных просветителей. Среди них почетное место по праву принадлежит ученикам и последователям Ломоносова, трудившимся в Московском университете. На традициях просветителей формировался пламенный патриотизм Радищева, глубокий интерес к творчеству русского народа, вера в силу печатного слова, ненависть к самодержавию и крепостничеству, вера в творческие силы и возможности народа, выдвигающего таких сынов, как Ломоносов. Ученики и последователи Ломоносова своей деятельностью подготовили переход русской общественно-политической и философской мысли на качественно новый этап — к революционной антикрепостнической идеологии великого русского революционера и патриота А. Н. Радищева.
Хотя Радищев и не учился в Московском университете, но детские годы (до 1762 г.) он провел в Москве в семье Аргамаковых, тесно связанных с передовым, демократическим направлением в университете.
Радищев, несомненно, был знаком с работами последователей Ломоносова: об этом говорит как само содержание его произведений, так и то, что он внимательно изучал идейную борьбу, развертывавшуюся в это время в России. Базой, на которой выросло революционное мировоззрение Радищева, являлись особенности общественно-экономического строя страны в тот период и вызываемые ими классовые и социальные противоречия, борьба народа против крепостничества. Одним из существенных элементов общественной жизни страны в период, предшествовавший революционному выступлению Радищева, являлась деятельность русских просветителей, значительная часть которых трудилась в стенах Московского университета.
Именно опираясь на работы Ломоносова и его последователей, Радищев поднял философскую и общественно-политическую мысль России на новую высшую ступень. Его революционные антикрепостнические теории, знаменовавшие собой начало нового этапа в развитии русской общественно-политической и философской
268
мысли, были вершиной, которой достигала человеческая мысль в XVIII веке.
На примере учеников и последователей Ломоносова, на судьбе их произведений особенно ярко видно, как злостно клеветали на русскую передовую культуру и науку и ее лучших деятелей, представители буржуазной науки.
Работы основоположника русской науки и материалистической философии М. В. Ломоносова и его учеников и последователей — Поповского, Аничкова, Десницкого, Третьякова и др. — опровергают представление о том, что русская наука и философия значительно отставали от западноевропейской науки того времени, что даже передовые деятели русской науки и культуры занимались простым пересказом соответствующих теорий и концепций, распространенных на Западе. Более того, исследование мировоззрения и деятельности Ломоносова, его учеников и последователей позволяет поставить вопрос о России как об одном из центров материализма в XVIII веке и о роли Московского университета того времени, в развитии материализма в России. В работах Ломоносова и его учеников и последователей ставились те же основные вопросы, что и в произведениях французских материалистов-просветителей, и решались в том же направлении. Это говорит о самостоятельности русской науки и культуры, о высоком уровне, которого она достигла к этому времени.
Одновременно с этим необходимо подчеркнуть, что условия работы русских и французских просветителей и их влияние на развитие культуры и науки были различны. Исторические условия сложились так, что французские материалисты могли более или менее свободно высказывать свои мысли, печатать и распространять свои работы. Их значение в истории развития материалистической философии и передовой общественно-политической мысли огромно. Они оказали большое и благотворное влияние на развитие национальных культур ряда стран Европы.
Иначе обстояло дело в условиях самодержавно-крепостнического строя екатерининской России. Русские просветители подвергались репрессиям со стороны духовных и светских властей. Их работы калечились цензурой, уничтожались, о них запрещалось даже упоминать. Эта не могло не сказаться на размерах их влияния на русскую науку и культуру, на распространении их идей в стране.
Если работы русских просветителей замалчивались в XVIII в., то в последующем представители дворянской и буржуазной историографии извращали историю развития русской культуры и общественно-политической и философской мысли. Особенно сильно фальсифицировалось
269
мировоззрение и деятельность лучших представителей национальной культуры. Эта фальсификация проводилась тем усерднее, чем более реакционную политику занимала русская буржуазия, чем сильнее выступала экономическая и политическая зависимость царской России от капиталистического Запада. Только этим можно объяснить, что о России и о Московском университете как центре материализма в XVIII веке почти нет даже и упоминаний.
Передовые деятели русской науки и культуры и, в частности, ученики и последователи Ломоносова не отгораживались китайской стеной от западноевропейской науки. Несмотря на препятствия, которые создавало для этого самодержавие, они брали и использовали все лучшее, что создавалось на Западе. Но при этом они брали только лучшее и были совершенно свободны от низкопоклонства перед Западной Европой. Всем им были присущи чувство национального достоинства, патриотизм и сознание чувства общественного долга.
Деятельность учеников и последователей Ломоносова в Московском университете носила ярко выраженный характер борьбы за русскую национальную культуру и науку. Это не случайно. На данном этапе развития социально-экономических отношений и классовых противоречий в России борьба за национальную культуру и науку составляла одно из главных требований. В тех условиях лозунг национальной культуры был наполнен антифеодальным содержанием. Борясь за национальную культуру и науку, за торжество передового материалистического направления, ученики и последователи Ломоносова объективно выступали против феодально-крепостнического строя.
В этом же плане, как одну из важнейших черт просветительской деятельности, следует рассматривать их борьбу за демократизацию и широкое распространение в стране науки и образования, их настойчивую работу по популяризации достижений передовой материалистической науки.
В этом смысле Московский университет XVIII века по направлению и содержанию своей деятельности с полным правом может быть назван ломоносовским. Славные ломоносовские традиции, воспринятые университетом в первые десятилетия его существования, получили свое дальнейшее развитие в трудах и открытиях Сеченова, Тимирязева, Столетова, Марковникова, Жуковского, Пирогова, Лебедева, Зелинского и многих других передовых русских ученых XIX в. Они получили свое развитие в произведениях и деятельности многочисленных воспитанников университета, работавших в области литературы, философии, культуры: Белинского, Герцена, Огарева, Грибоедова, Лермонтова, Тургенева, Островского, Чехова.
270
Но полное и всестороннее развитие эти лучшие традиции передовой национальной культуры и науки получили только в наше советское время, когда наука и ее движения прямо и непосредственно стали служить народу. В условиях нашей советской эпохи наука и культура получили невиданное развитие. Для работы советских ученых, для работы научных и учебных учреждений созданы такие условия, о которых не могли даже мечтать представители культуры и науки до революции, условия, которых и сейчас лишены ученые капиталистических стран. Одним из наиболее ярких проявлений заботы советского народа, Коммунистической партии и нашего правительства о развитии науки, культуры и просвещения является сооружение нового здания университета на Ленинских горах. Этот великолепный подарок, который сделал советский народ старейшему и крупнейшему университету страны, открывает перед учеными, студентами и аспирантами университета невиданные перспективы для развертывания учебной и научной работы, для подготовки высококвалифицированных кадров строителей коммунизма. Передав ученым университета Дворец науки на Ленинских горах, советский народ требует от них новых успехов в борьбе за первенство в мировой науке. Нет сомнений, что многотысячный коллектив университета отдаст все свои силы и знания решению этой высокой и благодарной задачи.
Только в советскую эпоху величественный образ замечательного сына народа Михаила Ломоносова был очищен от той злостной фальсификации, которой он подвергался в продолжение полутора веков. Только в наше время самоотверженная деятельность Ломоносова на благо своей Родины и своего народа получила правильную и всестороннюю оценку. Признание заслуг Ломоносова нашло выражение в издании первого полного собрания его сочинений, в выходе ряда книг, посвященных его жизни и деятельности, в присвоении его имени ряду предприятий и научных учреждений. Только теперь была восстановлена правда о роли Ломоносова в основании первого русского университета. В указе Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года говорилось: «В ознаменование 185-летнего юбилея Московского Государственного Университета присвоить университету имя его основателя М. В. ЛОМОНОСОВА». Одновременно с этим за выдающиеся заслуги в области науки, культуры и подготовки высококвалифицированных специалистов Московский университет был награжден орденом Ленина.
У входа во Дворец науки на Ленинских горах, между зданиями физического и химического факультетов, воздвигнут памятник основателю университета. Великий сын великого народа как бы встречает тех, кто трудится в основанном им двести лет назад университете,
271
и призывает их на самоотверженный труд во славу своей могучей социалистической Родины и своего народа.
Созданный Ломоносовым Московский университет имеет все основания с гордостью повторить слова С. И. Вавилова: «Родина наша вправе гордиться тем, что история ее новой науки началась именно Ломоносовым. Ломоносовский стиль, характерный исключительной широтой, простотой, глубокой материалистической основой и народностью, отобразился во всех лучших представителях отечественной науки»1.
—————————
Сноски к стр. 8
1 М. В. Ломоносов. Сборник статей и материалов, т. II, М. — Л., 1946, стр. 48—49.
2 Там же; Д. С. Бабкин. Биографии Ломоносова, составленные его современниками, стр. 5—50.
Сноски к стр. 9
1 См. П. П. Пекарский. История императорской Академии Наук, т. II, СПб., 1873 (в дальнейшем «Пекарский»); П. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова, СПб., 1865 (в дальнейшем «Билярский»); Б. И. Ламанский. Ломоносов и Петербургская Академия Наук, М., 1865 (в дальнейшем «Ламанский»).
2 См. М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, тт. I—VIII, СПб., 1874—1888 (в дальнейшем «Сухомлинов»).
3 См. М. В. Ломоносов. Сочинения, изд. Академии Наук, тт. I—VIII, 1891—1948 (в дальнейшем «Ломоносов. Соч.»).
Сноски к стр. 11
1 П. Сохацкий. Слово на полувековой юбилей Московского Университета, М., 1805, стр. 25.
Сноски к стр. 12
1 См. И. М. Снегирев. Действия Московского Университета в первом периоде его существования, «Ученые записки Моск. Университета», 1834, т. IV, май, № XI; И. М. Снегирев. И. И. Шувалов основатель Московского Университета и русский меценат, ЖМНП, 1837, ч. 15, август, стр. 396—405; П. И. Бартенев. Биография И. И. Шувалова, «Русская беседа», 1857, № 1, стр. 1—86.
2 См. С. П. Шевырев. История Московского Университета, М., 1855 (в дальнейшем «Шевырев»); «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского Университета», т. I—II, М., 1855; «Столетний юбилей Московского Университета», М., 1855.
3 «Современник», 1855, № 4, библиография, стр. 26, 27, 30, 31.
Сноски к стр. 13
1 «Столетний юбилей Московского Университета», М., 1855, стр. 48.
2 Шевырев, стр. 7—8.
3 Там же, стр. 8.
4 Там же, стр. 9.
Сноски к стр. 14
1 См. Б. Сыромятников. Московский Университет, Словарь Гранат, т. 29, стр. 374—385; С. Ашевский. Из истории Московского Университета, «Мир божий», 1905, № 12, стр. 1—31.
2 В. С. Иконников. Русские университеты в связи с ходом общественного образования, «Вестник Европы», 1876, № 10, стр. 513; М. Н. Сперанский. Московский Университет XVIII столетия и Ломоносов, в книге «Празднование 200-летней годовщины рождения Ломоносова Московским Университетом», М., 1912, стр. 24—49; В. Якушкин. Из первых лет жизни Московского Университета, «Русский филологический вестник», Варшава, 1902, № 3—4, стр. 140—163.
3 «Празднование 200-летней годовщины рождения Ломоносова Московским Университетом», М., 1912, стр. 31.
Сноски к стр. 15
1 См. Н. Г. Чернышевский. Избр. философск. соч., т. I, Госполитиздат, 1950, стр. 576.
2 См. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 625—628, 662—673, 749—755; т. XIV, стр. 284—289.
Сноски к стр. 16
1 В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. III, 1953, стр. 226.
2 См. А. Щапов. Естествознание и народная экономия, Казань, 1906. Не путать с известной работой Щапова под тем же названием! На нее впервые указала Н. А. Пенчко в своей работе «Основание Московского университета», МГУ, 1952, стр. 57 (в дальнейшем «Пенчко»).
Сноски к стр. 17
1 С. И. Вавилов. Ломоносов и русская наука, М., 1947, стр. 36.
2 Б. Н. Меншуткин. Труды Ломоносова по физике и химии, АН СССР, 1936; его же. Жизнеописание М. В. Ломоносова, АН СССР, 1937 и др.
3 А. А. Морозов. М. В. Ломоносов, «Молодая Гвардия», 1950 (в дальнейшем «Морозов»).
4 Ученые записки МГУ, юбилейная серия, 1940, №№ L, LII—LVI.
Сноски к стр. 18
1 С. В. Бахрушин. Московский Университет в XVIII веке, «Ученые записки МГУ», 1940, история, вып. 50, стр. 5—24 (в дальнейшем «Бахрушин»).
2 Там же, стр. 8.
3 М. А. Горбунов. Философские и общественно-политические взгляды Радищева, Госполитиздат, 1949; он же. Общественно-политические и философские взгляды Ломоносова и Радищева, М., 1951; Г. Макогоненко. Радищев, Гослитиздат, 1949: он же. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века, Гослитиздат, 1951; Г. А. Новицкий. История СССР (XVIII век), М., 1950; В. К. Бобровникова. Педагогические взгляды М. В. Ломоносова — великого русского просветителя XVIII века, «Советская педагогика», 1950, № 5, стр. 11—21.
Сноски к стр. 20
1 «Ломоносовский сборник», т. II, М. — Л., 1946, стр. 209—214.
2 Пекарский, стр. 877.
3 Ламанский, стр. 138.
Сноски к стр. 26
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, Госполитиздат, М., 1947, стр. 469.
Сноски к стр. 28
1 В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 439.
Сноски к стр. 29
1 В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 116—117.
Сноски к стр. 31
1 Н. Г. Чернышевский. Избр. философск. соч., т. 1, Госполитиздат 1950, стр. 576.
2 Д. Д. Благой. Национальные особенности русской литературы, «Большевик», 1951, № 18, стр. 37.
Сноски к стр. 32
1 В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 342.
Сноски к стр. 34
1 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 264, 304.
2 Там же, стр. 330.
Сноски к стр. 35
1 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 9.
2 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 677.
3 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 183—185.
4 С. И. Вавилов. Закон Ломоносова, «Правда», 5 января 1949 г.
Сноски к стр. 36
1 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 197, 203.
2 Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, Госполитиздат, 1950, стр. 21.
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 396—397.
Сноски к стр. 37
1 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 323, 324, 308, 315, 317, 399—401, 408, 420—423, 425—432 и мн. др.
2 См. Ф. Энгельс. Диалектика природы, Госполитиздат, 1950, стр. 8.
3 Ф. Энгельс. Заметки о Ломоносове; Б. М. Кедров и Т. Н. Ченцова. К публикации заметок Энгельса о Ломоносове, «Ломоносовский сборник», т. III, М. — Л., 1951, стр. 11—16.
Сноски к стр. 38
1 Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 131.
Сноски к стр. 39
1 Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, Госполитиздат, 1950, стр. 21.
2 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 572.
Сноски к стр. 40
1 Ф. Энгельс. Диалектика природы, Госполитиздат, 1950, стр. 7.
2 М. В. Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 357, 431.
Сноски к стр. 41
1 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 37, д. 550, лл. 1—5.
2 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 354.
3 Там же, стр. 489.
4 Там же, стр. 354.
5 Там же, стр. 487—488.
Сноски к стр. 42
1 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 283.
2 Там же, стр. 354.
3 Там же, стр. 167—168, 284—288, 676—677.
4 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. I, стр. 423.
Сноски к стр. 43
1 Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 3, стр. 439.
2 В. В. Данилевский. Русская техника, Л., 1948, стр. 57—58.
3 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 349.
Сноски к стр. 44
1 Ф. Энгельс. Диалектика природы, Госполитиздат, 1950, стр. 7.
2 «Правда», 18 ноября 1936 г., передовая.
Сноски к стр. 45
1 А. С. Пушкин. Соч., в одном томе, Гослитиздат, 1949, стр. 713.
2 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 92, 582, 590.
3 Там же, стр. 391—392.
Сноски к стр. 46
1 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 100, 394, 406.
2 И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 24.
Сноски к стр. 47
1 Ломоносов. Соч., т. IV, стр. 41; Полн. собр. соч., т. 7, стр. 392.
2 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 9—10.
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 705; М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. VIII, СПб., 1888, стр. 6.
4 М. И. Сухомлинов. История Российской Акад., т. VIII, СПб., 1888, стр. 37.
Сноски к стр. 48
1 А. Н. Радищев. Избр. соч., Гослитиздат, 1949, стр. 240.
2 Пекарский, стр. 179.
3 С. А. Порошин. Записки, СПб., 1844, стр. 208.
4 М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. VIII, СПб., 1888, стр. 37.
5 В. Г. Белинский. Избр. философск. соч., т. 1, Госполитиздат, 1948, стр. 82.
Сноски к стр. 49
1 Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. III, М., 1936, стр. 538.
2 Д. И. Фонвизин. Избранное, Гослитиздат, 1946, стр. 165, 166.
3 А. Н. Радищев. Избр. соч., Гослитиздат, 1949, стр. 237.
Сноски к стр. 50
1 См. Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века, Учпедгиз, 1951, стр. 209.
Сноски к стр. 51
1 В. И. Ленин. Соч., т. 2, стр. 473.
2 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 510—511
Сноски к стр. 52
1 Полностью присоединяясь к правильной критике, которую дал М. В. Птуха буржуазным концепциям трактовки письма Ломоносова «О сохранении и размножении российского народа», мы решительно отвергаем его попытку изобразить законодательство Елизаветы и Екатерины в качестве осуществления предложений Ломоносова. Осуществляя отдельные мероприятия, по форме кажущиеся аналогичными предложениям Ломоносова, самодержавие проводило политику, содержание которой было диаметрально противоположно требованиям Ломоносова. См. «Ломоносовский сборник», т. II, М. — Л., 1946, стр. 209—214.
2 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 401.
Сноски к стр. 53
1 Ломоносов. Соч., т. II, стр. 171.
2 Там же, стр. 282—283.
3 Ломоносов. Соч., т. VII, стр. 287—288.
Сноски к стр. 54
1 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 362.
2 Ломоносов. Соч., т. I, стр. 27.
3 Ломоносов. Соч., т. II, стр. 247.
Сноски к стр. 55
1 Ломоносов. Соч., т. II, стр. 251—252.
2 Там же, стр. 169.
3 Там же, стр. 168.
4 П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени, Л., 1936 (следует отметить, что в последующих работах П. Н. Берков отказался от этой ошибочной точки зрения); «XVIII век», сб. статей под ред. А. С. Орлова, М. — Л., 1935, стр. 80—81. Статьи Пушнярского, Чернова, Беркова.
5 Ломоносов. Соч., т. VIII, М. — Л., 1948, комментарии, стр. 203—204.
Сноски к стр. 56
1 А. Н. Радищев. Избр. соч., Гослитиздат, 1949, стр. 240.
2 Ломоносов. Соч., т. I, стр. 145.
3 Там же, стр. 149.
4 Ломоносов. Соч., т. II, стр. 171; т. IV, стр. 264—265.
Сноски к стр. 58
1 М. В. Ломоносов. Стихотворения, малая серия библиотеки поэта, «Советский писатель», 1948, стр. XXV, 89, 221.
2 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 449.
3 Там же, стр. 447.
4 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 3, стр. 123.
Сноски к стр. 59
1 Н. Л. Рубинштейн. Русская историография, Госполитиздат, 1941, стр. 90; см. также стр. 86—115, 150—166.
2 М. Н. Тихомиров. Русская историография XVIII в., «Вопросы история», 1948, № 2, стр. 95.
3 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 19, 21.
Сноски к стр. 60
1 «Вопросы истории», 1948, № 2, стр. 95.
2 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 31.
Сноски к стр. 61
1 С. В. Бахрушин. Г. Ф. Миллер как историк Сибири; в кн. Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. I, М. — Л., 1937; Н. Л. Рубинштейн. Русская историография, гл. 6, Госполитиздат, 1941.
Сноски к стр. 62
1 Арх. АН СССР, ф. 21, оп. 3, д. 310 «в». Интересно отметить, что эти советы Миллер давал в письме своему приятелю, задумавшему в 1760 г. написать историю Московского университета.
2 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 170.
3 Билярский, стр. 492.
4 Пекарский, стр. 848.
Сноски к стр. 63
1 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 676.
2 Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 196, 197, 199.
Сноски к стр. 64
1 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 178.
2 А. Л. Шлецер. Общественная и частная жизнь А. Л. Шлецера, им самим описанная, СПб., 1875, стр. 220, 197, 154.
Сноски к стр. 65
1 А. Л. Шлецер. Общественная и частная жизнь А. Л. Шлецера, им самим описанная, стр. 215—216.
Сноски к стр. 66
1 Пекарский, стр. 836.
2 Следует заметить, что до самого последнего времени конфликт Ломоносова с Шлецером изображался лишенным общественного и научного содержания. Более того, Ломоносова обвиняли в необъективном отношении к Шлецеру и становились на сторону последнего. Эта ошибка имеет место даже в ценной статье Б. Д. Грекова (Ломоносов — историк, «Историк-марксист», 1940, № 11) и комментариях к VIII т. соч. Ломоносова (М. — Л., 1948). Эта концепция привела и к отсутствию документов по делу Шлецера в 6 томе Полн. собр. соч. Ломоносова. Правильную оценку этот конфликт получил в работах М. Н. Тихомирова и А. А. Морозова.
Сноски к стр. 68
1 В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 121.
Сноски к стр. 69
1 В. И. Ленин. Соч., т. 2, стр. 493.
2 Ломоносов. Соч., т. V, стр. 89.
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 486.
Сноски к стр. 70
1 Ломоносов. Соч., т. II, стр. 288.
2 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 390—391.
3 Там же, стр. 395—396.
4 Там же, стр. 396.
Сноски к стр. 71
1 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 535.
2 Пекарский, стр. 603.
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 537.
Сноски к стр. 72
1 «Ломоносовский сборник», СПб., 1911, стр. 90—98; Пекарский, стр. 606—608, 205—208; «Русский архив», 1865, стр. 87—90.
2 Д. С. Бабкин. Биографии М. В. Ломоносова, составленные его современниками, «Ломоносовский сборник», т. II.
3 «Ломоносовский сборник», т. II, М. — Л., 1946, стр. 31.
Сноски к стр. 73
1 М. В. Ломоносов. Стихотворения, «Советский Писатель», 1948, стр. 146.
2 См. В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 204.
Сноски к стр. 74
1 «Русский архив», 1873, стр. 1913.
Сноски к стр. 75
1 Авторство Теплова было неопровержимо доказано в 1947 г. Л. Б. Модзалевским в его докторской диссертации «Ломоносов и его литературные отношения в Академии Наук». Модзалевский обнаружил в архиве АН СССР подлинную рукопись этой статьи Теплова. По непонятным причинам «Рассуждение» вновь включено проф. Васецким в число сочинений Ломоносова (Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 517—532). В «Сборнике материалов к изучению истории русской журналистики», вышедшем в 1952 г. под редакцией Б. П. Козьмина, «Рассуждение» объявляется произведением анонимного автора, который «подобно М. В. Ломоносову был сторонником общественно-гражданской и «учительной» поэзии» (стр. 47). Рукопись Теплова «Рассуждение о качествах стихотворца» находится в Арх. АН СССР, ф. II, оп. 1, д. 217, л. 239.
Сноски к стр. 76
1 «Русский архив», 1873, стр. 1912.
2 «Современник», 1865, № 3, стр. 99—100.
Сноски к стр. 77
1 Пекарский, стр. 441.
2 Д. А. Толстой. Академическая гимназия в XVIII столетии, СПб., 1885, стр. 5—6.
Сноски к стр. 78
1 Д. А. Толстой. Академический университет в XVIII столетии, СПб., 1885, стр. 7.
2 Ламанский, стр. 28—29.
3 Там же, стр. 30.
4 Там же, стр. 31.
Сноски к стр. 79
1 ЦГАДА, ф. 248, д. 2944, л. 82—83.
2 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 697.
Сноски к стр. 80
1 «Москвитянин», 1850, январь, отд. III, стр. 1—14.
2 «Ломоносовский сборник», т. II, стр. 5—70.
3 В. К. Макаров. Художественное наследие М. В. Ломоносова, М. — Л., 1950.
4 Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 70—71.
Сноски к стр. 81
1 Ломоносов. Соч., т. VII, стр. 238.
2 В. К. Макаров. Художественное наследие Ломоносова, 1950, стр. 100—101, 282, 290—292, 294.
3 Пекарский, стр. 680—681.
4 Записки АН, т. VII, ч. II, стр. 122; В. К. Макаров. Художественное наследие Ломоносова, стр. 282.
5 Н. С. Тихонравов. Соч., т. III, ч. II, М., 1898, стр. 31; В. К. Макаров. Художественное наследие Ломоносова, стр. 283.
6 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 567.
Сноски к стр. 82
1 Ламанский, стр. 3.
2 «Чтения в обществе истории...», 1860, кн. 3, стр. 80.
Сноски к стр. 83
1 А. А. Морозов, стр. 288.
2 Ламанский, стр. 1.
3 Там же, стр. 20—23.
4 Там же, стр. 23.
Сноски к стр. 84
1 «Русская беседа», 1860, кн. 20, стр. 214—223.
2 Билярский, стр. 51—52.
3 Текст «покаяния» в книге Меншуткина, «Жизнеописание Ломоносова», М. — Л., 1937, стр. 56.
4 М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. II, СПб., 1875, стр. 12.
Сноски к стр. 85
1 Пекарский, стр. 923—924.
2 Ламанский, стр. 39.
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 545—565. Датировав эту работу Ломоносова 1760 годом, редактор издания Г. С. Васецкий повторил ошибку Билярского и Будиловича, хотя Ломоносов ясно говорит о «прошлом 1754 годе» и о том, что с утверждения нового регламента академии прошло восемь лет (стр. 550). Датировке 1760 годом противоречит и то обстоятельство, что Ломоносов ни единым словом не упоминает о своем руководстве университетом и гимназией. Указанная работа относится, очевидно, к началу 1755 года.
Сноски к стр. 86
1 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 549.
2 Ломоносов. «Мнение об исправлении СПБ Академии Наук». Это, очевидно, вариант или, вернее, черновой набросок разбираемой статьи. (В. Пассек. Очерки России; т. II, М., 1840, стр. 49, 59—60).
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 553.
4 Там же, стр. 557.
5 Там же, стр. 553.
Сноски к стр. 87
1 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 558.
2 В. Пассек. Очерки России, т. II, М., 1840, стр. 65.
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 554.
Сноски к стр. 88
1 Билярский, стр. 319—321, 349, 374, 511—512, 522, 531 и др.
Сноски к стр. 89
1 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 627, л. 62.
2 Ламанский, стр. 52—53.
Сноски к стр. 90
1 Ламанский, стр. 53.
2 Билярский, стр. 642.
3 Пекарский, стр. 847.
Сноски к стр. 91
1 Ламанский, стр. 54.
2 Пекарский, стр. 684.
3 Там же, стр. 637.
4 Там же, стр. 685.
5 В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. III, 1953, стр. 488.
Сноски к стр. 92
1 Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 223 (курсив мой. — М. Б.).
2 Там же, стр. 221, 229.
3 Ломоносов. Соч., т. V, стр. 91; т. VIII, стр. 221.
4 «Русский архив», 1873, стр. 1922.
Сноски к стр. 93
1 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 3, стр. 259.
2 Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 207.
3 Там же, стр. 204.
4 А. С. Пушкин. Сочинения в одном томе, Гослитиздат, 1949, стр. 780.
Сноски к стр. 94
1 А. С. Пушкин. Сочинения в одном томе, Гослитиздат, 1949, стр. 790.
2 Ламанский, стр. 109; Пекарский, стр. 786.
3 Об известности Ломоносова в Западной Европе говорит факт его избрания в 1756 г. членом Шведской академии, а в 1764 г. членом Болонской академии.
Сноски к стр. 95
1 Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 267—268.
2 Там же, стр. 147.
3 Пекарский, стр. 876—877.
4 «Русский архив», 1869, стр. 13.
5 Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 207.
Сноски к стр. 96
1 Пекарский, стр. 877—879. В журнале «Вопросы философии» № 6 за 1951 г. напечатана статья В. И. Чучмарева, в которой невежественный клеветник Леклерк отнесен к числу «виднейших петербургских ученых», принадлежавших к «дружескому окружению» Ломоносова.
Сноски к стр. 97
1 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 828, л. 2.
2 Там же.
3 Пекарский, стр. 673—677; Д. А. Толстой. Академическая гимназия в XVIII столетии, СПб., 1885, стр. 22, 34.
4 Пекарский, стр. 727.
Сноски к стр. 98
1 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 825, лл. 77, 96—101, 111—114, 133, 136; д. 826, лл. 72—73, 240, 263—331.
2 Там же, д. 825, № 2, л. 37.
3 Там же, лл. 187—189, 336—337.
4 Там же, д. 826, лл. 253—256.
5 Там же, д. 825, лл. 186, 335.
Сноски к стр. 99
1 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 828, л. 2.
2 Там же, д. 828, л. 3, 123, 130—131, 175.
3 Г. А. Князев. Краткий очерк истории Академии Наук СССР, М. — Л., 1945, стр. 16.
4 Там же, д. 828, л. 123.
Сноски к стр. 100
1 Арх. АН СССР, ф. 3 оп. 1, д. 828, лл. 404, 409.
2 Д. А. Толстой. Академическая гимназия в XVIII столетии, СПб., 1885, стр. 66—67.
3 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 828, л. 145.
Сноски к стр. 102
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 4.
2 Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 6; Меншуткин, стр. 100—106; Бахрушин, стр. 8—10; М. Сизова. Михайло Ломоносов, «Молодая Гвардия», 1951, стр. 383—408.
Сноски к стр. 103
1 «Литературное наследство» № 29/30, М., 1937, стр. 160.
2 С. В. Бахрушин, стр. 8.
3 См. «Русская беседа», 1857, № 1, стр. 10; «Русский Архив», 1867, стр. 67—69.
4 «Русский Архив» 1864, стр. 286.
5 См. Архив князя Воронцова, тт. VI, XXXII; «Русский Архив», 1864, стр. 266—292, 348—394; 1867, стр. 67—69; 1870, стр. 1398—1401.
Сноски к стр. 104
1 «Литературное наследство», т. 29/30, М., 1937, стр. 270.
2 См. ЦГИАЛ, ф. 796, он. 24, д. 150, лл. 1, 10, 55—71; оп. 90, д. 143, лл. 1—4; д. 313, л. 22.
3 Архив Воронцова, т. VI, стр. 305.
4 Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 198, лл. 29—85.
5 «Известия АН СССР», отд. гуманитарных наук, 1929, № 1, стр. 26, см. также стр. 31, 33—34 и др.
6 Ломоносов. Соч., т. IV, Комментарии, стр. 362.
Сноски к стр. 105
1 И. В. Сталин. Соч., т. 13, стр. 110.
2 См. «Русская беседа», 1857, № 1, стр. 54—55, 67—69; «Литературное наследство», № 29/30, М., 1937, стр. 159; Шевырев, стр. 86.
3 «Русский Архив», 1863, стр. 566—568.
4 См. «Русский Архив», 1867, стр. 90—93.
Сноски к стр. 106
1 А. Морозов, стр. 411—412.
2 См. Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 110; В. Пассек. Очерки России, т. II, стр. 40.
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 690; см. также, стр. 692—697; А. С. Пушкин. Соч. в одном томе, Гослитиздат, 1949, стр. 773—774, 779—780. Правильно показывая дворянскую направленность деятельности Шувалова, Н. А. Пенчко в то же время отвергает наличие у него низкопоклонства (стр. 21), называет его активным деятелем русской культуры и искусства, считает Ломоносова «руководителем и советчиком» Шувалова и даже говорит о сильном влиянии Ломоносова на Шувалова (стр. 22). Рассматривая вопрос о борьбе Ломоносова в Академии Наук, Пенчко утверждает, что Шувалов был «неспособен» ему помочь и считал «неудобным вмешиваться в дела департамента Разумовского» (стр. 23—24). Неправильно рассматривает автор вопрос об отношении Шувалова к церкви (стр. 35). Эти и ряд подобных примеров говорят о том, что автор этой серьезной книги еще не пересмотрел полностью прежнюю точку зрения на Шувалова.
4 Ламанский, стр. 69 (курсив мой. — М. Б.).
Сноски к стр. 107
1 См. ПСЗ, т. XIV, № 10346; Сенатский архив, т. XII, стр. 317—332; «Ученые записки Московского университета», 1834, т. IV, стр. 331—332. «Чтения», 1867, кн. 3, стр. 105; «Русский архив», 1874, стр. 1453—1456; Речи и стихи, произнесенные 30 июня 1805 г., стр. 9; И. Петров. Сб. законов о медицинском образовании, т. II, стр. 262—263 и мн. др.
2 «Московский Наблюдатель», 1825, ч. V, № 18, стр. 132. В свете сказанного вызывают возражения похвалы Л. Б. Модзалевского по адресу И. И. Шувалова за то, что он передал в печать письма Ломоносова. См. Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 6. Шувалов не передал письма от 3/III и 3/X 1752 г., 1/X, 16/X 1753 г., 4/I, июля 1754 г., 10/III, 12/III 1755 г., 2/IX, 23/IX, 27/IX, 1757 г., января, 3/III, 17/III, 20/III 1760 г., 19/I 1761 г. Не заметить тенденциозного подбора этих писем нельзя.
3 «СПб. ведомости», 1755, № 39.
Сноски к стр. 108
1 «Отчет Московского университета за 1822—23 гг.», стр. 63.
2 Поскольку письмо Ломоносова И. И. Шувалову относительно основания университета полностью печатается в приложении, то ссылки на него даются в тексте с указанием страниц настоящей книги.
Сноски к стр. 109
1 Этого не понял Морозов, утверждающий, что «Шувалов полностью принял план, составленный Ломоносовым» (Морозов, стр. 737).
Сноски к стр. 110
1 Эта борьба и отражение ее в проекте Московского университета по существу не нашли должного освещения в книге Н. Пенчко, хотя проекту университета отведено две главы. Правильно анализируя проект и выявляя ломоносовское содержание проекта, автор не раскрывает реакционного характера изменений, внесенных Шуваловым.
2 «Русский архив», 1874, кн. I, стр. 1453 (курсив мой. — М. Б.).
Сноски к стр. 111
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. V, стр. 5.
2 См. Морозов, стр. 206, 218.
Сноски к стр. 112
1 Так как текст «Проекта университета» дается в приложении, то ссылки на него даются в тексте с указанием в скобках параграфа устава.
2 Пекарский, стр. 384.
3 Прогрессивное значение отсутствия в Московском университете богословского факультета становится особенно очевидно, если учесть, что в Афинском, Белградском, Софийском, Бухарестском, Черновицком и других университетах, основанных уже в XIX веке и даже во второй его половине, были учреждены богословские факультеты.
4 См. Билярский, стр. 418.
5 См. И. А. Третьяков. Слово о происшествии и учреждении университетов в Европе, «Речи, произнесенные в торжественных собраниях Московского Университета русскими профессорами оного», т. II, М., 1820, стр. 134—166; (в дальнейшем «Речи»).
Сноски к стр. 113
1 См. ЦГАДА, ф. 261, д. 5478, лл. 115, 143—144, 290, 297; «Чтения», 1875, кн. II, отд. V, стр. 190, 192, 199; «Записки историко-филолог. ф-та СПб. ун-та», 1910, вып. 1, стр. 31, 38, 41, 145; ЦГАДА, р. XVII, д. 82.
2 См. ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 46, д. 141; оп. 90, д. 279; оп. 24, д. 361; см. также А. И. Забелин. Проект богословского ф-та при Екатерине II, «Вестник Европы», 1873, № 11, стр. 300—317.
Сноски к стр. 114
1 См. «Чтения», 1863, кн. II, отд. V, стр. 67—85; М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе, СПБ, 1889, т. 1, стр. 51.
Сноски к стр. 115
1 См., например, «Ученые записки МГУ», 1940, вып. 53, стр. 3—4.
2 «Протоколы Университетской конференции», т. XIV, лл. 155—164.
3 ЦГАДА, р. XVII, д. 48, л. 16.
4 А. А. Жданов. Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова 24 июня 1947 года, Госполитиздат, 1951, стр. 10.
Сноски к стр. 116
1 ЦГАДА, ф. 261, д. 5478, л. 119, см. также лл. 143, 168; р. XVII, д. 48, лл. 8, 12—13.
Сноски к стр. 117
1 «Протоколы заседаний конференций Академии Наук», т. II, СПб., 1899, стр. 355.
2 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, лл. 28—42. Так как регламент гимназии печатается в приложении, то ссылки на него даются в тексте.
Сноски к стр. 119
1 В часы «свободы» по средам предполагались занятия учащихся по выбору: рисование, танцы, музыка, фехтование.
Сноски к стр. 122
1 Рукописное отделение б-ки им. Горького, «Расписание жалования на гимназию».
2 См. «Протоколы конференции Академии Наук», т. II, стр. 356.
3 Пекарский, стр. 573, 674.
Сноски к стр. 123
1 «Чтения», 1858, кн. 3, смесь, стр. 116.
2 ЦГАДА, р. XVII, д. 48, л. 54.
3 Нам кажется явным преувеличением утверждение Н. А. Пенчко, что в 1762 г. сам Шувалов начинает проводить политику демократизации гимназии по настойчивому требованию «сверху». Назначенный в 1762 г. директором шляхетского корпуса Шувалов стремился показать «процветание» порученного ему учреждения. Это ему было особенно необходимо, потому что со смертью Елизаветы он утратил свое исключительное положение. Между тем в связи с манифестом о вольности дворянства наблюдался отлив дворян из шляхетских корпусов. В этих особых условиях, как на сугубо временную меру, правительство и Шувалов идут на то, чтобы за счет Московского университета обеспечить дворянами шляхетские корпуса. Но эта временная мера никак не означала изменения политики правительства в отношении социального состава учащихся Московского университета. См. Пенчко, стр. 126—127.
Сноски к стр. 124
1 См. В. И. Ленин. Соч., т. 2, стр. 431—436.
Сноски к стр. 125
1 См. ЦГАДА, ф. 261, д. 5565, л. 15; р. XVII, д. 41, л. 13.
Сноски к стр. 126
1 Шевырев, стр. 577. Нам эти документы так и не удалось обнаружить.
2 «Исторический архив», т. V, М. — Л., 1950.
3 В. Л. Снегирев. Московское зодчество XIV—XIX веков, «Московский рабочий», 1948, стр. 241.
4 ЦГАДА, ф. 199, д. 546, портфель 1, п. 4, лл. 4—5.
5 В. Владимиров. Историческая записка о 1-й Казанской гимназии, ч. 1, Казань, 1867, стр. 30.
Сноски к стр. 127
1 ЦГАДА, ф. 261, д. 5565, № 20, л. 524.
2 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, лл. 56—57.
3 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 50, д. 258.
4 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, лл. 271—276.
Сноски к стр. 128
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 85—92. Проект штата Казанской гимназии § 15; д. 41, л. 199; ф. 261, д. 5478, л. 188.
2 В. Владимиров. Историческая записка о 1-й Казанской гимназии, ч. 1, Казань, 1867, стр. 78.
Сноски к стр. 129
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 4.
Сноски к стр. 130
1 То, как ценили эту привилегию и настаивали на ее соблюдении работники Московского университета, показывает дело учителя французского языка Билона. Он в 1757 году был арестован без согласия университета Московским магистратом за просрочку двух векселей и посажен в долговую тюрьму. Профессорская конференция и администрация университета протестовали против этого. Когда магистрат отказался освободить Билона, то Сенат издал указ, подтверждавший права университета. ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, лл. 215—223, р. XVII, д. 38, лл. 10, 55; Протоколы Университетской конференции, т. III, л. 9.
2 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 10; см. также лл. 50, 55—57; ф. 248, д. 2875, лл. 160—162; ф. 261, д. 5473, лл. 730—737.
3 См. Билярский, стр. 418.
Сноски к стр. 131
1 «Протоколы», т. V, 1758, № 5, 7, 12, 14; 1761, № 6; т. VIII, 1762, № 14, протокол от 25/X 1763 г. и от 22/V 1764 г.; т. IV, лл. 4, 28—32, 37—38, и мн. другие.
Сноски к стр. 132
1 В свете сказанного никак нельзя согласиться с Н. А. Пенчко, которая, противореча фактам, приводимым ею самой, явно идеализирует систему управления университетом. Стремясь «обелить» Шувалова, она утверждает, что канцелярия «никогда не играла в университете такой самодовлеющей роли, как академическая», что «канцелярии, как органа управления, в университете не существовало» (Пенчко, стр. 51). В качестве аргумента Пенчко приводит слова самого Шувалова. Но они говорят только о том, что Шувалов, распоряжавшийся в университете, как барин в своей вотчине, нисколько не считался с формами отчетности об израсходовании казенных сумм, и поэтому в этом отношении, но только в этом, канцелярия не была аналогична академической. Это ни в какой степени не меняет ее роли во всей жизни университета. Столь же неоправдано стремление Пенчко связать начало бюрократической системы управления университетом лишь с устранением Шувалова и заменой его Адодуровым (стр. 52). В действительности Адодуров прямо продолжал линию, начатую самим Шуваловым, и их разногласия были чисто личными и не имели по существу принципиального характера.
2 ЦГАДА, ф. 261, д. 5478, лл. 116, 126—128, 148, 165; д. 5565, лл. 1, 342, 488; ф. 248, д. 2875, лл. 153—158, 384—386, 393—401 и мн. др.; «Чтения», 1875, кн. 2, отд. V, стр. 189, 212.
3 Билярский, стр. 418.
Сноски к стр. 133
1 Билярский, стр. 418.
2 ЦГАДА, р. XVII, д. 44, л. 1.
3 Там же, л. 5.
4 ЦГАДА, ф. 261, д. 5499, л. 22.
5 Там же, л. 23; см. также лл. 25—26; д. 5477, № 2, лл. 12—13, 17—22.
Сноски к стр. 134
1 ЦГАДА, ф. 261, д. 5560, № 14, л. 454; см. также д. 5477, № 9, лл. 89—93.
2 Там же, д. 5560, лл. 456—459.
3 И. С. Бак. Общественно-экономические воззрения И. А. Третьякова, «Вопросы истории», 1954, № 9, стр. 106.
4 ЦГАДА, ф. 261, д. 5565, № 10, л. 348.
Сноски к стр. 135
1 ЦГАДА, ф. 278, д. 14, л. 78. И. А. Третьяков умер 16 мая 1776 г., а не в 1779 г., как утверждается в его биографиях и статьях о нем. (Биографический словарь профессоров Московского Университета, т. II, стр. 506; «Русские мыслители», т. I, стр. 679—680; «Вестник МГУ», 1952, № 7, стр. 172.) Документы о смерти Третьякова, ЦГАДА, ф. 278, д. 14, л. 78.
2 ЦГАДА, р. XVII, д. 46, лл. 1—2.
Сноски к стр. 136
1 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, лл. 14—15.
2 См. Пекарский, стр. 925.
3 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, лл. 14—15.
4 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 5.
5 «Штат Московского Университета и гимназии» хранится в рукописном отделе библиотеки им. Горького.
6 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 20.
Сноски к стр. 137
1 «Протоколы», т. IV, лл. 4, 5, 30, 33, 36—37, 64, 66—70; т. III, лл. 1—12.
2 ЦГИАЛ, ф. 1329, т. 90, лл. 472—473.
3 См. доношения и проекты штатов Московского Университета, ЦГАДА, ф. 261, д. 5477, № 8, лл. 83—86; д. 5478, № 2, лл. 114—329; д. 5565, № 16, лл. 384—457; № 17, лл. 458—460; р. XVII, д. 41, лл. 178—201; д. 48, лл. 22—28.
4 «Протоколы», т. III, лл. 11—12.
Сноски к стр. 138
1 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, л. 13; ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 36, д. 438, 1755, л. 1.
2 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 555.
3 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, л. 13.
Сноски к стр. 139
1 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, л. 202.
2 Там же, л. 202, 207, 212; д. 2944, № 24, лл. 260—263.
3 Там же, д. 2875, л. 202.
4 «Протоколы», т. V, лл. 24—25.
Сноски к стр. 140
1 ЦГАДА, ф. 261, д. 5473, л. 41.
2 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 1, 1762, д. 27/29; 1763, № 2, 16, 46; 1764, д. 28 и др.
3 Ломоносов. Соч., т. V, стр. 138, 140—142.
Сноски к стр. 143
1 Все даты приводятся по старому стилю.
2 ЦГИАЛ, ф. 1329, т. 85, л. 382.
Сноски к стр. 144
1 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, л. 62.
2 Там же, лл. 64—69.
3 Там же, л. 73.
4 Там же, л. 74; см. также лл. 75—81.
Сноски к стр. 146
1 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, л. 85; ф. 254, д. 7962, № 51, лл. 167—182.
2 ЦГАДА, ф. 254, д. 7962, № 51, лл. 215, 225, 247, 264.
3 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, лл. 110—111; см. также лл. 112—114, 135, 143—152; ф. 254, д. 7962, № 51, лл. 250, 266. Все, что со слов Шевырева пишется об использовании «австерии» университетом, не соответствует действительности.
4 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, л. 135; ф. 254, д. 7962, № 51, л. 266.
Сноски к стр. 147
1 ЦГАДА, ф. 248, д. 2875, лл. 143—152; ф. 254, д. 7962, № 51, лл. 274, 282.
2 Там же, ф. 254, д. 7962, № 51, лл. 288—291.
3 См. «Протоколы», т. I, лл. 19—20, т. III, л. 8.
4 ЦГАДА, ф. 248, д. 2944, № 1, л. 7.
5 Там же, ф. 254, д. 8011, № 65, лл. 904—905; «Протоколы», т. IV, лл. 2, 3, 8, 16—17, 51.
Сноски к стр. 148
1 См. ЦГАДА, ф. 261, д. 5565, № 16, л. 384.
2 См. там же, лл. 408—412.
Сноски к стр. 149
1 ЦГАДА, ф. 261, д. 5565, л. 410.
2 Там же, лл. 411.
Сноски к стр. 150
1 ЦГАДА, ф. 261, д. 5565, № 16, лл. 410—411.
2 Там же, лл. 406, 407, 412.
3 Там же, лл. 443—444, 446.
4 Арх. АН СССР, ф. 170, оп. 1, д. 9, 1754. Любопытно отметить, что изображение медали к открытию Московского университета было впоследствии помещено Вольтером на титульном листе написанной им истории Петра Великого.
Сноски к стр. 151
1 См. ЦГАДА, р. XVII, д. 38, лл. 2—6.
2 См. ЦГИАЛ, ф. 1329, т. 86, лл. 3—6.
3 Утверждение С. В. Бахрушина о том, что Блюментрост был назначен вторым куратором в помощь Шувалову в 1756 году, является явным недоразумением, см. Бахрушин, стр. 15.
Сноски к стр. 152
1 Ламанский, стр. 69.
2 Пенчко, стр. 92—96.
3 ЦГАДА, ф. 248, д. 2952, лл. 91—93.
4 ЦГАДА, ф. 261, д. 5565, № 1, л. 14.
Сноски к стр. 153
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 41, л. 13.
2 ЦГАДА, ф. 261, д. 5565, № 1, лл. 14—15.
3 Там же, л. 20.
4 См. «Протоколы», т. IV, л. 12.
5 Вопрос о создании научной базы университета впервые освещен в работе Н. Пенчко, где ему посвящена специальная глава, написанная на основе новых, ранее не привлекавшихся материалов. Пенчко, стр. 91—120.
Сноски к стр. 154
1 «Протоколы заседаний конференции Академии Наук», т. II, СПБ, 1899, стр. 324—325.
2 См. ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 70.
3 Пекарский, стр. 737.
4 «Московские ведомости», 1756, № 21.
5 «Протоколы заседаний конференции Академии Наук», т. II, СПб., 1899, стр. 325.
Сноски к стр. 155
1 Арх. АН СССР, ф. 21, оп. 3, д. 308/8.
2 «Протоколы», т. IV, лл. 6, 26—27.
3 ЦГАДА, ф. 199, д. 790, п. 20, л. 22; «Протоколы», т. VII, стр. 36.
4 «Протоколы», т. V, л. 35; т. VII, стр. 23 и др.
5 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 74.
Сноски к стр. 156
1 «Московские ведомости», 1760, № 102.
Сноски к стр. 157
1 Ведомость составлена на основании документов, находящихся в ЦГАДА, ф. 261, д. 5478, № 2, лл. 114—329.
2 ЦГАДА, р. XVII, д. 41, лл. 178—201.
3 Там же, лл. 184—187.
Сноски к стр. 158
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 41, лл. 184—187.
2 См. ЦГАДА, ф. 278, д. 14, лл. 73, 135, 160.
3 См. «Протоколы», т. IX, стр. 571—573, 619—620.
Сноски к стр. 159
1 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 826, лл. 30—37; д. 174, л. 36.
2 См. «Протоколы», т. XIII, стр. 33—34, 39, 45—47, 87—88, 295—296. Гербарию Щепина дал высокую оценку и Н. Новиков (Избр. соч., Гослитиздат, 1951, стр. 366).
Сноски к стр. 160
1 «Протоколы», т. XIV, лл. 115—126, 272—278.
2 «Московские ведомости», 1759, № 13, 23.
3 «Протоколы», т. VII, стр. 23.
Сноски к стр. 161
1 См. «Протоколы», т. IX, стр. 257, 287—289, 387—388, 595—596, 599—607.
2 См. ЦГАДА, р. XVI, д. 278, ч. 1, л. 792; ч. IV, л. 53; «Биографический словарь профессоров Московского Университета», т. II, стр. 367, 447.
3 ЦГАДА, ф. 278, д. 14, л. 60.
Сноски к стр. 162
1 «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского Университета», т. II, М., 1855, стр. 362—369.
2 «Протоколы», т. IX, стр. 105—106.
3 Там же, т. X, стр. 105—108, 169.
4 См. ЦГАДА, ф. 261, д. 5477, лл. 69—73.
5 Там же, ф. 278, д. 14, лл. 48—51, 165.
Сноски к стр. 166
1 См. Морозов, стр. 150.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 13.
Сноски к стр. 167
1 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 24, д. 150, л. 1.
2 Там же, л. 9.
3 Там же, л. 6.
Сноски к стр. 168
1 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 24, д. 150, л. 9; Н. Пенчко добавляет еще и «Харьковский коллегиум», который будто бы «по собственной инициативе» направил в Московский университет 2 студентов (Пенчко, стр. 124), но Харьковский коллегиум и Белгородская семинария — это одно и то же.
2 ЦГАДА, ф. 1183, д. 103, 1755 г., лл. 12—13.
3 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 24, д. 150, лл. 30, 40, 47, 48, 50, 56.
4 ЦГАДА, ф. 1183, д. 103, лл. 37, 59.
5 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 24, д. 150, л. 42.
Сноски к стр. 169
1 «Прибавления к «Московским ведомостям», 27 апреля 1759 г.
2 Так, в 1758 году из Троицкой семинарии были присланы Илья Грачевский, Дементий Соколов, Александр Репьев и Петр Бражников (Протоколы, т. V, протокол № 12).
3 См. «Московские ведомости» 1756, № 56; 1757, № 6, 57, 84, 87, 101; 1758, № 38; 1760, № 34; 1763, № 52; Протоколы, т. III, л. 7; т. IV, лл. 20—21; т. V, протоколы № 3, 6, 16 за 1758 г.; т. VII, стр. 37, 63; т. VIII, протоколы № 12, 18; ЦГИАЛ, ф. 1329, т. 98, л. 123; ф. 789, д. 27/29, л. 6; ЦГАДА, р. XVII, д. 40, л. 1; д. 41, лл. 3—4; Тезисы диспута под руков. Дилтея 17 декабря 1756 г.; Новиков. Опыт словаря о российских писателях, СПб. 1772.
В моей статье, опубликованной в «Вестнике Московского Университета» № 9 за 1951 год, имелись отдельные неточности и неясности в отношении некоторых студентов. Документы, обнаруженные в ЦГАДА, позволили уточнить как персональный, так и социальный состав первых студентов Московского университета.
А. Морозов, включивший материалы этой статьи во второе издание своей книги о Ломоносове и ряд ее мест воспроизведший дословно, повторил неточности, имевшиеся в статье, и, перепутав фамилии, объявил Зыбелина и Вениаминова киевскими семинаристами. (А. Морозов. М. В. Ломоносов, Лениздат, 1953, стр. 657—658.)
4 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 65.
Сноски к стр. 170
1 «Ежемесячные сочинения», 1755, август, стр. 167—176.
2 Лобанов, не работавший в университете, впоследствии также был профессором в сухопутном шляхетском корпусе. См. Н. И. Новиков. Избр. соч., М. — Л., 1951, стр. 319.
3 «Протоколы», т. V, протоколы от 9/IX—1758 г., 21/I, 10/II—1760 г.
Сноски к стр. 171
1 «Протоколы», т. V, протокол № 5 за 1759 г.
2 ЦГИАЛ, ф. 1329, т. 105, л. 152; об этом же говорит в своей статье и С. В. Бахрушин. См. Бахрушин, стр. 17—18.
3 ЦГАДА, р. XVII, д. 38, л. 65.
4 «Протоколы», т. V, протокол № 5 за 1759 г.
5 «Русский архив», 1874, кн. I, стр. 1325.
Сноски к стр. 172
1 «Протоколы», т. IV, л. 4; т. III, лл. 4—8, 15.
2 ИРЛИ, ф. 265, архив «Русской старины», д. 2746, л. 68.
3 «Протоколы», т. III, л. 9.
4 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 1, ч. 1762, д. 24, л. 2.
Сноски к стр. 173
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 41, лл. 2—15.
2 Там же, лл. 2—8.
Сноски к стр. 174
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 41, лл. 10—13.
2 Там же, лл. 14—15.
Сноски к стр. 175
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 41, лл. 35, 203.
2 Там же, д. 39, лл. 56—57.
Сноски к стр. 176
1 С. И. Вавилов. Наука сталинской эпохи, М. — Л., 1950, стр. 32. (курсив мой. — М. Б.).
Сноски к стр. 177
1 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 1, 1761, д. 14, л. 4; Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 198, л. 203.
2 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 24, д. 150, л. 23; Каталог занятий в гимназии на 1757 год.
Сноски к стр. 178
1 Совершенно непонятно стремление Н. Пенчко оправдать действия Шувалова в этом направлении и объявить его не причастным к тому, что в Московском университете оказалась группа крайних реакционеров. См. Пенчко, стр. 102—106.
2 См., Ломоносов. Соч., т. VIII, стр. 217, 221.
Сноски к стр. 179
1 «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского Университета», т. II, М., 1855, стр. 305—320.
2 См., например, работу П. Н. Беркова «Ломоносов и литературная полемика его времени», АН СССР, 1936.
3 Л. Б. Модзалевский. Ломоносов и его литературные отношения в Академии Наук, рукопись, Библиотека им. Ленина (в дальнейшем «Модзалевский»).
Сноски к стр. 180
1 М. А. Горбунов. Философские и общественно-политические взгляды А. Н. Радищева, Госполитиздат, 1949; В. К. Бобровникова. Педагогические взгляды Ломоносова, «Советская педагогика», 1950, № 5; Пенчко, стр. 228—132; И. Я. Щипанов. «Вступительная статья к 1 тому «Избранных произведений русских мыслителей второй половины XVIII века». Там же помещены работы Поповского — стр. 81—101. Философские взгляды Поповского и его роль в формировании передового направления в Московском университете были рассмотрены мною в статье, помещенной в «Вопросах философии» № 2 за 1952 г.
2 См. Н. Новиков. Опыт исторического словаря о русских писателях, СПБ, 1772, стр. 84; Речи, т. I, стр. 6—9; «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского Университета», т. II, М., 1855; Евгений. Словарь светских писателей, т. II, М., 1845, стр. 131—132; «Русский биографический словарь», т. «Плавильщиков—Прима», стр. 509—510.
3 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 114, л. 194; д. 171, л. 138. Этой даты (1728) придерживается и Н. Пенчко.
4 «ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 24, д. 36, л. 43.
5 «Материалы для истории Академии Наук», т. IX, СПб., 1897, стр. 145.
Сноски к стр. 181
1 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 137, л. 421; д. 171, л. 138; д. 174, лл. 41—42; ф. 21, оп. 1, д. 101, л. 203.
2 Билярский, стр. 186, 190.
3 Материалы для истории Академии Наук, т. X, стр. 227—305; Модзалевский, стр. 311.
4 Пекарский, стр. 508—509.
Сноски к стр. 182
1 Билярский, стр. 215—216.
2 Там же, стр. 190.
3 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 181, л. 222.
Сноски к стр. 184
1 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 181, лл. 249—270.
2 Там же, д. 189, л. 405. Оды и стихотворения Поповского, написанные им в этот период, помещены в приложении к диссертации Модзалевского, стр. 190—191, 287—303; Пекарский, стр. 558; «Москвитянин», 1853, № 3, стр. 25—26.
3 «Протоколы заседаний конференции Академии Наук», ч. II, стр. 224; Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 196, лл. 134—141.
4 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 181, л. 249.
5 Там же, д. 189, лл. 288—289.
Сноски к стр. 185
1 Пекарский, стр. 923—924; Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 270, л. 32.
2 См. ЦГАДА; ф. 199, д. 790, п. 20, лл. 22, 25; «Расписание жалования на гимназию», Рукописное отд. библиотеки им. Горького; «Протоколы», т. IV, л. 5.
Сноски к стр. 186
1 Д. И. Фонвизин. Избранное, Гослитиздат, 1946, стр. 202.
2 «Протоколы», т. V, № 2, 11 за 1758 г.
3 См. «Ежемесячные сочинения», 1755 г., август, стр. 167—176, перепечатано в I томе «Речей, произнесенных в торжественных собраниях Московского Университета»; «Русские мыслители», стр. 87—92.
4 Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 217, лл. 417, 420.
Сноски к стр. 187
1 См. например, «Протоколы», т. IV, лл. 14—15.
Сноски к стр. 188
1 См. объявление о публичном диспуте 17 декабря 1756 года и тезисы диспута на этот же день; Объявление о диспуте 30-го июня 1766 года; «Московские ведомости», 1757, № 20; 1761, № 43.
2 «Протоколы», т. XII, стр. 117, 119—120.
3 Библиотека им Горького, собрание Снегирева.
4 Многочисленные объявления об университетских праздниках находятся в собраниях Снегирева, Страховых, Тихонравова, библиотеки им Горького и портфелях Миллера в ЦГАДА. См. также «Московские ведомости» 1756 г., № 1, 40, 57, 63, 101; 1757 г., № 20, 37, 45, 56; 1758 г., № 38; 1759 г., № 34; 1761 г., № 72 и мн. др.
Сноски к стр. 189
1 Ордером Шувалова Хераскову специально поручалась цензура речей и книг. Для этого он даже освобождался от всех прочих обязанностей и получал прибавку жалования (ЦГАДА, ф. 248, д. 2944, л. 209).
2 Богатейшее собрание первых изданий речей профессоров Москов. университета находится в библиотеке им. Горького в собраниях Снегирева, Страховых, Тихонравова. Часть речей была переиздана в четырех томах Обществом любителей русской словесности в 1819—1823 гг. В 1952 г. наиболее важные работы Поповского, Аничкова, Десницкого, Третьякова были включены И. Я. Щипановым в 1 том «Избр. произв. русских мыслителей второй половины XVIII в.».
Сноски к стр. 190
1 «Протоколы», т. XII, стр. 118, 123.
2 Там же, стр. 43.
Сноски к стр. 191
1 «Русские мыслители», стр. 89—90.
2 Там же, стр. 91.
3 «Протоколы», т. V, протокол № 11 за 1758 г.
Сноски к стр. 192
1 «Протоколы», т. XI, стр. 121.
2 ЦГАДА, р. XVII, д. 47, л. 1.
3 «Московские ведомости», 1768, № 5.
4 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 1, 1949, стр. 425.
Сноски к стр. 193
1 «Русские мыслители», стр. 91.
2 Н. Поповский. Оды Горациевы и письмо его о стихотворстве, СПб., 1801, стр. 57—60.
Сноски к стр. 194
1 Н. Новиков. Опыт исторического словаря о российских писателях, СПб., 1772, стр. 168; «Речи», т. I, стр. 7.
2 М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. IV, стр. 488—489.
3 «Собрание 4291 российских пословиц», М., 1770.
4 ЦГИАЛ, ф. 730, оп. 1, д. 36719, лл. 21—22; д. 38441, лл. 1—34; М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. IV, стр. 248—274.
Сноски к стр. 195
1 «Опыт трудов Вольного Российского Собрания», т. II, М., 1775, стр. 257—267.
Сноски к стр. 196
1 ИРЛИ. (Пушкинский дом), ф. 265, архив «Русской старины», д. 2746, лл. 7—11, 21—28, 34—38, 67, 123, 129, 130, 153—159, 174, 175, 183.
Сноски к стр. 197
1 «Русские мыслители», стр. 88.
2 Там же.
3 Там же, стр. 91—92.
Сноски к стр. 198
1 «Опыт о человеке Попе... переведено Николаем Поповским», М., 1757, стр. 8.
2 «Протоколы», т. III, л. 4; перевод Поповского переиздавался в 1763, 1787, 1791, 1802 гг.
3 См. Н. И. Новиков. Избр. соч., М. — Л., 1951, стр. 336—337; Д. И. Фонвизин. Избранное, М., 1946, стр. 213.
4 «Русские мыслители», стр. 92.
5 «Речи», т. I, стр. 29—30.
Сноски к стр. 199
1 «Письмо о пользе наук», «Живописец», 1772, ч. 1, № 8, стр. 57—59. Сравни — Ломоносов. Соч., т. II, стр. 107, 149, 170.
2 «Речи», т. I, стр. 28, 33.
Сноски к стр. 200
1 «Речи», т. I, стр. 29. Сравни ломоносовское «Науки юношей питают...».
2 «Русские мыслители», стр. 92.
3 «Московские ведомости», 1758, № 65; Протоколы, т. V, протокол № 8 от 2/IX 1758 года.
4 «Речи», т. I, стр. 16.
Сноски к стр. 201
1 Авторство Поповского до самого последнего времени некоторыми исследователями необоснованно отвергалось или подвергалось сомнению. В 1947 г. Л. Б. Модзалевский доказал, что автором стихотворной надписи к портрету Ломоносова был Поповский. См. Модзалевский, стр. 220—235.
2 См. Модзалевский, стр. 179.
3 См. Я. К. Грот. Соч., т. III, СПб., 1901, стр. 63; А. П. Сумароков. Собр. соч., т. IX, М., 1787, стр. 139.
Сноски к стр. 202
1 См. Н. Поповский. Ода на день коронации.., М., 1756; «Речи», т. I, стр. 34.
2 Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 592.
Сноски к стр. 203
1 Д. С. Аничков. Слово.., говоренное в публичном собрании Московского Университета 26 ноября 1762 года, М., 1762, стр. 3.
2 «Протоколы», т. IV, л. 19.
3 Локк. О воспитании детей, переведено Н. Поповским, т. I—II, М., 1760, предисловие.
4 «Протоколы», т. IX, лл. 177—178, 377—378, 385, 389—391.
Сноски к стр. 204
1 См. Шевырев, стр. 79; «Протоколы», т. V, протоколы № 2, 6, 8—12, 1758 г.
2 Дата смерти Поповского указывается только в книге-календаре Spada Éphémérides Russes, t. I, SPb., 1816, p. 299.
3 Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 705.
4 По утверждению Новикова, Поповский за несколько дней до смерти уничтожил все свои бумаги, в том числе собственные произведения и переводы. Сохранившиеся переводы Поповского напечатаны посмертно в «Полезном увеселении», 1760, февраль, стр. 76—80, 93—96; июнь, стр. 249—254; июль, стр. 3—5.
Сноски к стр. 206
1 «СПБ ученые ведомости» на 1777 г. Н. И. Новикова, 1873, стр. 4, 173—174.
2 См. И. И. Челищев. Путешествие по северу России в 1791 г., СПб.. 1886, стр. 121—124.
3 См. Модзалевский, стр. 387.
Сноски к стр. 207
1 В. Г. Белинский. Соч., в одном томе, «Молодая гвардия», М., 1950, стр. 379.
Сноски к стр. 208
1 ЦГАДА, ф. 1183, оп. 10, д. 246, лл. 1—2; по ходатайству Алексея Аргамакова приглашение было напечатано в Московской синодальной типографии в количестве 300 экз. «СПБ ведомости», 1755, № 39.
Сноски к стр. 209
1 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 435—436.
Сноски к стр. 210
1 «Протоколы», т. V, протокол № 12 за 1758 г.; т. VII, стр. 10, 36.
Сноски к стр. 211
1 Билярский, стр. 641.
2 «Протоколы», т. V, № 3 за 1759 г.; ЦГАДА, р. XVII, д. 38, лл. 79—80; ЦГИАЛ, ф. 789, д. 27/29, л. 6. Характерно, что студенты академического университета прекрасно понимали значение этих действий Московского университета. Так, Иван Лепехин, впоследствии выдающийся натуралист и путешественник, прося в 1762 г. о направлении его для продолжения образования за границу, писал: «А понеже де в намерении скорейшею распространения наук между природными российского государства подданными как из Московского Университета и медицинского факультета для обучения разным наукам посыланы были многие в чужие края на казенном содержании» (Арх. АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 270, л. 33).
Сноски к стр. 213
1 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 24, д. 150, л. 50.
2 Пенчко, стр. 131.
3 «Протоколы», т V, протокол № 3 за 1758 г.; «Московские ведомости», 26/IV 1756 г.; 17/XII 1758 г.: 27/IV 1759; № 34, 1760; № 34, 1761.
4 Спутав Аничкова с Афониным, С. Б. Бахрушин написал, что «Д. С. Аничков учился у Линнея в Упсале» (Бахрушин, стр. 13). Использовав крайне некритически статью Бахрушина, П. К. Алиференко повторила эту нелепость в одном из разделов «Истории Москвы», хотя к этому времени об Аничкове уже имелось несколько статей. См. «Историю Москвы», т. II, изд. АН СССР, 1953, стр. 488.
Сноски к стр. 214
1 «Полезное увеселение», 1761, ч. I, № 23; ч. II, № 1, 4.
2 Д. С. Аничков. Слово... говоренное в публичном собрании Московского Университета 26 ноября 1762 г., М., 1762.
3 «Протоколы», т. VIII, протокол № 8 от 30 марта 1762 г.
4 Д. С. Аничков. Теоретическая и практическая арифметика, М., 1786, стр. 5.
Сноски к стр. 215
1 См. Н. И. Новиков. Избр. соч., М. — Л., 1951, стр. 283.
Сноски к стр. 216
1 «Протоколы», т. VIII, протокол от 1 августа.
2 ЦГАДА, ф. 261, д. 5477, № 8, лл. 83—86.
3 «Протоколы», т. XIII, протокол № 9 от 8 апреля 1769 года. Диссертация Аничкова вышла под следующим заглавием: «Рассуждение из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богопочитания, которое... производимый публичным ординарным профессором в публичном собрании на рассмотрение предлагает философии и свободных наук магистр Дмитрий Аничков. 1769 года августа... дня». 24 стр. На экз. Горьковской библиотеки рукой проф. Снегирева на латинском языке написано: «Эта речь очень редка, она некогда сожжена на форуме (площади. — М. Б.). Она вышла в другом издании с изменениями в том же году».
Сноски к стр. 217
1 «Вопросы философии», 1950, № 1, стр. 276—280.
2 И. А. Третьяков. О происшествии и учреждении университетов в Европе, М., 1768, стр. 27—31.
3 «Вестник МГУ», 1952, № 7, стр. 170.
Сноски к стр. 218
1 «Русские мыслители», стр. 38—42, 57—63; «Вестник МГУ», 1952, № 7, стр. 151—153.
2 Несмотря на все поиски, речь Рейхеля обнаружить не удалось. Ее содержание известно по доносу Амвросия и книге Шевырева.
3 «Протоколы», т. XIII, стр. 172—173.
4 «Философическое рассуждение о начале и происшествии богопочитания у разных, а особливо невежественных народов, которое производимый публичным ординарным профессором в публичном собрании на рассмотрение предлагает философии и свободных магистр наук Дмитрий Аничков 25 августа 1769 года», М., стр. 23.
Сноски к стр. 220
1 «Вопросы философии», 1950, № 1, стр. 277. Кстати, неизвестно, почему Петровский объявляет донос Амвросия доносом Алексеева.
Сноски к стр. 222
1 ЦГАДА, ф. 168, д. 113, л. 1. На донесении пометки: «Получено 1769 г. сентября 17 и записано в книгу, предложено к докладу. Слушано сентября 18, 1769 года».
2 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 50, д. 342, л. 2.
3 ЦГАДА, ф. 168, д. 113, л. 5.
4 Евгений. Словарь светских писателей, т. I, стр. 14.
5 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 50, д. 342, л. 4.
Сноски к стр. 224
1 «Русские мыслители», стр. 112—114, 119, 129, 132.
2 Там же, стр. 118.
Сноски к стр. 225
1 «Русские мыслители», стр. 129—130.
2 Там же, стр. 128, 132. Сравни — «Гимн бороде» Ломоносова:
Мать дородства и умов,
Мать достатка и чинов,
Корень действий невозможных,
О завеса мнений ложных!
Сноски к стр. 226
1 «Русские мыслители», стр. 114, Ср. Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 353—354, 487—489, 583, 604—606.
2 Там же, стр. 114—115.
3 Там же, стр. 129; Ломоносов. Избр. философск. произв., стр. 353.
4 Там же, стр. 114.
5 Там же, стр. 132—133.
Сноски к стр. 227
1 «Русские мыслители», стр. 112.
2 Н. И. Новиков. Избр. соч., М. — Л., 1951, стр. 283.
Сноски к стр. 228
1 М. Горбунов. Философские и общественно-политические взгляды А. Н. Радищева, Госполитиздат, 1949, стр. 22.
2 «Русские мыслители», стр. 170—171.
3 Там же, стр. 167.
Сноски к стр. 229
1 «Русские мыслители», стр. 136.
2 Там же, стр. 181.
3 Там же, стр. 172.
4 Там же, стр. 171.
5 Там же, стр. 180.
Сноски к стр. 230
1 «Русские мыслители», стр. 180.
2 Там же, стр. 179.
3 Там же, стр. 179, 183.
4 Д. С. Аничков. Слово.., говоренное 30 июня 1767 г., М., 1767, стр. 6.
5 «Русские мыслители», стр. 157.
6 Там же, стр. 135.
Сноски к стр. 231
1 «Русские мыслители», стр. 140.
2 Там же, стр. 136.
3 Там же, стр. 175—176.
Сноски к стр. 232
1 См. В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 24—27.
Сноски к стр. 233
1 «Русские мыслители», стр. 41—42.
Сноски к стр. 234
1 «Русские мыслители», стр. 60; см. также стр. 240, 242—243, 249—252, 255—256.
2 М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. V, СПб., 1881, стр. 5.
Сноски к стр. 235
1 «Русские мыслители», стр. 269.
2 Там же, стр. 260.
3 Там же, стр. 267.
Сноски к стр. 236
1 «Русские мыслители», стр. 217.
2 Там же, стр. 285.
Сноски к стр. 237
1 «Русские мыслители», стр. 285—286.
2 Там же, стр. 196.
Сноски к стр. 238
1 Следует заметить, что, выступая против схоластических словопрений, Десницкий брал приведенную цитату из тезисов диспута, происходившего в университете под руководством проф. Дилтея.
2 «Русские мыслители», стр. 201.
3 Там же, стр. 204.
4 См. М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. V, стр. 8.
Сноски к стр. 239
1 «Речи», т. IV, стр. 344, 346.
2 См. там же, стр. 352.
Сноски к стр. 240
1 «Русские мыслители», стр. 204—205.
2 Там же, стр. 205.
Сноски к стр. 241
1 «Русские мыслители» стр. 206—207.
2 Там же, стр. 196.
3 Там же, стр. 299.
Сноски к стр. 242
1 «Русские мыслители», стр. 193—194, 301—308.
Сноски к стр. 243
1 «Речи», т. IV, стр. 256—261.
2 «Русские мыслители», стр. 313—316
3 Там же, стр. 318—322.
Сноски к стр. 245
1 «Речи», т. I, стр. 211.
2 «Русские мыслители», стр. 188.
3 См. С. Е. Десницкий. Речь 29 сентября 1773 г.
Сноски к стр. 246
1 См. Б. И. Сыромятников. С. Е. Десницкий — основатель науки русского правоведения, Известия АН СССР, отд. экономики и права, 1945, № 3, стр. 33—40; С. А. Покровский. Учение С. Е. Десницкого об обществе и государстве, Труды Воронежского Государственного университета, т. XIV, вып. 2, 1947, стр. 78—101; М. Загряцков. Общественно-политические взгляды С. Е. Десницкого, «Вопросы истории», 1949, № 7, стр. 101—112.
2 Сыромятников. Указ. соч., стр. 36, 39.
3 Покровский. Указ. соч., стр. 97—98.
4 Загряцков. Указ. соч., стр. 110—111.
Сноски к стр. 247
1 В. И. Ленин. Соч., т. 2, стр. 473.
2 «Русские мыслители», стр. 289—291.
Сноски к стр. 249
1 «Русские мыслители», стр. 336—337, 351—353.
2 Там же, стр. 356.
3 Там же, стр. 353—356.
4 Там же, стр. 338.
Сноски к стр. 250
1 «Русские мыслители», стр. 339.
2 Там же, стр. 351.
3 Там же, стр. 341.
4 Там же, стр. 339.
Сноски к стр. 251
1 Во время учебы в университете Зыбелин значился под фамилией Герасимова, а Вениаминов — под фамилией Дмитриева.
Сноски к стр. 252
1 «Речи», т. IV, стр. 86—87.
Сноски к стр. 253
1 Э. Конюс. Истоки русской педиатрии, Медгиз, 1946, стр. 122, 127.
2 «Речи», т. I, стр. 178.
3 «Речи», т. IV, стр. 145.
Сноски к стр. 255
1 ЦГАДА, р. XI, д. 946, ч. 1, л. 124. Эти документы были обнаружены и использованы И. И. Назаренко. См. «Вестник Московского Университета» № 3, 1954, стр. 150—151.
2 С. П. Шевырев, стр. 206; Биографический словарь профессоров Московского Университета, т. I, стр. 49.
Сноски к стр. 256
1 «Московские ведомости», 1756, № 56; 1757, № 79; 1759, № 38; 1760, № 83; 1761, № 44; 1763, № 40 и мн. др.
2 «Московские ведомости», 1779, № 2.
Сноски к стр. 257
1 Ф.-Г. Дилтей. Первые основания универсальной истории с сокращенною хронологиею, тт. I—III, М., 1762—1768.
2 «Протоколы», т. X, л. 43—44; ЦГАДА, р. XVII, д. 42, л. 21.
3 «Протоколы», т. IX, стр. 611—613, 617.
4 ЦГАДА, р. XVII, д. 42, л. 4.
5 Там же, л. 15.
Сноски к стр. 258
1 ЦГАДА, р. XVII, д. 42, лл. 18—19.
2 Шевырев, стр. 33—34.
3 См. Бахрушин, стр. 12—13, 20. Странно, что редакция «Истории Москвы» сочла возможным поместить псевдонаучные компиляции Дилтея в числе трудов, характеризующих русскую науку XVIII века («Ист. Москвы», т. II, стр. 687).
4 ЦГАДА, ф. 199, д. 546, портф. 1, № 1, л. 123.
5 К. Г. Лангер. О начале и распространении положительных законов и о неразрывном союзе с учением, М., 1766, стр. 3.
Сноски к стр. 259
1 К. Г. Лангер. О начале и распространении положительных законов и о неразрывном союзе с учением, М., 1766, стр. 3, 5, 7, 10.
2 См. К. Г. Лангер. Слово о происхождении и свойстве вышнего криминального суда, М., 1767, стр. 3, 4, 6—8, 15.
3 И. Х. Керштенс. Наставления и правила врачебные для деревенских жителей, М., 1769, стр. 5—7.
4 Там же, стр. 14.
Сноски к стр. 260
1 Шевырев, стр. 35.
2 И. Г. Рейхель. Цветущее состояние и славу России, от геройских добродетелей ее самодержавицы происходящую, М., 1772, стр. 10.
3 И. Г. Рейхель. О том, что науки и художества процветают защищением и покровительством владеющих особ и великих людей в государстве, М., 1762.
4 И. Г. Рейхель. О способе, каким древние возбуждали в гражданах любовь к отечеству, М., 1775, стр. 14—15.
5 См. указанные речи Рейхеля: 1762, стр. 2, 6, 10; 1772, стр. 8, 11—19; 1775, стр. 3, 19, 20; см. также И. Г. Рейхель. О наилучших способах к умножению подданных, М., 1766, стр. 7, 18—19.
Сноски к стр. 261
1 См. Шевырев, стр. 89.
2 ЦГАДА, р. XVII, дополн. опись, д. 8; Шевырев, стр. 157—159.
3 См. М. Скиадан. Слово похвальное... 23/I 1778 г., М., 1778.
4 М. Скиадан. О причинах и действиях страстей душевных... М., 1794, стр. 13.
5 Шевырев, стр. 145. Совершенно непонятно каким образом Р. Г. Гурова зная это, зачислила Скиадана в число тех, кто «дает нам образцы передовой психологической мысли того времени». См. «Вестник Московского университета», 1952, № 11, стр. 71—81.
Сноски к стр. 263
1 См. А. Щапов. Естествознание и народная экономия, Казань, 1906, стр. 49.
2 В. Г. Белинский. Избр. философск. произв., т. 1, 1948, стр. 96.
Сноски к стр. 271
1 «Вопросы истории отечественной науки», изд. АН СССР, 1949, стр. 890.