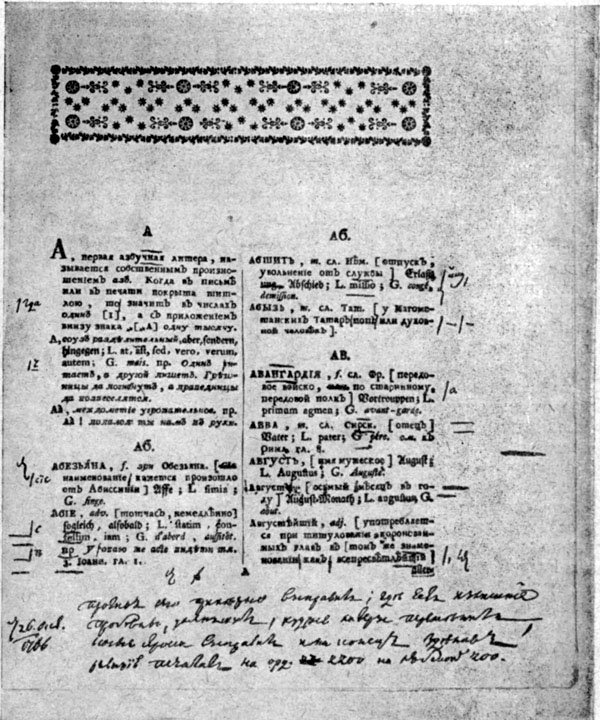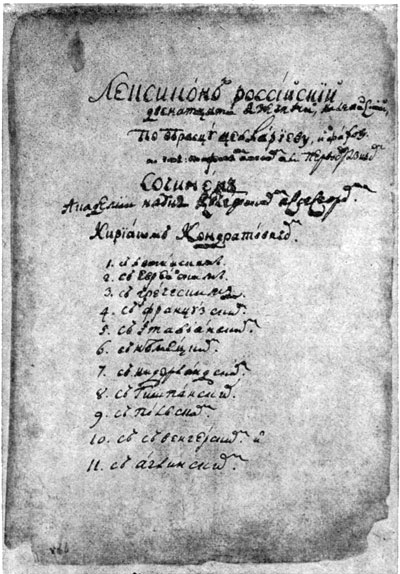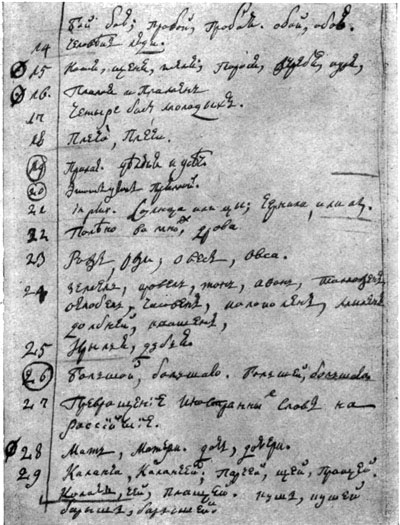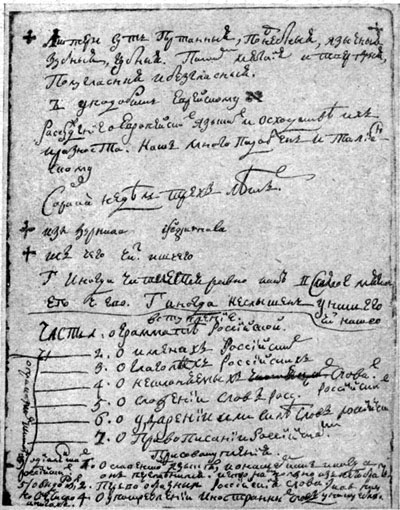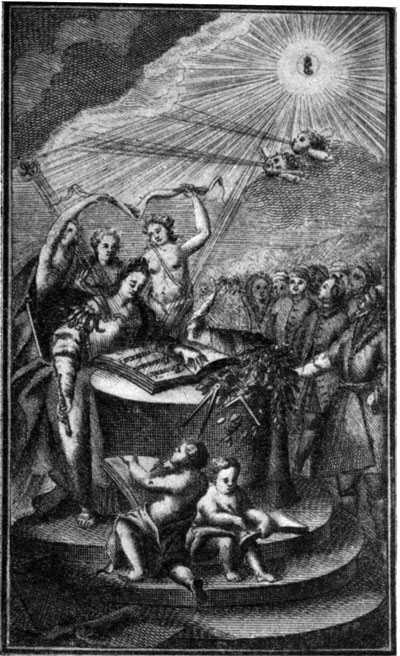- 1 -
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ
В. Н. МАКЕЕВА
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
«РОССИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ»
М. В. ЛОМОНОСОВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД
1961
- 2 -
К 250-летию со дня рождения
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА
1711—1961АННОТАЦИЯ
Книга представляет собой впервые осуществленное исследование истории создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. В монографии раскрывается процесс работы Ломоносова над его сочинением. Автор показывает, что в основу теоретических выводов первой научной грамматики русского языка Ломоносов положил материал, почерпнутый из литературных источников и из живой народной речи.
———
Под редакцией
члена-корреспондента АН СССР
С. Г. Бархударова
- 3 -
ВВЕДЕНИЕ
Неоценим вклад, внесенный М. В. Ломоносовым в сокровищницу русской филологической науки. Великий ученый заложил основы русского литературного языка. Он строил свои грамматические обобщения на обширнейшем фактическом материале, почерпнутом из всех пластов живого общенародного русского языка, и утверждал употребление формулированных им грамматических норм своей литературной практикой, содействуя тем самым усовершенствованию русского литературного языка. В этом воззрения Ломоносова сходны со взглядами В. Г. Белинского, который считал, что грамматические правила должны строиться на основании изучения особенностей данного языка: «Грамматика не дает правил языку, но извлекает правила из языка», — писал критик в одной из рецензий на грамматический труд своего современника.1
Прогрессивная роль ученого в развитии русской филологической науки была справедливо отмечена в свое время Н. А. Добролюбовым, утверждавшим, что Ломоносов «первый составил довольно стройную систему науки о языке» (разрядка наша, — В. М.).2
«Российская грамматика» Ломоносова, впервые увидевшая свет более двухсот лет тому назад (в 1757 г.), была первой полной научной нормативной грамматикой русского литературного языка. Спрос на нее был настолько значителен, что на протяжении первого тридцатилетия (с конца 50-х до конца 80-х годов) она переиздавалась Академией наук пять раз, при этом всегда «с наискорейшим поспешанием».
Выход в свет «Российской грамматики» под маркой молодой еще тогда Академии наук рассматривался современниками как выдающееся событие в области национальной культуры. Вероятно, руководствуясь желанием познакомить Запад с крупной победой русской науки, президент Академии наук К. Г. Разумовский
- 4 -
приказал перевести «Русскую грамматику» на немецкий язык.
Перевод грамматики, выполненный академическим архивариусом И.-Л. Стафенгагеном под «смотрением» Ломоносова, был отпечатан Типографией Академии наук в 1764 г.3
Составленная как научное исследование, «Российская грамматика» стала незаменимым учебным руководством для нескольких поколений русских людей. Последующие русские грамматисты сохраняли верность ломоносовской грамматической традиции. Влияние науки о языке, созданной Ломоносовым, ощущается и при изучении современного русского литературного языка.
Первая научная грамматика русского языка, естественно, привлекала внимание многих языковедов, однако история ее создания не была предметом специального научного исследования. Объясняется это отчасти тем, что до начала пятидесятых годов текущего века подготовительные материалы к «Российской грамматике», собранные Ломоносовым в процессе работы над своим ученым трудом, были известны только частично по далеко не полным и не всегда исправным публикациям, в которых записи даны в произвольной последовательности и группировке.4
Впервые эти материалы были напечатаны полностью и с соблюдением их расположения в подлиннике в академическом Полном собрании сочинений М. В. Ломоносова.5 Изучение полного текста этих черновых грамматических записей и сопоставление их с параграфами «Российской грамматики», а также с другими филологическими трудами Ломоносова и его литературной практикой позволяют осветить вопрос об истории создания основных отделов «Грамматики».
Предлагаемая работа состоит из пяти глав и заключения. В первой главе рассматривается развитие филологической науки с момента создания Академии наук до поступления на академическую службу Ломоносова (1725—1741) — тема, разработанная в нашей литературе совершенно недостаточно. В научный обиход вводятся некоторые новые архивные данные, проливающие свет на отдельные стороны первоначальной деятельности Академии в области филологии.
Во второй главе освещается процесс формирования филологических взглядов Ломоносова, широкий диапазон его научных
- 5 -
интересов в области филологии, прослеживаются рост профессионального мастерства ученого, общественные и личные мотивы, побудившие Ломоносова к написанию научного трактата по грамматике русского языка. При анализе словарной деятельности Ломоносова и других сотрудников Академии, в частности печатника типографии А. И. Богданова и полузабытого русского лексикографа К. И. Кондратовича, используются обнаруженные в Архиве АН СССР фрагменты словарей, ранее не публиковавшиеся. Эти фрагменты позволяют судить о содержании самих словарей.
На основании отзывов Ломоносова о словарях, поступавших на рассмотрение в Академию наук, автор делает попытку установить его лексикографические взгляды, оказавшие, как известно, впоследствии значительное влияние на составителей словаря Российской Академии.
Третья глава книги посвящена описанию работы Ломоносова, непосредственно предшествовавшей созданию «Российской грамматики», и методам, применяемым при этом ученым. Ломоносов строил свой труд не на чужих теоретических основах, а на итогах своих собственных, весьма обильных наблюдений. Он широко пользовался разнообразными материалами из различных письменных источников и в особенности из живой народной речи, умело систематизируя их и применяя в своем исследовании «метод натуралиста». Черновая рукопись дает яркое представление о работе творческой мысли ученого при подготовке грамматики. В главе прослеживается также процесс обдумывания плана «Российской грамматики» и история ее текста.
В следующих — четвертой и пятой главах показано, как создавались ученым основные разделы «Российской грамматики», в которых идет речь о грамматических категориях имени и глагола. Впервые используются подготовительные материалы к «Российской грамматике», привлекаются иллюстрирующие «Российскую грамматику» примеры из художественных и научных произведений Ломоносова, а также из его служебной переписки.
Грамматические формы, встречающиеся в подготовительных материалах, а также формы «Российской грамматики» сопоставляются с соответствующими формами грамматик М. Г. Смотрицкого и В. Е. Адодурова: первая, как известно, явилась «вратами учености» Ломоносова, вторая — в большей степени, чем предшествующие грамматики, — отразила формы словоизменения русского литературного языка начала XVIII в.; Ломоносов, как будет показано в дальнейшем изложении, изучал ее и продолжал развивать достижения русских грамматистов.
—————
- 6 -
ГЛАВА I
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ НАУК В ДОЛОМОНОСОВСКИЙ ПЕРИОД
(1725—1741)«Российская грамматика» Ломоносова вошла в историю русского языкознания как первая полная научная нормативная грамматика. Правильно понять и верно оценить ее значение возможно лишь при учете исторических условий и результатов работы первых русских грамматистов XVIII в., предшественников великого ученого.
Важнейшее место в истории русской науки XVIII в. занимает учрежденная в 1725 г. Петербургская Академия наук. В отличие от западноевропейских академий, представлявших собою добровольные общества ученых, русская Академия наук была центральным государственным научным учреждением, которое, по словам академика С. И. Вавилова, сделалось «основным истоком новой русской науки. Почти все, что было достигнуто в области науки в России в XVIII в., непосредственно или косвенно исходило из Петербургской Академии наук».6 Созданная для развития науки и распространения научных знаний, она способствовала тем самым крутому подъему русской культуры. Русский литературный язык должен был стать важнейшим орудием в выполнении этой задачи, так как распространять научные знания предстояло по-русски.
Между тем литературный язык не был подготовлен для выполнения этой функции. К концу первой четверти XVIII в. он содержал лексические, морфологические, фразеологические и стилистические элементы простонародной и церковнокнижной речи, отжившие диалектизмы, грубые вульгаризмы, невразумительные архаизмы, унылые канцеляризмы и неуклюжие варваризмы. Научная терминология отличалась вопиющей
- 7 -
скудостью. Церковнославянская лексика составляла настолько большой процент в словарном составе русского книжного языка, что иностранным наблюдателям представлялось, будто в России конца XVII в. «разговаривать надо по-русски, а писать — по-словенски».7 Филологически образованные люди того времени затруднялись иной раз дать верное название тому языку, на котором изъяснялись письменно: они именовали его то русским, то славенским, то славенороссийским.
При таких условиях «писать внятно и хорошим штилем» было трудной задачей, справиться с которой — да и то далеко не в полной мере — могли только очень немногие.
Петр I понуждал «так писать, как внятнее», а его сподвижники советовали «писать простым русским языком». Однако это не помогало делу, тем более, что среди тогдашних грамотеев встречались нередко такие, кому стилистический хаос был по душе. Современники заявляли, что авторы пишут «не только зря на пользу людскую, елико на субтильность своего философского письма».8
Итак, важнейшее орудие, которым надлежало действовать новорожденной Академии наук, было отточено недостаточно.
В области лексикографии известны два словаря, изданные в начале XVIII в.: славяно-греко-латинский словарь Ф. П. Поликарпова (1704)9 и русско-голландский словарь Я. В. Брюса (1717).10
Первый из них представляет собою обширный словник, в котором наряду с церковнославянской лексикой представлена также лексика русского языка. Повсюду даны эквиваленты из греческого и латинского языков. Нередки случаи одновременного приведения синонимов или ссылок на них, например: «Закалитель», рядом «Убийца»; «Исполин», рядом «Богатырь»; «Ошиб», рядом «Хвост великий», «Истрошаю, зри изнуряю», «Ковш, зри корец», «Огнезрачный, зри огнеобразный». Изредка встречаются фразеологические сочетания, например: «Завязую назад руки», «Печатаю книги — типом издаю».
Лексикон Я. В. Брюса, по существу, представляет собою тоже словник, состоящий почти исключительно из имен существительных — названий общеупотребительных предметов,
- 8 -
небольшого числа наречий и незначительного — глаголов и прилагательных. В отличие от предыдущего лексикона в отдельных случаях даны определения значений слов, например: «Крылос, или хор певчих или гобоистов, также и круговой танец». «Фрис, сим имянем называется во архитектуре нижайшая часть гзымса над столпом». К некоторым словам приписаны их синонимы, например: «Пища, корм». «Пища, еда». «Кресла, седалища, стул». Отдельные значения русских слов сопровождаются их переводом на голландский язык; многозначные слова повторяются при этом несколько раз, например:
«Шапка — Muts.
Шапка калпак — Kap.
Шапка спалная — Slaapmuts.
Шапка робячья, обшита кишкою, парчевою набитая, чтоб робенок голову не ушиб, когда упадет, — Valhoed.
Шапка женская — Hul».
Несмотря на незначительный объем, русско-голландский лексикон Я. В. Брюса, так же как и трехъязычный лексикон Ф. П. Поликарпова, способствовали более глубокому пониманию значений и оттенков русских слов, приучали к более разборчивому их употреблению. Однако при всей ценности этих книг они не могли заменить толкового словаря русского языка, нужда в котором с каждым годом становилась все настоятельнее.
В наследство от предшествующей эпохи достались лишь грамматики и грамматические руководства церковнославянского языка с бо́льшим или меньшим количеством грамматических и лексических элементов русского или украинского языка, причем все они находились под воздействием античной грамматической традиции. К числу их относится греко-славянская грамматика ’Αδελφοτης (’Αδελφοτης. Грамматика доброглаголиваго еллино-словенскаго ѧзыка. Совершеннаго искуства осми частей слова. Львов, 1591), в которой греческие формы переведены на церковнославянский язык. В ней отражены также некоторые особенности украинского языка.
’Αδελφοτης, источником которой послужила греческая грамматика Ласкариса, оказала определенное воздействие на славянские грамматики Зизания и Смотрицкого.
Известная грамматика Зизания (Грамматіка словенска съвершеннаго искусства осми частіи слова. Вильно, 1596), для своего времени образованного человека, отразила грамматический строй церковнославянского языка с элементами «простого русского диалекта», под которым автор понимал свой родной украинский язык. Следует отметить при этом, что Зизаний, как и другие грамматисты XVI—XVII вв., не отдавал себе достаточного отчета в различиях церковнославянского и русского (или украинского) языков.
- 9 -
Знаменитая грамматика Смотрицкого,11 который лучше, чем его предшественники, представлял различие между книжным церковнославянским языком и живым разговорным, находилась, как и предыдущие грамматики, под сильным влиянием античной грамматической традиции. В ней есть грамматические категории, которые введены под влиянием латино-греческих грамматик, хотя они чужды русскому языку, и, наоборот, отсутствуют категории, присущие церковнославянскому языку, потому что их нет в античных грамматиках. Грамматика Смотрицкого оказала сильное воздействие на последующую грамматическую литературу Руси.
В 1648 г. вышла анонимная ее переделка. В 1721 г. Ф. Поликарпов переиздал грамматику Смотрицкого («Грамматика в царствующем великом граде Москве». М.,1721), а через 2 года вышло составленное на основе той же «Грамматики» грамматическое руководство Ф. Максимова («Грамматика славянская, вкратце собранная в греко-славянской школе». СПб., 1723). Авторы этих грамматик, так же как и Смотрицкий, ориентировались в основном на грамматический строй церковнославянского, а не русского языка.
Эта более чем ограниченная филологическая литература в области грамматики и лексикологии, доставшаяся Академии наук от прошлого, не могла, безусловно, обеспечить распространение научных знаний на русском языке.
Какими же филологическими кадрами располагала на первых порах новорожденная Академия?
Основатели Академии наук не представляли в полной мере, насколько широки и глубоки окажутся ее задачи в области филологии и, в частности, в области обработки русского литературного языка. Первый академический устав предусматривал три класса наук, в которых не оказалось места для русской филологии. Третий класс, куда входила «гуманиора, гистория и право», должен был быть представлен тремя академиками, один из которых призван был заниматься элоквенцией и древними языками. О создании кафедры русской филологии или какого-либо другого органа, заменяющего ее, в уставе не было и речи. Внимание учредителей Академии привлекла только одна филологическая проблема — проблема перевода иноязычных сочинений на русский язык. Проектом академического устава предусмативалось иметь в каждом академическом классе по одному переводчику, которому рекомендовалось знать, кроме русского, латинский, немецкий,
- 10 -
французский или греческий язык, так как на них «многие обращаются книги, в которых все ведомые науки обретаются».12 Кадры переводчиков рекомендовалось создавать из людей, для которых русский язык был родным.
Немалая заслуга в организации переводческой деятельности Академии принадлежала Петру I, понимавшему необходимость создания единого национального литературного языка. В указах и письмах его содержится ряд замечаний, направленных на практическое проведение им мысли о необходимости сближения литературного языка с народной речью. Он выступал против употребления без необходимости на то иностранных слов и славянизмов. Через своих ближайших сподвижников и единомышленников в этом вопросе — И. А. Мусина-Пушкина и Феофана Прокоповича он отстаивал право «простого» русского языка на литературную обработку. Об этом свидетельствует, например, указание Ф. Поликарпову исправить сделанный им перевод географии «не высокими словами, но простым русским языком». Также предлагалось исправить и лексиконы, в которых, кроме того, рекомендовалось избегать «высоких слов славенских», «но посольского приказу употребить слова».13
Но Петр I не дожил, как известно, до официального открытия Академии,14 а лица, занимавшиеся после него ее устройством, не сочли нужным ввести в ее состав никого из тех передовых русских деятелей (таких, например, как Феофан Прокопович, известный историк, этнограф и филолог В. Н. Татищев, поэт А. Д. Кантемир), которые, выступая с горячей защитой просвещения, могли бы с честью занять кафедру красноречия и наладить должным образом филологическую работу Академии.
Первыми академическими профессорами элоквенции были сплошь иностранцы: И.-Х. Коль, специалист по церковной истории (1725—1727), его сменил З.-Т. Байер (1725—1735), не удосужившийся за время двенадцатилетнего пребывания в России хотя сколько-нибудь изучить русский язык.15
Ничего не сделали для развития русской филологии и другие иностранцы-филологи, из которых одни прослужили в Академии всего каких-нибудь два года,16 а другие были филологами только по должности.17
- 11 -
Таким образом, практически на протяжении первого десятилетия деятельности Академии наук отечественное языкознание было представлено лишь весьма немногими русскими переводчиками, единственными представителями русского народа. Среди них нет людей выдающихся, но они достойны упоминания, так как своим честным отношением к труду добились некоторых положительных результатов в области переводов.
Почти все они — питомцы славяно-греко-латинских школ, прекрасно знавшие латинский и греческий языки. Среди них — Максим Сатаров, который проработал в Академии в качестве переводчика около девяти лет (с 1724 по 1732 г.). Сын лекаря, он знал латынь и еще до поступления в Академию занимался переводами текстов медицинского содержания. С хорошими знаниями латинского языка пришел (в то же время) в Академию другой переводчик — Иван Ильинский, которого еще в 1716 г. предполагалось направить как одного из лучших учеников Славяно-греко-латинской академии в Пражский университет. На его развитие оказал серьезное влияние один из просвещеннейших деятелей того времени, отец известного поэта — Дмитрий Кантемир, в доме которого Ильинский был учителем. В эти же доакадемические годы он перевел с латинского языка работу Д. Кантемира «Книга систем, или состояние мухамедданской религии» (1722).
К числу первых академических переводчиков принадлежал и Иван Горлицкий. Получив начальное образование в Московской славяно-греко-латинской академии, он с 1717 г. был направлен сперва в Амстердам, а затем в Париж, где учился в Сорбонне. По возвращении в Россию Горлицкий составил учебник французского языка. Как переводчик, он был чрезвычайно плодовит и в Академии за короткий промежуток времени перевел ряд учебников.
Обстановка, в которой Сатарову, Ильинскому и Горлицкому приходилось работать в Академии, была чрезвычайно тяжела и унизительна. Однако будучи носителями новой русской демократической культуры, они хотели активно участвовать в борьбе за ее развитие. Своей скромной переводческой деятельностью они способствовали обогащению словарного состава русского литературного языка и очищению его от иностранных заимствований.
В конце 20-х и начале 30-х годов кадры переводчиков пополнились: в Академию пришли Стефан Коровин, учившийся, как и Горлицкий, в Париже, и Иван Толмачев, после окончания Славяно-греко-латинской академии работавший учителем. Два ученика Академической гимназии — Матвей Алексеев и Иван Петров тоже стали переводчиками.
В 1727 г. в ряды академических сотрудников вступил окончивший Новгородское духовное училище В. Е. Адодуров,
- 12 -
обладавший задатками языковеда-грамматиста. Училище дало ему основательные знания в области классической филологии, а в Академической гимназии он пополнил свои знания в области немецкого языка. Прекрасно для своего времени Адодуров писал на родном русском языке, а по части деловой и научной прозы он в те годы не имел достойных соперников. Однако, получив звание адъюнкта по математике в 1733 г., он не занялся научной работой. В Академии Адодуров развил активную деятельность главным образом в качестве переводчика. С 1741 г., уйдя из Академии, он занялся административной работой.
Через пять лет одним из сотрудников Академии наук стал квалифицированный филолог В. К. Тредиаковский, получивший блестящую подготовку в Парижском университете. За два года до вступления в Академию (в 1730 г.) он печатно заявил о своих взглядах на русский литературный язык и на задачи переводчика. Тредиаковский считал, что писать нужно «почти самым простым русским словом, каковым мы меж собой говорим», потому что «язык словенский в нынешнем веке у нас очень темен, и многие его наши читая не разумеют».18
Провозглашение принципа «обмирщения» русского литературного языка, освобождения его от церковнославянской стихии и сближения с живым разговорным языком свидетельствовало о прогрессивности теоретических взглядов Тредиаковского на национальный русский литературный язык. Известно, что еще до поступления в Академию Тредиаковский начал работать над каким-то грамматическим трудом, что видно из договора, заключенного при вступлении в Академию, где под пунктом 4 значится: «окончить грамматику, которую... начал и трудиться совокупно с прочими над дикционарием русским».19
Однако практическая его деятельность, как показывает «Езда в остров любви», расходилась с провозглашенными в предисловии к этой книге теоретическими взглядами филолога: наличие большого количества архаизмов из церковнославянского языка и церковнославянских грамматических форм (энклитическая форма местоимений мя, тя, аористическая глагольная форма умре, архаические формы повелительного наклонения на -и, -й — стреги, здравствуй, показуй, инфинитивы на безударные -ти, -чи — любити, утаити и др.) снижают значение теоретических взглядов Тредиаковского. По словам академика А. И. Соболевского, Тредиаковский «не сумел
- 13 -
указать места для церковнославянских элементов в новом литературном языке».20
Таков был немногочисленный, но пестрый по своему составу филологический коллектив, усилия которого в первое десятилетие существования Академии наук были направлены как на переводческую работу, так и на теоретическую.
В области теоретической усилиями этого коллектива в 1731 г., т. е. еще до Тредиаковского, был выпущен в свет трехъязычный объемистый немецко-латино-русский словарь под названием: «Teutsch-lateinisch-und russisches Lexicon, samt denen Anfangs-Gründen der russischen Sprache zu allgemeinem Nutzen. Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка к общей пользе». St.-Pt., 1731, — составленный на основе немецкого словаря Э. Вейссманна. Этот словарь успешно продолжил доакадемическую словарную традицию, в еще большей степени отразив словарный состав русского языка с учетом требований не только высокого, но и «посредственного» слога. Это выразилось в подаче наряду со славянскими однозначащих русских слов и их синонимов. Очень мало сведений сохранилось о том, как выполнялась эта кропотливая работа. Известно лишь, что по требованию президента Академии Л. Л. Блюментроста словарь составлялся спешно силами всех академических переводчиков, которым Шумахер предписал «каждому сочинять в своей квартере и в собрании... всем читать, как скоро возможно».21 По словам Г.-Ф. Миллера, дело затруднялось тем, что для перевода слов на немецкий язык был привлечен иностранец М. Шванвиц, человек невежественный, а с латинского на русский переводили упомянутые выше Ильинский, Горлицкий и Сатаров, которые не знали немецкого языка. Миллер утверждает, что их ошибок никто не поправлял: И.-Д. Шумахер, советник Академической канцелярии, считал, что первое издание можно выпустить и так, а исправления внести во второе издание».22
Помимо переводчиков, в подготовке словаря принял участие, вероятно, и Адодуров, который признавал словарное дело «весьма важным и российской нации полезным».23 Корректурную правку, во всяком случае, производил он.24 Лексикон был напечатан большим для того времени тиражом —
- 14 -
2500 экз. и через 25 лет сделался редкостью. Позже, в 1782 и 1799 гг., он был переиздан.
Одновременно со словарем была выпущена приложенная к нему анонимная грамматика под названием «Anfangs-Gründe der russischen Sprache» («Первые основания российского языка»). Автором ее был, как оказалось, В. Е. Адодуров.25 Он поставил целью отразить в своем труде грамматический строй русского, а не церковнославянского языка в отличие от предыдущих грамматик. Архаические формы в склонении имен существительных отсутствуют — они заменены формами общенародного русского языка, например в дательном и сказательном падежах множественного числа взамен церковнославянских флексий -ы и -ѣх даются повсюду русские: -ам, -ах — столам, столах, заповедям, заповедях, за исключением существительных дитя и отроча, от которых произведены старые формы косвенных падежей. В преобладающем большинстве случаев формы существительных даны с русскими флексиями. Недостаток состоит в том, что в отдельных случаях приводятся две флексии в некоторых падежах, причем часто они даются без комментариев, объясняющих употребление той или иной флексии.
В отличие от существительных приведены как русские, так и церковнославянские формы прилагательных, причем в единственном числе преимущественно церковнославянские. Широко представлены в грамматике способы образования сравнительной и особенно превосходной степени.
Впервые в истории русской грамматической науки было указано на наличие в русском глаголе трех времен — настоящего, прошедшего и будущего и отсутствие перфекта и плюсквамперфекта, отмечено также отсутствие двойственного числа для глагольных и именных форм.
Нельзя согласиться с А. С. Будиловичем, который считал первую грамматику русского языка, написанную Адодуровым, простым «извлечением» из Смотрицкого, «с переложением лишь форм церковнославянского языка на русский».26
Грамматика Адодурова явилась крупным шагом вперед в деле преодоления архаистических тенденций, тормозивших развитие русского литературного языка.
Следует отметить в то же время описательный подход к освещаемому материалу: варианты грамматических форм приведены без теоретического обоснования применительно
- 15 -
к высокому и простому слогу. В отдельных случаях в грамматике наблюдаются уступки формам словоизменения церковнославянского языка. Категория вида совершенно не разработана. Эти недостатки значительно снижают значение грамматики Адодурова в истории разработки научных основ русского литературного языка. Практическое воздействие грамматики затруднялось тем, что она была напечатана не отдельным изданием, а в виде приложения к словарю и к тому же не на русском, а на немецком языке.
В 1734 г. вышла в свет «вторым тиснением» «Немецкая грамматика» (без автора), предназначенная для обучения в Санкт-петербургской гимназии (первое издание в 1730 г.). По сравнению с первым академическим изданием качество перевода этой грамматики было значительно улучшено Адодуровым. Он отредактировал перевод и ввел русскую грамматическую терминологию взамен оставленной в первом издании немецкой терминологии.27
Заслуживают внимания составленные в 1733 г. неизвестным грамматистом орфографические правила, предназначенные для внедрения в печать Академической типографией. Они были переданы Типографии вместе с отлитым для нее гражданским шрифтом. Текст правил неизвестен. Об этих правилах, времени их появления и о содержании некоторых их параграфов можно судить лишь на основании беглых упоминаний М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского в полемике по вопросу об окончаниях полных имен прилагательных в именительном падеже множественного числа.
В 1746 г. Ломоносов выступил с возражениями против написанной Тредиаковским по-латыни и прочитанной в заседании Конференции диссертации De plurali nominum adjectivorum integrorum Russica lingua scribendorum Terminatione (О том, как писать по-русски окончания полных имен прилагательных во множественном числе), переведенной автором на русский язык. Возражения Ломоносова были изложены в «Примечаниях на предложение о множественном окончении прилагательных имен». В противоположность Тредиаковскому, следовавшему в вопросе об окончаниях прилагательных церковнославянской традиции, Ломоносов уже в этой ранней языковедческой работе отстаивал независимость русского грамматического строя от церковнославянского. В связи с отсутствием достаточных теоретических доводов для обоснования окончаний имен прилагательных в именительном падеже множественного числа он предлагал следовать установившемуся в русском языке употреблению, указывая, что «введенное за
- 16 -
10 и больше лет в академической типографии употребление множественных прилагательных окончений мужеского на е, а женского и среднего на я, хотя довольного основания не имеет, однако свойству нынешнего великороссийского языка не противно».28 Составителем введенных Академической типографией правил 1733 г., возможно, был Адодуров совместно с типографскими корректорами, которым русское правописание XVIII в. было очень многим обязано.
Впоследствии правила 1733 г. оказались так прочно усвоенными, что в некоторых своих частях (родовые окончания имен прилагательных в именительном падеже множественного числа) продержались без изменений вплоть до советской орфографической реформы 1918 г.
Таким образом, первое десятилетие Академии наук принесло некоторые теоретические успехи в области филологии. Однако они были недостаточны, чтобы повлиять хоть сколько-нибудь заметно на состояние русского литературного языка. Русские научные тексты, выходившие в те годы в свет под маркой Академии наук, продолжали страдать все теми же лексическими и стилистическими пороками, которые калечили русскую прозу и в доакадемическое время. Особенно болезненно сказывалась неразработанность научной терминологии, приводившая к тому, что академические работы, печатавшиеся по-русски, оставались во многом непонятными даже искушенному в науке читателю. Печальная участь постигла предпринятое Академией издание «Краткого описания Комментариев», содержавшего переводы на русский язык некоторых статей с латинского языка из журнала «Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae». Недостатки перевода привели к прекращению издания «Краткого описания» на первом номере.29
Жизнь подсказывала, что разрозненными усилиями отдельных, никем не руководимых работников не изжить тяжелых недостатков литературной речи. Напрашивалась мысль о необходимости создания в составе Академии наук кафедры русской словесности. В числе просвещенных русских людей нашелся бы кандидат, способный с честью ее занять. Один из представителей «гнезда Петрова», разносторонне образованный человек, веривший в пользу науки для государства и народа, — В. Н. Татищев в 30-х годах XVIII в. намечает ряд проблем из области языкознания. В сочинении «Разговор о пользе наук и училищ», написанном в основном в 1733 г., он поставил вопрос об историческом развитии языков путем происхождения
- 17 -
из одного корня — праязыка.30 В других своих трудах Татищев говорит о богатстве русского языка и его способности к словопроизводству, об упрощении системы русского правописания, проводит идею о необходимости очищения русского языка от ненужных заимствований из иностранных языков.31
Однако Татищев, несмотря на свою филологическую подготовку и практическую деятельность, обнаружившую в нем задатки грамматиста, не получил приглашения в Академию наук. Управлявшие ею иностранцы ревниво оберегали свою власть. Несмотря на диктовавшуюся потребностями жизни необходимость создания кафедры русской словесности, они не пошли на это и остановились на полумере. Такой полумерой явилось Российское собрание.
Оно было образовано по распоряжению «главного командира» Академии наук Л.-А. Корфа от 14 марта 1735 г.32 с целью коллегиального исправления переводов силами академических переводчиков. Однако Тредиаковский, которому было доверено руководство организацией переводчиков, во вступительной речи при открытии Собрания обрисовал стоящие перед Собранием задачи значительно шире: он указал на необходимость создания грамматики, «доброй и исправной», лексикона, «полного и довольного», который потребует чрезвычайно больших трудов, а также риторики и руководства по стихотворной науке.33
В состав Российского собрания вошли двое русских — Тредиаковский и Адодуров и двое иностранцев — М. Шванвиц, которого незадолго перед тем Г.-Ф. Миллер аттестовал как невежду,34 и недавно окончивший гимназию переводчик И. И. Тауберт, сумевший каким-то образом создать себе репутацию знатока русского языка. Секретарем собрания был зачислен мелкий дипломатический чиновник С. С. Волчков, стиль переводов которого впоследствии был сурово осужден Ломоносовым.35 В рассмотрении переводов принимали участие и первые академические переводчики — Ильинский, Горлицкий и Толмачев.
Так как ни протоколы, ни отчеты Собрания не отысканы, а сохранившиеся литературные и архивные материалы очень скудны, о деятельности Российского собрания представляется возможным дать лишь очень краткие сведения.
- 18 -
Достоверно известно о двух крупных филологических предприятиях Академии наук. Одно из них очень значительно и по замыслу и по итогам. Через год после открытия Собрания Тредиаковский писал, что для достижения большей точности при составлении словаря «избрали одно лицо, зависящее от Собрания, которое отправляется туда и сюда для собирания всех технических выражений, свойственных каждому искусству и науке».36 Материал собирался для задуманного Российским собранием толкового словаря. К составлению его Российское собрание не приступило, однако привлекло к собиранию лексических материалов тередорщика (печатника) Академической типографии А. И. Богданова. Скромный, очень трудолюбивый человек, Богданов всей душой отдался этому делу, посвятив ему многие годы своей жизни. Накапливая лексический материал путем опроса «мастеровых людей» и посредством выборки из книг, Богданов за полтора десятилетия собрал огромный по объему (14 «волюменов» — томов)37 и многообразный по содержанию фактический материал. Сам он указывал впоследствии на обилие собранных им терминов, подтвержденных как «народными, так и книжными речьми».38 Это был толковый словарь русского языка с переводом значений слов на латинский, немецкий и французский языки.
К этой работе были привлечены молодые переводчики И. И. Голубцов и В. И. Лебедев, товарищи Ломоносова по Московской славяно-греко-латинской академии, одновременно с ним вступившие на академическую службу. Несколько позже им в помощь были приданы переводчики В. Е. Теплов и Г. Фрейганг, работавшие под наблюдением Тауберта.39
Этот подготовлявшийся усилиями академических сотрудников первый академический толковый словарь, несмотря на большое его значение и потребность в нем, не увидел света. Однако появилась просуществовавшая до наших дней легенда о так называемом лексиконе Тауберта. Создателем этой легенды был сам Тауберт. Начало ей было положено в 1743 г., в разгар работы по собиранию материала Богдановым, когда Тауберт заявил, что «из собственной своей охоты, а не по указу» он сочиняет «российский лексикон с толкованием речей на латинском, французском и немецком языках» и что «первые литеры А и Б совершенно им окончены, а к прочим словам и речи уже собраны, токмо толкования еще не приложено».40 В 1751 г. к своему утверждению он добавил, что, «не взирая на несказанный
- 19 -
Первая страница корректурного оттиска словаря А. И. Богданова с визой И. И. Тауберта.
- 20 -
труд», старается дело скорее привести к концу.41 Эти высказывания Тауберта были приняты за правду, и в литературе утвердилось убеждение, будто он действительно «трудился» над составлением какого-то словаря42 и что словарь остался в рукописи, но едва ли окончен составлением.43 После смерти Богданова и Ломоносова Тауберт даже предпринял попытку напечатать этот словарь, однако она не увенчалась успехом. В Академической конференции разгорелся спор о том, кто является автором словаря, и Тауберт с «запальчивостью» доказывал свое авторство.44 После смерти Тауберта специально созданная Академией комиссия, которой было приказано «пересмотреть все канцелярские дела со времени президента Корфа, а особливо касающиеся до учреждения бывшего при Академии профессорского собрания (речь идет о Российском собрании) о исправлении российского языка, а также переводческой экспедиции»,45 установила, что «оный лексикон сочиняем был при Академии по особливому канцелярскому определению совокупными трудами нарочно определенных к тому разных академических служителей».46 Комиссия признала лексикон, который присваивал себе Тауберт, «за казенную и собственно к Академии принадлежащую книгу», так как «Тауберт другого участия в оном, кроме одного надзирания, и то по должности своей, бывши тогда начальником тех служителей, которые в сочинении того лексикона трудились, не имел».47 Так был нанесен удар по версии, приписывавшей создание лексикона Тауберту, и было восстановлено авторство Богданова и его помощников — «академических служителей» в создании толкового словаря, который не был напечатан, но сыграл известную роль впоследствии при составлении словаря Российской Академии. Несмотря на это, в последующие годы в филологической науке легенда о лексиконе упорно держалась.
Российское собрание явилось организатором и другого мероприятия, правда, менее значительного. Оно откликнулось на злободневные еще с петровских времен вопросы русской графики. Итогом обсуждения графических вопросов явилось принятие новой азбуки, с которой Шумахер предложил впредь «сообразовываться» Академической типографии.48 От петровской азбуки 1708 г. она отличалась тем, что из нее были выкинуты некоторые славянские буквы (зело, ук, от, фита и ижица).
- 21 -
Известный академический грамматист Адодуров приветствовал это нововведение, указав, что «литеры» «ѕ, у, ѿ, ѯ, ѱ, ѳ и ѵ с довольным основанием выкинуты и нигде — ни в письме, ни в печати — уже не употребляются».49
Ко второй половине 30-х годов относятся две неопубликованные заметки Адодурова, которые, по-видимому, связаны с деятельностью Российского собрания: в одной из них шла речь о целесообразности латинизации русского алфавита по примеру польского,50 в другой — «О разности и употреблении литер ъ и ъ»51 — высказывались те же, что и в адодуровской грамматике, соображения о ненужности буквы ъ.
Деятельность скромного коллектива академических переводчиков, вошедших в состав Российского собрания, в основном свелась к выполнению практической работы — правке переводов, на осуществление же широких теоретических задач, о которых говорил во вступительной речи в 1735 г. Тредиаковский, не хватило ни теоретической подготовки, ни сил, если учесть, с каким трудом русской науке приходилось пробивать себе дорогу в то время.
Академические переводы к концу 1730-х годов стали значительно удобопонятнее по сравнению с переводами, печатавшимися в первые годы существования Академии. В этом бесспорная заслуга Российского собрания. Однако они были еще очень далеки от совершенства. Одной из причин, тормозивших улучшение качества переводов, являлось отсутствие свода «правил грамматических». Российское собрание не создало грамматики. Грамматический обзор, опубликованный в 1731 г. Адодуровым, был слишком бегл и элементарен. При поступлении в Академию Тредиаковский обязался написать грамматику, «добрую и исправную», что осталось невыполненным. Обещанная риторика тоже не была написана. «Руководство по стихотворной науке» было выпущено Тредиаковским под названием «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» в 1735 г., т. е. в год учреждения Российского собрания. Автор, претендовавший на роль реформатора русского стиха, доказывал возможность введения в русское стихосложение силлабо-тонического принципа. Однако его реформа была половинчатой, и Тредиаковский не получил права на звание отца русского силлабо-тонического стихосложения (см. ниже об успехах Ломоносова в применении теории силлабо-тонического стихосложения на русской почве).
Таковы были итоги филологической деятельности Академии наук за первое пятнадцатилетие ее существования до момента
- 22 -
вступления в нее Ломоносова. Русская филологическая наука, которая только еще начинала создаваться, должна была откликнуться на назревшие потребности общества, учитывая, что к началу 1740-х годов ряд основных вопросов построения русского литературного языка еще не был решен. Ломоносов вступил в Академию наук вполне подготовленным к разрешению трудных задач русского языкознания.
—————
- 23 -
ГЛАВА II
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛОМОНОСОВА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ ДО ВЫХОДА В СВЕТ «РОССИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ»
Занятия филологией в годы учения
Тяга к знаниям и любовь к родному языку проявились у Ломоносова очень рано. В 1731 г. он переступил порог Заиконоспасской школы — Славяно-греко-латинской академии, выучившись грамоте у крестьянина-земляка Федора Шубного. Будущий ученый прочитал ряд книг духовного содержания и «вытвердил наизусть» попавшиеся ему у Христофора Дудина три книги светского характера. Среди них было незаурядное для того времени сочинение, имевшее более чем столетнюю давность, — грамматика Мелетия Смотрицкого. Она была первой научной книгой, попавшей в руки Ломоносова. В ней полно и систематически излагались вопросы орфографии, морфологии, синтаксиса, стилистики и стихосложения и устанавливались нормы старославянского языка. По собственному выражению Ломоносова, «Грамматика» Смотрицкого, наряду с «Арифметикой» Магницкого, явилась «вратами его учености».
«Жажда науки», которая, по словам молодого Пушкина, была «сильнейшею страстию... души»52 Ломоносова, привела юного помора через великие преграды и испытания с далекого сурового севера в первоклассное по тому времени высшее учебное заведение. К 1731 г. оно просуществовало уже ровно полвека. Особенно солидное и систематическое образование Московская академия давала в области классических языков и риторики.
Учась в Академии, Ломоносов терпел горькую нужду и «со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу
- 24 -
имели», как писал об этом впоследствии сам Ломоносов в письме к И. И. Шувалову.53
Несмотря на это, сочетание в Ломоносове «необыкновенной силы воли с необыкновенною силою понятия»54 обеспечило ему небывалый успех в овладении знаниями: три низших класса — фара (она же и аналогия), инфима и грамматика, в которых изучались основы славяно-русской и латинской грамматики, он прошел в очень короткий срок — в течение одного года, в то время как малодаровитые ученики сидели в них по нескольку лет.55 Помимо грамматики, изучались география, история и арифметика. Как положительное явление в постановке учебной работы Славяно-греко-латинской академии следует отметить стремление закрепить теоретические знания, в частности по латинскому языку, практическим их применением: начиная с третьего класса в обязанность ученику вменялось говорить по-латыни, в особенности в школе.
Обучение в четырех последующих классах (синтаксима, пиитика, риторика и философия) Ломоносов успешно закончил в 1735 г. С особым увлечением занимался он изучением латинского языка. Одновременно или вслед за этим Ломоносов принялся за самостоятельное изучение греческого языка, преподавание которого в Академии тогда не велось. Овладение языками происходило не только путем заучивания грамматических правил, а и путем перевода текстов с латинского и греческого языков при помощи словарей. Вероятно, Ломоносов пользовался наиболее доступным в то время славяно-греко-латинским словарем Поликарпова (1704).
По-видимому, с неменьшим интересом и усердием занимался он вопросами стилистики. «...Его учебная подготовка в этой области была весьма основательна, а начитанность широка. Памятником школьных занятий Ломоносова риторикой служит рукописный ее курс на латинском языке»,56 который был прочитан выписанным из Киевской духовной академии в числе других украинских наставников и учителей монахом Порфирием Крайским (текст этого курса, переписанный большей частью рукой Ломоносова, хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, фотокопия — в ААН СССР, ф. 20, оп. 6, № 64).
Приобретенные Ломоносовым знания в области латинского языка, подкрепленные впоследствии практикой переводов, были настолько блестящи, что даже недруг Ломоносова
- 25 -
А.-Л. Шлецер должен был признать его «первым латинистом не в одной только России».57
После успешного окончания средних классов Ломоносов был зачислен в июле 1735 г. в высший, философский класс Спасских школ, а в конце 1735 г. в числе двенадцати воспитанников «не последнего разумения» был направлен в Петербург для продолжения образования в Академической гимназии. Вскоре после прибытия туда вместе со студентами Д. И. Виноградовым и Г.-У. Райзером он был отправлен в Германию для продолжения учебы, так как Академии требовался «опытный в горном деле химик». Время до отъезда в Германию Ломоносов должен был посвятить изучению немецкого языка.
17 января 1736 г. Ломоносов вместе с другими «петербургскими руссами» был зачислен в число студентов Марбургского университета. До отъезда за границу он совсем не знал немецкого языка.58 В соответствии с данной Академией наук инструкцией наряду с точными науками в Марбургском университете он должен был стараться «о получении такой способности в русском, немецком, латинском и французском языках, чтоб... свободно говорить и писать».59 Через полгода обучения в университете знаменитый Х. Вольф, наблюдавший за петербургскими студентами, свидетельствовал об исключительной любви Ломоносова к математике, физике и философии, а также отмечал прилежность его к занятиям немецким языком. Через десять месяцев после начала занятий в университете Ломоносов присылает президенту Академии наук И.-А. Корфу написанное по-немецки письмо как «первый опыт познаний... в немецком языке».60
Наряду с быстрым овладением немецким языком, в чем Ломоносову оказала незаменимую услугу его лингвистическая подготовка в Славяно-греко-латинской академии, он на протяжении всех трех лет пребывания в Марбурге изучал и французский язык. Свидетельством усиленных занятий Ломоносова французским языком служит посланный им в конце 1738 г. в Академию наук перевод с французского оды Фенелона «На уединение», выполненный четырехстопным хореем.
Исследователи указывают, что в этом «первом, ... ответственном опыте поэтического перевода Ломоносов, несмотря на всю свою тогдашнюю неискушенность в этом деле, сумел проявить уже до некоторой степени те качества, которые стали впоследствии столь характерны для него как переводчика: его перевод замечательно точен... Некоторые стихи поражают
- 26 -
своей исключительной для начинающего переводчика близостью к оригиналу».61
Элементарные сведения приобрел Ломоносов также по еврейскому языку и закрепил знания по греческому под руководством преподавателя Шредера, во времена Петра Великого жившего в России. Шредер объяснял некоторые из книг Ветхого и Нового завета и разбирал греческих писателей.62
Уже со студенческих лет Ломоносова интересовали вопросы лексикографии. Еще в период своего пребывания в Марбурге наряду с другими книгами он приобрел широко распространенный в то время двухтомный латинский лексикон Базилиуса Фабра (Шмидта), новый французско-немецкий и немецко-французский словарь для путешественников Иоганна-Леонарда Фриша и полный немецко-латинский словарь Христофа-Ернста Штейнбаха.63 В последующие годы его библиотека пополнилась и другими словарями.
В Марбургском университете окреп интерес Ломоносова к красноречию, курс которого читался профессором элоквенции И.-А. Гартманом. Есть основания предполагать, что Ломоносов принял участие в проводимых профессором практических занятиях.64
В этот момент он уже глубоко размышлял над стилистическими вопросами, о чем свидетельствуют заметки, сделанные им на экземпляре «Нового и краткого способа к сложению российских стихов»65 Тредиаковского, приобретенном в 1736 г. во время кратковременного пребывания в Петербурге.
- 27 -
На основании отдельных заметок на полях и под строкой можно сделать вывод о самостоятельности и оригинальности взглядов молодого студента и несогласии его со взглядами автора трактата, притязавшего на новизну постановки вопроса. Изучение трактата Тредиаковского, начавшееся в России, завершилось, вероятно, в Германии в годы пребывания в Марбурге. Несогласие Ломоносова с Тредиаковским свидетельствовало о филологической зрелости Ломоносова, который в 1736—1739 гг. подошел к пониманию вопросов о специфических особенностях грамматического строя русского литературного языка, о чистоте русского языка и степени использования в нем церковнославянизмов и выступил против необоснованных иноязычных заимствований. Изучение за границей целого ряда трактатов по риторике — Лонгина (в переводе Буало), Коссена, Помея и Готшеда и конспектирование некоторых из них66 способствовало обогащению теоретических познаний Ломоносова в области красноречия; впоследствии, критически освоив их, он прекрасно воспользуется ими при написании риторических руководств на русском языке.
Таким образом, войдя во «врата учености» с усвоенной им первой научной книгой, попавшейся в руки, — славянской грамматикой Смотрицкого, Ломоносов в течение почти десятилетия систематически под непосредственным руководством преподавателей занимался теоретическим изучением ряда языков и приобрел способность критически мыслить и понимать особенности грамматической структуры русского языка.
Теоретическое изучение языков по грамматикам и словарям сочеталось с почти постоянным процессом непосредственного общения Ломоносова с носителями родного русского языка — представителями широких масс народа и образованного русского общества. Благодаря этому Ломоносов отличался широким и исключительно глубоким знанием «общего российского» языка, который он «с малолетства спознал»,67 как настоящий «природный россиянин».
Родной язык был знаком Ломоносову во всем многообразии его диалектов. Сначала, в детские и юношеские годы, он воспринимал чистую русскую речь северян, которую впоследствии назвал поморским диалектом. Высоко развитое чутье к языку способствовало сохранению в его памяти фонетических особенностей даже отдельных говоров. Отзвуком этого факта является фраза, записанная в «Материалах к „Российской грамматике“»: «Что не во всякомъ языкѣ <те же слова> то же произношеніе. О коренныхъ жител[ях] въ Колѣ».68 К поморскому
- 28 -
диалекту он относился с большим уважением и считал его наиболее близким к «старому славянскому» языку.
В годы учения в Славяно-греко-латинской академии Ломоносов в совершенстве изучил московский диалект как язык людей, «вразумленных книжному искусству», так и простонародный, «бесписьменный» язык московской улицы. Впоследствии он рассматривал этот диалект как употребительный не только «при дворѣ и в дворянствѣ», а «особливо въ городахъ, близъ Москвы лежащихъ»,69 т. е. как общий язык постоянных жителей Москвы, независимо от их классовых расслоений.
Оценив по достоинству московский диалект, Ломоносов положил его в основу русского литературного языка.
Занимаясь в Заиконоспасской академии, Ломоносов общался с учителями-украинцами, выходцами из Киевской духовной академии, и довольно тонко усвоил фонетические особенности украинского языка или, согласно его определению, «малороссийского» (в другом случае «украинского») диалекта. Некоторые записи подготовительных материалов к «Российской грамматике», «Примечания на предложение о множественном окончении прилагательных имен» и в особенности «Российская грамматика» свидетельствуют о том, что Ломоносов различал на слух разницу в произношении таких оттенков звуков, которые было подчас трудно заметить, например е от ѣ в украинском просторечии (см. § 118 «Российской грамматики»). Правда, в связи с тем, что украинский язык в то время только начинал оформляться на живой национальной основе, Ломоносов рассматривал его не как самостоятельный язык, а как малороссийский диалект русского языка.
В первоначальный период академической службы (до написания грамматики) Ломоносов занимался различными областями филологии: принимал живейшее участие в словарной деятельности, работал над теорией русской прозы, переводил научные и художественные сочинения, а также «Примечания к Санктпетербургским ведомостям», вел грамматический спор с Тредиаковским, выступал на педагогическом поприще и т. д.
Словарная деятельность
Русский язык всегда был предметом живого интереса Ломоносова. Во второй половине 1740-х годов ученый откликнулся на стоявшие перед Академией наук лексикографические задачи, приняв активное участие в словарной деятельности Академии. В 1747 г. он заявил о своем намерении составить лексикон.70 В подготовительных материалах к «Российской
- 29 -
грамматике» тоже упоминается о «лексиконе русских примитивов»,71 под которым, вероятно, надо разуметь словарь, состоящий из корневых, «первообразных» слов (ср. ниже, стр. 30, где идет речь о рецензии Ломоносова на словарь Георгия Дандоло). Там же он делает запись: «Положить проектъ, какъ сочинять лексиконъ».72 Такой проект не обнаружен, однако достоверно известно, что интерес Ломоносова к исторической лексикологии и лексикографии в последующие годы продолжал крепнуть.
В 1747 г. полузабытый сейчас русский лексикограф, академический переводчик К. А. Кондратович представил в Академическую канцелярию переработанный им латинский «Целяриев дикционер» с добавленными к нему русскими значениями помещенных там слов и «латинских ботанических имен к русским первообразным».73 Ломоносов отрицательно отозвался о работе Кондратовича, отметив в ней: 1) недостаточное количество производных, и в особенности «сложенных» слов; 2) неправильное расположение производных слов «не под их своими первообразными» и наряду с этим 3) «нарочитое число весьма новых и неупотребительных производных же слов...» и неисправность перевода на латинский язык.74
В процессе работы над словарем рукопись Кондратовича неоднократно просматривалась Ломоносовым, который справедливо предъявлял большие требования к составителю словаря. В декабре 1750 г. Кондратович сообщал, что его лексикон вторично окончен составлением «по данным... от господина химии профессора Михайла Ломоносова правилам».75
Деятельность Ломоносова в создании лексикона не ограничивалась одним лишь наблюдением за работой Кондратовича (1749—1751). В репорте за майскую треть 1749 г., подводя итоги своей научной работы, Ломоносов писал: «В сочинении „Российского лексикона“ при вспоможении г. Кондратовича дошел до письмены П с производными без сложенных», подчеркивая свое активное участие в кропотливом лексикографическом труде. В следующей трети он предполагал выполнять подобную же работу «в сочинении „Российского лексикона“ с помянутым Кондратовичем».76 К сожалению, эта рукопись до сих пор не отыскана.
- 30 -
По утверждению Кондратовича, Ломоносов остался недоволен его трудом. Вероятно, по этой причине словарь не был напечатан. Впоследствии Кондратович продолжал работать над ним один, представляя словарь в Историческое собрание Академии наук.
А.-Л. Шлецер, нуждавшийся в 60-х годах в словарных пособиях в связи с изучением русского языка, снял для себя копию с этого словаря. В какой редакции Шлецер читал этот словарь, не установлено. По его словам, словарь был «чрезвычайно полон даже в отношении к естественно-историческим и другим техническим выражениям» и «в продолжение целой четверти столетия был единственным в свете русским словарем, годным к употреблению».77
Ломоносов предъявлял большие требования к словарному делу. Об этом свидетельствует написанный им в 1749 г. подробный, резко отрицательный отзыв о представленном в Академию наук рукописном русско-латино-итальяно-французском словаре с небольшим грамматическим приложением, составленном служившим в Петербурге венецианцем Георгием Дандоло. Ломоносов указывает на целый ряд существенных лексикологических промахов, как-то: 1) приведение лишь одного «знаменования», «часто отдаленного», у «многознаменательных слов»; 2) пропуск многих «первообразных, или коренных слов» (например, каблук, карась, караул, каша и др.),78 и, с другой стороны, введение ряда «нововымышленных слов, в российском языке неупотребительных»79 (каменую, квасноватый, кудрий, раболепность, расторгнение и др.). Отмечает Ломоносов также и ряд грамматических промахов, например обозначение одного времени вместо другого, а также неверный перевод с русского языка на латинский и другие языки. Словарь был невелик по объему: в нем не насчитывалось и восьми тысяч «речений».
Критикуя словарь, Ломоносов высказал некоторые общие суждения теоретического порядка, отметив, в частности, что обязательным элементом словарной статьи должны быть присущие данному языку фразеологические единицы — «фразисы и идиотизмы».80 Иную оценку дал Ломоносов словарю, составлявшемуся Андреем Богдановым путем опроса «мастеровых людей» и посредством выборки из книг. Труд Богданова, содержавший обильный материал, подтвержденный как «народными, так и книжными речьми», был хорошо известен Ломоносову и получил с его стороны очень высокую
- 31 -
Титульный лист многоязычного словаря К. А. Кондратовича
- 32 -
оценку.81 Не исключена возможность, что Ломоносов в какой-то мере руководил лексикографическими изысканиями Богданова при составлении толкового словаря.
О содержании и структуре богдановского словаря позволяет судить обнаруженный автором настоящей работы корректурный оттиск его.82
Словарь Богданова (ему оказывали помощь в переводе слов на латинский, немецкий и французский языки академические переводчики Голубцов, Лебедев, Теплов и Фрейганг) включает в себя все те элементы, какими обладают современные толковые словари, а именно:
1) определение значения слова (например, «Август — осьмый месяц в году» или «Адъюнкт — приданный в помощь, помощник»);
2) краткая грамматическая характеристика, которая давалась большей частью по-латыни (например, «Адский — adj.», «Абие — adv.»), иногда по-русски (например, «А — союз разделительный», «Аа — междометие угрожательное»);
3) в некоторых случаях — стилистическая помета (например, «Агница-овечка; употребляется более в метафорическом знаменовании»);
4) иногда этимологическая помета, большей частью краткая (например, «Авва — сирск.»), иногда — пространная (например, «Абезьяна — зри обезьяна — наименование сие, кажется, произошло от Абиссинии»);
5) иллюстрации — иногда в виде речений (например, «Аж — работал аж до поту»), иногда в виде цитат («Аз — аз есмь господь бог твой». Перв. зап.), в некоторых случаях цитата заменялась указанием источника, где можно ее найти (например, «Авва — см. к Римл., гл. 8»). В конце словарной статьи давался перевод слова на немецкий, латинский и французский языки (например, «Авдотка — Wasserschneppe, L. totanus, G. bekasse»).
Столь близкое и продолжительное участие Ломоносова в лексикографической работе Академии наук не могло не сказаться и на качестве, и на объеме того словарного наследия, которое в конце столетия было так удачно использовано составителями знаменитого «Словаря Академии Российской», носящего заметную печать ломоносовского влияния.
Работа над теорией русского стиха и прозы
Еще в студенческие годы Ломоносовым была создана новая силлабо-тоническая система русского стихосложения, соответствующая особенностям грамматического строя русского литературного языка с учетом «природных нашего языка свойств».
- 33 -
В «Письме о правилах российского стихотворства», в котором было изложено рассуждение о форме стиха, содержались и некоторые «общие основания» более широкого значения, свидетельствовавшие о том, что у молодого автора успел созреть свой, весьма определенный взгляд на задачи русской филологии. Уже тогда Ломоносов заявлял, что русская литература, не отгораживаясь от иностранной, должна идти своим самобытным путем, сообразуясь с богатыми возможностями русского литературного языка, который следует развивать соответственно его природным свойствам и очищать от всего, что ему чуждо. Провозглашенная Ломоносовым новая система стихосложения, встреченная первоначально неодобрительно его противниками, была утверждена его собственной поэтической практикой и стала у нас господствующей, а затем и классической.
После разрешения вопросов, касающихся теории стихосложения, Ломоносов с первых же лет своей академической службы приступил к работе над теорией русской прозы. Итогом этой работы явилась «Риторика».83
Первый вариант «Риторики» Ломоносова, завершенный к началу 1744 г., был отвергнут Академией наук. Из числа его недочетов главный, по мнению Г.-Ф. Миллера, заключался в том, что книга написана по-русски, и потому, как полагали академики, «едва ли можно надеяться на достаточное количество покупателей».84
Около трех лет спустя Ломоносов представил в Академию второй вариант «Риторики», значительно расширенный и весьма основательно переработанный, но не так, как требовали его недоброжелатели. В 1748 г. книга вышла в свет и очень быстро разошлась. При жизни автора она выдержала еще два издания и много раз перепечатывалась после его смерти. Она сделалась настольной книгой рядового русского читателя. Со стороны наиболее просвещенных людей того времени, таких, например, как В. Н. Татищев, она получила высокую оценку. В числе других современных ему книг «Риторику» Татищев называл «особливо изрядной, хвалы достойной».85
«Риторика» во втором ее варианте, как и в первом, была написана по-русски, в отличие от прежних школьных руководств, написанных либо на трудно понимаемом церковнославянском языке, либо на еще менее доступной латыни. Они сочинялись неизменно представителями духовенства и предназначались
- 34 -
тому же духовенству. Ломоносов уничтожил эту вредную традицию: он вырвал из рук духовных лиц присвоенное ими исключительное право и адресовал свой учебник не одной их касте, а широкому читателю. Теория словесного искусства оказалась тем самым освобождена от церковной опеки, веками тормозившей ее развитие.
В «Риторике» Ломоносов высказал свой взгляд на ближайшие задачи русского языкознания. Чтобы упорядочить русский литературный язык, он считал необходимым прежде всего привести в ясность весь его живой словарный состав и учесть все источники его обогащения, приняв во внимание то большое значение, какое, бесспорно, имел каждый из этих источников в прошлом. Одним из таких источников обогащения русской лексики, исторически оправдавших себя, был церковнославянский язык. Ломоносов предлагал поэтому пользоваться этим источником и впредь, однако же с известным ограничением. Лексикологического внимания были достойны, по мысли Ломоносова, не все вообще, а только древние, так или иначе освоенные народом памятники церковной письменности (такие, например, как Библия и богослужебные книги). Эти памятники несли в себе следы античной культуры и были несравненно ценнее в лексическом отношении, чем церковная литература XVI—XVII вв. Но и к древним книгам следовало относиться разборчиво: чтобы «слово было каждому понятно и вразумительно» (таково было основное требование, предъявляемое Ломоносовым к литературному изложению), надо было «убегать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но притом не оставлять оных, которые, хотя в простых разговорах неупотребительны, однако знаменование их народу известно».86 Ломоносов отмечал, кроме того, и это было не менее важно, что «чистоте штиля» никакие церковные книги, в том числе и древние, научить не могут. Чистота стиля, учил Ломоносов, может быть достигнута только путем основательного изучения, во-первых, грамматики русского языка, во-вторых, «книг» и «выбирания» из них «речений, пословий и пословиц» и, в-третьих, изучения живой разговорной речи образованного русского общества.87 Эти положения заключали в себе целую программу филологической деятельности, которую Ломоносов и осуществил на протяжении следующих десяти лет.
Грамматический спор с Тредиаковским
Ломоносов живо откликался на все животрепещущие вопросы современной ему науки. В 1746 г. он вступает в грамматический
- 35 -
спор с Тредиаковским о родовых окончаниях полных имен прилагательных в именительном падеже множественного числа. Опираясь на церковнославянскую традицию и считая, что наш язык «мало нечто разнится от церковнославянского»,88 Тредиаковский требовал изменения правил, установленных на этот счет в 1733 г. Предложение встретило отпор со стороны Ломоносова, который, отстаивая независимость русского грамматического строя от церковнославянского, доказывал, что формы рода во множественном числе у прилагательных отсутствуют. Правила 1733 г., прочно вошедшие в обиход, были, по совету Ломоносова, оставлены в силе. Он считал, что «как во всей грамматике, так и в сем случае одному употреблению повиноваться до́лжно».
Переводческая и педагогическая деятельность
Упорную борьбу за чистоту русского языка вел Ломоносов и как переводчик, и как педагог. В 1740-х годах он много переводил. Благодаря ему перевод перестал быть ремеслом и превратился в искусство. Образцом, достойным подражания, явилась переведенная им «Волфианская экспериментальная физика» и целый ряд отрывков из прозаических произведений античных классиков, включенных в качестве примеров в «Риторику». Выступал он и в качестве редактора чужих переводов, в чем был признан непререкаемым авторитетом. Об этом свидетельствует возложение на Ломоносова в 1748 г. обязанности «литературного редактора» издаваемых Академией наук «Санкт-петербургских ведомостей»: в данной ему инструкции говорилось, что он должен «оные их [академических переводчиков] переводы править и последнюю ревизию отправлять».89
Замечательны во многих отношениях еще не изученные до сих пор филологами «поправления» Ломоносова к выполненному И. И. Голубцовым «российскому переводу минерального каталога».
Выступая в роли рецензента переводов, Ломоносов отстаивал чистоту русского языка и резко критиковал те переводы, в которых «во многих местах против свойств российского языка весьма погрешено».90
Ломоносов-филолог выступал и как педагог. Об этой стороне его деятельности сохранилось мало документальных данных. Известно лишь, что в начале 1740-х годов, еще адъюнктом, он читал в Академическом университете лекции о «стихотворстве
- 36 -
и штиле российского языка». В первой половине 1750-х годов, он проводил какие-то, по-видимому домашние, филологические занятия с некоторыми академическими студентами, диктуя им продолжение своей «Риторики», содержавшее рассуждения «о стихотворстве вообще». Среди этих студентов находился поэт и философ Н. Н. Поповский.
К числу учеников Ломоносова следует отнести и тех, кого он привлекал к тому или иному участию в своих филологических трудах. В период работы над первым вариантом «Риторики» ему помогал студент А. П. Протасов, впоследствии академик, один из самых образованных людей своего времени.
Таким образом, творческая деятельность Ломоносова в области русского слова, начавшаяся еще до его вступления на академическую службу, в 40-е годы продолжала успешно развиваться в стенах Академии наук. Взгляды Ломоносова на русский литературный язык, его мысли о русской грамматике слагались в процессе безостановочной и многообразной филологической деятельности.
Ломоносов хорошо понимал назревшие потребности в национальном литературном языке. Это привело его к убеждению о необходимости создать грамматику русского языка. Вслед за опубликованием «Риторики», а может быть и еще раньше, он принялся за работу над «Российской грамматикой». Готовя предисловие к ней, он писал: «Особливо для того выдаю на свѣтъ, что уже „Риторика“ есть, а без „Грамматики“ разумѣть трудно».91
—————
- 37 -
ГЛАВА III
РАБОТА НАД МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ «РОССИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ» И ИСТОРИЯ ЕЕ ТЕКСТА
В истории русской культуры Ломоносову принадлежит исключительное место. По словам акад. С. И. Вавилова, известного знатока научного наследия Ломоносова, на «заре русской науки» гению Ломоносова было присуще «глубокое понимание неразрывной связи всех видов человеческой деятельности и культуры». Он был «очень цельной и монолитной натурой»,92 одним из тех выдающихся ученых, которые в значительной мере сделали Академию наук «основным истоком новой русской науки».93
С самого начала своей деятельности Ломоносов проявлял интерес и к естественным, и к гуманитарным наукам, однако раньше всего он стал первоклассным специалистом в области естественных наук — физики и химии. Достигнутые им успехи в большой степени были обусловлены совершенством методов научного исследования, применявшихся ученым.
В приемах его исследования гармонично сочетались наблюдения, критика и научное творчество. Все его «мысленные рассуждения произведены бывают, — как сам он писал, — из надежных и много раз повторенных опытов».94 Эта мысль перекликается с подобным же рассуждением о том, что никакие «умозрения» не могут навязываться «ученому миру без какого-либо предварительного опыта».95 В более поздние годы научной деятельности, как и в ранние, придавая столь же важное значение экспериментам, Ломоносов настаивал на необходимости проверять теоретические положения посредством опытов.
- 38 -
Вторую главу третьей части «Рассуждения о большей точности морского пути» (1759) он начинает словами: «Из наблюдений установлять теорию, чрез теорию исправлять наблюдения — есть лучший всех способ к изысканию правды».96 Этими положениями Ломоносов руководствовался при создании всех научных теорий. Надежным критерием при оценке теорий, созданных его предшественниками и современниками, служил также опыт.
Те же приемы применял ученый и в грамматической науке. Прекрасным образцом этого могут служить материалы, собранные им в процессе подготовки «Российской грамматики». Они вводят нас в языковедческую лабораторию ученого и дают яркое представление о работе его творческой мысли во время процесса создания «Грамматики».
В лингвистике, так же как в физике и химии, Ломоносов неизменно начинал с накопления максимального количества фактов, которые по своему содержанию могут быть разбиты на лексические, фонетические, морфологические, синтаксические и фразеологические. Запас собранных лингвистических фактов поражает своим исключительным обилием.
Современник автора «Российской грамматики» Август Шлецер отрицательно оценил труд Ломоносова, назвав Ломоносова «чистым натуралистом» в языке. Но русские филологи более позднего времени положительно отозвались о методе, примененном ученым при создании грамматики. Ф. И. Буслаев назвал Ломоносова «первым мастером» русской грамматической науки, созданной «из материалов домашних, своеземных».97 В этой краткой характеристике достигнутых Ломоносовым успехов кроется глубокий смысл: Ломоносов шел самобытным путем к созданию первой подлинно научной грамматики русского языка. Он строил ее не на чужих теоретических основах, а на итогах своих собственных, весьма обильных наблюдений.
В качестве первого и основного источника, откуда черпались примеры, была устная, прежде всего народная, разговорная речь. Опытная рука филолога записывала массу лингвистических фактов «из простого слога или обыкновенных разговоров». В их числе встречается большое количество «подлых слов»: опытный и тонкий слух лингвиста прислушивался к «повседневному употреблению».
Объективное наблюдение над живой разговорной речью, извлечение правил из существующего употребления были верным компасом на трудном пути нормализатора русского языка.
- 39 -
Наряду с живой разговорной речью, из которой, как из «рога изобилия», черпались многочисленные факты, запечатленные в различных записях, не менее обильным источником была, по-видимому, отразившая народную мудрость многообразная устная народная поэзия. Это — народные песни, былины и сказания, которыми так богат был Архангельский край — родина Ломоносова. Выработанный длительной практикой метод натуралиста позволил Ломоносову, по словам Ф. И. Буслаева, черпать материалы «из уст народа с необыкновенной проницательностью, ученою и артистическою тонкостью художника».98
Изучение истории русского языка в связи с многовековой историей его носителя — русского народа — привело создателя грамматики к изучению оригинальных памятников древнерусского письменного языка московского и более древнего киевского периодов истории русского государства. Об основательном знании Ломоносовым памятников письменности древней Руси свидетельствуют многочисленные его высказывания и ссылки, оставленные им в печатных трудах. Ломоносов пришел к выводу, что «Уложение», «указные книги», «Нестор», «Договоры первых российских князей с царями греческими», «Правда Русская» и другие являются памятниками древнерусского языка, отличного от древнецерковнославянского, на который были переведены богослужебные книги. Этот правильный вывод подтвержден и современными научными исследованиями, установившими, что «перевод этих договоров с греческого языка был современен самим договорам»,99 должен был «совпадать со временем фактического заключения соответствующих дипломатических актов».100 С детства знакомый с церковнославянским языком и позже рекомендовавший черпать из него слова для обогащения словарного состава русского языка («Риторика»), Ломоносов в период работы над «Грамматикой» вновь обратился к этому ранее испытанному источнику.
Взгляд Ломоносова на церковнославянский язык как на один из источников формирования русского литературного языка происходил из правильного понимания взаимосвязи русского и письменного церковного языка в результате многовекового совместного бытования. Памятниками церковнославянской истории он призывал пользоваться осторожно и с известными ограничениями, считая достойными лишь древние, освоенные народом в большей или меньшей степени памятники церковной
- 40 -
письменности.101 Древними книгами церковнославянской письменности должно, по словам Ломоносова, пользоваться разумно и употреблять из них такое «слово», которое «было бы каждому понятно и вразумительно».
Грамматические материалы накапливались Ломоносовым в течение ряда лет, причем при внимательном их рассмотрении можно установить различные стадии в работе. Первоначальные записи отличаются отсутствием тематического плана: они разнородны по содержанию, отрывочны, большая часть примеров не снабжена какими-либо комментариями; часто встречаются заметки, оставленные для памяти. О тематическом разнообразии ранних записей может свидетельствовать, например, 13-й лист рукописи:
«Писать о разности частицъ черезъ и чрезъ, передъ и предъ.
Изъ недѣли въ недѣлю — alle Wochen einmahl.
Изо дни въ день. Jûst denselbigen Tag [В тот же самый день].
Ein gantzes Jahr, Monath, Woche [Весь год, месяц, неделя].
Отъ недѣли за недѣлю перекладывать.
Von einer Woche auf die andere verschieben [Откладывать с недели на неделю].
Изъ году въ годъ — jährlich [Ежегодно].
Нивѣть ты, нивѣть я. Dubitantis [Сомнения].
Отрицательное не соединять или отдѣлять: небью, не бь [Далее лист оборван].
Жиже, тонѣ
вось! ессе! [Вот, смотри] смотри! тожъ ба!
NB. Писать о разности въ русскомъ между h и g, такъже жжотъ и жджотъ, жжигаю, зжигаю.
Понятые.
Шибко.Подай воду
Подай воды́.
часть, навремяCum genitivo construuntur
diminutiva [С родительным
строятся уменьшительные].Почитай.
Дай книгу, значитъ вовсе.
Дай книги, значитъ на часъ.Покажи книги — вѣжливо.
Покажи книгу — со властью.Подержи стокана.
Подержи стоканъ.Всячина. Allerhand Zeug.
- 41 -
Adverb[ium] [Наречие]. Чуръ, не бить. Nom[en] [Имя]. Через чуръ. Чуру не знать, очураться.
Забывши чуръ, всячески.
Сам себѣ ворогъ.
Лутче всего покинуть.
Самъ не свой.О употребленіи весь, все тутъ.
Вовсе отданъ.
Всякая всячина.
Завсе быть.
Всего лутче.
По всему доброй, члкъ. Всј̂o тутъ!
<примала[?]>
(7, 614, 616)».102Многочисленные отрывочные записи в дальнейшем уступают место записям, более или менее сгруппированным по теме, например приведена группа усеченных прилагательных:
«У́зокъ, узка́, у́зко, узки.
Низокъ, низка, низко, низки.
Жиренъ, жирна, жи́рно, жирны.
Старъ, стара, старо.
Высокъ, высока, высоко.
Широкъ, широка́, широ́ко» (7, 625);группа существительных среднего рода на -о, -е:
«Море, морь; поле, поль. Горе, горей, солнце, со[л]нцей, лице, лицъ. Лице́ и лицо. Яицо и яице. Гумно, гуменъ.
Кольцо, колецъ» (7, 631).
Подобных примеров тематической группировки материалов можно привести много. Их появлению предшествовал предварительный просмотр черновых заметок, о чем свидетельствуют разнообразные условные значки (черточки, крестики, кружочки и т. д.), которыми испещрена рукопись.
В результате дальнейшего наблюдения над фактическими материалами кое-что отбрасывалось вовсе, другое, наоборот, пополнялось дополнительными примерами, неоднократно переписывалось заново, получало соответствующий номер. Так появились нумерованные записи, характерные также и для Ломоносова — ученого-естествоиспытателя. Каждая из записей охватывала собою ту или иную небольшую тему. В «Материалах» их число достигало порою нескольких десятков: так, на стр. 675—677 их 56, а на стр. 641—645 — 90. Для примера приведем
- 42 -
несколько первых (по счету) тематических записей, написанных в строку одна под другой:
«1. Случайной, случаенъ; достойной, достоенъ; буйно, спокойной.
2. Внукъ, внука, внучата.
Пасынокъ, пасынчи, падчерята.3. Пасынокъ, падчерица.
Племянникъ, племянница.4. Царь, царица; князь, княгиня; бояринъ; дядя, тетка; дѣдъ, бабка; попъ, попадья; протопопъ, протопопица; игуменъ, игуменья; Петръ, овичь; Кузма, Кузмичь, Кузмишна; Ѳома, Ѳомичь, Ѳомишна.
5. Христосъ, не Христоса, но Христа; волоса.
6. Матеріальныя усѣченія не терпятъ — худо: свинцовъ, золотъ и протч.
7. Немного ниже, пониже, немного пониже, ниже Comp. [Сравнительная] пониже.
8. Назоромъ, нарокомъ defectiva. Sic [неполные. Смотри] налѣтомъ.
9. Ножъ, ножей; рубежей, чертежей.
За Тобольскимъ, за Иркутскимъ, за Азовомъ, за Кіевомъ.10. Подьячей, подьячего, стряпчего, прохожей, пѣвчей, нищей, кравчей, но Андрей, архерей, казначей, водолей, мукосѣй, бородобрѣй, злодѣй, ворожей» (7, 641).
Эти и подобные им нумерованные записи содержали грамматические материалы, отобранные для последующей обработки. Затем они разбивались на более крупные тематические группы, охватывающие по содержанию более мелкие, например, под тематической записью из 90 номеров находятся следующие строки:
«1) О числительных 28, 52, 56, 63, 65, 71.
2) О уравненіяхъ 7.
3) О умножит. и умал. 33.
4) О притяжательныхъ.
5) Объ отечественныхъ.
6) Склоненія особливыя.
7) О произведеніи женскихъ отъ мужескихъ 3.4, 34. 72» (7, 645).
Они означают материалы, отобранные для последующего просмотра и разбитые по тематическому принципу, обыкновенно лишь в некоторой своей части.
Иногда встречаются строки, состоящие из одних лишь цифр, т. е. из порядковых номеров записей (7, 646). Этой вторичной нумерацией обозначалась предполагаемая последовательность тематических групп, т. е. будущих параграфов «Грамматики».
Для лабораторной методики грамматических изысканий Ломоносова особенно типичен планомерный переход от одного рабочего процесса к другому, что мы прослеживали уже выше.
- 43 -
Страница из рукописи «Материалы к „Российской грамматике“».
- 44 -
С исключительной осмотрительностью искушенного естествоиспытателя, привыкшего «за минуты синтеза платить годами анализа», подходит ученый к одному из наиболее ответственных этапов в обработке собранных материалов — к абстрагированию от конкретного и частного, к отысканию законов, управляющих фактами, и в конечном итоге к нахождению предельно сжатых и предельно отчетливых словесных формул, выражающих те слагавшиеся веками правила, которыми определяется грамматический строй русского языка. Для более наглядного представления этого сложного этапа работы сопоставим некоторые формулировки из «Материалов» с соответствующими формулировками окончательного печатного текста «Грамматики».
Материалы
Грамматика
1) «Тѣ сложенныя съ предлогами имена суть нарѣчія, которыхъ предлоги не съ своимъ падежемъ положены или имена сами безъ предлоговъ неупотребительны, н. п.: вдругъ, <въместѣ>, вмѣстѣ, впра[в?]ду, впрямь, вдоль, сверьхъ, вплоть» (7, 610—611).
«Действительно претворяются имена с предлогами в наречия и с ними слитно поставлены быть должны, 1) когда предлог стоит не с пристойным падежом, например, вдругъ, ибо и никакой другой предлог с именительным падежом не сочиняется; 2) когда от надлежащего знаменования в сложении отходит, напр., вмѣстѣ, ибо здесь разумеется купно; итак, писать должно: жить вмѣстѣ съ братомъ; жить въ мѣстѣ многолюдномъ; 3) ежели предлог стоит перед именем, в других случаях не употребительным: вдоль, вкось» (§ 129).
2) «Имена мужескія, значащіе званіе или состояние человѣка, кончащіеся на -ей, склоняются какъ прилагательные» (7, 626).
«Имена, с причастиями и с прилагательными сродные, кончащиеся на -ей и -ой, склоняются как прилагательные» (§ 200, п. 2).
3) «Способствующій глаголъ <буду, то> стану <только> въ действительныхъ глаголахъ употребить можно, а не можно сказать, что он станетъ согрѣтъ, но лучше будетъ согретъ (7, 622).
«Вспомогательные глаголы буду и стану не везде один вместо другого употреблены быть могут. Буду сопрягается с действительными и со страдательными равномерно: буду писать, буду писанъ, но хотя стану писать есть правильно, однако не говорится: станетъ написано» (§ 534).
4) «Ежели для точнаго произношенія разныхъ иностранныхъ реченій вымышлять новыя писмена, то россійская азбука <со временемъ> вдвое прибудетъ, и людей занадобится снова грамотѣ переучивать» (7, 600).
«Ежели для иностранных выговоров вымышлять новые буквы, то будет наша азбука с китайскую» (§ 88).
- 45 -
Сопоставления показывают, какую тщательную работу проводил автор «Грамматики», создававший правила на основании наблюдения над многочисленными фактами. Ценой больших творческих усилий он добивался исключительной точности формулировок, подкрепляя их смысл примерами, где это было необходимо.
Лишь незначительное число правил вошло в текст «Грамматики» почти без изменений, например:
Материалы
Грамматика
«Ежели бездушныя вещи приложены будутъ къ одушевленнымъ, то имѣютъ винительный подобен родительному» (7, 637).
«Но ежели имена бездушных вещей приложатся к животным, в винительном кончатся на -а» (§ 187).
Наряду с использованными в «Грамматике» теоретическими обобщениями были и такие, которые не вошли в нее, например небезынтересное определение грамматической категории падежа: «Падежемъ называется перемѣна окончанія именъ, по разнымъ дѣйствіямъ или страданіямъ сочиненныхъ съ ними глаголовъ опредѣленная» (7, 634). Характерно, что в основу определения падежа положена его форма, точнее, окончание, выражающее соответствующее значение, но, к сожалению, речь идет лишь о приглагольных падежах. Формулировка об употреблении местоимения сей тоже не вошла в «Грамматику»: «Сей употребляется въ простыхъ разговорахъ только въ косвенныхъ падежахъ въ знаменованіи только времени и мѣста» (7, 608). Другие, не попавшие в «Грамматику» формулировки послужили основой для теоретических обобщений и выводов в более поздних филологических работах, например рассуждение о заимствованиях из греческого языка: «Съ греческаго языка имѣемъ мы великое множество словъ русскихъ и славенскихъ, которыя для переводу книгъ сперьва за нужду были приняты, а послѣ въ такое пришли обыкновеніе, что бутто бы они съ перьва въ россійскомъ языкѣ родились. Такъж[е] многія Redensarten [обороты речи]» (7, 608—609) — перекликается с размышлениями Ломоносова по этому вопросу в «Предисловии о пользе книг церковных...», в частности, с такими строками: «...сначала переводившие с греческого языка книги на славенский не могли миновать и довольно остеречься, чтобы не принять в перевод свойств греческих, славенскому языку странных, однако оные чрез долготу времени слуху славенскому перестали быть противны, но вошли в обычай» (7, 587—588).
На материалах черновых записей можно проследить и следующий этап синтетической работы. В этой работе даются вытекающие из фактов обобщения более крупного масштаба по сравнению с отдельными грамматическими правилами. Из разрозненных формулировок возникают черновые наброски отдельных
- 46 -
разделов и глав. Их в «Материалах» немного. За исключением соединенных в один раздел трех положений о различном произношении в русском языке буквы Е, значительно измененных в «Грамматике», все они относятся преимущественно к двум частям речи — имени существительному и глаголу. На стр. 646—649 отдельные положения собраны в одну главу под названием «Глава третія. Содержащая особливыя правила склоненій». Это один из вариантов начала III главы «Грамматики», касающийся второго склонения существительных мужского рода. Все формулировки впоследствии были тщательно отшлифованы для «Грамматики», некоторые, перекликающиеся с определенными параграфами «Грамматики», претерпели значительные изменения в связи с введением в них сравнительного элемента и сопоставления русского языка с церковнославянским. Например:
Материалы
Грамматика
«<Бездушныя> Отъ глаголовъ происходящія имѣютъ родительной на а и на у, только значащіе дѣйствіе больше на у и значащіе вещь обыкновеннѣе на а въ родительномъ кончатся: пропускъ, ску; ловъ, лову; наемъ, найму и найма; плескъ, плеска; соборъ, ру и ра; поводъ, да, ду; подарокъ, рка; списокъ, ска; загонъ, загона» (7, 647426).
«Происшедшие от глаголов употребительнее имеют в родительном у и тем больше оное принимают, чем далее от славенского отходят, а славенские, в разговорах мало употребляемые, лучше удерживают а: размахъ, размаху; чесъ, чесу; взглядъ, взгляду; визгъ, визгу; грузъ, грузу; попрекъ, попреку; переносъ, переносу; возрастъ, возрасту и возраста; видъ, виду и вида; трепетъ, трепета» (§ 172).
Большой отрывок для главы «О произведеніи женскихъ существительныхъ отъ <мужескихъ> существительныхъ же» сохранился на стр. 649—651. Он был коренным образом переделан для §§ 239—243 главы 5 «О произведении притяжательных отечественных и отеческих имен и женских от мужских».
Большой интерес представляют собою несколько черновых вариантов главы о глаголе (7, 679—688, 695—700, 701—704). Они неодинаковы по объему и отражают разные этапы работы над глаголом, которые можно установить, сопоставляя отрывки по их содержанию и по постепенно вырабатывавшейся и совершенствовавшейся терминологии для обозначения глагольных категорий (об этом специально см. ниже, гл. V, стр. 137—142).
Параллельно с собиранием обильных грамматических материалов и предварительной их обработкой — приведением «в порядок», необходимый для «сочинения „Грамматики“», происходил длительный и напряженный процесс обдумывания ее плана. Сложность вопроса состояла в том, что тип научной нормативной грамматики приходилось создавать впервые в истории
- 47 -
русского языкознания, потому что, «кроме славенской (грамматики М. Г. Смотрицкого, — В. М.) и малинькой въ лексиконѣ («Первых оснований российского языка» В. Е. Адодурова, приложенных к «Немецко-латинскому и русскому лексикону» Э. Вейссманна, — В. М.), весьма несовершенной и во многихъ мѣстахъ не <справедливой> исправной» (7, 690—691639), никакой грамматики не было. К тому же и «ни на единомъ языкѣ совершенной грамматики никто не здѣлалъ» (7, 672468).
Понимание особенностей грамматического строя русского языка, выраженного Ломоносовым в лаконичной фразе: «Языки не меньше разнятся свойствами, нежели словами» (7, 622171) — явилось путеводной звездой при собирании материалов и рождении плана «Грамматики». Оно привело Ломоносова к критической оценке трудов тех авторов, которые «погрѣшаютъ», «делая грамматики, понуждаютъ на другіе языки» (7, 691641), в особенности подражая грамматикам греческого языка, как наиболее разработанным. По черновым записям можно проследить этот сложный путь от момента зарождения первых, еще очень схематичных набросков контура «Грамматики», неоднократно изменявшихся и совершенствовавшихся, до создания сложного плана: он представлен в виде схемы, в которой все грамматические категории даны во взаимосвязи.
Первый, самый ранний набросок плана вводной части «Грамматики» находим на одной из первых страниц рукописи. Он весьма лаконичен и состоит из пяти пунктов:
«1. О азбукѣ.
2. О раздѣленіи.
3. О произношеніи.
4. О двугласныхъ.
5. О складахъ и реченіяхъ» (7, 602).
Этот первоначальный набросок плана и был положен в основу 1-й и 2-й глав II наставления «Грамматики»; глава 1-я — «О азбуке российской», глава 2-я — «О произношении букв российских», глава 3-я — «О складах и речениях».
Вслед за этим составляется краткий план первой части «Грамматики», в который были включены, помимо вопросов правописания и ударения, вопросы, касающиеся структуры слова и грамматических категорий имени и глагола (7, 60646).
Под названием «Присовокупления» к плану был добавлен обширный перечень лексических проблем, упорно занимавших автора «Грамматики»:
«1. О славенскомъ языкѣ и о нашемъ, какъ и когда онъ перемѣнился и что намъ должно изъ него брать и въ пис. употреблять.
2. Перьвообразныя российскія слова.
3. О діалектахъ россійскихъ.
- 48 -
4. О употребленіи иностранныхъ словъ.
5. О выданныхъ по сіе число книгахъ.
О приказномъ штилѣ» (7, 606).Привлекавший внимание Ломоносова вопрос о сопоставлении грамматического строя русского и славянского языков (см. запись на эту тему: «NB. Писать о разности славенскаго языка съ россійскимъ»), (7, 631273), как и последующие вопросы, не были присовокуплены к главам в виде отдельных исследований: это лишило бы «Грамматику» ее прямого назначения.
Последующие планы отдельных частей и всей «Грамматики» в целом не содержат в себе присовокуплений, хотя, как уже упоминалось выше, мысль о разработке отдельных лингвистических проблем, выходящих за рамки «Грамматики», не покидала Ломоносова.
В одной из последующих разработок плана «Грамматики» некоторые из «Присовокуплений» оформляются в виде первой части:
«1) О старыхъ словахъ россійскихъ церковныхъ.
2) О новыхъ или гражданскихъ словахъ россійскихъ.
3) О произношеніи новыхъ каждаго собливо.
4) О произношеніи оныхъ внѣкоторыхъ сложеніяхъ» (7, 607).
Вторая часть этого плана разработана детально (7, 60747). В ней предполагалось осветить вопросы, связанные с категорией имени в широком смысле этого слова, при этом первоначально предусматривалось рассмотреть грамматические категории имени существительного — род, число, падеж, затем степени сравнения имени прилагательного («О уравненіяхъ»), после чего автор предполагал разработать вопрос о словообразовании имени существительного («О увеличительныхъ и умалительныхъ», «О отечественныхъ», «О женскихъ, отъ мужескихъ происходящихъ», «О сложенныхъ именахъ», «О производныхъ именахъ»). В этом же разделе предполагалось осветить вопрос «О числительных» и «О мѣстоименіяхъ».
Перечисленные во второй части плана темы составили содержание III наставления «Грамматики», озаглавленного «О имени».
После разработки планов отдельных частей появился очень лаконичный план всей «Грамматики» в целом, в котором после «Въступленія о грамматикѣ вообщѣ» следовали краткие названия глав:
«Глава 1. О чтеніи.
2. О имени и мѣстоименіи.
3. О глаголѣ и причастіи.
4. О несклоняемыхъ частяхъ.
5. О сочиненіи словъ.
- 49 -
Страница из рукописи «Материалы к „Российской грамматике“».
- 50 -
6. О удареніи и правописаніи.
7. О штилѣ и о употребленіи словъ и склоненій» (7, 61190).
Вопрос о дальнейшем совершенствовании плана «Грамматики» составляет предмет непрерывных размышлений ученого. Он вновь и вновь возвращается к нему в ходе работы над собранными материалами. Занимаясь их систематизацией, автор составляет подробный план первой части — «О грамотѣ россійской», подразделив ее на семь глав (7, 689). Этот план близок к тому плану, по которому написано второе наставление «Грамматики», названное далее «О чтении и правописании российском».
Сопоставим их между собою:
Рукопись
Грамматика
«Гл. 1. О <азбукѣ> новой азбукѣ россійской и раздѣленіи писменъ.
«Гл. 1. О азбуке российской.
Гл. 2. О старой славенской азбукѣ и о происхожденіи писменъ.
Гл. 3. О произношеніи писменъ россійскихъ въ простыхъ разговорахъ.
Гл. 2. О произношении букв российских.
Гл. 4. О произношеніи писменъ въ штилѣ.
Гл. 5. О складахъ и реченіяхъ з, ѿ, Гдь̃.
Гл. 3. О складах и речениях.
Гл. 6. О удареніяхъ и препинаніяхъ строчныхъ и титлахъ.
Гл. 4. О знаках.
Гл. 7. О правописаніи».
Гл. 5. О правописании».
Сопоставление показывает, что автор «Грамматики» настойчиво стремился придать названиям глав исключительную лаконичность. Объединив первую и вторую, а также третью и четвертую главы рукописных материалов, он кратко изложил их содержание соответственно в первой и второй главах «Грамматики». Тип первой нормативной «Грамматики» русского языка вырабатывался в упорном труде.
В результате просмотра рукописных заметок появился новый и на этот раз все еще не окончательный план следующей части «Грамматики», в который были включены главы о грамматических категориях и их сочинении. В заключительной части плана предусматривались главы: «О некоторыхъ свойственныхъ россійскихъ пословіяхъ», «О разборѣ реченій и о чистотѣ россійскаго языка», «О удареніи» (7, 689—690628).
План, в соответствии с которым написаны следующие разделы «Грамматики», представляет значительный шаг вперед по сравнению с рукописным вариантом. Его отличает исключительная четкость: каждое из наставлений посвящено рассмотрению
- 51 -
какой-либо одной грамматической категории (III наставление — «О имени», IV наставление — «О глаголе») или их совокупности, объединенной общим признаком, о чем свидетельствует название V наставления — «О вспомогательных или служебных частях слова». В отдельное, VI наставление выделено «Сочинение частей слова».
Заключительные разделы плана, отражающие интерес автора «Грамматики» к разработке отдельных грамматических и стилистических вопросов, не были включены в «Грамматику» отдельно, а были разнесены по параграфам.
Одновременно с составлением по частям плана «Грамматики» набрасывались вчерне отдельные фразы, которые должны были войти в предисловие к «Грамматике» (7, 690—691).
Окончательным выражением творческих размышлений Ломоносова по вопросу о плане «Грамматики» является схематическое его изображение в виде «Табели грамматической» (7, вклейка между стр. 596—597).
«Табель грамматическая» переписана начисто каллиграфическим почерком неизвестной рукой. Однако даже в нее Ломоносов внес исправления и поправки, свидетельствующие о том, что обдумывание плана «Грамматики» продолжалось и после того, как было составлено графическое изображение его.
Части речи («знаменательные речения») разделены в «Табели» на главные и служебные: к главным отнесены имена (существительные и прилагательные) и глагол, к служебным — местоимение, предлог, союз, наречие и междометие. В категории имени существительного по значению выделены существительные собственные, нарицательные и собирательные, по форме — первообразные и производные. В категории имени прилагательного по образованию выделены прилагательное именное и глагольное, или причастие, по форме — простое и «сложенное».
Существительные и прилагательные отнесены к категории имени, к которой «принадлежат»: род, число, падеж, склонение, уравнение, увеличение, умаление. Родов отмечено три — мужской, женский и средний, чисел два — единственное и множественное, падежей — семь, склонений — пять, степеней сравнения — три; имена бывают увеличительные и умалительные, ласкательные и презрительные.
Глагол имеет пять залогов: действительный, страдательный, средний, общий и взаимный. По образованию глаголы бывают первообразные и производные. Они имеют категорию времени, числа, лица и рода, причем времен — восемь, чисел — два, лиц — три, родов — три. Помимо этого, глаголы разделяются на личные и безличные, правильные и неправильные, полные, неполные и изобилующие.
- 52 -
Служебные части речи лишь названы. Придание плану наиболее удобочитаемой формы в виде схемы, представившей все грамматические категории во взаимосвязи, имело существенное значение как в смысле его содержания, так и в смысле практического пользования им во время процесса писания, о чем свидетельствует изображение «Табели» на двойном листе. Она, по-видимому, все время находилась перед глазами сочинителя «Грамматики», и в основном, за некоторыми исключениями, при разработке вопроса о грамматических категориях Ломоносов следовал этому плану. Предполагавшиеся в начальный период всякого рода присовокупления к главам не нашли отражения в окончательном плане «Грамматики» — частично они были разбросаны по отдельным главам.
К числу отклонений от плана-схемы можно отнести следующие: 1) не отмечено деление существительных на нарицательные, собственные и собирательные, и термин нарицательные существительные вовсе отсутствует в «Грамматике»; 2) в отличие от плана-схемы, где указано деление существительных на три рода — мужской, женский и средний, в «Грамматике» говорится, что «российские существительные имена суть четырех родов: мужского, женского, среднего и общего» (§ 138).
Грамматика следует за планом и в отношении совместного рассмотрения существительного и прилагательного в пятом склонении имени («пятое склонение заключает в себе имена прилагательные всех трех родов» — § 161). Однако в разделе имен рассматриваются лишь «именные» прилагательные, т. е. чистые прилагательные. «Глагольные» же прилагательные (по терминологии, встречающейся в схеме), т. е. причастия, рассматриваются в разделе о глаголе, что является отклонением от схемы, и в специальной 2-й главе V наставления «О вспомогательных или служебных частях слова».
Рассмотрение категории глагола в основном дано соответственно наметке, приведенной в «Табели». Отклонения от нее касаются, во-первых, определения количества залогов — шесть в «Грамматике» вместо пяти в «Табели» за счет прибавления возвратного залога и, во-вторых, времен — десять («осмь от простых да два от сложенных» — § 268) вместо восьми. Совершенно отсутствует в «Табели» термин совершенный вид, в то время как в «Материалах» и «Грамматике» слово совершенный встречается в применении к временам глагола («повелительное будущее совершенное» — § 335, «прошедшее совершенное» — §§ 313—315, 331, 351, 353, 360, 379, «прошедшее совершенное и будущее совершенное» — §§ 268, 269).
Намерение написать «Российскую грамматику» возникло у Ломоносова во время работы над вторым вариантом «Риторики». Во второй половине 40-х годов (а частично также и
- 53 -
ранее) Ломоносов приступил к собиранию материалов для грамматического труда и к разработке его плана. В мае 1749 г. он сообщал Леонарду Эйлеру о том, что в течение 1748 г. «был занят совершенствованием родного языка» («in exolenda lingua vernacula occupatus fui»). До 1754 г., как это явствует из сводного отчета о деятельности за 1751—1756 гг., Ломоносов с перерывами в работе то накапливал разнообразный материал, то «собранные прежде сего материи к сочинению „Грамматики“ зачал приводить в порядок», т. е. предварительно анализировал материалы, группировал их; в 1753 г. для «Российской грамматики» он «привел глаголы в порядок».
После тщательной обработки накопленных материалов и создания плана «Грамматики» написание чернового текста этого труда продолжалось недолго и заняло два неполных года: 1754 и часть 1755 гг., когда, «сочинив большую часть „Грамматики“ привел к концу».103 31 июля 1755 г. Ломоносов уже представил Академическому собранию или, как говорится в Протоколах Конференции Академии наук, «показал „Российскую грамматику“, подготовленную им, но еще не доведенную до конца, и попросил, чтобы ему дали переписчика» («monstravit grammaticam Russicam a se consinnatam, nec tamen prorsus ad umbilicum perductam, rogans un scriba sibi detur, qui illam in album describat»).104
Для переписки черновой рукописи незавершенного грамматического труда к Ломоносову был прикомандирован академический копиист, поэт И. С. Барков,105 в короткий срок выполнивший эту работу. 20 сентября 1755 г. автор «Российской грамматики» имел беловой рукописный экземпляр ее. Чтобы ускорить получение разрешения на напечатание «Грамматики», что делалось «с позволения президента», Ломоносов преподнес беловик ее вел. кн. Павлу в день рождения. Уже на следующий день он обратился в Канцелярию Академии наук с просьбой напечатать «Российскую грамматику», ссылаясь при этом на распоряжение президента, данное на «словесный доклад».106 К репорту был приложен экземпляр «Грамматики», написанный «вчерне», который Ломоносов просил «приказать переписать побелее», и «Идея грыдорованного листа» (фронтисписа). В Академическую канцелярию репорт был передан лишь 17 октября, т. е. почти через месяц.107 Канцелярия распорядилась снова переписать рукопись набело и отпечатать
- 54 -
в количестве 1200 экз.108 Переписка рукописи, произведённая в первый раз в течение полутора месяцев, на этот раз продолжалась значительно дольше.
Сохранившиеся архивные материалы отрывочны и не дают возможности точно установить, что происходило с рукописью. Косвенные данные по этому вопросу позволяют сделать вывод о дополнительной работе Ломоносова над текстом «Грамматики» после того, как она была сдана в Типографию. Одним из таких документов является репорт Типографии, направленный в Канцелярию 2 ноября 1755 г. В нем содержалась просьба о необходимости дать распоряжение пунсонной палате «вырезать несколько абиссинских или эфиопских слогов» для «Российской грамматики». К репорту были приложены воспроизведенные каллиграфически и с большой точностью «абиссинские или эфиопские слоги» и «еврейские слоги».109 В печатном тексте «Грамматики» этих «слогов» нет. Две фразы, записанные в черновых материалах «для памяти», свидетельствуют о намерении Ломоносова написать во введении, «какъ древніе народы изображали іероглификами. Китайцы, послѣ халдеи, евреи и проч.» (7, 690630), и во вступлении — о сокращениях. В тексте «Грамматики» (§§ 37—38) есть лишь беглое упоминание о «сокращениях» посредством титлов и слияния букв, в частности: «У абиссинцев самогласные все слитно изображаются с согласными» (§ 37).
Второй документ подтверждает, что в январе 1756 г. рукопись находилась в Академической типографии, которая обращалась с просьбой заказать необходимые для набора «Грамматики» «литеры с акцентами».110
Третий документ свидетельствует о том, что в феврале 1756 г. «определенный при Конференции копиист Барков находится беспрестанно для письма у... профессора Ломоносова» и что «он, Барков, переписывает... „Российскую грамматику“».111 Репорт Типографии об «абиссинских и эфиопских слогах» и запись в журнале Конференции о переписке Барковым в феврале 1756 г. «Российской грамматики» показывают со всей очевидностью, что и после сдачи рукописи в набор Ломоносов возвращался к работе над ней. Это обстоятельство подтверждается также тем фактом, что Типография приступила к набору «Грамматики», печатавшейся по распоряжению президента Академии наук, лишь в мае 1756 г.112 Отсюда следует, что существовало не менее трех рукописей «Российской грамматики», причем не все они были идентичными: 1) черновой
- 55 -
Фронтиспис первого издания «Российской грамматики».
- 56 -
авторский экземпляр, 2) беловая копия, снятая с черновика переводчиком И. С. Барковым по поручению автора, и 3) исправленная Ломоносовым уже после сдачи в набор (не исключена, правда, возможность, что изменения были внесены непосредственно в беловую копию и что, следовательно, можно говорить в этом случае не об особом экземпляре рукописи, а об иной редакции). Ни одна из рукописей «Грамматики» не отыскана.
Работа Ломоносова над совершенствованием текста не закончилась и после окончательной сдачи рукописи в набор. Она была продолжена позже в связи с подготовкой перевода «Грамматики» на немецкий язык.
Немецкий перевод «Российской грамматики»,113 печатавшийся под собственным «смотрением» Ломоносова, впервые привлек внимание исследователей в 1950—1951 гг. во время подготовки к печати т. VII (Труды по филологии) Полного собрания сочинений Ломоносова. Он был тогда тщательно сверен с русским подлинником. В результате сличения текстов удалось установить, что большая часть смысловых расхождений настолько незначительна, что не дает права признать их безусловно авторскими: они могли быть сделаны и переводчиком. Наоборот, другая, меньшая часть отклонений перевода настолько существенна, что можно с уверенностью утверждать их принадлежность авторскому перу. Поправки касаются 5-й главы I наставления, в котором даются общие сведения о всех частях речи. В §§ 81—83 этой главы внесены существенные дополнения, касающиеся характеристики категории глагола и уточняющие смысл понимания характера действий, производимых существительными; в §§ 572 и 592 примеры русского подлинника заменены другими.
В некоторые формулировки ряда параграфов внесены редакционные поправки с целью придания им большей четкости, например в § 106, где освещается вопрос о способах словообразования, взамен недостаточно ясно сформулированного правила — «3) окончанием, когда в производном речении приращенных согласных букв нет в первообразном, те относятся к следующим самогласным», — автор-редактор дает другой текст, более доступный для понимания: «Wenn in der Endung des Stammworts diejenigen Mitlauter nicht sind, welche sich in den aus diesem Stammwort, abgeleiteten Wörtern befinden, so werden Mitlauter zu dem folgenden Selbstlaute genommen [Если в окончании корневого слова нет тех согласных букв, которые имеются в словах, производных от этого корневого слова, то все согласные присоединяются к последующей гласной]».
- 57 -
В § 130 вместо формулировки: «Запятая употребляется между речениями одинакими или и с приложениями и глаголами, к одному принадлежащими», — дается другая, более отчетливая формулировка: «Das Strichlein (,) gehöret entweder nach einem einzigen oder auch nach mehrern Wörtern, die einen völligen Sinn ausmachen [Запятая употребляется либо после отдельных, либо после нескольких слов, выражающих некую цельную мысль]».
В последнюю фразу § 269, в которой говорится о значении прошедшего и будущего совершенных времен, вносится существенное уточнение: вместо «прошедшее и будущее совершенное значат полное совершение деяния» в немецком переводе: «perfectum praeteritum und futurum perfectum eine vollkommen verrichtete oder eine zu verrichten gewiß bestimmte Handlung andeuten [прошедшее и будущее совершенное означают действие, вполне совершенное или несомненно долженствующее быть совершенным]».
Благодаря некоторым редакционным поправкам немецкий перевод грамматики русского языка стал более доступным для читателя-немца. Подобной правке в основном подверглись параграфы, касающиеся вопросов фонетики. Ломоносов дополнил их материалами, характеризующими особенности произношения русских звуков и обозначения на письме тех звуков, которые отсутствуют в немецком языке. Так, в примечаниях к § 90, занимающих целую страницу, набранную петитом, приводится подробное разъяснение об употреблении ъ и ъ, проиллюстрированное рядом примеров (7, 870—871) и сопоставлением с особенностями «звучания ъ и ь» в немецком и французском языках (7, 871): «Z. E. im Deutschen haben die Wörter Dach, Schlacht, durch, recht, richtig wircklich einen verschiedenen Endigungs-Laut. Die beyden ersten haben eine harte Endigung, die letztern aber eine gelinde. Im Rußischen müste man sie nach ihrer rechten Aussprache дахъ, шлахтъ, дурьхь, рехьть, рихьтихъ schreiben nicht aber дурхъ, рихтихъ; Brouillard, Bataillon im Französischen werden gleichfalls брульяръ, батальіонъ, nicht aber брулъяръ ausgesprochen [Например: по-немецки в словах Dach, Schlacht, durch, recht, richtig, wircklich конечный звук произносится различно: первые два оканчиваются твердо, а последние — мягко. По-русски, сообразно точному их произношению, следовало бы писать дахъ, шлахтъ, дурьхь, рехьть, рихьтихь, но не дурхъ, рихтихъ; по-французски Brouillard, Bataillon произносятся брульяръ, баталіонъ, а не брулъяръ]».
В § 91 говорится о произношении й.
В § 87 передача русской азбуки сопровождается фонетическими пояснениями, содержащими указания об особенностях
- 58 -
произношения того или иного звука в русском языке или о тождественности в произношении некоторых звуков русского языка с соответствующими звуками немецкого языка (7, 587).
К § 35 «Грамматики» добавлено примечание, разъясняющее вопрос о русских шрифтах: «In Rußland werden zweyerley Schrilften gebraucht. Die eine ist der alte oder Kirchen-Druck, die andere der neue oder bürgerliche Druck, und dieser ist jetzo allgemein, außer, das jener noch in allen geistlichen Büchern beybehalten wird [В России применяется двоякого рода печать: одна — старая, или церковная печать, другая — новая, или гражданская печать, и последняя теперь общеупотребительна, но старая сохраняется еще во всех духовных книгах]».
Редакционная правка произведена также в параграфах, освещающих вопросы морфологии и синтаксиса. Так, например, в § 59 оригинала Ломоносов говорит о том, что в русском языке «увеличительные имена» «отменою окончания коренного имени» «весьма многие производятся» (сейчас мы рассматриваем эти случаи как случаи образования существительных посредством суффиксов). В немецком переводе соответствующий текст дан более распространенно: «Die Deutschen und Franzosen haben dieses nicht, und müßte man etwa дворина und дворище auf Deutsch ein großes Haus, oder vielmehr ein Ungeheuer von einem Hause geben, weil diese Vergrößerungswörter gleichsam allemahl mit einer Art von Verachtung verknüpft sind [Ни у немцев, ни у французов этого нет, и слова дворина и дворище следовало бы по-немецки перевести большой дом или лучше чудовище, а не дом, потому что таким увеличительным словам присуща всегда также и некоторая пренебрежительность]».
В § 161 добавлено склонение прилагательного божий в женском и среднем роде. В § 475, текст которого оставлен без изменения, дано пояснение к измененному примеру «ежели здравствуешь, то изрядно, а мы живем здорово: Hier ist in dem ersten Satz das ты ausgelaßen, wird aber darunter verstanden; in dem andern ist das мы mit живем in gleicher Zahl und Person [Здесь в первом предложении ты опущено, но подразумевается; во втором мы в одном числе и лице с живем]».
Преобладающее большинство лексических примеров в немецком переводе снабжены знаками ударения, см., например, в § 262 склонение числительного полтретья, в § 263 — склонение числительного оба.
Кое-где, учитывая, что перевод «Российской грамматики» предназначен не для русских, Ломоносов решил «излишество откинуть», например, в § 532, в том месте, где речь идет о необходимости согласования деепричастия с личным глаголом и где осуждаются случаи несогласования, было опущено выражение: это «весьма неправильно и досадно слуху, чувствующему правое российское сочинение».
- 59 -
Все приведенные факты внесенных в немецкий перевод поправок свидетельствуют о серьезном авторском «смотрении». Однако следует отметить в немецком тексте наличие ряда погрешностей, касающихся неправильного перевода русских лексических примеров на немецкий язык, например: слово пижма (§ 165), которое в русском языке означает дикую рябину и белоголовник (Даль), передано на немецком языке словом eine Peonie, что переводится на русский язык словом пион, слово плѣю (§§ 312 и 320), означающее тлею, горю без пламени, переведено в одном случае как Ich versenge — опаляю, в другом случае Ich brenne an — зажигаю; слово чистецъ (§ 181), означающее траву гравилат, гребник, а также очищенный, отрепленный и вычесанный лен, переведено на немецкий словом das Fegfeuer, что значит по-русски чистилище; слово грамотка (§ 532) в примере: «написавъ я грамотку, посылаю за море», передано словом грамматика, что свидетельствует о незнании переводчиком русской разговорной речи того времени, в которой грамоткой именовалось письмо. Эти неправильности в переводе русских слов на немецкий язык невозможно считать ломоносовскими: прекрасно зная русский язык и язык перевода, он не мог допустить таких нелепостей.
Наличие в немецком тексте существенных редакционных поправок и дополнений, с одной стороны, и ряда погрешностей, проистекающих вследствие недостаточного знания языка подлинника, с другой, приводит к выводу о том, что редакторские поправки были внесены Ломоносовым в русский текст до передачи его Стафенгагену для перевода. Перевод, частями передававшийся Стафенгагеном в Типографию для напечатания, по-видимому, миновал ломоносовское «смотрение».
—————
- 60 -
ГЛАВА IV
РАЗРАБОТКА КАТЕГОРИИ ИМЕНИ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Подготовительные материалы к «Российской грамматике», относящиеся к грамматической категории имени, разнообразны по своему характеру и весьма обильны. Многочисленные одиночные записи перемежаются то с отдельными, то с объединенными в различные главы и разделы правилами о грамматических формах. Черновые записи во много раз превосходят «Грамматику» по количеству фактического материала и зачастую содержат два или несколько вариантов формулировок будущих параграфов или глав «Грамматики».
Примеры из художественных и научных сочинений, а также из служебной переписки Ломоносова, привлекаемые в качестве иллюстраций грамматических норм «Российской грамматики», говорят о колебаниях ученого, отразившихся в подготовительных материалах, или утверждают окончательно зафиксированную норму. Грамматические нормы «Российской грамматики» сопоставляются с нормами грамматик, принадлежавших перу Смотрицкого и Адодурова, предшественников Ломоносова. Как и другие доломоносовские грамматики, «Славянская грамматика» Смотрицкого, как известно, отразила в основном нормы церковнославянского языка; не были свободны от церковнославянских форм и «Первые основания российского языка» Адодурова.
Художественные и научные произведения того времени содержали много дублетных форм, среди которых часты архаические церковнославянские и древнерусские формы. Их употребление не было стилистически дифференцировано.
Данная глава рассматривает историю создания Ломоносовым учения о грамматической категории имени. Привлечение черновых материалов и данных из литературной практики свидетельствует о тернистом пути ученого, разрабатывавшего
- 61 -
нормы русского литературного языка с учетом их стилистической дифференциации.
При рассмотрении вопроса о грамматических категориях и формах русского языка Ломоносов пользовался неизвестным до него методом сравнительного анализа, что является величайшей его заслугой.
Род
Исходя из понимания специфических особенностей отдельных языков, прежде всего русского, впервые в истории языка пользуясь методом сравнительного анализа, Ломоносов приходит к выводу о том, что грамматические категории русского языка далеко не являются присущими другим языкам. Ломоносов был одним из первых грамматистов, кто отчетливо понимал, что «языки не меньше разнятся свойствами, нежели словами» (7, 622), т. е. грамматический строй языков не менее различен, чем их словарный состав.
В отличие от других универсальных грамматик того времени, в которых делалась попытка построить на логической основе грамматическую систему для всех языков, Ломоносов дает грамматическую систему русского языка со всеми его особенностями, отличную от грамматической системы других языков.
В соответствии с расположением материала в «Российской грамматике» рассмотрим прежде всего грамматическую категорию рода. Вопрос о ней освещен в §§ 60—62 I наставления и §§ 138—145, 239—245, 248 III наставления «Грамматики». В § 62 подчеркнуто, что в отличие от русского языка «многие языки только мужеский и женский род имеют, как италиянский и французский», а «в некоторых язы́ках весьма мало отмены или отнюд нет никакого родов разделения. Так, в аглинском языке роды едва различаются и то в некоторых местоимениях; у турков и персов имена все одного общего рода».
Как и в грамматике Адодурова, в «Российской грамматике» существительные делятся на 4 рода: мужской, женский, средний, общий (§ 139), в отличие от славянской грамматики Смотрицкого, наметившей семь родов: мужской, женский, средний, общий, всякий, недоуменный, преобщий.114
Ломоносов отмечает правильность подразделения существительных, обозначающих человека и животных, на два рода — мужской и женский, соответственно полу, и констатирует, что «часто безрассудно» это подразделение применяется и «к вещам бездушным». Указывает он и на то, что средний род, которым следовало бы обозначить «бездушные вещи», употребляется «беспорядочно» и обозначает иногда животных. По сравнению со своими предшественниками, которые указывали на некоторую
- 62 -
немотивированность грамматического рода, Ломоносов сделал более тонкие замечания об употреблении грамматической категории рода в русском языке. Акад. В. В. Виноградов в 1947 г. подтвердил эти наблюдения Ломоносова, отметив, что «у подавляющего большинства имен существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной».115
Впервые в истории языкознания в лаконичной и отчетливой форме на основании длительного наблюдения над фактами языка Ломоносов сформулировал все основные выводы о грамматической категории рода, совпадающие в основном с современным учением об этом: разрешил вопрос о принадлежности имени существительного к тому или иному роду в зависимости от грамматического оформления (главным образом от окончания, а не характера основы), а также частично в зависимости от семантики слова; показал способы выражения различия между женским и мужским родом в названиях животных посредством слов, образованных от разных основ; отметил возможные случаи обозначения животных разных родов посредством одного слова; прозорливо подметил, что́ очень важно в теоретическом отношении, наличие в русском языке некоторых имен, происходящих от «глаголов», которые «суть рода общего»: плакса и др. (§ 139).
В §§ 138—145 дается родовая классификация имен по грамматическому оформлению, сохранившаяся в основных чертах до настоящего времени: 1) к женскому роду относится большинство существительных, «кончащихся на -а (-я)», и существительные на -ь (с основой на мягкую согласную). К мужскому роду относятся существительные, оканчивающиеся на -ъ (твердую согласную), -ь (мягкую согласную) и на -й (йот) (§§ 141—143). К среднему роду относятся существительные, «на -о кончащиеся» (§ 142), и «речения на мя», «которые значат молодых животных» (§ 144).
Родовая классификация имен по значению, в основных чертах верно намеченная Ломоносовым, получила в настоящее время свое дальнейшее развитие. К мужскому роду Ломоносов относит: 1) «имена, мужеский пол значащие» (§ 139): а) с окончанием на -а (-я) (§§ 139 и 144); б) с окончанием на -ь: повелитель, избавитель, строитель, бобыль (§ 143); 2) существительные с увеличительным суффиксом -ще, «от мужеских имен происходящие»: столище, домище, дѣтинище (§ 140). «Увеличительные» «от женских» (§ 140): бабище, избище, силище отнесены Ломоносовым по их употреблению к среднему роду: великое домище, дурное бабище, что воспринимается сейчас как архаизм.
- 63 -
Классификация существительных по грамматическому оформлению и семантическим данным основывалась на анализе обильного фактического материала. Помимо многочисленных записей отдельных слов, разбросанных среди других записей, встречаются целые страницы существительных женского рода на -а (-я) и -ь, например: бадья, баня, ба́рда, баржа, басня, бахрома, бедра, бѣлка, библѣя, бирюлька и т. д., всего 252 слова (7, 672—673, 478, 481).
А
Б
Артель, и
Баба, ы
бадья, и
балда, ыбандура, ы
баня, и
и т. д., всего 811 слов, расположенных столбцами в алфавитном порядке (7, 719—728808).
Существительные мужского рода на твердую согласную: Алтынъ, алмазъ, багоръ, бугоръ, <бадьянъ>, <баканъ>, бакланъ, барышъ, баранъ и т. д., всего 41 слово (7, 637); Мохъ, моху, мху, мхи; ротъ, рта; зовъ, зва; ровъ, рва; сонъ, сна и т. д., всего 62 слова (7, 643);
А
Агнецъ, ньца, ц
адъ, а <у>алмазъ, а <у>
алтынъ, а
и т. д., всего 873 слова, расположенных столбцами в алфавитном порядке (7, 709—719).
Существительные среднего рода на -о:
чадо
стадо
ладожало
рало
сало
и т. д., всего 95 слов, данных столбцом, но без алфавита (7, 678—679).
В разработанной Ломоносовым категории рода нашел отражение вопрос о родовом различии одушевленных имен существительных, где «категория рода имеет лексико-грамматическое значение, и в родовых различиях не только выражаются морфологические свойства имен существительных, но и раскрывается определенное конкретно-материальное содержание, связанное со значением пола».116
Рассмотрению вопроса об образовании имен «женских, от мужеских происходящих» (§ 239), Ломоносов посвящает
- 64 -
пять параграфов своей грамматики. Речь идет здесь об образовании одушевленных существительных женского рода, обозначающих названия лиц, от существительных мужского рода посредством суффиксов. При этом следует помнить, что ни в черновых материалах, ни в грамматике Ломоносов не различает суффикс как отдельную структурную часть слова и не употребляет термин суффикс. Термин окончание употребляется Ломоносовым не в смысле обозначения конечной морфемы, изменяющейся по падежам, а для обозначения чисто внешнего признака слова — его конца. После рассмотрения имен «женских, от мужеских происходящих», которые «по большой части кончатся на ка, ха, ца, ша, ня» (§ 239), Ломоносов отмечает аналогичную, но немногочисленную, по его мнению, группу слов, обозначающих животных. Он показывает случаи выражения родовых различий некоторых животных посредством словообразования от одной и той же основы: орелъ, орлица; волкъ, волчица; левъ, львица; медведь, медведица; змѣй, змѣя. Здесь же он правильно отмечает и другой способ выражения родовых различий «отменными именованиями», т. е. словами, образованными от разных основ, как: конь, кобыла; быкъ, корова; баранъ, овца; пѣтухъ, курица; кобель, сука» (§ 244).
Верно подмечает также Ломоносов и те случаи, когда названия животных совсем не отражают половых различий, а определяют их только морфологически, когда «под одним мужеским или под одним женским родом оба пола разумеются: лебядь, грачь, соколъ, ястребъ, ласточка, сорока, муха, воробей, щука, окунь, паукъ» (§ 245). В этом перечне слов Ломоносов дает существительные как мужского, так и женского родов.
Указанные Ломоносовым способы выражения родовых различий одушевленных существительных в основных своих чертах дошли до настоящего времени и получили свое дальнейшее развитие и обоснование: установлено, например, что «наиболее распространенные домашние животные (хозяйственно эксплуатируемые) имеют различные названия для самца и самки» и что «одна грамматическая форма сохраняется для животных обоего пола, в случае отсутствия их практического значения для хозяйства».117
Из системы родовых соотношений имен существительных Ломоносов особо выделяет категорию имен существительных общего рода, оканчивающихся, так же как существительные женского и мужского рода, на -а.
Вопрос об общем роде до «Грамматики» Ломоносова не получил правильного освещения: в качестве примеров существительных общего рода у Смотрицкого приводятся такие
- 65 -
слова, как человек, судия, воин, вождь, ужика, свидетель, воевода, тать; Адодуров считает, что «Omnis Generis sind alle Substantiva, welche nur einen Pluralem allein haben, wie nicht weniger die Zahlen von drei bis auf hundert, als [Bce существительные, которые имеют только одно множественное число и обозначают числа от 3 до 100, — общего рода]: штаны, вилы etc».118
Не разрешенный предшественниками вопрос об общем роде очень интересовал Ломоносова, так же как и вопрос о колебаниях рода некоторых существительных. Свидетельством этого является неоднократное возвращение Ломоносова к занимавшим его вопросам. В «Материалах», например, он записывает: «De genere communi, dubio [Относительно рода общего, сомнительного]. Свидѣтель, лошадь» (7, 644); «NB. <Средьня[го])> Общего рода <нп>: пьяница, свидетель» (7, 673). По-видимому, первоначально Ломоносов колебался в выборе термина для существительных, обозначающих лиц мужского и женского пола, и в отнесении существительных к этой категории рода. В «Российской грамматике» эти колебания не получили отражения, и в качестве примеров существительных общего рода Ломоносов приводит лишь слова с эмоциональной окраской, употребляющиеся преимущественно в разговорной речи: плакса, пьяница, ханьжа (§ 139).
Подмеченная Ломоносовым категория слов общего рода, которые могут употребляться как для обозначения существительных мужского, так и для обозначения существительных женского рода, представляет собою в настоящий момент многочисленную группу слов.
Из поля зрения Ломоносова не ускользнули также колебания в роде при употреблении некоторых существительных, о чем свидетельствует запись в «Материалах»: «Сомнительнаго: лебядь, киноварь, степень» (7, 673480).
В научной практике самого Ломоносова тоже наблюдаются колебания при употреблении слова степень: в «Российской грамматике» оно появляется то в мужском роде — «вторый степень» (§ 52), «превосходный степень» (§§ 215, 499), «в превосходном степени» (§ 254), то склоняется как существительное женского рода с окончанием на мягкую согласную, кроме творительного падежа, — степенем (§ 214) и один раз родительного падежа единственного числа — степеня (§ 252), хотя в §§ 53, 215, 226 — степени. В «Риторике» 1748 г. степень употребляется как существительное мужского рода: на высочайшем степени (§ 6), на самый высочайший степень (§ 6).
Слово лебядь в «Грамматике» (§ 245) встречается в числе тех слов, где «под одним мужеским или под одним женским родом оба пола разумеются», т. е. отнесено к существительным
- 66 -
общего рода. В «Материалах» в другом написании — лебедь — встречается среди перечня слов мужского рода: лебедь (7, 665), лебедь, я (7, 713), где я — окончание родительного падежа. Слово киноварь дано среди существительных женского рода — киноварь, и (7, 721), где и — окончание родительного падежа. В «Слове о пользе химии», написанном в 1751 г., оно употребляется в мужском роде (2, 352—353: «Например, через химию известно, что в киноваре есть ртуть и в квасцах»).
Таким образом, впервые в истории русской грамматической науки Ломоносов разработал основные теоретические положения о грамматической категории рода существительных: 1) о принадлежности имен существительных к тому или иному роду, в зависимости от их грамматического оформления или семантики; 2) о способах выражения различия между женским и мужским родом в названиях животных посредством слов, образованных от разных основ; 3) выделил из системы родовых соотношений имен существительных категорию общего рода, состоящую в основном из слов, эмоционально окрашенных.
Достижения в разработке грамматической категории рода были обусловлены пониманием Ломоносовым своеобразий грамматической системы русского языка и подбором обильного фактического материала, над которым велись наблюдения.
Число и склонение
В «Российской грамматике» грамматическая категория числа рассматривается совместно с вопросом о склонении имен существительных. Этот вопрос будет освещен более подробно ниже. Первоначально разберем общие вопросы, касающиеся категории числа, и, в частности, как их рассматривали предшественники Ломоносова — Смотрицкий и Адодуров.
В славянской грамматике Смотрицкого содержится краткое определение категории числа: «Число есть множества или малости изъявление» и дано указание на наличие в славянском языке трех чисел: единственного, которое «едину вещь знаменует», двойственного — «о двею вещю повествует» и множественного — «многие вещи представляет».119
В грамматике Адодурова указано на наличие в русском языке двух чисел: единственного и множественного. Что касается двойственного числа, то оно, по мнению Адодурова, употреблялось в славянском языке по примеру греческого; в русском языке оно неупотребительно.120
В «Материалах к „Российской грамматике“» правильная мысль Адодурова получила дальнейшее развитие и научное
- 67 -
обоснование. Понимая своеобразие грамматической системы русского языка, Ломоносов категорически протестовал против подражания грамматикам других языков, о чем свидетельствует следующая запись: «NB. Погрѣшаютъ многіе, дѣлая грамматики, понуждаютъ на другіе языки. Graecisantes [Подражающие всему греческому]» (7, 691). Высказанная здесь мысль перекликается с развитой и конкретизированной в §§ 54—55 «Грамматики» мыслью о грамматической категории числа. Здесь Ломоносов утверждает наличие в русском языке двух чисел, единственного и множественного, и указывает, что «у еврей и греков» двойственное число «особливые от множественного числа в буквах... имеет перемены». Целесообразность двойственного числа не только в русском, но даже и в славянском языке вызывает у Ломоносова сомнение. Он пишет: «В славенском язы́ке двойственное число его ли есть свойственное или с греческого насильно введенное, о том еще исследовать должно» (§ 55).
В «Российской грамматике» очень подробно рассматривается вопрос об изменении существительных по падежам и числам. Попытка дать определение падежа была сделана еще Смотрицким. Он отмечал, что «падеж есть окончения в склонениях измена»,121 а «склонение есть речение падежьми и числы».122 Ломоносов идет значительно дальше Смотрицкого, рассматривая изменение слова в контексте. Сохранившаяся в «Материалах» запись — «Падежемъ называется перемѣна окончанія именъ, по разным дѣйствіямъ или страданіямъ сочиненных съ ними глаголовъ опредѣленная» (7, 634293) — свидетельствует о попытке Ломоносова дать определение падежа как категории, характеризуемой изменением окончания и показывающей отношение имени к другим словам предложения и связь этого имени с другими словами.
Прямое определение падежа отсутствует в «Российской грамматике». Однако этот пробел вполне восполняется тем, что Ломоносов уделяет большое внимание значению грамматических форм русского языка, прежде всего, значению различных падежных форм в контексте, отмечая различное отношение имени к другим словам. Он пишет: «Деяния и вещи относятся к вещам разным образом, и оттуда происходят в именах следующие отмены» (§ 56). В зависимости от выражаемого в формах («переменах») слов значения существительные могут принимать 7 падежей: 1) именительный, 2) родительный, 3) дательный, 4) винительный, 5) звательный, 6) творительный, 7) предложный. Ломоносов выделяет звательный падеж как особую форму под влиянием античной традиции или церковно-славянской
- 68 -
грамматики, несмотря на отсутствие в русском языке особой формы звательного падежа, о чем сам он упоминает в §§ 148—149 «Грамматики» («звательные падежи в обоих числах подобны именительным» — § 148, «звательные подобны именительным» — § 149).
Не останавливаясь на характеристике других падежей, Ломоносов обращает внимание на последний, предложный падеж, как на специфический для русского языка и употребляемый всегда с предлогами (§ 58). Отсюда и ведет свое начало название этого падежа — «предложный», введенное Ломоносовым взамен установленного Смотрицким названия «сказательный». Как всегда, так и в этом случае, идя от многочисленных фактов к обобщениям, Ломоносов неоднократно обращает внимание на употребление предложного падежа, помечая такие случаи значком NB: «NB. на яву, въ явѣ, явѣ» (7, 632). «NB. По́логъ, въ пологу́. Пирогъ, въ пирогѣ. NB. Моръ, мору, мору, моръ, мор[ъ], моромъ. Narrativo caret [сказательного нет]» (7, 633); «Порогъ, на порогѣ; солодъ, въ солоду; <зъ голоду> голодъ. Narrat[ivo] caret [сказательного нет]: огородъ, огородѣ; поводъ, о поводѣ, на поводу; на волосу, о волосѣ; о стоканѣ, въ стоканѣ» (7, 633).
Здесь же нашел отражение интерес Ломоносова к варьированию падежных окончаний.
Примеры, приведенные в «Материалах» и «Грамматике» (§ 58), убеждают нас в том, что предложный падеж воспринимался сознанием Ломоносова как падеж, имеющий в основном пространственное значение, что являлось преобладающим для старого местного падежа, из которого развился предложный падеж.
Как и в вопросе о грамматической категории рода, Ломоносов подчеркивает отличие грамматического строя русского языка от грамматического строя других языков и в отношении категории падежа. В этом он не имеет предшественников: описательные грамматики Смотрицкого, Адодурова и других умалчивают об этом. Ломоносов же указывает, что различные языки имеют различное количество падежей, например латинский — 6, греческий — 5. Объяснение этому он находит в различных способах выражения грамматических отношений между словами в разных языках: в одних — посредством окончаний, в других — посредством предлогов и артиклей, благодаря чему в некоторых языках «один падеж вместо двух служит» (§ 57); греки, например, употребляют «дательный купно с творительным» (§ 57).
Склонению существительных посвящены 2-я и 3-я главы III наставления. Они построены на многообразном лексическом материале, взятом в основном из общенародной живой разговорной речи. В черновиках Ломоносова материал для
- 69 -
этих глав особенно обилен (он будет показан в ходе освещения вопроса о грамматических формах отдельных падежей). Грамматические наблюдения, за редким исключением, проводились над русским словарным материалом. Ломоносов исходил при этом из основной задачи, стоявшей перед ним: на основании наблюдений над «повседневным употреблением» дать нормы русского литературного языка. По количеству примеров, приведенных в «Грамматике», ломоносовский труд занимает совершенно исключительное место и не имеет себе равных среди грамматических трудов предшественников. Только в четырех главах третьего наставления насчитывается 532 примера. Большая часть слов относится к основному словарному фонду русского языка; количество церковнославянизмов незначительно.
В плане исторической грамматики русского языка интересна черновая запись: «Правила дать, какъ чужестранныя слова пороссійски перемѣнять и склонять» (7, 612).
Вопрос о склонении существительных Ломоносов предполагал рассмотреть в историческом плане на протяжении истории родственных языков, как об этом показывает одна из записей: «Перемены деклинаціи и конъюгаціи» (7, 657). Она находится среди ряда заметок, относящихся к области сравнительного исторического языкознания. Эти материалы, сохранившиеся лишь отчасти, были заготовлены, по-видимому, для не дошедших до нас исследований.
Подготовительные черновые записи Ломоносова и его «Филологические исследования и показания, к дополнению „Грамматики“ надлежащие», показывают, что ученый планировал написание работ по сравнительно-историческому языкознанию («Рассужденіе о европейскихъ языкахъ и о сходствѣ ихъ и разности», «О сходстве и переменах языков» и «О сродных языках российскому») (7, 606, 763).
Предполагавшиеся исследования Ломоносов, по всей вероятности, выполнил. В его отчетах о законченных работах встречаем «Письмо о сходстве и переменах языков» (или «Рассуждение о разделениях и сходствах языков») и «Речи разных языков, между собою сходные».
Фактический материал и отдельные записи, представляющие собою незначительную часть того, чем располагал Ломоносов, позволяют утверждать, что он стоял на верном пути в деле сравнительно-исторического изучения языков. Он сделал ряд правильных, иногда научно подтвержденных, иногда чисто интуитивных наблюдений о родстве европейской части индоевропейских языков (русского, греческого, латинского и немецкого). Ломоносов указал также на родство славянских языков и предпринял попытку, как об этом свидетельствуют «Материалы к „Российской грамматике“», показать пути
- 70 -
возникновения этого родства языков. По его мнению, родство языков можно объяснить происхождением их от одного языка путем длительного процесса распада. Он записывает: «NB. Представимъ долготу времени, которою сіи языки раздѣлились. NB. Въ концѣ письма заключить о перемѣнѣ языковъ». Еще ниже: «NB. Польской и россійской языкъ коль давно раздѣлились» (7, 658).
Отказавшись от различного рода присовокуплений, предполагавшихся первоначально по плану, Ломоносов отказался также и от различного рода исторических экскурсов, что отвлекло бы его от основной цели составления «Грамматики». Однако он не отверг полностью замыслов, связанных с историей языка и сравнительным языкознанием. Они должны были составить содержание других работ.
В «Грамматике» Ломоносов подробно рассматривает вопросы изменения существительных, устанавливая нормы русского литературного языка, причем в отдельных случаях указывает на стилистическую обусловленность тех или иных окончаний существительных, останавливает внимание на особенностях склонения некоторых существительных в отдельных падежах; большой материал собирает о существительных, употребляющихся только во множественном числе (Pluralia tantum), о существительных, образующих множественное число от других основ, сочетаниях существительных с числительными, об образовании существительных посредством суффиксов и ряде других вопросов.
В отличие от церковнославянской грамматики Смотрицкого, содержащей в примерах и парадигмах в основном лексический материал церковнославянского языка, «Российская грамматика» содержит почти исключительно русский материал.
Исходя из церковнославянского материала, а также опираясь на латинские и греческие грамматики, Смотрицкий, вместо описания стройной и цельной грамматической системы церковнославянского языка, дает мертвые схемы. Он насчитывает пять склонений: четыре для существительных и одно для прилагательных, учитывая при этом прежде всего окончания, а затем род существительных. К первому склонению он относит существительные на -а всех родов (дѣва, воевода, судія) и женского рода на -ѧ (лодіѧ) и -и, сюда же он относит иностранные слова на -ас и -ис. Последовательно проводит Смотрицкий закон чередования заднеязычных согласных со свистящими перед -ь. Поэтому наряду с формами рука, сноха, влага — руки, снохи, влаги в дательном и сказательном падежах единственного числа он дает формы руцѣ, сносѣ, влазѣ. Слова, заимствованные из греческого и латинского языков, даны с сохранением окончаний этих языков: парадигма, парадигмати.
- 71 -
К пяти типам склонений относятся имена (существительные и прилагательные) и в грамматике Адодурова. К первому склонению Адодуров относит существительные на -а, -я, не указывая принадлежности их к тому или иному роду. В парадигмах в качестве образца он приводит существительные исключительно женского рода — вода, княгиня, рука, земля, свинья, нянька, портомоя, дѣвка, указывая при этом, что все остальные существительные первого склонения изменяются по образцу этих существительных. Особо выделяет Адодуров существительные отроча и дитя среднего рода, которые, имея то же окончание первого склонения, принадлежат к среднему роду и склоняются иначе.
Грамматика Адодурова, в отличие от церковнославянской грамматики Смотрицкого, отражает отдельные факты живой системы основных форм словоизменения русского языка: в ней мы не находим перехода заднеязычных согласных в свистящие, что наблюдали у Смотрицкого. Приведенные примеры существительных — рукѣ, о рукѣ, девкѣ, о девкѣ, руки, девки, роги, пороги, орехи и др. — свидетельствуют об отражении в грамматике действительного состояния общенародного русского языка того времени.
I склонение
Подобно своим предшественникам, Ломоносов насчитывает в «российском» языке пять склонений: четыре для существительных и одно для прилагательных. Грани между склонениями существительных проведены очень отчетливо. В основу подразделения существительных положен род существительных и их окончание. Дана всеобъемлющая характеристика особенностей склонения. В отличие от Адодурова, Ломоносов указывает, что к I склонению относятся существительные на -а и -я мужского и женского рода. В черновиках содержится большой фактический материал — перечень слов на -а и -я преимущественно женского рода: в т. 7 на стр. 672—673473—481 — 252 слова. Два существительных — пьяница, ханьжа, встретившихся в этом перечне, были отнесены Ломоносовым в «Российской грамматике» к общему роду (§ 139). В «Материалах», помимо упоминания в общем списке слов, слово пьяница выделено в особую рубрику как существительное общего рода. Отдельно приводится выборка нескольких слов из этого большого перечня (7, 674).
Столбцами и в алфавитном порядке расположены существительные, написанные рукой помощника Ломоносова (7, 719—728808). По-видимому, они были выбраны из какого-то словаря по указанию самого Ломоносова и просмотрены им. Под названием «Существительныя женскаго рода, кончащіяся
- 72 -
на а и я и ь», приведено 811 слов, из них 669 оканчиваются на -а и -я. Они относятся преимущественно к русской бытовой лексике. К некоторым из них в скобках приводятся параллели из церковнославянской лексики, например: дочь, чери (дщерь); наряду с русскими словами с полногласной огласовкой даны церковнославянизмы с неполногласием, например мережа, и (мрежа), корова, вы (крава), сторона, ы (страна).
В «Материалах», помимо огромного количества лексических примеров, собранных для первого склонения, сохранились некоторые варианты сформулированных правил, не вошедшие в «Грамматику», например: «Родительный <подобенъ> единственный подобенъ множественному etc.». Рядом с этой формулировкой заметка для памяти: «О подобіи падежей и акцентовъ» (7, 644413). Эта запись перекликается с правилами из грамматики Адодурова: «...der Genitiuus Singularis allemahl dem Nominatiuo Pluralis gleich, nur kommt dieser unterscheid dabey vor, das nehml. der Accent welcher in Genitiuo Singularis auf der letzten Silbe beruhet, in Plurali auf derjenigen haffte, welche vor der letzten Silbe hergehet [Родительный падеж единственного числа всегда тождествен именительному падежу множественного числа; отличие состоит в том, что ударение, которое падает в родительном падеже единственного числа на последний слог, во множественном числе падает на предшествующий слог]».123
Правило о форме звательного падежа: «Звательной падежъ единственнаго числа подобенъ именительному, кромѣ слова владыка, когда значитъ бога, <владыко, кото>, где а перемѣняется на о по старинному славенскому обыкновенію — владыко» (7, 673—674482) — в «Грамматике» сформулировано иначе, без оглядки на славянский язык: «Звательные падежи в обоих числах подобны именительным» (§ 148).
Приведенные Ломоносовым в §§ 148—149 окончания существительных первого склонения совпадают с современной нормой существительных с твердой и мягкой основой.
Однако обильный материал, накопленный и зарегистрированный в черновиках, а также собственная литературная практика Ломоносова подсказывали ему, что формы имен существительных первого склонения не могут быть уложены в рамки нескольких парадигм. Поэтому Ломоносов вводит в «Грамматику» целую главу, посвященную «особливым» правилам склонений. В §§ 162—170 этой главы освещаются существенные вопросы первого склонения существительных: в § 162 формулируется правило о существительных, оканчивающихся на -га, -ка, -ха, которые в родительном падеже единственного числа и в именительном множественного «принимают
- 73 -
и вместо ы: нога, ноги́, но́ги; рука, руки́, ру́ки; блоха, блохи́, бло́хи». В первоначальном черновом варианте в это правило были включены также существительные, основа которых оканчивается на шипящие: «на га, ка, ха, ча, ша, ща въ родит. имѣютъ и и во множ. им.: пища, пищи» (7, 672). В «Грамматике» Ломоносов дифференцировал это правило. Формулировка правила была возможна благодаря материалу, собранному в большом количестве, как об этом свидетельствуют черновики.
Существительные на -га:
Берлога, и
бумага, и
бодяга, и
ватага, и
брага, и
верига, и
и т. д., всего 37 (7, 730—731).
Существительные на -ка:
Барка, и
бурка, и
бука, и
воронка, и
булка, и
и т. д., всего 70 (7, 731—733).
Существительные на -ха:
блоха, и
вѣха, и
бляха, и
гречиха, и
веха, и
и т. д., всего 25 (7, 734).
Окончание -и, обозначенное против каждого существительного, может быть как окончанием родительного падежа единственного числа, так и окончанием именительного множественного.
В следующих восьми параграфах 3-й главы (§§ 163—170), относящихся к характеристике I склонения, освещается вопрос о беглых гласных о и е, появляющихся в родительном падеже множественного числа существительных этого склонения — §§ 163—166, 170 (термин беглые гласные у Ломоносова отсутствует), об образовании родительного падежа от существительных на -жа, -ча, -ша (§ 167) и от существительных, основа которых оканчивается на -ј (§§ 168—169).
Предшественник Ломоносова Адодуров также рассматривал особенности изменения существительных I склонения. Он отмечал факты появления гласных о и е в родительном падеже множественного числа некоторых существительных.124 Однако
- 74 -
впервые в истории языкознания Ломоносов детально рассмотрел этот вопрос, выявил многие случаи появления гласных о и е в корнях слов при склонении. Этому предшествовала кропотливая работа по накоплению и систематизации материала. См., например, следующие записи: «Земля, земель; <зоря> кровля, кровель; мошня, мошонъ; жена, жонъ; тоня, тонь; аѳоня, щеня, таможня, таможенъ; оглобля, оглобель; часовня, часовенъ; колокольня; мыльня; квашня, квашонъ; долбня, долбней» (7, 61297); «Земля, земель» (7, 631272, 634296); «Земля, земель; кровля, кровель. Колокольня, колоколенъ, часовня» (7, 642373); «Земель, кровель, <тонь> тиновъ [?], таможенъ, оглобель, часовенъ, колоколенъ, мыленъ, долбней, квашонъ» (7, 674483). «Бедра, діо̂ръ; игла, иголъ; гривна, венъ; денегъ, игоръ, икоръ, плюсенъ, пашенъ» (7, 674485). «Бедра, бедіо̂ръ; игла, иголъ; гривна, денга; игра, игоръ; игла, икра, плюсна, полушка, полушекъ; гривна, гривенъ; почка, почекъ; пашня, пашенъ; <мошн> семга» (7, 674494). «Обечейка, екъ, сайка, саек» (7, 674496).
Первоначальные варианты некоторых правил (7, 644—645414), сохранившихся в «Материалах», имеют сходство с одноименными правилами адодуровской грамматики:
У Адодурова
«Kömmt bey dem Genitiuo Plurali ferner zu observiren vor 1) das bei den Wörtern, welche von der Termination a und я zween Consonantes vorher haben, und unter selbigen der letztere ein л, м, н, ц oder ч ist, in Gen. Plur. zwischen beiden Consonantibus е gesetzet werde, als [В родительном падеже множественного числа наблюдаем, что 1) в словах, которые перед окончанием -а и -я две согласные имеют, из которых последняя а или я, вставляется между двумя согласными ь, например]: земля die Erde, Gen. Pl. земель; тма zehntausend, Gen. Pl. темъ; сотня das Hundert, Gen. Pl. сотенъ; овца das Schaf, Gen. Pl. овецъ; епанча der Mantel, Gen. Pl. епанечъ. Ist aber der letztere Consonans ein к so kömt an statt e das о in die Stelle, als [Но если последняя согласная к, то вместо е вставляется о, например]: палка der Stock, Gen. Pl. палокъ; тетка die Muhme, Gen. Pl. тетокъ; дирка das Loch, Gen. Pl. дирокъ und s. w. Hievon aber werden wieder ausgenommen die Wörter, so vor dem к die Buchstaben ж, ч, ш und щ haben, als welche an statt des vorhererwehnten о das erstgemeldete e wieder annehmen, als [Но отсюда исключаются слова, которые перед к имеют буквы ж, ч, ш и щ и которые вместо вышеупомянутого о принимают е, например]: ложка der Löffel, Gen. Pl. ложекъ; мочка die Spindel, Gen. Pl. мочекъ; свѣчка ein kleines Licht, Gen. Pl. свѣчекъ; рубашка das Hembde, Gen. Pl. рубашекъ und s. w. 2) Wörter, welche zwischen beiden Consonantibus oder vor der Termination a und я das ь haben verwechseln in Genitiuo Plurali dieses ь mit dem e, als [Слова, которые между двумя согласными или перед окончанием а и я имеют ь, чередуют это ь в род. множ. с е, например]: нянька die Kindermagd, Gen. Pl. нянекъ; дядька der Hosemeister, Gen. Pl. дядекъ; люлька die Wiege, Gen. Pl. люлекъ; свинья das Schwein, Gen. Pl. свиней».125
- 75 -
У Ломоносова
«Гдѣ два согласныхъ во второмъ спряженіи перед а и я, тутъ <пред> прокладывается межъ ними письмя е, ежели послѣднее согласное есть л, м, н, ц, ч: земель, темъ, сотенъ, овецъ, епанечь; ежели послѣднее к, то вместо е будь [?] о: палка, палокъ, тетка, тетокъ; ежели перед к стоитъ ж, ш, ч — ложекъ, кошекъ, точекъ».
«Ежели перед к ъ, клади е: дядьки, дядекъ; няньки, нянекъ».
На стр. 672 эту же запись Ломоносов дает в сокращении: «земля, земель; тма, темъ; сотня, сотенъ; овца, овецъ; епанча, епанча, а ежели к, то о. Н[апример]: палка, палокъ; тетка, тетокъ; дирка, дирокъ; <ножъ, ножомъ> ехіре si ante к procedunt ж, ч ш [за исключением случаев, когда букве к предшествует ж, ч, ш]: ложка, ложекъ, мочка, мочекъ, плошка, плошекъ; ь на е: нянька, нянекъ; дядька, дядекъ; люлька, люлекъ; пожьня, поженъ».
Этот вариант из «Материалов» представляет собою, по-видимому, одну из наиболее ранних формулировок правил о появлении беглых гласных о и е. Об этом свидетельствует, во-первых, употребляемая Ломоносовым терминология («спряжение» применительно к изменению существительного) и отнесение существительных на -а и -я ко второму «спряжению», от чего в «Грамматике» Ломоносов отказался; во-вторых, близость ломоносовских формулировок к формулировкам адодуровской грамматики и приведение тех же примеров. Последнее обстоятельство говорит о том, что Ломоносов внимательно просматривал грамматику своего предшественника и конспектировал отдельные ее места в процессе собирания материалов для своего труда.
В «Российской грамматике» вопрос об образовании форм родительного падежа множественного числах беглым гласным е и о от существительных, у которых конечному согласному основы предшествует согласный й или ъ, освещен детально и обстоятельно; дана иная разбивка слов на группы в зависимости от предшествующей согласной: 1) в § 163 говорится о появлении беглой гласной о у существительных с основой на к при предшествующем твердом согласном и о появлении е в том случае, когда к предшествуют буквы ж, ч, ш; 2) в § 164 формулируется правило о появлении беглого е перед согласным, если ему предшествуют й или ь: райна, раенъ; серьга, серегъ; люлька, люлекъ; 3) §§ 164, 170 содержат правила о появлении беглой гласной е у существительных с основой на сонорные л, м, н при предшествующем твердом или мягком согласном; 4) в § 166 формулируется правило о появлении беглой гласной о у существительных с основой на согласную с предшествующими заднеязычными г, к, х. Повсюду правила сопровождаются большим количеством примеров.
Вопрос о беглых гласных, появляющихся в родительном падеже множественного числа у существительных первого
- 76 -
склонения, в таком же плане рассматривается и современной академической грамматикой.126
Помимо вопроса о беглых гласных, появляющихся в родительном падеже, Ломоносов собирал материал для установления нормы родительного падежа множественного числа от существительных на -жа, -ша, -ча, -ща. Об этом свидетельствует ряд записей в т. 7: например, на стр. 645 слово епанча приведено в той же форме, что и у Адодурова (епанечь),127 на стр. 674495, 676525 — каланьча, каланчей; парча, парчей; пища, пищей; щы, щей; праща, пращей, причем слово щы, щей, относящееся к разряду Pluralia tantum, попало в эту рубрику, вероятно, только на основании сходства с другими существительными в образовании формы родительного падежа. Перечни слов на -жа, -ча, -ша, -ща приведены в «Материалах» на стр. 731 (13 слов), 734—735811 (21 слово).
Иллюстрируя правило об окончании родительного падежа множественного числа от существительных на -жа, -ча, -ща в «Российской грамматике», Ломоносов вносит некоторые коррективы в примеры из «Материалов»: от слова епанча наряду с формой епанечъ дает форму епанчей (§ 167) и исключает форму щей от щы, относящуюся к разряду Pluralia tantum.
В поэтических и научных сочинениях Ломоносова дограмматической и послеграмматической поры наблюдаются колебания в употреблении этих форм, например существительное юноша в родительном падеже множественного числа юношей (8, 206, 1748 г.; 7, 291, 300, 1748 г.; 3, 19, 1753 г.) и юнош (8, 129, 1745 г.; 8, 789, 1764 г.); существительное туча — тучей (8, 560, 1754 г.; 8, 724, 728, 1761 г.) и тучь (8, 704, 746, 1761 г.); тысяча — тысящей (7, 272, 1748 г.) и тысячь (3, 321, 1756 г.). В то же время некоторые существительные, употребляемые предшественниками Ломоносова в двух формах, употребляются Ломоносовым в одной — вельможей (6, 222, 223, 1758 г.). От слова пища находим у Ломоносова родительный пад. множественного числа только пищей (7, 456, 1755 г.; 2, 357, 1751 г.; 8, 609, 1755 г.; 6, 232, 273, 1758 г.); ср., однако, у Ломоносова форму родительного падежа множественного числа на -ей от существительного с исходной согласной основы — ц — мышцей (2, 352, 1751 г.), не свойственную литературному языку и употребляемую лишь в некоторых диалектах.
Академик С. П. Обнорский справедливо отмечает, что «с ломоносовской поры» «наблюдается» рост форм на -ей.128
- 77 -
В §§ 168—169 Ломоносов формулирует правила об окончании родительного падежа множественного числа женского рода существительных, основа которых оканчивается на -ј.
В «Грамматике» Адодурова о существительных с основой на -ј содержится правило, объединяющее существительные на -ія, -оя, -ья, оканчивающиеся в родительном падеже множественного числа на -ій (игумений), -ой (портомой) и -ей (свиней).129
Черновые материалы, на основании которых Ломоносовым были сформулированы правила в указанных параграфах, находятся в т. 7 на стр. 627224 — затѣи, затѣй; ворожей; 7, 631272 — лядвѣи, лядвей; 7, 634301 — Галатея. Шея. Шей; 7, 642361 — затѣи, затѣй; 7, 634295 — скуфья, скуфей, лодья, лодей, семья, семей. Ряд существительных с основой на -ј, оканчивающихся на -ая, -ея и -ѣя, -оя и -уя, -ья и -ія, расположен на стр. 735819:
-ая
-ея и -ѣя
-оя и -уя
-ья и -ія
свая, и
библѣя, и
верея, и
ечея, и
курея, и
лядвея, и
сулея
фузѣя, и
шея, и
шлея, и
каразѣя, и
шалфеясоя, и
струя, и
хвоя, ибадья
келья
ладія
литонья, и
лодья
мурья
оладья
свинья
скамья
стихія
тафья
тулья
Отдельно выделены «иностранныя: коллегія, имперія etc.» (7, 672469, 674487, 676542).
В «Российской грамматике» Ломоносов отходит от записей «Материалов», объединяя существительные на -ея, -ая и -уя (§ 168) в одном правиле с существительными на -ія, по общности окончания -ей в родительном падеже множественного числа: «Кончащиеся на я, имея перед собою самогласную, также на ей в родительном множественном кончатся: библея, библей; верея, верей; свая, свай; лядвея, лядвей; шея, шей; шлея, шлей; струя, струй; коллегія, коллегій». При формулировке, как видно, была допущена ошибка.
- 78 -
Об окончаниях существительных с основой на сонорный (с предыдущим согласным и ј) и появлении беглой гласной е говорится в § 170.
Фактический материал для § 170 находится на тех же страницах, которые уже были указаны при рассмотрении вопроса о беглых гласных выше (стр. 75). К ним можно добавить столбцы слов на -ля, -ня, -ря:
воля, и
баня, и
буря, и
земля, и
башня, и
гиря, и
капля, и
броня, и
заря, и
куделя, и
вишня, и
ноздря, и
миля, и
гуня, и
пря, и
оглобля, и
дыня, и
тюря, и
пакля, и
клешня, и
харя, и
петля, и
лютня, и
пуля, и
мошня, и
сабля, и
няня, и
холя, и
пѣня, и
цапля, и
цыпля, и
(7, 729—730810)
В упоминавшихся уже (стр. 74) примерах существительных на -ня в «Материалах» встречается форма родительного множественного на -н твердое: мошня, мошонъ; таможня, таможенъ; часовня, часовенъ; квашня, квашонъ (7, 61297); мыленъ (7, 674483), пашенъ (7, 674494). Форма на -н мягкое отсутствует. В «Российской грамматике» Ломоносов рекомендует форму на -н твердое в качестве нормы, хотя в литературной практике в этой форме долгое время наряду с -н твердым встречалось и мягкое -н. Ломоносов предугадал тенденцию развития русского литературного языка: он смело отверг мягкое окончание в родительном падеже множественного числа, принятое в его время, и установил норму, которая смыкается с нормой современного русского языка: лютня, лютенъ; сотня, сотенъ; башня, башенъ; вишня, вишенъ.
В отличие от «Материалов» «Грамматика» допускает также употребление форм на -ей от некоторых существительных: лютней, башней, вишней, каплей, цаплей (§ 170).
Литературная практика Ломоносова отразила его колебания в употреблении форм на -н твердое и на -ей в соответствии с грамматическим правилом § 170, например: басней (8, 100, 1742 г.; 8, 618, 1753 г.; 8, 697, 1761 г.) и басен (8, 658, 1759 г.). Формы на -ей встречаются у Ломоносова и от существительных с основами на согласный плюс мягкое л или мягкое р от таких существительных, как пуля, буря, заря. Это
- 79 -
не покрывается принципами ломоносовской нормы о том, что существительные, «кончащиеся на ля и ня с предыдущею согласною, вмещают перед л и н самогласную е» (и имеют твердое окончание) и что «некоторые равномерно употребляются и на -ей» (§ 170).
В качестве нормы для дательного и предложного падежей существительных, мягкого различия Ломоносов рекомендует формы на ъ (§ 148).
Адодуров тоже отмечал тождественность форм Dat. Sing. и Narrat Sing.: «Nachgehends ist im Singulari der Narratiuus dem Datiuo allemahl gleich, und dessen Endigung ѣ [Предложный падеж единственного числа всегда тождествен дательному, окончание которого ѣ]».130
В подготовительных черновиках к «Российской грамматике» материалов по вопросу о норме в дательном и предложном падежах и отступлений от нее не имеется.
Как правило, в своей литературной практике как дограмматической, так и послеграмматической поры Ломоносов следовал указанной норме русского языка. Исключений из этого правила в литературной практике Ломоносова немного, и они относятся преимущественно к употребляемой им, так же как и его предшественниками и современниками, архаической форме на -и от слова земля. В произведениях Ломоносова дограмматического периода она встречается реже, чем в произведениях его современников; еще более редко она наблюдается в произведениях послеграмматического периода (ср. 8, 196, 1747 г.; 8, 242, 256, 1749 г.; 2, 350, 356, 360, 1751 г.; 2, 371, 1761 г.). Однако от других существительных на -а в литературной практике Ломоносова встречаются, правда, очень редко формы на -и (безударные) и от других существительных, а не только от слова земля, например: по своей воли (10, 273, 1764 г.); обучались математики и физики (10, 275, 1764 г.); академический стат поправить и рассмотреть по идеи асессора Тауберта (10, 289, 1761 г.). Акад. С. П. Обнорский рассматривает подобные формы как архаические.131
Примеры подобных отступлений от установленных грамматических норм незначительны по количеству и являются отражением встречающихся в языке того времени дублетных форм.
В «Российской грамматике» окончания творительного падежа единственного числа -ою, -ею и -ой, -ей приведены как равноправные (§§ 148, 149, 160).
В подготовительных черновиках к «Российской грамматике» материалов по вопросу о флексии творительного падежа нет.
- 80 -
В грамматиках Смотрицкого и Адодурова для существительных I склонения приводится одно окончание -ою для твердого различия и одно окончание -ею для мягкого различия; окончания -ой и -ей отсутствуют.
Вводя флексии -ой, -ей в литературный язык из народно-разговорной речи и нормализуя их в «Грамматике» как равноправные флексиям -ою, -ею, Ломоносов исходил из стремления сблизить литературный язык с разговорной речью. В своей литературной и научной практике он стилистически дифференцировал употребление этих окончаний.
Ломоносов сделал значительный шаг вперед по сравнению с предшествующими грамматиками и современной ему литературной практикой, впервые введя в «Грамматику» и художественные произведения формы на -ой (-ей) наряду с бытовавшими формами на -ою (-ею).
В научном языке Ломоносова, в том числе в языке «Российской грамматики», флексии -ой, -ей отсутствуют.
II склонение
Ко II склонению Смотрицкий относит существительные на -ъ мужского рода и существительные на -о, -ѧ и -е среднего рода. Он различает во II склонении «вещи одушевленные и бездушные» и указывает, что винительный одушевленных сходен с родительным, а «бездушных всяко именительному подобен», т. е. различает категорию одушевленности и неодушевленности. В творительном и сказательном падежах множественного числа приводятся двоякие формы: от клеврет — клевретами и клевреты, о клевретах и -тѣх, от древо — древами и древы, о древех и древѣх; пророк — пророками и пророки, о пророцех и пророцѣх; друг — другами и други, друзех и друзѣх; существительные среднего рода имя, слово в творительном множественного числа имеют только одну форму: имены, словесы; сказательный падеж — именех, словесех.
В существительных мужского рода, основа которых оканчивается на заднеязычные согласные -г, -к, -х, последовательно соблюдается их чередование со свистящими (перед е, ѣ, и из ѣ): «... на г, к и х кончащаѧсѧ имена премѣнѧти въ звателномъ единственномъ г на ж, к на ч, х на ш. Въ сказателномъ же единственномъ, в именителномъ, звателномъ и сказателномъ множественомъ г на з, к на ц, х на с. Кончащаѧ же сѧ на ц въ звателномъ единственомъ ц на ч».132 Примеры: зв. друже, сказ. друзѣ, им.-зв. мн. друзи, сказ. о друзехъ — друзѣхъ; зват. пророче, сказ. пророцѣ, им.-зв. мн. пророци, сказ. о пророцехъ — пророцѣхъ и т. д.
- 81 -
Адодуров ко II склонению относит существительные мужского рода на -ъ (столъ) и среднего рода на -е (лице), -о (тело) и -мя (имя). Подобно Смотрицкому, Адодуров подчеркивает, что существительные мужского рода на ъ «formiren bei Nahmen lebendiger Sachen den Accusatiuum dem Genitiuo; in leblosen Sachen aber dem den Accusatiuum dem Nominatiuo gleich, und daß so wohl in Singulari als Plurali [образуют от одушевленных существительных винительный падеж, тождественный родительному, от неодушевленных — винительный падеж, тождественный именительному — как в единственном, так и во множественном числе]».133
Адодуров ссылается на случаи выпадения гласных о и е при склонении, приводя примеры родительного падежа единственного числа: лда, орла, осла, овса, лна, отца, стрельца, огурца, лба, рва, песка, сверчка, угла, посла, пса, сна, и, наоборот, на случаи появления беглых гласных при склонении, приводя в качестве примера родительный падеж множественного числа: окно — окон, сѣдло — сѣдел, число — чисел, писмо — писем, бѣлмо — бѣлем, сердца — сердец. Он отмечает также наличие в некоторых падежах дублетных форм, например в родительном падеже единственного числа дому, полону и лда, овса, лна, песка и др., причем никакого обоснования тому или иному окончанию не дает. Двойственные формы приводятся и для ряда других существительных, например от слова друг: N. други и друзья; G. другов и друзей и т. д.; от слова батог: N. батоги и батожья; G. батогов и батожей и т. д.; от слова лист: N. листы и листья; G. листов и листей и т. д. От слова человек во множественном числе как равноправные приведены две формы: человеки и люди, причем в склонении слова люди допущены существенные ошибки и сохранены в некоторых падежах архаические формы: N. человеки и люди; G. человеков или человек и людей; D. человекам и людям; Acc. человеков или человек и людей; Voc. человеки и люди; Inst. человеками и людьми; Voc. человеках и людех.
Дублетные формы без указания на возможность употребления той или иной приводятся и для существительных среднего рода, например от существительного яблоко: Nom. Pl. яблока и яблоки, Gen. Pl. яблок и яблоков; от существительного судно: Nom. Pl. суда и суды, Gen. Pl. суд и судов, Dat. судами, Inst. судами, Narrat. судах.
Формы склонения существительных среднего рода на -ле и -ре — поле, море и существительных небо, чудо, приведенные Адодуровым, не имеют расхождений с современным русским языком.
Некоторые формы существительного дитя, отнесенного ко II склонению, существенно отличаются от форм современного русского языка: Inst. ед. ч. и дат. п. мн. ч. дитятемъ.
- 82 -
Особо выделяет Адодуров из II склонения существительные, имеющие только единственное число (солнце, серебро, золото) и только множественное число (уста, дрова, ворота).
В грамматике Адодурова в отличие от грамматики Смотрицкого в творительном падеже множественного числа существительных мужского и среднего рода приводится одна форма на -ами, -ями, -ьми (очами, очьми); архаичные формы на -ы, -и отсутствуют, в сказательном падеже множественного числа дается лишь одна форма на -ах (очах, ушах). Во втором склонении, так же как и в первом, в отличие от грамматики Смотрицкого, смягчение заднеязычных согласных перед е, ѣ, и отсутствует.
Ломоносов относит ко второму склонению существительные мужского рода на -ь, -й, -ъ и среднего на -е, -іе и -о. В §§ 151—156 приводятся парадигмы существительных и их окончания, которые не имеют расхождений с современным русским языком. В главе, «содержащей особливые правила склонений», §§ 171—204 посвящены освещению особенностей существительных второго склонения.
Рассмотрим вопрос об установлении именных форм второго склонения с привлечением фактов и отдельных формулировок из черновых материалов.
Наибольшее внимание Ломоносов уделил рассмотрению вопроса о двойственности флексий в родительном падеже единственного числа.
Как уже упоминалось выше, Адодуров приводил примеры с двоякого рода флексиями, не делая, однако, никакой попытки дать объяснение употреблению того или иного вида форм.
«Материалы к „Российской грамматике“» позволяют проследить отдельные этапы работы над формулировками, касающимися употребления того или иного типа форм родительного падежа. В двух сохранившихся отрезках главы, «содержащей особливые правила склонений», имеются варианты формулировок, в основу которых положен семантический принцип употребления окончаний -а и -у.
Первый вариант: «Имена, происходящія отъ глаголовъ, простыя и сложенныя, значащіѣ дѣйствіе, а не вещь, употребительнѣе въ родительномъ на -у, нежели на -а: визгъ, визгу; пропускъ, пропуску; ловъ, лову; наемъ, найму; плескъ, плеску; махъ, маху; размахъ, размаху. Вычитай вещь знаменующія простыя и сложенныя глагольныя имена, <лутче> въ родительномъ <на> а <и на у, но если> <равно употребительныя списокъ, списка и списку, подарокъ, подарка> на а употребительнѣе, нежели на у: списокъ, списка, подарокъ, подарка; <уродъ> загонъ, загона» (7, 669456).
Ниже Ломоносов сокращает формулировку, допуская употребление той и другой флексии: «Дѣйствіе и вещь знаменующія
- 83 -
а и у имѣютъ: соборъ, собора и собору; поводъ, повода и поводу» (7, 670457).
Тот же смысл вложен во второй вариант формулировки, которая звучит более четко: «<Бездушныя> Отъ глаголовъ происходящія имѣютъ родительной на а и на у, только значащія дѣйствіе больше на у и значащіе вещь обыкновеннѣе на а въ родительномъ кончатся: пропускъ, ску; ловъ, ву; наемъ, найму и найма; плескъ, плеска; соборъ, ру и ра; поводъ, да и ду; подарокъ, рка; списокъ, ска; загонъ, загона» (7, 647426).
Следует признать, однако, что оба варианта звучат недостаточно убедительно и четко. Автор устраняет это путем внесения стилистической мотивировки, благодаря чему употребление той или иной формы родительного падежа определяется более точно. Он указывает, что из обозначенных выше «больше на а склонять должно» те, которые «къ славенскому діалекту больше склоняются и въ <пис> обыкновенномъ языкѣ <не> россійскомъ нестолько употребляются, какъ въ писмѣ и важномъ штилѣ: напр. залогъ, га; восходъ, да. Особливо когда важныя прилагательныя съ ними сочиняются: божественнаго залога, солнечнаго восхода» (7, 648430). Тот же самый смысл, но в более лаконичной формулировке правила содержится и в печатном тексте: «Происшедшие от глаголов употребительнее имеют в родительном у и тем больше оное принимают, чем далее от славенского отходят, а славенские, в разговорах мало употребляемые, лучше удерживают а» (§ 172). Таким образом, в качестве нормы для высокого стиля, одним из характерных признаков которого является преобладание церковнославянской лексики, Ломоносов рекомендовал для обозначения «важности знаменуемых вещей» (§ 173) употребление флексии -а в противоположность просторечию, для которого свойственно употребление флексии -у.
Лаконичная и в то же время всеобъемлющая характеристика § 172, дополненная пояснениями § 173, основана на соединении семантического и стилистического принципов: она явилась плодом длительных размышлений Ломоносова над одним из животрепещущих вопросов русской грамматики.
Употребление родительного падежа единственного числа на -у в XVIII в. было широко распространено, поэтому стремление Ломоносова дать исчерпывающую классификацию обширного фактического материала вполне закономерно. В §§ 174—175 он приводит семантическое обоснование употребления форм родительного падежа с флексией -у, тем самым дополняя стилистическую мотивировку употребления этих форм, данную в §§ 172—173. Формы на -у предпочтительны, по мнению Ломоносова, 1) для «имен собирательных и тех вещей, которые по мере, числу или по весу разделяются», например: анису,
- 84 -
бархату и др. (§ 174), 2) для имен, означающих «время и место»: базару, берегу и др.
В черновых материалах сохранился один из вариантов формулировки § 174, в котором в отличие от окончательного грамматического правила отсутствует указание на собирательное значение существительных, объединяемых этим правилом:
Материалы
Грамматика
«Коими матерія, на неопредѣленныя части раздѣляемая, знаменуется имѣютъ родительной на у» (7, 647).
«Имена собирательные и тех вещей, которые по мере, по числу или по весу разделяются, в родительном больше кончатся на у, нежели на а» (§ 174).
Примеры, иллюстрирующие правило, в том и другом случае приводятся одни и те же.
Созданию первого варианта формулировки предшествовало собирание лексического материала и разбивка его по значению. В рукописи сохранилась запись слов под названием «Матеріи» (670—671458), часть которых и была впоследствии использована для иллюстрации правила. Среди неиспользованных слов существительное овесъ, неоднократно встречающееся среди черновых материалов (7, 61088, 642369, 649434, 675519) и в § 178 «Грамматики», и существительное голубецъ, повторенное дважды, — в одном случае с обозначением окончания -у, в другом — окончания -а в родительном падеже и переводом этих слов-омонимов: в первом случае краска, во втором — конь. В качестве примеров в «Грамматику» были введены те из существительных, которые, по мнению автора, безусловно должны были иметь в родительном падеже окончание -у.
В черновых материалах сохранился один из вариантов правила § 175, имеющего отношение к существительным, обозначающим место. Сопоставим рукописный текст и соответствующий ему печатный текст:
Материалы
Грамматика
«Кромѣ именъ, отъ глагола происходящихъ, многія первообразныя имена нарицательныя, мѣсто значащія, въ родительномъ кончатся на -у: берегъ, берегу; верьхъ, ху; долъ, лу; домъ, му; задъ, ду; лугъ, гу; низъ, зу; наслѣгъ, гу; погостъ, ту; порогъ, гу; рынокъ, нку; слѣдъ, у; <содомъ, му>; ямъ, яму» (7, 647).
«Время и место значащие существительные по большей части в родительном единственном на у склоняются: базаръ, базару; берегъ, берегу, верьх, верьху; низъ, низу; вечеръ, вечеру и вечера; вѣкъ, вѣку и вѣка; караулъ, караулу; лугъ, лугу и луга» (§ 175).
Правило § 175, как видно, было дополнено ссылкой на существительные, обозначающие время, в соответствии с чем изменился и перечень лексических примеров: прибавились
- 85 -
слова вечеръ и вѣкъ с обозначением их форм в родительном падеже: вечеру и вечера; вѣку и вѣка. По сравнению с первоначальным вариантом формулировка правила § 175 дана в более осторожной форме: «по большей части в родительном единственном на у склоняются» вместо категорической: «в родительном кончатся на у».
Большая часть иллюстрирующих правило примеров находится среди черновых материалов под рубрикой: «мѣсто и время» (7, 670). В рукописи приведено 35 слов (в том числе существительные, обозначающие место и время) без разбивки по значению с указанием на то, что они «въ родительномъ имѣютъ у обыкновеннѣе, нежели на а» (7, 648432).
Семантическим принципом пользуется Ломоносов и при выделении группы существительных, оканчивающихся в родительном падеже преимущественно на -а. Это существительные, которыми обозначаются «снасти, платье, строение и посуда» (§ 176). В черновых записях по этому вопросу мало сохранилось материалов: варианты формулировок отсутствуют, лексические записи даны без разбивки по значению, однако их соседство с существительными, данными в форме именительного и родительного падежа единственного числа, позволяет отнести их к записям, имеющим отношение к данной теме (7, 643393). На стр. 632279 приведен ряд существительных без разбивки их по значению. Среди них можно выделить существительные, обозначающие, по терминологии Ломоносова, инструменты (колъ, кола; ломъ, лома; ножъ, ножа), строения (домъ, дома; подъ, пода; полъ, пола, но мостъ, мосту), посуду (ковшъ, ковша). Лишь на стр. 670 перечислены 8 существительных, расположенных столбцом, под заголовком: «Инструменты и строен[ія]. Платье, посуда», перекликающимся с определением значений существительных, данных в § 176: «снасти, платье, строение и посуда».
Семантико-стилистический принцип, положенный Ломоносовым в основу определения окончаний -а и -у в родительном падеже, подкреплен синтаксическим принципом (§ 179 — сочетание существительных с числительными два, три, четыре), не противоречащим основам ломоносовской классификации, и частично структурным (§ 177 и § 200, п. 1), не укладывающимся в рамки основного, семантико-стилистического принципа. Существительные, «сочиняющиеся» с числительными два, три, четыре, по словам Ломоносова, «родительного на у отнюдь не терпят», однако, делает оговорку Ломоносов, «иногда и у в других случаях не отметывают» (§179). Для иллюстрации правила в § 179 примеры существительных с -у не приводятся.
В «Материалах» Ломоносов сопоставляет одиночные существительные родительного падежа единственного числа с теми же существительными, имеющими при себе числительные:
- 86 -
«У моста и у мосту. Sed [но] два моста, а не два мосту» (7, 632). «Два моста, а не два мосту, у мосту» (7, 643), подчеркивая невозможность флексии у у существительных, встречающихся в сочетании с числительными.
Сохранился вариант правила об употреблении существительного с числительными в родительном падеже: «При числительныхъ два, три, четыре родительныя падежи именъ на ъ, несмотря на всѣ показанныя правила, кончатся на а: два пропуска, два найма, два берега, два бока, три дома <два>, четыре наслѣга, четыре голоса. При которыхъ числительныя свойственно употреблены быть не могутъ, тѣ сему правилу не подвержены: <гнѣвъ и употреби> гнѣвъ, ву; голодъ, ду; зудъ, <жу> ду; жиръ, ру; лоскъ, ку. <Ибо> Не говорится: два гнѣва, два угомона и протчая» (7, 648431).
Ломоносов подчеркивает в данном варианте обязательность употребления флексии а в случае сочетания существительного с числительным, а также невозможность сочетания некоторых существительных с числительными, причем в числе примеров — существительные с абстрактным значением.
Положенный в основу классификации существительных в родительном падеже семантико-стилистический принцип, по-видимому, казался Ломоносову недостаточно всеобъемлющим. Об этом свидетельствуют неоднократно записанные в черновых материалах два слова с приведением форм родительного падежа: овесъ, овса (7, 61088, 642369, 649434, 675519), перецъ, перцу (7, 629246). Относя существительное овесъ по значению к словам, обозначающим материю (7, 670), Ломоносов в «Грамматике» не вводит это слово в состав вещей, которые «по числу или по мере разделяются» (§ 174). Флексию -у в родительном падеже он считает для этого существительного неподходящей. Пытаясь обосновать флексию -а у подобного рода существительных, Ломоносов вводит небольшой корректив в семантико-стилистическую классификацию, опирающийся на структурные моменты: в § 177 он говорит о том, что «имена, выключающие в родительном из окончания самогласные и соединяющие согласные, больше на -а кончатся». В числе примеров встречается и существительное овесъ, овса. В § 178 Ломоносов отмечает, что «нередко одно правило отнимает силу другого. Овесъ по § 174 должен бы иметь в родительном овсу, однако по § 177 имеет овса. Напротив сего, невзирая на § 177, песокъ, песку; перецъ, перцу удерживают у по § 174».
Выше мы делали попытку сопоставить сохранившиеся в черновиках лексические материалы и формулировки, имеющие отношение к родительному падежу единственного числа, с окончательным текстом «Грамматики». Большинство подобранных материалов было использовано при написании «Грамматики», и отдельные формулировки вошли в нее либо полностью,
- 87 -
либо с мало существенными изменениями. Все они интересны, так как раскрывают творческий процесс работы Ломоносова, пути и методы создания грамматических правил, отражающих процесс перехода от фактов к абстрагированию, к обобщениям.
Отдельные формулировки, заготовленные в черновом виде, в окончательный текст «Грамматики» не вошли, например: «Иностранныя имена на ъ <всегда удобнѣе> употребительнее въ родительномъ на а: <адъ, ада>; алмазъ, за; алтынъ, на; аршинъ, на; мартъ, марта; амвонъ, на; кафтанъ, на». «Это правило находится рядом с другими, вошедшими в состав черновой главы, «содержащей особливые правила склоненій» (7, 647428).
Другой вариант этой же главы содержит начало фразы, относящейся к «иностранным» словам «татарскаго и персидскаго происхожденія» (7, 670), что является отражением большого интереса, проявляемого Ломоносовым к вопросам заимствования из других языков. Об этом свидетельствует также запись, содержащая указания о том, откуда «пришли» слова в русский язык (7, 60748). В числе других пунктов имеются ссылки на заимствование из татарского языка («3. Отъ владѣнія татарскаго») и персидского («4. Отъ купечества съ пограничн[ыми] персами, китайцами...»). По-видимому, не располагая достаточным фактическим материалом по данному вопросу, Ломоносов решил не включать в окончательный текст «Грамматики» обобщение о флексиях родительного падежа слов иностранного происхождения.
В отличие от Адодурова, который не привел никакого объяснения употреблению форм родительного падежа, Ломоносов дал исключительно тонкую семантико-стилистическую «характеристику употребления одного и другого типа форм, научное значение которой сохраняется до настоящего времени».134
В своей литературной и научной практике Ломоносов в основном придерживался установленных им норм употребления флексий родительного падежа -а и -у. Отступления от них относятся в основном к фактам более широкого употребления флексий -у. Так, Т. А. Шаповалова установила, что в произведениях Ломоносова, относящихся к высокому стилю, наблюдается, «большое количество форм на -у (около 1/3 всех форм родительного падежа), наряду с формами на -а, несмотря на то, что для высокого стиля рекомендуются только формы на -а».135 В научных трудах Ломоносова формы на -у также занимают большое место, в особенности у существительных, по своему
- 88 -
значению являющихся понятиями отвлеченными или собирательными и вещественными, например в «Волфианской экспериментальной физике» (1741): в воде, в пиве и проч. содержится много воздуху, в водке больше воздуху, нежели в воде, — 1, 514; часть своего весу потеряет; столько в воде весу прибудет; тела... поровну своего весу в воде терять станут — 1, 431; 432; 433; из красного воску сделанный, шар из воску — 1, 434; не останется воздуху больше — 1, 444; часть воздуху — 1, 456 и др. Из «Слова о пользе химии» (1751): из противного на языке свинцу и из острого уксусу — 2, 356; из селитры, которая духу никакого и вкусу сильного не имеет — 2, 357. Существительные со значением места и времени в «Волфианской экспериментальной физике»: во время великого морозу — 1, 455; из нижнего отрезу — 1, 517. Из «Российской грамматики»: для выговору, от чистого выговору — 7, 399, 430, 1755 г. Из «Предисловия о пользе книг церковных»: «От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля» — 7, 589, 1758 г.
Широко распространенная в XVIII в. флексия -у в родительном падеже смело вводилась Ломоносовым из разговорной речи в произведения высокого стиля и в научную речь и нашла теоретическое обоснование в его «Российской грамматике». Проведенное Ломоносовым семантико-стилистическое разграничение в употреблении флексий -а и -у в родительном падеже, несколько видоизмененное А. Х. Востоковым в его «Русской грамматике» (§ 28), в основных своих чертах дошло и до настоящего времени.
Итак, исключительно большой фактический материал, собранный Ломоносовым по вопросу о родительном падеже единственного числа, проведенная им семантико-стилистическая дифференциация флексий, переход от отдельных разрозненных фактов к обобщениям, тщательная работа над создаваемыми правилами, о чем свидетельствуют сохранившиеся в черновых материалах варианты формулировок, позволили Ломоносову детально разработать вопрос о значении и флексиях родительного падежа. Установленная Ломоносовым норма флексий родительного падежа служит живой основой и современного русского языка.
В черновиках содержится значительный по объему лексический материал, относящийся к теме о выпадении гласных о и е в падежных формах некоторых существительных мужского рода единственного и множественного числа, имеющих в своей основе суффикс -ец- или оканчивающихся на -евъ, -овъ, -екъ, -окъ, -ель, -елъ, -олъ, -омъ, -енъ, -онъ, -еръ, -есъ-, ецъ. Против, большинства слов (7, 662—669454) обозначены корневые гласные о или е и один конечный согласный основы, например:
- 89 -
е агнецъ
-ц
е истецъ, стца
-ц
о багоръ
-р
е мудрецъ, еца
-ц
е бубенъ
-н
е самодержецъ, ержца
-ц
е василекъ
-к
и т. д., а иногда два:
волкъ
лк
воскъ
ск
кедръ
др
и т. д., или три:
перстъ
рст
и т. д., всего 232 слова.
На стр. 648—649 для той же цели подобраны 32 существительных. Там же записаны не только конечные согласные основы, а также сочетания звуков (гласная плюс согласная), на которые оканчиваются слова: -евъ, -овъ, -екъ, -окъ, -елъ, -олъ, -омъ, -енъ, -онъ, -еръ, -есъ, -ецъ.
Кроме лексических записей по разбираемому вопросу, в «Материалах» зафиксированы формулировки правил о выпадении гласных о, е в существительных мужского рода, оканчивающихся на -ел, -ен, -ер, -ес, -ом, -ов, -ев, -он, -ок (7, 649434): «Многія имена мужескія, кончащіяся на ъ, въ родительномъ наращенія не имѣютъ, <выклю> теряя слогное е или о, стоящее передъ последнею согласною: дятелъ, шла; игуменъ, мна; костеръ, стра; котелъ, тла; овесъ, вса; псаломъ, лма; ровъ; рва; левъ, лва; рожонъ, жна; ротъ, рта; рынокъ, нку; сверчокъ, рчка; хохолъ, хла; чулокъ, лка и протч.».
О существительных, оканчивающихся на -ец, говорится ниже, в особом абзаце: «Кончащіяся [на] ецъ всѣ наращенія лишаются: творецъ, рца; птенецъ, нца, кромѣ тѣхъ, который больше одного согласнаго писмени передъ е имѣютъ: устрецъ, устреца; мертвецъ, веца; жрецъ, жреца».
Заканчивается часть главы о выпадении гласных указанием об «умалительных» существительных: «Умалительныя на окъ и екъ о и е теряютъ: волчокъ, волчка; волчонокъ, волчонка».
Сопоставление указанных выше перечней слов и формулировок правил, сохранившихся в «Материалах», с §§ 180—184 «Грамматики» свидетельствует о более широком замысле Ломоносова: он предполагал осветить вопрос о выпадении гласных о и е в падежных формах не только существительных на -ец, -ок, а и ряда других существительных на -ев, -ек, -ел и др.
В «Грамматике» (§§ 180—184) Ломоносов осветил вопрос о выпадении гласных о и е лишь в существительных, оканчивающихся на -ец и -ок, в том числе уменьшительно-ласкательных существительных с суффиксом -ок-. Вопрос о существительных на -ец рассмотрен более детально, чем в «Материалах»,
- 90 -
в §§ 180—182, с указанием возможных случаев выпадения гласной -е (§§ 180—182) или сохранения ее (§ 181). Исчерпывающее правило и исключения из него, сформулированные Ломоносовым, дошли без изменений до настоящего времени.
В первоначальную формулировку о существительных на -ок, -ек Ломоносов ввел существенную поправку, расширил ее и детализировал. Он совершенно выбросил указание на существительные, оканчивающиеся на -ек (их нет и в перечнях существительных на стр. 648—649 и 662—669), и расширил рамки группы существительных на -ок, введя в нее не только существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом («умалительные», по терминологии Ломоносова), а также непроизводные существительные с корневым -ок (§ 183) и те, «которые умалительных силу потеряли», но «бывали некогда умалительными»: горшокъ, горшка; сверчокъ, сверчка; мѣшокъ, мѣшка» (§ 184).
В «Российской грамматике» Ломоносов теоретически обосновал двойственность окончания предложного падежа единственного числа существительных мужского рода (§§ 188—190), так же как и родительного падежа. Адодуровская грамматика лишь указывала, помимо основного окончания -ѣ в Narrat. падеже, возможность окончания -у для некоторых существительных, объединяя в одной формулировке родительный и Narrat. падежи: «Nachgehends lassen sich auch in dieser Declination einige Wörter linden, welche den Genitiuum und Narratiuum in у formiren, dergleichen sind nun домъ das Haus, Gen. und Narrat. дому; полонъ die Gelangenschafft, Gen. und Narrat. полону».136
Черновые материалы, немногочисленные по данной теме, дают возможность только частично проследить творческий процесс зарождения отдельных формулировок. Вопрос о сходстве окончаний родительного и предложного падежей отмечен и в черновиках: сохранилась обрывочная запись «animata non habent Genit. in у [одушевленные не имеют родительного падежа на -у]: нельзя у сыну» (7, 632). Вслед за этим Ломоносов переходит к предложному падежу, записывая: «De casu praepositionis nominum masculini generis, quae desinunt in ъ [О предложном падеже существительных мужского рода, которые кончаются на -ъ]».
Первоначально при рассмотрении вопроса об окончаниях предложного падежа он разделил существительные на одушевленные и неодушевленные, отметив, что «1. Animata habent in hoc casu ѣ [Одушевленные имеют в этом падеже ѣ]: на быкѣ, въ слонѣ, о Петрѣ, о сынѣ. 2. Inanimata habent у [Неодушевленные имеют у]: на лугу, на полу». Затем приведены
- 91 -
исключения: «на столѣ, во снѣ, въ озерѣ, въ ковшѣ, на кожѣ, о холстѣ, въ клочѣ [?], щотъ, щотѣ. NB. По́логъ, въ пологу́. Пирогъ, въ пирогѣ» (7, 633).
Подобного рода формулировка с исключениями дана и далее: «Animalia habent habent ѣ, inanimata у [Животные имеют ѣ, неодушевленные -у]: при Петрѣ, о сынѣ, на лугу, на полу. Ехіре [За исключением]: на столѣ, въ морѣ, въ пологу; въ пирогѣ. Пологъ, въ пологу; пирогъ, въ пирогѣ» (7, 643—644).
Кроме формулировки правил приведен ряд примеров употребления неодушевленных существительных с различными предлогами — в, на, о: «Поро́гъ, на порогѣ; солодъ, въ солоду; <зъ голоду> голодъ. Narrat[ivo] caret [Сказательного нет]: огородъ, огородѣ, поводъ, о поводѣ, на поводу; на волосу, о волосѣ; о стоканѣ, въ стоканѣ». «Въ праз[д]никъ, о праздникѣ, о свад[ь]бѣ, въ похороны, на похоронахъ, въ моровое повѣтріе, въ Петровъ день, о Петровѣ дни...» (7, 633).
Все эти записи относятся к первоначальной стадии работы по собиранию материалов. Однако, несмотря на неупорядоченность лексических примеров и абстрактный характер некоторых формулировок правил об окончаниях предложного падежа, «Материалы» и в этом вопросе имеют известное значение: они показывают, как посредством экспериментальных данных, под влиянием практики и путем сопоставления Ломоносов шел по пути установления существующих в языке закономерностей. Разрабатывая этот сложный вопрос в «Российской грамматике», Ломоносов выделил из группы неодушевленных существительных существительные, обозначающие место и время, которые в предложном падеже имеют окончание -у, за исключением существительных иностранного происхождения (§ 188), указав при этом на употребление указанных существительных с предлогами в и на. Литературная и научная практика помогли ему при дифференциации окончаний опереться на стилистическую основу.
Как и при освещении вопроса о двойственности окончаний родительного падежа, принцип сематической классификации Ломоносов дополняет моментами стилистическими, подчеркивая, «что в штиле высоком, где российский язык к славенскому клонится, окончание на ѣ преимуществует», что «те же слова в простом слоге или в обыкновенных разговорах больше в предложном у любят» (§ 190; ср.: § 172).
Ломоносов впервые тонко подметил правильную стилистическую дифференциацию грамматических форм предложного падежа в отличие от предшествующих грамматик, где грамматические нормы даны без учета различных стилей речи. Акад. С. П. Обнорский считал «это, замечательное по своей тонкости, разграничение одного и другого ряда форм» правильным и
- 92 -
«исторически и фактически» применимым «к литературному языку».137
Указание на сходство окончаний родительного и местного падежей определенной категории существительных весьма существенно и свидетельствует об исключительной наблюдательности Ломоносова над большим фактическим материалом. Акад. С. П. Обнорский в 1927 г., отмечая это тонко подмеченное Ломоносовым обстоятельство и выражая свое полное согласие с автором «Российской грамматики», отмечал, что «изучение форм род. ед. на -у и принципиально и методологически должно вестись параллельно с изучением форм м. ед. на -у».138
Исследование языка художественных произведений Ломоносова показывает, что в них (в частности, в текстах бытового характера) употребляется предложный падеж с флексией -у при обозначении места с предлогами в и на — см., например, в свету (8, 46, 54, 1741 г.); в градском шуму (8, 207, 1747 г.), в бегу (7, 130, 1748 г.); в одном лугу (8, 306, 1750 г.), на стану (8, 300, 1750 г.); на Дону (7, 574, 1755 г.); на скоку (6, 187, 1758 г.); в украшенном строю (6, 242, 1758 г.). При обозначении времени с предлогом в Ломоносов тоже употребляет окончание -у: в двенадцатом веку (7, 116, 1747 г.; 2, 355, 1751 г.). С другими предлогами Ломоносов согласно § 189 употребляет предложный падеж с окончанием -е.
Предложный падеж, оканчивающийся на -у, Ломоносов вводит также и в научный язык, и в язык деловой прозы, но с большей осторожностью, чем в поэзию, см., например, «Российскую грамматику»: на ряду числиться не должны (7, 422); в азбуке на ряду ставить не должно (7, 422); на последнем складу (7, 447, 459, 494).
Т. А. Шаповалова в своем исследовании указывает, что Ломоносов широко вводит окончание -у в предложный падеж в произведения высокого стиля, чем нарушает им же установленный стилистический принцип дифференциации окончаний.139
Положение Ломоносова об употреблении существительных, обозначающих место и время, в предложном падеже с окончанием -у, если им предшествуют предлоги в и на, свойственно и современному языку.
По-новому освещается в «Российской грамматике» трудный и до сих пор теоретически не разрешенный вопрос об образовании форм на -а в именительном падеже множественного числа.
- 93 -
Адодуровым зарегистрирована лишь форма на -ы (-и): «Alle Wörter, deren Endigung ъ entweder г oder к auch х vorhergehet, an statt ы allemahl и annehmen, zu Ex. [Все слова, в которых окончанию ъ предшествует г или к или также х, вместо ы повсюду принимают и, например]: рогъ, роги и др.».140 Указание на окончание -а совершенно отсутствует.
Черновые материалы свидетельствуют об упорном внимании Ломоносова к вопросам формы именительного падежа множественного числа. На стр. 60218 значком NB он отмечает дублетность форм от слова брегъ — бреги и брега и ставит знак ударения над формами. На стр. 643381 записывает: «Лѣсъ, лѣса и лѣсы etc.». Позже он снова возвращается к этой теме, подбирая ряд форм множественного числа: «жернова, колокола, <кусты> <неводы>, окорокъ, острова, снѣгъ, снѣга, стругъ, струга» (7, 678551). Знаком NB отмечает: «берегъ, берега, лугъ, луга, лѣсъ, духи, ду́хи, цвѣты, цвѣты». Никакого правила об окончаниях именительного падежа множественного числа автор «Материалов» не формулирует.
В парадигмах §§ 151—152 «Российской грамматики» для твердой и мягкой разновидностей существительных именительного падежа, как и в грамматике Адодурова, приводятся лишь окончания -ы, -и (поводы, орехи, якори).
В главе, посвященной «Особливым правилам в склонении», Ломоносов вносит некоторые пояснения и существенные изменения, касающиеся форм именительного падежа. Он пишет: «Именительный множественный ы переменяет на и, если кончится в именительном единственном на гъ, къ, хъ» (§ 191). Последнее относится к § 195, которым Ломоносов впервые в грамматической науке утверждает частично наряду с окончанием -ы, -и, частично как единственно возможную для некоторых существительных форму на -а: «Некоторые вместо ы или и в окончании именительного множественного принимают а: берегъ, береги и берега; лугъ, луги и луга; лѣсъ, лѣсы и лѣса; островъ, островы и острова; снѣгъ, снѣги и снѣга; стругъ, струги и струга; колоколъ, колоколы и колокола; одно только а имеют: рогъ, рога; бокъ, бока; глазъ, глаза».
Как видно из сопоставления «Материалов» с § 195, большинство перечисленных в рукописи существительных было включено Ломоносовым в «Грамматику» в качестве иллюстративного материала для показа дублетности форм именительного падежа множественного числа. Позиция Ломоносова по поводу введения в литературный язык разговорных форм на -а в «Материалах» отличалась еще большей решительностью и демократичностью.
- 94 -
Заслуга Ломоносова состоит в том, что он первый из грамматистов подметил входившую в литературный язык из живой разговорной речи форму на -а, завоевавшую впоследствии большое место среди форм существительных именительного падежа множественного числа. Акад. С. П. Обнорский указывал, что «от Ломоносова до Востокова, от Востокова до нашего времени, и в наши дни идет очевидный рост форм на -а за счет старых форм на -ы, -и или окончательное возобладание форм на -а над старым колебанием форм на -ы, -и и на -а».141
В литературной практике Ломоносова встречаются обе формы именительного падежа множественного числа, причем в произведениях высокого стиля преобладают архаические формы на -ы (-и), которые в произведениях низкого стиля отсутствуют, см. примеры из «похвальных» слов: «Ужаснулись тогда вероломные Балтийские бреги» (8, 244, 1749 г.); «ни горы, ни лесы закрыть не могут божественнаго Ея зрака, начертаннаго в душах наших» (8, 237, 1749 г.); «протекающие реки и гладкие снеги» (2, 362, 1751 г.); «пространные грады» (2, 363, 1751 г.); «через многие веки» (2, 364, 1751 г.).
В «Риторике» 1744 г., а также и в «Риторике» 1748 г. встречаются как те, так и другие формы (см., например, «Рит.» 1744 г.: «нынешние веки» — 7, 24); «летом обыкновенно бывают громы» (7, 35); «река иногда чрез свои берега переступает» (7, 37); «древа насаждают» (7, 36); «трава и лес растет, где были домы сперва» (7, 54); «кто построил грады» (7, 58); «древа расцветают» (7, 44); «Рит.» 1748 г.: «в нынешние веки» (7, 91); домы (7, 102), лесы (7, 115); «старые люди не себе, но детям своим дерева насаждают» (7, 120); «упоенные тучным илом берега открываются» (7, 132) и т. д.
В «Письме о правилах российского стихотворства» (1739 г.) употреблены лишь формы на -а: бревна, острова (вин. п.).
Формы на -а от одушевленных существительных у Ломоносова отсутствуют, см., например, «Рит.» 1748 г.: учители (§§ 32, 127), кесари (§ 100 и др.); Письма: учители (10, 492), профессоры (10, 496).
Приведенные материалы свидетельствуют о значительных новшествах, введенных Ломоносовым как в теорию грамматической науки, так и в практику литературной речи из живого разговорного языка. Эти новшества сыграли большую роль в дальнейшем развитии литературного языка от Ломоносова до Пушкина и наших дней.142
В § 192 Ломоносов устанавливает в качестве нормы для существительных на -анин (-янин) форму именительного множественного на -е: «россіянинъ, россіяне; римлянинъ, римляне»,
- 95 -
в отличие от адодуровской грамматики, допускающей двоякое окончание: «Die Wörter, welche auf нинъ ausgehen,... in Plurali auf diese Weise decliniret werden, als: [Слова, которые оканчиваются на нинъ, во множественном числе будут склоняться как] дворянинъ, дворяне oder [или] дворяня...».143 Форма на -е, по словам акад. С. П. Обнорского, была сохранена, очевидно, «из старины по книжной традиции». Она была принята уже в славянской грамматике Смотрицкого: «римлянинъ, римляне»; также «коринфянинъ, египтянинъ, вологжанинъ, христианинъ». Разговорной речи и, в особенности, северному диалекту, по мнению акад. С. П. Обнорского, были издавна, еще «из старого актового языка» известны формы именительного множественного на -а.
В своей литературной практике, в особенности в дограмматический период, до утверждения нормы на -е, Ломоносов часто употреблял формы на -а наряду с формами на -е, см., например, «Рит.» 1748 г.: римляне (§ 105), колофоняна, хиана, саламиняна, смирняна (§ 109), узипияна, афинеана и афинеяне (§ 111), россияна (§ 184), римляне (§§ 126, 228, 236), афинеане (§§ 231, 233, 241), лакедемоняне (§ 225), дворяне (§ 281); бактриане (§ 303). В черновых материалах к «Грамматике» имеется единственная запись, относящаяся к данной теме, в которой утверждается окончание -е (7, 645418).
При установлении окончательной нормы Ломоносов, в отличие от Адодурова, который называет дублетные формы на -е и -а равноправными, отказывается от случайно «оброненных диалектизмов»144 и утверждает норму на -е, свойственную и современному литературному языку.
В «Материалах» и «Грамматике» Ломоносов касается также вопроса о формах именительного множественного на -ы и -ья от существительных мужского рода на -ъ. Приведя на одной из первых страниц «Материалов» перечень существительных мужского рода на -ъ: «Брусъ, кусъ, парусъ, усъ, искусъ, гарусъ, ярусъ, трусъ» (7, 60854), Ломоносов дает на последующих страницах формы им. п. мн. ч.: крылы, дубы, дубья (7, 61298), крылья, дубья (7, 675521), причем неоднократно повторяет форму колья (7, 635309, 644399) и однажды называет форму кусья (7, 636328).
В одной из наиболее развернутых записей наряду с неодушевленными существительными встречаются и одушевленные: «други, друзья; батоги, батожья; сыновья, деревья, прутья, колья, перья» (7, 645419). Таким образом, в «Материалах» встречаем троякого рода формы именительного множественного: на -ья, -ье и -и.
- 96 -
В «Грамматике» (§ 194) автор справедливо не включил в перечень слов на -ья одушевленные существительные и привел в качестве иллюстрации лишь неодушевленные существительные: брусъ, брусья; лоскутъ, лоскутья; колъ, колья; листъ, листья; кусъ, кусья; клокъ, клочья; пень, пенья (наряду с формами листы и пни). В качестве вариантных образований к некоторым формам на -ья Ломоносов называет формы имен среднего рода на -ье, встретившиеся и в «Материалах», которые, по его мнению, имеют «силу множественного: брусье, колье, листье» (§ 194). Во времена Ломоносова часто употреблялись обычные формы множественного числа вместо собирательных, см., например, у него: «Древа листами помавают» (8, 130).
В современном литературном языке принято считать, что слова на -ья содержат оттенок не множественности, а «известной совокупности предметов, мыслимой как неделимое целое»; напротив, форма на -а — форма «собственно множественного числа», «известной совокупности мыслимых в отдельности предметов».145 Некоторые формы на -ье, приведенные Ломоносовым в качестве вариантов форм на -ья, по мнению акад. С. П. Обнорского, содержали отпечаток «резкой диалектности» и потому не были приняты в качестве нормы в литературный язык.146
«Материалы к „Российской грамматике“» содержат значительные по содержанию, объему и количеству записи, относящиеся к вопросу о форме родительного падежа множественного числа существительных мужского рода на -ъ, -ь и -й: см., например, незаконченную запись — «Genit. Plur. [Родительный множественного числа] человѣкъ, салдатъ, члекъ вмѣсто» (7, 60322), в которой автор хотел сказать, по-видимому, о возможности двоякого употребления форм — без флексии и с флексией от некоторых слов. В соседней краткой записи «вольность піитическая: отъ еврей, отъ турокъ» (7, 60322), вероятно, содержится намек на возможность допущения форм без флексий в поэтических произведениях. В одной из записей зафиксирована форма родительного падежа множественного числа существительных на -анинъ, -инъ: «Персіянинъ, Gen. Pl. персіянъ; татаринъ, татаръ» (7, 60323). В ряде мест перечислены существительные мужского рода с основой на шипящую, которые получают в родительном падеже множественного числа флексию -ей типа: «ножъ, ножей; рубежъ, рубежей; чертежъ, чертежей» (7, 624188), то же смотри на стр. 641348, 675502, 676526). Некоторые заметки отразили колебания Ломоносова в выборе формы родительного падежа множественного числа при сочетании ее с некоторыми числительными: «фунтъ. Пять фунтъ или 5 фунтовъ. Пять пудъ и пять пудовъ. Пять
- 97 -
человѣкъ. Пятеро людей. Пять сыновъ. Пятеро сыновей» (7, 626213, 214).
Некоторые сомнения нашли отражение в записях, относящихся к формам родительного падежа тех существительных, которые в именительном множественном оканчиваются на -ья. Таковы: «Сватъ, сватовей. Кумъ, кумовъ, вей; шуринъ, шурьевъ» (7, 628233, 234, 676531); «Братъ, братей; отецъ, отцевъ; соседъ, соседей; сватъ, сватовей; кумъ, кумовей; шуринъ, шурьей» (7, 643384).
Сопоставление перечисленных записей с парадигмами склонений (§§ 151, 152) и с соответствующими параграфами «Российской грамматики», содержащими дополнительные, «особливые правила склонений» (§§ 196—199), показывает, что Ломоносов, следуя поставленной цели — создать нормативную грамматику, — отказался от показа ряда колебаний, присущих «Материалам»: в отличие от последних в «Грамматике» отсутствуют формы без флексий (типа солдат, человек; ср.: соколовъ, ореховъ, поводовъ — § 151); при сочетаниях существительных с числительными формы существительных «подобны именительному единственному», — утверждает автор «Грамматики», т. е. в них отсутствуют флексии: «сорокъ алтынъ; десять аршинъ; сто пудъ» (ср. в «Материалах»: пять пудъ и пять пудовъ), «тысяча человѣкъ; десятеро салдатъ» (§ 197). Так же утвердительно говорит автор «Грамматики» о форме родительного множественного существительных, оканчивающихся в именительном множественном на -ья; они «кончатся в родительном множественном на -ьев: брусъ, брусьевъ; лоскутъ, лоскутьевъ; колъ, кольевъ; шуринъ, шуръевъ» (§ 198, ср. «Материалы»: шурьевъ и шурьей).
Некоторые вопросы оказались не освещенными в «Грамматике», например опущена форма родительного падежа множественного числа от существительных, основа которых оканчивается на -ц (ср. в «Материалах» дважды встретившееся отецъ, отцевъ — 7, 627, 643384); не отмечена форма существительных со значением племенных названий, встретившаяся в «Материалах».
В литературной практике автора «Материалов» и «Российской грамматики» нашли отражение не только нормы, но и отклонения от них и все те колебания, которые отмечены нами в рукописи, в частности архаичная форма с чистой основой слова, без флексии, встретившаяся в основном в произведениях высокого стиля и в трудах с историческим содержанием, см., например: сопостат (8, 728, 1761 г.; 8, 774, 1762 г.) и сопостатов (8, 283, 1750 г.); предел (8, 68, 1742 г.; 8, 119, 1743 г.; 6, 255, 1758 г.; 6, 315, 1759 г.) и пределов (8, 554, 1754 г.). Подобные формы встречаются не только среди слов церковнославянского происхождения, но и в словах исконно русских,
- 98 -
где тоже замечаются колебания, например, у Ломоносова в форме родительного множественного от солдат: солдат (общелитературное — 7, 198, 221, сноска, 1747 т.) и солдатов (8, 283, 1750 г.; 7, 170, 181, 1747 г.; 3, 111, 1753 г.). В сочинениях исторического содержания у Ломоносова целый ряд существительных со значением племенных названий встречается в родительном падеже без флексии: варяг (6, 220, 221, 1758 г.) и варягов (6, 209, 214, 226, 1758 г.; 6, 298, 1759 г.), сармат (6, 143, 1758 г.) и сарматов (8, 223, 1748 г.), козар (6, 237, 1758 г.) и козаров (6, 32, 1749 г.), алан (6, 210, 211, 1758 г.) и аланов (6, 209, 1758 г.), роксоланов (6, 209, 1758 г.), турков (7, 413, 1755 г.; 6, 241, 298, 1759 г.).
Процесс разработки Ломоносовым вопроса о формах родительного падежа множественного числа и его литературная практика со всей очевидностью свидетельствуют о бережном отношении автора «Грамматики» к церковнославянской традиции и о внимании его к живой разговорной речи, из которой он вводил некоторые формы в литературный язык. Ломоносов подчас не был свободен и от воздействия родного поморского диалекта, на что указывают некоторые диалектизмы (например, формы шурьей, шурьев и братей, из которых две последние формы предложены в качестве норм).
Дважды встретившаяся в «Материалах» форма родительного падежа множественного числа существительных, основа которых оканчивается на -ц (отецъ, отцевъ — 7, 627, 643384), в «Российской грамматике» вовсе опущена.
Выше указывалось, что установленные Ломоносовым в §§ 153—156 грамматические формы существительных среднего рода второго склонения на -о и -е не имеют расхождений. Характерным для «Материалов» и литературной практики Ломоносова является факт почти совершенного отсутствия форм на -ы от существительных среднего рода на -о (см., например, черновые записи: брј̂овна, рј̂обра, сј̂ола, стј̂огна, вј̂осла, жорла, помј̂ола, сј̂одла — (7, 600; ср. также следующую запись в «Материалах»: «...у которыхъ множественныхъ среднихъ именъ удареніе на послѣднемъ складу, тѣ всѣ имѣютъ а: слово — слова, дрова» (7, 60964); в научной практике встречается исключение — множественное число чуды: «Не соответствует ли царь морской Нептуну, чуды его тритонам?» (6, 253).
В литературной речи XVIII — начала XIX вв. формы на -ы были очень распространены.147
Можно полагать также в числе исключений встречающуюся в произведениях Ломоносова форму им. п. мн. ч. облаки от облако (8, 175, из Овидия). В употреблении Ломоносовым форм им. п. мн. ч. от слова облако наблюдается парность:
- 99 -
облаки и облака. Акад. С. П. Обнорский находит возможным считать, что форма облака образована от облако, ср. рода, в то время как форма облаки образована от облак, м. рода.148
В парадигмах в качестве примеров на -о, -е приведены существительные слово и лице или лицо (двоякое написание этого существительного наблюдается и в практике Ломоносова). В черновых материалах, помимо слова лицо, с двояким написанием встречаем также яйцо и яйце (см., например, 7, 676533).
Для существительных на -ие Ломоносов без колебаний узаконивает форму множественного числа на -ия (§ 155 — зданіе) и категорически возражает против употребления в именительном множественном форм на -ии как неправильных, объясняя, что «употребление буквы и вместо я произошло от безрассудного старания, чтобы разделить родительный единственный от именительного множественного» (§ 119). В своей литературной практике Ломоносов не делал отступлений от утвержденной им грамматической нормы.
К числу особенностей образования именительного падежа множественного числа существительных среднего рода Ломоносов относит склонение существительных с изменением основы (термин наш, — В. М.): небо, небеса; судно, суда; чудо, чудеса; око, очи; ухо, уши; плечо, плечи; крыло, крылья или крылье; полѣно, полѣнья (§ 202, п. 1). За исключением архаичной формы древеса и образования крыло — крылье все формы совпадают с нормой современного литературного языка.
В подготовительных материалах зарегистрированы также архаичные формы именительного множественного очеса и словеса (7, 626217), не включенные Ломоносовым в «Грамматику».
Немало размышлял Ломоносов над формой им. п. мн. ч. от солнце. Сомнения в образовании этой формы нашли отражение в т. 7 на стр. 60964: «Рассудить о семъ: солнце, pl. [множественное число] солнца или солнцы». В «Грамматике» упоминание о существительном солнце отсутствует.
В «Материалах к „Российской грамматике“» в вопросе о форме родительного падежа множественного числа существительных среднего рода нашли отражение колебания Ломоносова, прежде чем грамматические исследования были облечены в четкую формулировку. См., например, запись, в которой зарегистрированы старые образования формы родительного падежа: море, морь; поле, поль. Горе, горей, солнце со[л]нцей (7, 631268); в других случаях отражены колебания: море, морей и морь; поле, поль; солнце<евъ и ей [?]> (7, 643). Море, морей. Полей и поль (7, 676534). На стр. 623176 приведена форма, вошедшая в «Грамматику»: стекло, стеколъ; слово, словъ. Отражены также колебания в образовании формы родительного падежа от существительных
- 100 -
на -ие: «Познаніе, познаній, познаней, познаніевъ» (7, 635310).
Вероятно, к этому вопросу имеет отношение наблюдение, зафиксированное на стр. 644413: «Родительный <подобенъ> единственный подобенъ множеств. etc.».
Несколько записей из «Материалов» относится к группе существительных, у которых в родительном множественном в основе появляется гласная о или е: стекло, стеколъ; слово, словъ (7, 623176), зернышко, зернышекъ и зернышковъ (7, 623181), кольцо, колецъ (7, 631269), «Genit. Pl. [Родительный падеж множественного числа]: окно, оконъ; число, селъ;стекло, стеколъ» (7, 645417).
В «Российской грамматике» в качестве нормы родительного падежа существительных среднего рода твердого различия дана форма без окончания, равная чистой основе: словъ, лицъ (§§ 153, 154), для мягкого различия — форма, образованная посредством -ий и -ей: знаний (§ 155), копей (§ 156). Старые образования без флексий (типа морь, поль), встретившиеся в «Материалах», отсутствуют, что свидетельствует о стремлении Ломоносова приблизить литературную речь к живому разговорному языку.
Из числа указанных в «Материалах» существительных среднего рода в «Грамматику» не были включены существительные на -ко (ср. «Материалы» — зернышекъ и зернышковъ).
В литературной практике Ломоносова наблюдается употребление обеих форм, встретившихся в «Материалах»: морь (8, 30, 1739 г.) и морей (8, 61, 1742 г.), поль (8, 29, 1739 г.; 8, 61, 74, 1742 г.; 8, 160, 1747 г.; 8, 304, 313, 1739 г.) и полей (8, 67, 1742 г.; 8, 321, 1750 г.), от существительного солнце встречается литературная форма на -ев: «Толь много солнцев в них пылающих сияет» (8, 518, 1752 г.). Колебания в образовании формы родительного падежа от существительного око в соответствии с парным образованием именительного падежа множественного числа, встретившимся в «Материалах»: око, очи, очей, очесъ (7, 625196).
Для существительных на -ие, -ы Ломоносов зафиксировал, как говорилось выше, род. п. мн. ч. на -ий, -ей. Первая форма совпадает с нормой современного русского литературного языка, вторая расходится. В литературной практике Ломоносов отходил подчас от указанных форм: вместо флексий -ий (зданий — § 156) и -ей (копей — § 156, меж копей — 8, 310, 1752 г.) употреблял флексию -ев под влиянием разговорного языка, см., например, форму окончаниев: «Новым словам не надобно старых окончаниев давать, которые не употребительны».149
- 101 -
В последующем развитии литературного языка эти формы исчезли.
Существительное солнце Ломоносов употреблял в род. п. мн. ч. с флексией -ев: «Толь много солнцев в них пылающих сияет» (8, 518, 1752 г.).
III склонение
В особое, III склонение Ломоносов выделяет существительные среднего рода на -я неодушевленные (семя и др.) и одушевленные, обозначающие детенышей животных (жеребя, порося, куря и др., также и дитя).
Черновики не содержат материалов о формах существительных на -мя.
В «Грамматике» склонение существительных на -мя дано в косвенных падежах с суффиксом -ен в ед. ч.: род. сѣмени, дат. сѣмени, тв. сѣменемъ, предл. о сѣмени; во мн.: им. сѣмена, род. сѣменъ или сѣмянъ, дат. сѣменамъ, вин. и зв. сѣмена, предл. о сѣменахъ (§ 159). В род. видим дублетную форму с -ян.
Несмотря на обилие в языке XVIII в. форм с опущением в косвенных падежах суффикса -ен, Ломоносов смело выдвигает новые формы с суффиксом -ен, которые, выдержав испытание временем, вошли как норма и в современный литературный язык. Не стала нормой лишь форма родительного множественного сѣменъ, приведенная Ломоносовым в качестве парной формы к сѣмянъ. Колебание в выборе форм родительного падежа множественного числа нашло отражение и в литературной практике Ломоносова: письмян и письмен, семян и семен (7, 382; «Росс. гр.», § 159).
В отличие от Адодурова, который относит существительные, обозначающие детенышей животных, ко II склонению, производя множественное число жеребята, поросята и пр. от единственного жеребенок, поросенок и пр., Ломоносов фиксирует в «Материалах к „Российской грамматике“» две формы единственного числа указанных существительных. Особенно подробна и показательна в этом отношении следующая запись:
«Котя́, котенокъ, котята.
Теля, теленокъ, телята.
Щеня, щенокъ, щенј̂онокъ, щенята.
Порося, поросј̂онокъ, поросята.
Утя, утј̂онокъ, утята.
Цыпля, цыплј̂онокъ, цыплята.
Жеребя, жеребј̂онокъ, жеребята.
Ягня, ягнј̂онокъ, ягнята.
Куря, курј̂онокъ, курята,
гусята,
щеглята» (7, 603—60425);
- 102 -
см. также записи в т. 7 на стр. 636318, 674490, 675512, содержание которых полностью охвачено указанной выше записью.
В «Российской грамматике» Ломоносов дает пояснение употреблению парных форм единственного числа указанных существительных: включив в парадигму III склонения в качестве примера существительное жеребя, означающее «молодое животное» (жеребя, жеребяти, жеребята, жеребя, жеребя, жеребятемъ, о жеребяти), он в то же время делает существенную оговорку о том, что в «единственном употребительнее их (названий молодых животных, — В. М.) умалительные: щенокъ, щенка; цыпленокъ, цыпленка; жеребенокъ, жеребенка» (§ 205).
Формы множественного числа, приведенные в «Материалах» и «Российской грамматике», соответствуют формам современного литературного языка.
Среди «особливых правил» встречается формулировка о склонении существительного дитя во множественном числе (§ 207). В отличие от Адодурова, который в дат. п. мн. ч. дает неверную форму дитятемъ, Ломоносов повсюду дал формы, сохранившиеся по сей день в литературном языке (см. в «Материалах» запись на стр. 642379: «О именахъ, преходящихъ изъ одного склоненія въ другое, как дитя, дѣти» и на стр. 674492, где слово дитя, дѣти встречается, с одной стороны, среди существительных, обозначающих «молодых животных», с другой стороны, рядом со словами мать, дочь).
IV склонение
К IV склонению Ломоносов относит существительные женского рода, оканчивающиеся на -ь, т. е. основа которых оканчивается на мягкую согласную (§§ 160, 208).
Лексический материал для освещения IV склонения разбросан на многих страницах рукописи (7, 61087, 627228, 642368, 643383, 675518, 676530, 729809, 735814). Повсюду слова приведены в им. п. и в род. п. ед. ч. (см., например, запись на стр. 676530: «Вошь, вши; ложь, лжи; кровь, крови; бровь, брови, соль, соли; любовь, любови» или на стр. 728—729809, где столбцами расположены 109 слов, причем обозначен конец слова — на -зь, -ль, -нь, -пь, -рь, -сь, -ть, -чь, -шь, -щь:
вязь, и
грязь, иель, и
жаль, и
модель, и
мозоль, и
моль, и
и т. д.голень, лени
гортань, и
грань, и
дрянь, и
есень, и
и т. д.
- 103 -
«Российская грамматика» дает те же формы родительного падежа: ложь, лжи; рожь, ржи с чередующейся основой, которые содержали в коренной или суффиксальной части редуцированный звук ъ или ь, перешедший в сильном положении в о или е и исчезнувший в слабом. Отсюда чередование полной исходной формы именительного падежа единственного числа с укороченной основой имени в родительном падеже и других падежах единственного и множественного числа («предкончаемая самогласная остается» в творительном падеже — § 208). Исключение составляет форма любовь, любви, которая расходится с приведенной в «Материалах» полной формой родительного падежа с сохранением гласной о: любовь, любови (7, 676530). Эта форма извлечена, по-видимому, из народного языка, которому свойственна тенденция к распространению полных основ на все склонение.150 Ломоносов употреблял эту форму и в поэтических произведениях: Мой дух красу любови зрит (8, 131, 1745 г.); ср. также существительные муж. р. с суффиксом -ен, сохранившие полный вид основы: род. п. корени (5, 208; 7, 135) и кореня (3, 61). Формы тв. п. ед. ч. на -ию Ломоносов употребляет в основном в научном языке (см., например, посвящение к «Российской грамматике»: обширностию (7, 391), надобностию (7, 392), радостию (7, 393), краткостию (7, 396), то же в «Предисловии о пользе книг церковных»: осторожностию (7, 589), древностию (7, 592) и в художественных произведениях высокого стиля. Однако встречаются в них и формы на -ью, которые в произведениях низкого стиля преобладают над формами -ию. Ломоносов стремился к широкому употреблению форм на -ью, осознававшихся в XVIII в. в качестве народно-разговорных форм. Он смело вводил народные формы существительных с полной основой в литературную практику. Однако в основном это относится к дограмматическому периоду. Тенденция литературного языка к укороченным формам была правильно угадана автором «Грамматики» и отмечена в качестве нормы в § 208.
В «Материалах» встречаются дублетные формы творительного множественного (см., например, кость, костями и костьми; волость, волостями или волостьми — 7, 628244; кость, костями, костьми — 7, 643385; кости, костями или костьми; гость, волость — 7, 676532).
Помимо форм на -ьми от существительных женского рода, равноправных формам на -ями, в «Материалах» приведены также как равноправные формы на -ями, -ьми от существительных муж. р. (см., например: лось, лосями, лосьми — 7, 628244, 643385 и упомянутую выше запись на стр. 676532, где
- 104 -
рядом с существительными жен. р. кость и волость стоит существительное муж. р. гость).
В «Российской грамматике» как равноправные приведены варианты флексий в тв. п. ед. и мн. ч.: в ед. ч. -ію, -ью — добродетелію и добродетелью, во мн. ч. -ями, -ьми — добродетелями и добродетельми (§ 160).
Формы на -ьми в творительном падеже множественного числа от существительных мужского рода, встретившиеся в «Материалах», «Грамматикой» не предусмотрены.
Литературная практика Ломоносова отразила не только нормированную «Грамматикой» дублетность форм творительного падежа женского рода мягкого различия, но и проскользнувшие в черновых материалах записи относительно колебаний Ломоносова о форме творительного множественного существительных мужского рода. Архаические образования на -ьми женского рода, медленно уступавшие дорогу флексии -ами, очень многочисленны в сочетаниях Ломоносова: ветьвми (8, 10, 1738 г.; 8, 130, 1745 г.), речьми (8, 78, 1742 г.), отрасльми (8, 177, 1747 г.), челюстьми (8, 181, 1747 г.), площадьми, пристаньми (7, 134, 1747 г.), слабостьми (8, 511, 1752 г.), сластьми (7, 350, 1747 г.), вещьми (7, 410, 1755 г.), вольностьми (3, 19, 1753 г.), мысльми (2, 351, 1751 г.), с сольми (5, 342, 1757 г.), хитростьми (4, 175, 1759 г.). Они распространились и в различные другие категории существительных, вытеснив первоначальные флексии -ами; прежде всего они коснулись существительных мужского рода с основой на -і (в черновых материалах — лось, гость). См.: гонительми (10, 519, 1754 г.), зверьми (7, 211, 1747 г.), неприятельми (7, 307, 1747 т.), учительми (7, 170, 1747 г.), писательми (6, 28, 1749 г.), приятельми (8, 762, 1761 г.; 8, 609, 1755 г.), обладательми (8, 243, 1749 г.), любительми (2, 363, 1751 г.), мореплавательми (4, 374, 1761 г.); ср. у него же: любителями наук (8, 681, 1760 г.).
Формы на -ьми попадали и в другие типы склонений. В практике Ломоносова такие факты немногочисленны: сыновми (8, 716, 1761 г.), с пятью тысячьми пехоты (6, 242, 1758 г.). Некоторые примеры обусловлены у Ломоносова метрикой стиха, см., например, удачьми (8, 37, 1741 г.).
К IV склонению Ломоносов относит существительные мать, дочь, осложняющиеся при склонении суффиксом -ер-, выделяя их в особый параграф (§ 209). Черновые материалы отражают значительный интерес автора к склонению этих существительных (7, 616130, 632277, 636327, 642378, 674493, 676624, 729809). Повсюду форма родительного падежа в отличие от старого языка (матере) дается по образцу существительных женского рода мягкого различия — матери. Форма винительного падежа, встретившаяся в «Материалах» один раз, дана с осложнением
- 105 -
основы суффиксом -ер-: матерь (7, 616130), как в старом языке. Неоднократно возвращаясь в «Материалах» к склонению существительных мать и дочь, Ломоносов делает заметку: «Мать и дочь heteroclita [разносклоняемые] неправильные» (7, 642378). Осложнение их суффиксом -ер- в падежных формах не давало возможности автору «Материалов» твердо отнести эти существительные к склонению существительных женского рода на -ь. В литературной практике Ломоносова, как и других писателей XVIII в., часто встречается церковнославянская форма мати в качестве именительного и звательного падежей (8, 148, 1746 г.; 7, 145, 212, 1747 г.; 8, 250, 1749 г.).
Акад. С. П. Обнорский рассматривает эти явления «как дань писателей церковно-славянской стихии».151
Словообразование имен существительных
Как в рукописных «Материалах», так и в «Грамматике» Ломоносов проявил интерес к вопросам словообразования. На основании длительных наблюдений над фактами языка он сделал целый ряд правильных и тонких замечаний о составе слова и образовании имен существительных и глаголов. Следует отметить, однако, что теоретические обобщения ученого относительно состава слова не отличались четкостью: как особая морфема правильно выделялась лишь приставка, обозначаемая в «Грамматике» то как предлог, то как «слитный предлог» (т. е. приставка в нашем современном понимании слова), то как «раздельный» предлог (т. е. предлог в нашем современном понимании); суффикс как отдельная структурная часть слова не различался. Термином «окончание» обозначалась не конечная, изменяющаяся по падежам морфема, а конец слова, заключающий в себе иногда суффикс, иногда флексию, иногда суффикс и флексию или просто конечный звук, не представляющий собою структурной части слова.
По широте охвата лексических фактов языка и их систематизации в связи со словообразованием рукописные материалы имеют некоторые преимущества перед «Грамматикой». Среди рукописных материалов встречаются примеры, которые могли бы явиться иллюстрацией обобщений об образовании существительных различными способами. Наиболее многочисленны из них примеры суффиксального словообразования; примеры словосложения, в состав которых Ломоносов включал также приставочные и приставочно-суффиксальные образования, менее многочисленны, но тщательно подобраны: «Смотри сложение: 1. толсто-брюхой, 2. водолазъ, верьхоглядъ, дровосѣкъ, краснопѣвъ, водопой, водолазъ, кровососъ, молокососъ, людоѣдъ,
- 106 -
самолюбъ, самохвалъ, самострѣлъ, самовластіе, чистоплюй, вертопрахъ, воротоглазъ, вертоголовъ, трясоголовъ, подзатыльникъ, <подстулье> самозванецъ. Подковъ, подобразникъ» (7, 621); «водолей, мукосѣй, бородобрѣй» (7, 626); «идолопоклонство» (7, 618), «чародѣйст[в]о, чародѣяніе, чернокнижіе» (7, 624). Наряду с существительными в списке встречаются и прилагательные, образованные тем же способом основосложения.
Однако, несмотря на наличие подобранных материалов, способ словосложения не был разработан в «Грамматике». Иначе обстояло дело с рукописными материалами, относящимися к теме о наиболее распространенном морфологическом способе образования существительных — способе суффиксации: все они были использованы автором «Грамматики» для написания соответствующих ее разделов.
Материалы эти весьма разнообразны по содержанию: помимо списков существительных с суффиксами, в черновом виде сохранилась незаконченная глава, название которой варьировалось — первоначальное, более узкое «О произведеніи женскихъ существительныхъ отъ мужескихъ существительныхъ же» (7, 649); более позднее — обобщенное: «О произведеніи существительныхъ отъ существительныхъ же» (7, 649).
В соответствии с первоначальным названием в черновом варианте главы показано образование имен существительных, обозначающих лиц женского пола, от соотносительных с ними названий лиц мужского пола посредством суффиксов. Отдельные правила этого отрывка согласуются с §§ 239—243 «Грамматики». Судя по записи: «Существительныя отъ существительныхъ <треми образы> троякаго рода происходятъ: 1) женскія отъ мужескихъ; 2) отечественныя; 3) увеличительныя и умалительныя» (7, 651438) — автор предполагал осветить тот же круг вопросов, который был разработан в окончательном тексте «Грамматики» (§§ 227—248 и 255—256) в двух главах: «О произвождении притяжательных отечественных и отеческих имен и женских от мужских» и «О именах увеличительных и умалительных».
Рукописные материалы позволяют проследить, каким путем автор «Грамматики» шел к установлению закономерностей словообразования существительных.
Первоначально появляется список существительных женского рода, произведенных от существительных мужского рода, с обозначением против некоторых из них конечной согласной суффикса -к-, -х-, -ц-, -щ- или всего суффикса, например: «агница — ц, батрачиха — х, бусорманка — к, гетманша — ш» и т. д. В список включены также названия животных, родовые различия которых выражены однокоренными словами, например голубка, львица, медведица, или различными, например
- 107 -
боровъ, свинья; конь, кобыла. Всего в списке насчитывается 63 слова.
В результате просмотра списка появляются ненумерованные и нумерованные записи существительных с различными суффиксами, например: «Королева, госпожа <хвастунья>, хозяйка, львица, повариха, богиня, хвастунья, графиня, баронесса» (7, 644409, ср. 641343, 673478).
Следующий этап — группировка собранных материалов, разбивка их по значению. Точка зрения автора при этом устанавливается не сразу; например, в одной из записей предполагалось, по-видимому, разделить существительные «1. Женск[ие] отъ муж[еских]» на 4 группы:
«1. Пасынокъ, падчерица; племянники, племянницы.
2. Царь, царица; князь, княгиня; бояринъ; дядя, дѣдъ; попъ, протопопъ, игуменъ.
3. Враль, лья; хвастунъ, нья.
4. Королева, госпожа, хозяйка, львица, повариха, богиня, графиня, баронесса».
Далее выделены предполагавшиеся значения групп (не в последовательном порядке): «Чины, родство, мастерства. Качества» (7, 646424).
Дальнейший этап работы посвящен формулировке правил, охватывающих те или иные явления суффиксального словообразования существительных женского рода.
В черновом наброске главы Ломоносов дает правила об образовании существительных женского рода, соотносительных с существительными мужского рода, которые обозначают «чины, <искуство> мастерство, сродство и склонности»: «кончащіяся на икъ, въ женскомъ къ перемѣняютъ на ца» (7, 649). Правило сопровождено рядом иллюстраций, среди которых встречаются существительные женского рода с суффиксом -ниц-а, соотносительные с названиями лиц мужского пола на -ник (начальникъ, начальница), и существительные женского рода с суффиксом -шиц-а (равное суффиксу современного русского языка на -щиц-а), соотносительные с названиями лиц мужского пола с суффиксом -шик (современное -щик — прапоршикъ, прапоршица). В числе исключений из правила приведены: «мужикъ, въ женскомъ баба, старикъ, старуха» (7, 650).
Далее выделены существительные женского рода «на -ица», соотносительные с названиями лиц мужского пола на -ец и имеющие то же значение: «молодецъ, ица» (7, 650), и, с другой стороны, существительные женского рода «на чиха», обозначающие, что «она только жена его, а сама того жъ знаменованія себѣ невключаетъ: «кузнецъ, ечиха» (7, 650), при этом Ломоносов отмечает, что «сіе окончаніе (речь идет о «чиха», — В. М.) употребительно больше въ нижнего состоянія людяхъ».
- 108 -
Выделены существительные женского рода на -ья, обозначающие «склонности и страсти», и соотносительные с существительными мужского рода «на унъ и ль: плясунъ, плясунья; враль, лья».
Существительные женского рода с другими суффиксами, являющиеся названиями «знатныхъ чиновъ, ближнихъ родственниковъ», согласно заключению Ломоносова, большей частью «правиламъ не подвержены» (7, 650). В число исключений введены существительные женского рода с такими непродуктивными суффиксами, как -есс-а (баронесса), -ын-я (-ин-я) (боярыня, княгиня), -ш-а (воеводша), и существительные, образующие мужской и женский род от разных основ (дѣдъ, бабка; дядя, тетка) (7, 650—651).
Анализ рукописных записей, относящихся к теме словообразования, свидетельствует об исключительной наблюдательности ученого, который смог выделить наиболее продуктивные способы словообразования, определить основные их правила и обратить внимание на стилистическое употребление некоторых суффиксальных образований. Конкретное рассмотрение рукописных записей подтверждает высказанное нами выше положение о том, что Ломоносов, к сожалению, не выделял суффикс как отдельную словообразовательную морфему, что сказалось на отсутствии достаточной четкости формулировок; например, как равноправные рассматриваются существительные с разными суффиксами, потому что они оканчиваются «на икъ» и «въ женскомъ къ перемѣняютъ на ца»: начальникъ, начальница и рассказшикъ, шица.
Собранные материалы охватывали бо́льший круг вопросов, чем это нашло отражение в обобщениях (не были использованы, например, материалы о словообразовании названий животных).
Рассматривавшийся нами первоначальный набросок главы об образовании существительных женского рода от существительных мужского рода был значительно переработан автором «Грамматики» в §§ 239—243. Различные исключения из правил, сосредоточенные в рукописном отрывке в одном месте, были разбиты по параграфам. При словообразовании существительных было учтено их происхождение, вследствие чего некоторые слова с одним и тем же суффиксом попали в разные рубрики, например: существительное воевода в § 240, где говорится, что «имена, значащие чины российские, в женском кончатся на ца», попало в число исключений, в то время как в следующем параграфе о словах с тем же суффиксом — гофмейстерша, брегадирша, капитанша — говорится как о закономерном явлении: «Иностранные имена, чины значащие, кончатся в женском на ша».
Попытка положить в основу словообразования существительных семантический принцип не увенчалась успехом.
- 109 -
Отрицательно сказалось отсутствие четкого представления структуры слова, в частности, невыделение суффикса как особой структурной единицы слова. Некоторые формулировки в «Грамматике» не улучшились, и количество исключений из правил в целом не уменьшилось.
Переработка рукописной главы привела также и к некоторым положительным моментам. Так, например, правило § 242 приобрело исключительную лаконичность и меткость выражений при определении семантики словообразования, что особенно заметно при сопоставлении его с рукописной формулировкой: и в рукописных материалах и в «Грамматике» говорится, что имена существительные, обозначающие «мастерство», «кончатся на ца», и далее:
Рукопись
Грамматика
«...но когда только значитъ, что она только жена его, а <не> сама того жъ знаменованія себѣ невключаетъ, тогда <е>ц превращать должно въ чиха: кузнечиха» и др. (7, 650, п. 3).
«...ежели ж просто значат жену мастерового человека, кончатся по большой части на иха: кузнечиха» и др. (§ 242).
Существительные, обозначающие «жену мастерового», автор «Грамматики» тонко отделяет от существительных «на ха», которые, по его меткому выражению, «унизительное знаменование имеют и происходят по большой части от посмеятельных прозвищей: чесночиха, костылиха, волчиха, болваниха» (§ 243).
В главу были включены опущенные в незаконченном рукописном отрывке образования названий животных женского пола от соответствующих названий животных мужского пола и от существительных с другой основой (§ 244).
Незаконченная рукописная глава содержит интересные замечания об образовании «отечественных» существительных, т. е. названий лиц по отчеству. Только здесь встречаем употребляемые Ломоносовым термины «имя собственное» и «имя нарицательное», отсутствующие в «Грамматике». «Отечественныя мужескія на <чъ> вичъ, женскія на вна и на <шня> шна», названные производными именами, автор справедливо образует «отъ именъ собственныхъ» (7, 651439), в отличие от «Грамматики», где подобные образования произведены от притяжательных на -ов и -ев (§ 229).
Ломоносов подметил, что некоторые «нарицательныя имена, которыя какъ прозвище мущинамъ даются», «за собственныя почитаться должны». От них возможны образования женского рода, при этом, метко замечает он, что те и другие обозначают «больше презрѣніе и употребляются въ народномъ просторѣчіи: Гудокъ, Гудковичъ, Гудковна» (7, 651440). Не исключена
- 110 -
возможность, что данное положение не было введено в «Грамматику» как не относящееся к литературному языку.
К числу «отечественных» как в рукописи, так и в «Грамматике» отнесены производные существительные царевичъ, царевна (в рукописных материалах приведен ряд примеров). Разница состоит лишь в том, что в рукописной главе они названы нарицательными именами в отличие от собственных, в «Грамматике» же они стоят в одном ряду с названиями лиц по отчеству, т. е. с собственными именами.
Сопоставление обобщений рукописной главы об «отечественных именах» с соответствующими параграфами «Грамматики» позволяет сделать предпочтение содержанию первых перед вторыми.
Теоретические положения рукописной главы полностью не сохранились: они обрываются на вопросе об употреблении некоторых нарицательных имен в значении собственных. В связи с этим при последующем изложении темы о суффиксальном словообразовании существительных будет использован лишь фактический материал, представленный в рукописи достаточно обильно.
Как показывают §§ 231—237, к числу «отечественных» существительных автор «Грамматики» относил «родину значащие имена», т. е. производные существительные, образованные посредством суффиксов от основ существительных — названий стран, городов или местностей и обозначающие название лица по принадлежности к стране, городу или местности.
В рукописных материалах приведен список существительных — названий лиц по принадлежности к тому или иному городу или местности (Москвитинъ, Москвичъ, Дмитровецъ, Серпуховецъ и т. д., всего 46 производных существительных — 7, 638), большая часть которых имеет в своей основе суффиксы -ец или -анин (-янин); с суффиксом -итин встретились лишь два существительных (Москвитинъ, Костромитинъ), с -ич — одно (Москвичъ), с -як — одно (Тулякъ), с -ан — одно (Ваганъ) и с -енин — одно (Вологженинъ).
Некоторые существительные даны с двумя суффиксами (Москвитинъ, Москвичъ; Ярославецъ, лянинъ; Ваганъ, жанинъ). В конце списка приведены существительные — названия городов и мест, в параллель которым не приписаны производные существительные, по-видимому, в связи с их неизвестностью.
Обработав эти материалы, Ломоносов установил некоторые закономерности словообразования существительных — названий лиц по их принадлежности к тому или иному городу или месту. Он выделил отдельные продуктивные суффиксы, установив, что «родину значащие имена по большой части
- 111 -
кончатся на ец» (§ 231). Этот суффикс и сейчас является продуктивным.
В §§ 232—233 и 235 к типу продуктивных словообразований отнесены «отечественные» «на инъ» — суффикс -итин, а также -анин (-янин): Москва, Москвитинъ; Кострома, Костромитинъ; Вологда, Вологжанинъ и др.
По словам Ломоносова, Москва, Москвитинъ и Москвичь; Кострома, Костромитинъ и Костромичъ; Холмогоры, Холмогорецъ и Холмогоръ; Вага, Важенинъ и Ваганъ, «в отечественных избыточествуют» (§ 235). В настоящее время существительные с суффиксом -итин малопродуктивны, а слова Москвитинъ, Костромитинъ, Тферитинъ вовсе не употребляются. Образования с суффиксом -анин (-янин) и сейчас являются продуктивными.
На образовании существительных с малопродуктивными суффиксами -ан и -як, встретившимися в рукописных материалах, автор «Грамматики» не останавливается.
В рукописных материалах сохранился список названий лиц по их происхождению из страны, города, места или по принадлежности их к какой-нибудь национальности, образованных от основ существительных, обозначающих страну, город, место: Португалія — ецъ, Ишпанія — ецъ, Франція — узъ и т. д., всего 33 существительных — 7, 640341. Здесь встречаются существительные с различными суффиксами: -ец — ишпанецъ, сардинецъ, голландецъ; -анец (-янец) — перуанецъ, хиліянецъ; -итанец — неаполитанецъ; -ин — татаринъ, сиринъ; -янин — персіянинъ, египтянинъ; -як — корелякъ и др. и целый ряд существительных без суффиксов (шведъ, якутъ, грекъ).
На основании наблюдения над подобными образованиями Ломоносов устанавливает типы наиболее продуктивных образований — на -ец и на -ин — § 237 (здесь, как и повсюду, он не выделяет суффикс, как отдельную структурную единицу слова, а лишь указывает конец слова, который представляет собою для одних слов суффикс, для других — часть суффикса).
Подводя итог раздела об отечественных именах и скромно оценивая свой труд в установлении правил об образовании «отечественных» существительных (§ 238), автор «Грамматики» указывает на многообразие этих способов и предлагает следовать «общему всех учителю — повседневному употреблению».
В рукописных материалах и «Грамматике» Ломоносов уделил внимание также суффиксальному образованию существительных, выражающих эмоциальную окраску. Теоретические обобщения по этому вопросу в рукописи не сохранились, лексические материалы немногочисленны: список уменьшительно-ласкательных
- 112 -
существительных среднего рода с суффиксом -ц-о, -ик-о:
личико
ситцо
винцо
жальцо
мясцо
деревцословцо
сельцо
колцо
бердцо
блюдцо
(7, 679555, 557).
и существительные со значением увеличительности: бычища, становище, становища, у, емъ (7, 637337). В «Грамматике» (§§ 246—248) правильно отмечены основные продуктивные образования со значением уменьшительности-ласкательности и пренебрежительности, презрительности (по терминологии Ломоносова, «ласкательные» и «презрительные» имена называются «умалительными» — § 247), а также со значением увеличительности. За исключением некоторых, они совпадают с образованиями современного литературного языка. Упомянутые в §§ 140 и 246 «увеличительные» имена «на инище» (столинище, доминище, ручинище), обозначающие «вещь грубую», ни в сочинениях самого автора «Грамматики», ни в сочинениях других авторов XVIII в. не встречаются.
Образования с суффиксом -ищ-е, имеющие оттенок увеличительности, и с суффиксом -енц-о, имеющие оттенок пренебрежительности, сохраняют род существительного, от которого они образовались, и в сочетании с прилагательными, согласно утверждению Ломоносова, употребляются в среднем роде: великое домище, дурное бабище (§ 140); дряхлое стариченцо; старое бабенцо (§ 248). Эти грамматические формы проникли в «Российскую грамматику» под влиянием «живой северно-русской стихии». По словам акад. С. П. Обнорского, «черты, которые должны были восприниматься как более или менее резкие местные, областные особенности, не могли ассимилироваться в общем литературном употреблении». К числу типично севернорусских форм могут быть отнесены вышеупомянутые образования увеличительных и «уничижительных» существительных.152
Акад. С. П. Обнорский отмечает, что употребление увеличительных существительных с суффиксом -ищ-е как имен среднего рода, вероятно, под влиянием Ломоносова «было даже нормировано для литературного языка в известной грамматике (изд. 1780 г.) А. Барсова, рекомендовавшего говорить большое столище, страшное мужичище, толстое ручище, ужасное силище».153
- 113 -
Однако эти образования, так же как образования с оттенком презрительности типа наша скатертишко (§ 248), являющиеся, по определению А. Грандилевского, «провинциализмами из области грамматических форм»,154 не стали нормой современного русского литературного языка.
Анализ рукописных материалов, относящихся к теме словообразования существительных, и сопоставление их с «Грамматикой» показывают живой интерес ученого к этой теме. Ломоносов заложил основы учения о словообразовании, уделив большое внимание наиболее распространенному типу морфологического словообразования посредством суффиксов. Он сделал ряд правильных наблюдений, установив наиболее продуктивные типы словообразования.
Несмотря на то, что Ломоносов не создал систематического учения о структуре слова и учения о словообразовании (что невозможно было в то время), своими ценными замечаниями о словопроизводстве и своей литературной практикой, в которой встречается многообразное количество суффиксальных образований, он значительно содействовал пробуждению интереса к словообразованию у последующих грамматистов.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
В отличие от грамматической категории имени существительного категория имени прилагательного представлена в «Материалах к „Российской грамматике“» беднее: изредка встречающиеся теоретические обобщения лишь намечены, варианты отдельных параграфов и глав отсутствуют. Тем не менее анализ предварительной работы автора «Грамматики», пусть отражающей лишь некоторые вопросы, представляет собою известный интерес, потому что позволяет определить, какие сомнения возникали на пути ученого и как он пытался разрешить их. Целесообразность привлечения черновых материалов объясняется еще и тем, что отдельные грамматические вопросы были затронуты и получили отражение лишь в них.
Некоторые пробелы черновиков, относящихся к категории прилагательных, восполняются теоретической разработкой этих вопросов в работе Ломоносова «Примечания на предложение о множественном окончении прилагательных имен», написанной в дограмматический период (1746).
- 114 -
Адодуров вслед за Смотрицким рекомендовал для именительного падежа прилагательных мужского рода только церковнославянскую флексию -ый (-ий): святый, злый, высокій, светлый, полный, подданный, пригожій, нищій, добрый, хорошій.155
Ломоносов еще в дограмматический период различал двоякого рода флексии: -ый (-ий) и -ой (-ей), причем обосновывал их следующим образом: «По-славенски единственные прилагательные мужеские именительные падежи кончатся на -ый и ій — богатый, старшій, сіний, а по-великороссийски кончатся на ой и ей — богатой, старшей, синей».156 Те же варианты флексий встречаются и в «Материалах»: ветхій, старинный, древній (7, 620) и бѣлой (7, 597), большой (7, 612, 642, 675), сладкой, горькой, кислой и т. д. (7, 603), прошлогодной, новоприсланной, чернопестрой, бѣлобокой, горбоносой, широколицой, черноглазой (7, 611—61293). Флексии -ый, -ой, -ей приведены и в § 161 «Грамматики».
В своей литературной практике, в частности в художественных произведениях, Ломоносов допускал значительные отклонения от рекомендованных им флексий в «Примечаниях на предложение о множественном окончении прилагательных имен», «Материалах» и «Грамматике» и от теоретических разъяснений об употреблении той или иной флексии, приведенных в первой из названных работ: он широко вводил флексию -ой (-ей) даже в произведения высокого стиля.157
В. И. Чернышев справедливо отмечал, что Ломоносов «сумел при установлении форм русской грамматики охранить русский язык от включения в него славянщины и шел в этом случае даже впереди филологов дальнейшего времени, например, он устанавливал неударное окончание в прилагательных на -ой, -ей в простых стилях речи, чем так возмущался грамматически необразованный Сумароков».158
В «Материалах к „Российской грамматике“» отсутствуют указания на флексии именительного падежа женского и среднего родов. В упоминавшейся дограмматической работе Ломоносов отмечает как исключение из правила прилагательное божей с флексиями -ья и -ье в женском и среднем роде, которые не попали в парадигму § 161. Согласно первоначальному наброску, в «Примечаниях...» Ломоносов предполагал подчеркнуть, что «множество... правильных прилагательных не могут преодолеть употребления и ему приказать», чтобы по такому же образцу склонялись и так называемые «неправильные прилагательные».
- 115 -
Рассуждение о необходимости считаться с установившимся употреблением соответствует всей системе грамматического мышления ученого, тем не менее это положение было тщательно вычеркнуто им159 и позднее ни в «Материалах», ни в самой «Российской грамматике» не встретилось. Деление прилагательных на «правильные» и «неправильные» (в основу чего были положены флексии), намеченное в дограмматический период, также нигде впоследствии не отмечалось.
Заслуживает внимания родительный падеж единственного числа прилагательных мужского и среднего рода. В «Материалах к „Российской грамматике“» сохранилась запись, свидетельствующая о стремлении автора преодолеть традиционное употребление флексии -аго и ввести формы из живой разговорной речи. Подчеркивая важность высказываемого положения знаком NB, он пишет: «Родительной падежъ прилагательныхъ кончится въ россійскомъ языкѣ всегда на ого, кромѣ въ писмѣ святаго, славнаго, великаго» (7, 635303). Возвращаясь к этой мысли, Ломоносов сопоставляет произношение прилагательных мужского рода с ударяемой флексией -ый (святый, златый), употребляющихся в основном в книжных текстах, с теми же прилагательными, взятыми с другой флексией: свята́го, злата́го, честна́го; святово, великово, золотово (7, 635306). Написание прилагательных с флексией -ова он сопровождает пометой: «NB трудно», свидетельствуя, что употребление подобных форм, свойственных живой разговорной речи, неприемлемо в книжных текстах, тем более от прилагательных с отвлеченной семантикой.
Таким образом, уже в раннюю пору подготовки материалов для «Российской грамматики» Ломоносов намечал дифференцированное употребление флексий прилагательных в зависимости от стиля речи и рекомендовал флексию -ово как равноправную флексии -аго. Следует отметить, что влияние живой разговорной речи испытал на себе и Адодуров, допускавший употребление флексии -ово в родительном падеже («Gen. добраго oder доброво»).160
Выдвинутое в «Материалах» положение о необходимости дифференциации флексий прилагательных нашло некоторый отзвук в § 102 «Грамматики»: «В родительных падежах, кончащихся на го, в простых российских словах и в разговорах произносят, как в: моего, сильнаго говорят моево, сильнаво». Хотя в § 161 «Грамматики» Ломоносов называет три флексии прилагательных родительного падежа единственного числа мужского и среднего рода — -аго, -ого, -яго, в литературной практике
- 116 -
от прилагательных, оканчивающихся на ударные -ой, -ей, он употребляет иногда флексию -ово, например: «Уже далече зрю в курении и мраке Нагово тела вид, не явственной в призраке» (8, 732):
Для родительного падежа прилагательных женского рода Адодуров рекомендует церковнославянскую флексию -ыя, -ия.
В «Материалах» Ломоносов не называет флексию родительного падежа женского рода. В «Российской грамматике» в отличие от Адодурова он указывает два варианта флексий: -ыя (-ия) и -ой (-ей), не говоря о стилистическом разграничении их употребления. В своей литературной практике Ломоносов стоит на демократических позициях, широко вводя флексию -ой (-ей) даже в произведения высокого стиля.
Значительного внимания заслуживает вопрос о флексиях именительного падежа множественного числа прилагательных всех родов.
В отличие от церковнославянской грамматики, в которой были приняты флексии -и для мужского рода, -я — для женского и среднего, Адодуров рекомендовал флексии -е для мужского, -я для женского и среднего родов.161 В полном соответствии со взглядами Адодурова на этот вопрос находились орфографические правила 1733 г., введенные в практику Академической типографии. Не исключена возможность, как это отмечалось ранее, что автором упомянутых правил был именно Адодуров, уделявший в 1730-е годы большое внимание вопросам разработки грамматического строя русского языка.
В «Материалах к „Российской грамматике“» вопрос о флексиях именительного падежа множественного числа не получил никакого отражения. Последнее объясняется, возможно, тем, что Ломоносов, одержавший победу над В. К. Тредиаковским в остром грамматическом споре по этому вопросу, подробно осветил его в упоминавшемся дограмматическом труде «Примечания на предложение о множественном окончении прилагательных имен».162
Взгляды Тредиаковского и Ломоносова на родовые окончания прилагательных резко разошлись. Непосредственным поводом к возникновению дискуссии по этому вопросу послужило поручение Академического собрания, данное Тредиаковскому, пересмотреть выпущенное в 1738 г. учебное пособие для гимназии («Colloquia scholastica») [«Школьные разговоры»],163 явившееся переработкой книги И. Ланге.164
- 117 -
Тредиаковский произвел орфографическую правку «Школьных разговоров», восстав главным образом против введенных в практику Академической типографии в 1733 г. упомянутых окончаний для полных имен прилагательных именительного падежа множественного числа: для мужского рода -е, для женского и среднего -я. Придерживаясь церковнославянской традиции и отступая от нее только для женского рода, он предлагал со своей стороны оканчивать прилагательные в мужском роде на -и, в женском на -е, в среднем на -я.165 Взгляды Тредиаковского были изложены в его диссертации на латинском языке De plurali nominum adjectivorum integrorum Russica lingua scribendorum terminatione [О том, как писать по-русски окончания имен прилагательных во множественном числе].166
В упоминавшемся корректурном экземпляре «Школьных разговоров» Тредиаковский, в соответствии со своими взглядами на окончания имен прилагательных мужского рода, исправил «многие способы» на «многии способы» (стр. 40), «богатые» (м. р.) на «богатыи» (стр. 72), «другие честные гости» на «другии честныи гости» (стр. 78)167 и пр.
Ломоносов выразил несогласие со взглядами Тредиаковского сначала устно на заседании Академического собрания,168 а после ознакомления с вышеупомянутой диссертацией Тредиаковского De plurali nominum adjectivorum iltegrorum, переведенной автором на русский язык, — письменно в «Примечаниях на предложение о множественном окончении прилагательных имен».
Здесь Ломоносов доказывает, что поднятый Тредиаковским вопрос о родовых окончаниях имен прилагательных во множественном числе не может быть разрешен ни посредством проведения аналогий с церковнославянским языком, на что особенно настойчиво пытался опереться Тредиаковский («славенский или церковный язык» «нашему славенороссийскому или гражданскому и источник, и отец, и точное подобие»), ни посредством нахождения сходства с «малороссийским диалектом» и другими, «от славенского» происшедшими;169 нельзя также разрешить этот вопрос ссылками на окончания местоимений, имен существительных и усеченных прилагательных во множественном числе.
Вопрос о родовых окончаниях имен прилагательных во множественном числе, по мнению Ломоносова, невозможно обосновать теми или иными теоретическими доводами. «Как
- 118 -
во всей грамматике, так и в сем случае одному употреблению повиноваться должно»,170 заявлял Ломоносов. И он предлагал следовать за Академической типографией, опирающейся на правила 1733 г., согласно которым прилагательные мужского рода оканчиваются на -е, женского и среднего на -я. Ломоносов замечал при этом, что такое различие окончаний в зависимости от рода «хотя довольного основания не имеет, однако свойству нынешнего великороссийского языка не противно». Предложенное же Тредиаковским «в сих пунктах мужеское прилагательных множественных на и употреблению великороссийского языка противно».171
В дальнейшем Ломоносов предполагал руководствоваться в прозе правилами 1733 г., внедренными в практику Академической типографией, «а в стихах е и я во всех родах класть без разбору, смотря как потребует оных сложение».172 Он подчеркивал, что «в произношении прилагательных множественного числа в именительном падеже всяк у всех великороссиян, когда они громко говорят, и у всех увидит, которые, не думая о правилах, пишут, что оные кончатся на е или на я во всех родах без разбору, но больше на е, нежели на я, а на и никогда».173
Несмотря на обоснованность точки зрения Ломоносова, разделившего взгляд автора правил 1733 г., Тредиаковский продолжал «упорствовать», что проявилось и в его литературной практике и в новом, еще более пространном, чем первое, рассуждении «Об окончании прилагательных имен целых, мужеского рода, множественного числа, и о двух некоторых разностях, до правописания принадлежащих» (1755).174 Здесь он еще более настойчиво пытался утвердить окончание -ии для прилагательных, подчеркивая с еще большей убежденностью зависимость грамматического строя русского языка от церковнославянского. Он писал, что «наш язык сходственнейший всех прочих с славенским», он «первородный его сын и наследник».175 Говоря об употреблении, он предлагал «следовать тому, что или большая или просвещеннейшая часть людей употребляет. Чрез большую часть не разумеются поселяне, но учтивыи граждане, а чрез просвещеннейшую не простаки, но ученыи люди, чрез обе ж сии части не разные две, но одна и та ж по важности удостоверения, ибо надежнее верить в чистоте языка
- 119 -
чес[т]ным и просвещенным мужам, нежели безрассудной черни» (разрядка наша, — В. М.).176
В «Российской грамматике» Ломоносов печатно дал отповедь и этому рассуждению Тредиаковского, подчеркнув два положения: 1) о независимости грамматического строя русского языка от церковнославянского и 2) о народной основе русского литературного языка. В § 119, направленном против упорствующего Тредиаковского, он заявлял, что «в окончании прилагательных множественного числа мужеского рода вместо е или я некоторые ставят везде и, что употреблению и слуху весьма противно. Употребление букв е и я в прилагательных множественного числа всех родов в великороссийском языке от начала исторических и других писателей московских, а особливо от времен великого государя царя Иоанна Васильевича и до нынешнего времени непрерывно было... и ныне от знающих писателей содержится».
Ломоносов последовательно отстаивал мнение об отсутствии форм рода во множественном числе в своей «Российской грамматике», где он твердо заявил: «Е и я нередко заедино употребляются, особливо во множественном числе прилагательных пишут: святые и святыя. Сие различие букв е и я в родах имен прилагательных никакого разделения чувствительно не производит, следовательно, обоих букв е и я во всех родах употребление позволяется, хотя мне и кажется, что е приличнее в мужеских, а я в женских и средних» (§ 116). Это мнение он подтвердил и всей своей последующей литературной практикой.
Подготовительные материалы к «Российской грамматике» отражают целеустремленное внимание Ломоносова к ряду вопросов, связанных с развитием в XVIII в. категории качества. Некоторые из вопросов в предшествующих грамматиках или совсем не поднимались, или не получали должного освещения. Заслуживает внимания попытка Ломоносова рассмотреть вопрос о делении прилагательных в зависимости от характера обозначаемого ими признака.
В «Материалах» содержится попытка отделить прилагательные, названные впоследствии качественными (см., например, запись на стр. 603, т. 7, сопровожденную знаком NB: «Вкусы. Сладкой. Горькой. Кислой. Прикрой. Пряной. Солоной. Тупой») от прилагательных, названных впоследствии относительными (см., например, запись на стр. 641345: «Матеріальныя усѣченія не терпятъ...»). Выделена также группа притяжательных прилагательных (7, 637—638338).
- 120 -
Правильно наметив основные группы прилагательных, ученый вполне закономерно ставит вопрос об образовании степеней сравнения прилагательных, отделяя их от форм субъективной оценки. В «Материалах к „Российской грамматике“» он выписывает прилагательные с суффиксами, придающими оттенок уменьшительности (7, 61295, 642371), и сравнительную степень. Кое-где проскальзывает еще сомнение, что означает та или иная форма — уменьшительность или сравнение, например: «NB. Потѣмнѣе diminut[ivum] [умалительное]» (7, 677547).
В «Российской грамматике» автор более четко отделяет прилагательные с оттенком уменьшительности и увеличительности, выписывая ряд прилагательных с суффиксом -оньк, -еньк, -оват, -еват, -охонек, -ехонек и др. (§§ 250—252), от форм прилагательных сравнительной степени.
Отделение категории субъективной оценки прилагательных от степеней сравнения, намеченное в «Материалах» и проведенное в «Грамматике», было оценено последующими грамматистами как положительное явление. Акад. В. В. Виноградов подчеркивает, что «русская грамматика к середине XIX в. в вопросе о формах субъективной оценки вернулась к правильной точке зрения Ломоносова».177
В вопросе образования сравнительной степени Адодуров делает шаг вперед по сравнению со Смотрицким, который ввел формы с суффиксом -ш- типа драгший от драгий, и образует сравнительную степень при помощи суффиксов -ее и -е, причем чередование согласных кое-где отсутствует: онъ умнѣе меня, Петръ богатѣе Ивана, вино дороже пива.178 Примеры образования степеней сравнения в «Материалах» сопровождаются интересными пометами и набросками плана работы, например: «Слабяе для кокофоніи только худо, а не неправильно, такъ же и ясняе» (7, 61191) или «Писать о употребленіи comparativi [сравнительной степени] въ простыхъ разговорахъ и въ писмѣ» (7, 623175). В черновиках есть записи, свидетельствовавшие о том, что автор искал ответы на ряд вопросов, неясно представлявшихся ему в пору собирания материалов, например: «Для чего ширѣ, слабѣе лучше, нежели ширѣе, слабѣ» (7, 611).
В «Материалах к „Российской грамматике“» содержатся многочисленные примеры образования простых форм сравнительной и превосходной степеней (первоначально встречаются одиночные примеры): «Густъ, гуще; пуще; violentius defect [ivum] [неполное]. Сладко, слаше» (7, 612102). «Жи́же, тонѣ (7, 614123). «Гуще, чище, ближе, слабже. Слаше» (7, 642376), потом алфавитные списки кратких прилагательных с приведением
- 121 -
сравнительной степени, написанные рукой помощника Ломоносова (7, 757—759); последние были просмотрены ученым, записавшим на полях некоторые прилагательные в краткой форме и сравнительной степени: тонокъ, тонѣе, благъ, глухъ, глуше, добръ, сухъ, сушее, лихъ, тихъ, плохъ; против форм Добръ, бра, бро, лутче — добрѣе, красенъ; против форм Красенъ, сна, сно, краснѣе и краше — знак NB (7, 757). Ниже алфавитного списка Ломоносов записал ряд прилагательных в тех же формах: Дорогъ, же; широкъ, ширѣе; далекъ, далѣе; высокъ, выше; низокъ, ниже и краткие прилагательные с обозначением одной или двух конечных согласных основы без приведения сравнительной степени: «Бѣлъ, л; бровистъ, ст; рѣчистъ, ст; богатъ, т; бранливъ, в» и т. д., всего 35. Расположение этих форм и обозначение конечной согласной основы свидетельствуют о том, что они предназначались для уяснения вопроса об образовании сравнительной степени.
Значительно меньше примеров превосходной степени: «Драгій, дражайшій, тихій, тишайщій, краткій, кратчайшій; все, пре, самый честный, всепречестный, всепречестнѣшій, великій, малый» (7, 644412).
Все собранные материалы в различной степени были использованы автором «Российской грамматики» при написании §§ 52—53 и 212—226, в которых освещены вопросы о значении степеней сравнения, их образовании и происходящем при этом чередовании согласных, а также о стилистическом употреблении некоторых форм сравнительной и превосходной степеней сравнения.
Правильно показав значение положительной, сравнительной и превосходной степеней сравнения (§ 52—53), Ломоносов приводит способы образования простой и сложной форм сравнительной и превосходной степеней. Сравнительная степень, по мнению автора «Грамматики», образуется при помощи следующих суффиксов: 1) -ее или -яе, причем формы с -ее «равное или и лучшее достоинство имеют» (§ 218). По сравнению с «Материалами» («Слабяе для кокофонии только худо, а не неправильно»), мнение о предпочтительности суффикса -ее перед -яе выражено здесь более решительно и противостоит мнению Сумарокова. Следует отметить, что в своей литературной практике, отдавая дань времени, Ломоносов употреблял формы: 1) с тем и другим суффиксом; 2) посредством суффикса -е при чередовании конечной согласной основы (§§ 219—222), причем в числе иллюстраций приведена форма слаще взамен простонародной формы слаше, встретившейся в «Материалах»: «Густъ, гуще; пуще; violentius, defect[ivum] [неполное]. Сладко, слаше» (7, 612102); «Гуще, чище, ближе, слабже. Слаше» (7, 642376) и суше взамен сушее: «сухъ, сушее» (7, 757), и 3) посредством непродуктивного суффикса -ше (§ 223).
- 122 -
Об образовании форм сравнительной степени на -ее, -е, -ше с приставкой по-, вносящей добавочное значение смягчения степени преобладания качества, в «Российской грамматике» не говорится, хотя в «Материалах» эта форма отмечена: «потѣмнѣе diminutivum [умалительное]» (7, 677547). «Немного ниже, пониже, немножко пониже, ниже Comp. [сравнительная] пониже» (7, 641346). Не включена она также и в число форм категории субъективной оценки, обозначающей уменьшительность. По-видимому, этот вопрос еще не совсем отчетливо представлялся и самому автору.
Говоря об образовании форм сравнительной степени, Ломоносов впервые отмечает, что лексическое различие ведет к обособлению грамматическому (§ 225); ср. пометы Ломоносова из «Материалов» «добрѣе, красенъ» к «Добръ, бра, бро, лутче» и «NB» к «Красенъ, сна, сно, краснѣе и краше», сделанные к записям помощника (7, 757).
В определении Ломоносовым превосходной степени отмечены сравнительный и выделительный характер: «Между многими вещьми, одно свойство имеющими, чувствуем и почитаем оное в некоторой из них всех превосходящее, что уже ни едина тем оной сравниться не может» (§ 53; см. также § 215).
В «Грамматике», так же как и в «Материалах», приведены простые и сложные формы превосходной степени (§§ 214—216). Простые формы образуются различными способами от положительной степени: 1) присоединением приставки пре- (§ 53); 2) при помощи суффикса -ейш, а при чередовании согласных звуков корня -айш; 3) при помощи тех же суффиксов в сочетании с приставками пре- и наи-, причем на «шій и без предлога пре больше превосходного, нежели рассудительного, степени силу имеют» (§ 215).
Отмеченные способы образования превосходной степени свойственны и современному русскому языку.
Характерно, что от одного из способов образования превосходной степени при помощи приставок все- плюс пре- (всепречестный, всепречестнѣйшій), упоминавшемся в «Материалах» наряду с другими формами превосходной степени, автор «Российской грамматики» отказался, несмотря на широкое распространение этих форм в официально-канцелярском и церковном языке того времени. Следует отметить, что в заголовках стихотворных произведений и в посвящениях к некоторым прозаическим трудам Ломоносов часто употреблял архаичные формы с префиксом все-. Формы всепречестный, всепречестнѣйшій вошли в грамматику Адодурова наравне с другими формами.179
- 123 -
Два значения, в которых формы превосходной степени употреблялись Ломоносовым и его современниками, — значение предельной степени признака (элятивное значение) и значение суперлатива (superlativus) — сохранились и в современном литературном языке.
Третье значение форм с суффиксами -ейш, -айш, отмеченное Ломоносовым, — значение «рассудительного степени» в современном литературном языке почти исчезло. В XVIII в. это «древнее» значение, которое отличается «резким отпечатком архаичности, устарелости»,180 было очень распространенным.
В «Российской грамматике» Ломоносов отмечал преимущественное употребление форм с -ейш, -айш в «важном и высоком стиле» (§ 215). Это положение является раскрытием записи, оставленной в «Материалах»: «Писать о употребленіи comparativi [сравнительной степени] въ простыхъ разговорахъ и въ писмѣ» (7, 623175).
В результате вдумчивого наблюдения над образованием степеней сравнения Ломоносов приходит к одному из значительных выводов, который он формулирует в § 226: «Прилагательные, от материй происходящие (относительные прилагательные, — В. М.), ни рассудительного, ни превосходного степени не имеют».
В «Российской грамматике» не содержится деления прилагательных в зависимости от характера обозначаемых ими признаков, хотя такое деление, как указывалось выше, и намечалось в «Материалах».
Прилагательные, обозначаемые в современной грамматике термином относительные, именовались в черновике как «материальные» прилагательные. О них говорится там, где речь идет о возможности или невозможности образования кратких прилагательных. Ломоносов употребляет при этом термин «усеченные» прилагательные. На одном из листов рукописи он записывает: «Матеріальныя усѣченія не терпятъ — худо: свинцовъ, золотъ и протч.» (7, 641345).
Наблюдение над тем, что относительные прилагательные, обозначая постоянное свойство предмета, употребляются преимущественно в полной форме, впервые было зафиксировано в «Материалах к „Российской грамматике“». Этому предшествовала длительная работа по собиранию материалов и их изучению (см. следующие записи: «Онъ цвѣтомъ голубъ, худо, но: онъ голубой, ради разности отъ имени птицы голубь. Прилагательныя цѣлыя и усѣченныя» — 7, 60857).
В грамматике Адодурова усеченные прилагательные рассматривались вслед за полными как вторично образованные, причем Адодуров, так же как и Смотрицкий, считал, что усеченное
- 124 -
прилагательное можно образовать от любого полного, например: верхняя — верхня, горная — горна, подданный — поддан, сыновний — сыновенъ, сыновняя — сыновня, сыновнее — сыновне.
Ломоносова очень интересовал вопрос о полных и кратких формах прилагательных, и в «Материалах» он вновь и вновь возвращается к нему: «Въ геометріи должно сказать: этотъ уголъ прямой, а не прямъ. И такъ же — этотъ кафтанъ новой, а не старой. Однако: этотъ кафтанъ еще новъ» (7, 60963), — твердо заявляет исследователь. «Свинцовъ, золотъ не говорять въмѣсто свинцовой, золотой. Однако въ косвенныхъ: имѣетъ золоту шпагу и водянъ, грязенъ» (7, 622—623173). Подчас одни и те же примеры Ломоносов приводит неоднократно, что свидетельствует о его неустанном внимании к интересующему вопросу: «Водянъ, грозенъ, а свинцовъ, золотъ не говорятъ», — повторяет он (7, 675498). «Этот уголъ прямой» (7, 675516). «Узокъ, узка, узко, узки; низокъ, низка, низко, низки; жиренъ, жирна, жирно, жирны; старъ, стара, старо; высокъ, высока, высоко; широкъ, широка, широко» (7, 625198). Список кратких прилагательных, упоминавшийся выше в связи с вопросом о степенях сравнения, приводится на стр. 757—760, т. 7. Он заканчивается интересным замечанием, сопровождающим слово радъ: «caret» [не имеет]. Рассмотрение этого замечания в связи с предшествующими записями кратких прилагательных и сравнительных степеней означает отсутствие возможности образовать сравнительную степень (это слово не имеет также и соответствующей полной формы). Следовательно, Ломоносов отметил своеобразие форм кратких прилагательных, выделяемых в современном литературном языке в категорию состояния.
Скрупулезное перечисление всех черновых записей, относящихся к теме о полных и кратких формах прилагательных, показывает, с каким пристальным вниманием относился автор к этой теме. Очень чутко прислушивался он к живой народной речи, о чем свидетельствует запись «не говорят», сопровождающая некоторые формы. В результате исследования вопроса о полной и краткой форме Ломоносов приходит к двум важным выводам, отмеченным в «Материалах», но не попавшим впоследствии в «Грамматику»: 1) о преимущественном употреблении относительных («материальных», по терминологии Ломоносова) прилагательных в полной форме и 2) об отсутствии у некоторых качественных (у Ломоносова этот термин отсутствует) прилагательных параллельных кратких форм.
Эти выводы не были сформулированы в «Грамматике», вероятно, потому, что автор в силу высокой требовательности к себе не считал их настолько разработанными, чтобы поместить в нормативной грамматике русского языка. Они были освещены последующими русскими грамматистами.
- 125 -
Краткие формы образуются только от качественных прилагательных (но не от всех), не изменяются по падежам и не выступают в синтаксической роли определения в отличие от древнерусского языка, в котором они склонялись и в предложении были определениями.
В эпоху Ломоносова и позднее в поэтическом языке широкое распространение получили так называемые «усеченные» прилагательные, образованные путем отсечения конечного гласного полной формы и употреблявшиеся в стихотворном языке для соблюдения размера стиха. Иногда они отличались от кратких форм ударением (при наличии колебаний) на основе, а не на конце, как в кратких прилагательных.
В поэтической практике Ломоносова тоже наблюдается преимущественное употребление усеченных прилагательных; краткие прилагательные в роли определения довольно редки.181
Вопреки своему собственному наблюдению, идя навстречу требованиям рифмы и ритма стиха, Ломоносов образует усеченные формы и от относительных прилагательных.
В силу тех же требований в стихотворных произведениях Ломоносова встречаются усеченные формы превосходной степени с суффиксами -ейш, -айш: «Умножь твои дражайши лета» (8, 99), «Полки сильнейши гор палящих» (8, 37).
В «Материалах к „Российской грамматике“» Ломоносов приводит большой список кратких прилагательных, образованных от качественных прилагательных, показывая их изменение по родам (7, 757—760); над некоторыми словами поставлены ударения, свидетельствующие о том, что перед нами краткие (а не усеченные) формы прилагательных. На основании наблюдений над краткими формами в §§ 210—211 Ломоносов дает правила их образования.
В соответствии с «Материалами к „Российской грамматике“» (7, 626218, 642359, 675509, 677544) в § 193 Ломоносов показывает, как склоняются «славенские прилагательные усеченные».
В «Материалах» (7, 611, 637—638338), а затем и в «Грамматике» (§§ 227—229) Ломоносов выделяет группу притяжательных прилагательных, образованную от имен существительных, обозначающих одушевленные предметы, при помощи суффиксов -ов (-ев), -ин. В XVIII в. эта группа прилагательных имела более широкое распространение, чем в современном литературном языке, о чем свидетельствует употребление их в одах Ломоносова.182
Совокупное рассмотрение категории имени прилагательного и его грамматических форм в «Материалах» и «Грамматике»
- 126 -
показывает, что по сравнению со своими предшественниками-грамматистами ученый значительно обогатил русскую грамматическую науку о прилагательных: 1) в склонении прилагательных, опираясь иногда на традиционное употребление, введенное практикой академической печати, иногда на живое употребление, он утвердил те формы, которые сохраняются до настоящего времени; по сравнению с Адодуровым, отказавшимся от некоторых архаических форм, он сделал шаг вперед, почти отвергнув употребление форм мужского рода единственного числа типа святый, злый и женского рода родительного падежа на -ыя; 2) утвердил формы сравнительной и превосходной степеней, в том числе более благозвучную форму на -ее (по сравнению с -яе), употребляющиеся по настоящее время; 3) подчеркнул стилистическое разграничение в употреблении форм на -ейш, -айш; 4) наметил деление прилагательных в зависимости от характера обозначаемого признака на качественные и относительные и правильно раскрыл наиболее важные особенности первых: способность к образованию степеней сравнения и кратких форм.
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМАХ ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО
В «Материалах к „Российской грамматике“» находим целый ряд лексических примеров, относящихся к категории имени числительного. Формулировки отдельных правил отсутствуют.
Не рассматривая подробно эту грамматическую категорию, остановимся лишь на том, что, будучи отражено в «Материалах», не освещено или иногда недостаточно освещено в «Грамматике». Отметим также случаи колебаний в выборе той или иной формы, встретившиеся в «Материалах».
1. В «Материалах» зафиксирована одна из особенностей древнерусских количественных числительных от пяти до десяти и образований типа пятнадцать, свидетельствующая об их сходстве с существительными — употребление их в женском роде: «Genera numeralium [Роды числительных]. Ета десять. Наша пать» (очевидно, описка: надо читать пять) — 7, 708802.
В литературной практике Ломоносова встречаются случаи употребления числительных с учетом родового значения (и не только числительных от пяти до десяти), например: «каждую двадцать лет» (10, 145, § 26).
П. Я. Черных отмечает, что «в XVI в. и даже позднее в Москве говорили: та пять деревень сгорѣла, в ту пять ден, в ту шесть лѣт, взяли ту восмь городов, подожди одну пятнадцать ден и т. п.».183
- 127 -
Примеры из сочинений автора «Российской грамматики» свидетельствуют о том, что это явление наблюдалось еще и в XVIII в. Тем не менее Ломоносов не считал нужным вводить его в «Грамматику», так как оно выходило из употребления и могло быть воспринято как архаическое.
2. В «Материалах» отмечены две формы творительного падежа от числительного сорок — «сорокомъ или сорокью»,184 — пишет автор рукописи (7, 636323), что отражает историю происхождения этого слова, которое, как полагают исследователи, «является мужским вариантом слова сорока, производным от которого была сорочка — исподняя рубаха».185
В «Грамматике» закреплена одна древнерусская форма первого склонения мужского рода твердого различия — сорокомъ, употребительная в XVIII в.
3. Ломоносов зафиксировал в «Материалах» остатки форм кратких порядковых числительных, сохранившихся в виде выражений «самъ другъ,... самъ четвертъ, самъ пятъ, самъ шостъ, самъ девятъ, самъ десятъ» (7, 636321), «самъ третей, самъ другъ» (7, 644401).
В «Грамматику» они не были введены как устаревшие.
4. В рукописи неоднократно приводятся древнерусские формы дробного счета, состоящие из существительного пол (т. е. половина) и порядкового краткого числительного, согласованного с определяемым словом, например: «полтора, полтретья, полторы, полтретьи, полуторыхъ, полутретьихъ» (7, 644402), «полторы, полтретьи, полчетверты, полпяты» (7, 636322) и рядом с ними входившие в употребление формы, в которых вместо краткого числительного в косвенных падежах стоит полное: «полтретьяго, полъ четвертаго, полпятаго, полшестаго» (7, 636322).
В «Грамматике» в качестве образца приведено склонение дробного числительного полтора (§ 262), по примеру которого склоняются полтретья, полдесята и пр. (§ 262). Формы полторы, полтретьи, полчетверты, полпяты в «Грамматике» отсутствуют.
Формы дробного счета с кратким порядковым числительным типа полтретья, полчетверта в своих сочинениях употреблял и Ломоносов, поэтому замечание о том, что «в XVII в. они встречались уже значительно реже и вскоре исчезли», не находит подтверждения во времена Ломоносова.186
5. В «Материалах» нашла отражение древняя форма изменения собирательных числительных по родам: «Четверо, четверы», — записывает Ломоносов (7, 642365), образуя форму четверы от мужского рода четверъ (женский род четвера,
- 128 -
средний — четверо). Эту форму встречаем также в одном из поздних сочинений Ломоносова «Рассуждение о большей точности морского пути»: «четверы часы пружинные» (4, 141, 1759 г.).
В дограмматический период Ломоносов употреблял иногда архаическую древнерусскую форму двемя,187 см., например, в «Описании явившияся кометы»: «двемя звездами» (4, 12, 1744 г.). В «Материалах» склонение числительного два отсутствует, в «Грамматике» в качестве нормы творительного падежа приведена форма двумя.
Многие из форм числительных, встретившихся в «Материалах» и в парадигмах «Грамматики», были закреплены литературной практикой ученого и, пройдя испытание временем, прочно вошли в качестве норм современного русского литературного языка. К числу их относятся формы всех количественных числительных, называемых Ломоносовым первообразными, исключая числительные сорок, девяносто, сто и формы собирательных числительных, оба, двое, пятеро и др. Ломоносов отказался от ряда архаических или выходящих из употребления форм и ввел в «Грамматику» лишь те из них, которые прочно вошли или входили в употребление; однако в своей литературной практике под влиянием традиции он сохранил некоторые архаические формы.
—————
- 129 -
ГЛАВА V
РАЗРАБОТКА КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА
Учение о второй знаменательной части речи — глаголе Ломоносов разрабатывает не менее интересно, чем учение о первой знаменательной части речи — существительном. В расположении материала и установлении закономерностей грамматических категорий и форм глагола ученый проявил присущую ему самостоятельность и разработал четвертое наставление «Российской грамматики», над которым он очень много трудился, весьма обстоятельно.
Созданию главы о глаголе предшествовала многолетняя кропотливая работа по собиранию многочисленных материалов и их систематизации. Рукописные записи, относящиеся к теме о глаголе, велики по объему (в целом) и многообразны по содержанию: отдельные грамматические формы перемежаются и уступают место спискам, систематизированным по тому или иному принципу, или формулировкам отдельных грамматических положений и даже целых разделов.
Рассмотрение «Материалов», представляющих собою наглядную картину творческих исканий исследователя, показывает, какую надо было проделывать гигантскую работу и какую проявлять тонкую наблюдательность, чтобы по сырому материалу определить хотя бы основные закономерности и выделить случаи, не подходящие к ним, т. е. исключения.
Ломоносов впервые разрабатывал учение о русском глаголе, если не считать весьма краткого и неполного изложения этой темы Адодуровым, который, по словам Будиловича, «не удовлетворился системою Смотрицкого, но своей не придумал».188
Учение о глаголе М. Смотрицкого находилось под влиянием античной грамматической традиции. Смотрицкий разделял глаголы на личные, безличные и стропотные (как и
- 130 -
в ’Αδελφοτης), понимая под последними неправильные глаголы, и лишаемые, т. е. недостаточные, глаголы. Согласно грамматике Смотрицкого глаголу присущи девять признаков: залог, начертание, вид, число, лицо, наклонение, время, род и спряжение.
Залоги: действительный, страдательный, средний, отложительный и общий.
Начертание: простое (емлю), сложенное (приемлю) и пресложенное (восприемлю).
Наклонения: изъявительное, повелительное, молительное, сослагательное, подчинительное и неопределенное.
Времена: настоящее, преходящее, прошедшее, мимошедшее, непредельное и будущее — заимствованы из греческой грамматики Ласкариса.
Числа: единственное, двойственное и множественное.
Спряжение первое (имеет во 2-м лице единственного числа настоящего времени окончание -еши) и второе (имеет в соответствующей форме окончание -иши).
Смотрицкий подразделяет глаголы на два вида: первообразный, называемый им совершенным, и производный. В последнем виде он тоже проводит деление — на начинательный и учащательный. В этой классификации содержится робкая попытка установить связь между видами глагола и различными формами времени.
Приводимые Смотрицким лексические примеры и грамматические парадигмы спряжения взяты из церковнославянского языка.
В русской грамматике Г. Лудольфа анализ форм русского глагола содержит некоторые изменения по сравнению с формами церковнославянского языка. Лудольф смелее отходит от античной традиции в трактовке этого вопроса. Он исключает из числа залогов Смотрицкого отложительный, как правильно отмечает проф. Б. А. Ларин, «выдуманный по образцу латинских и греческих deponentia»,189 и общий, заимствованный там же, и вводит свойственный русскому языку взаимный залог. Лудольф вносит поправки и в перечисленные Смотрицким наклонения: вместо сослагательного и подчинительного — Subjunctivus [подчинительное], вместо молительного, введенного по примеру греческого оптатива, и повелительного — Imperativus [повелительное].
Из схемы времен Смотрицкого Лудольф оставляет лишь три времени: настоящее, прошедшее, будущее. Лудольф не дает парадигмы двойственного числа, отмечая, что «в обычной русской речи» он «почти не наблюдал употребления двойственного числа».190
- 131 -
Весь лексический материал, использованный Лудольфом для грамматических образцов, взят из русского языка.
Грамматика Лудольфа, как видим, содержит в некоторых случаях более правильный анализ грамматических категорий глагола и, не следуя слепо античной традиции, вернее отражает живые факты русского языка. В этом отношении ее издание заслуживает упоминания «как первый опыт грамматического анализа русского языка».191 Раздел о глаголе изложен очень кратко и элементарно. При образовании глагольных форм встречаются фактические ошибки (например, Лудольф относит к настоящему времени форму здѣлаю и образует будущее время буду здѣлать).
Грамматика предназначалась для иностранцев, предполагавших поехать в Россию.
Ломоносов, по-видимому, не знал «Грамматики» Лудольфа, о чем можно судить по двум признакам: 1) нигде о ней не упоминает, 2) ни в одном пункте «Материалов» и «Российской грамматики» не ощущается ее влияние. К этому следует добавить, что в Россию попало очень мало экземпляров «Грамматики» Лудольфа.
Грамматика Адодурова также содержит очень краткий и неполный анализ грамматических категорий глагола (весь раздел о глаголе изложен на 7 страницах).
Грамматическое учение о глаголе Адодуров строит на основе лексических примеров русского языка. Он оставляет три времени — настоящее, прошедшее и будущее, отмечая отсутствие в русском языке Imperfect’а и Plusquamperfect’а, замененных формой Perfect’а с наречиями: «Von dem Imperfecto und Plusquamperfecto wissen die Rußischen Verba eigentlich nichts, wo aber dergleichen Expreßionen vorkommen, pflegt man zu dem Perfecto die Aduerbia недавно nicht längst, und давно längst, hinzuzusetzen, als [Прошедшее несовершенное и давнопрошедшее время русскому глаголу неизвестны; там, где встречаются подобные выражения, к прошедшему совершенному добавляют наречия недавно и давно, как]: ich laß я недавно читалъ, ich hatte gelesen я давно читалъ».192 Адодуров впервые отмечает возможность образования формы Futurum’а из неопределенной формы с глаголом стану.
Двойственное число в грамматике Адодурова отсутствует.
Залогов 4: действительный, страдательный, средний и Deponens [отложительный].
Наклонений 3: изъявительное, повелительное и неопределенное.
- 132 -
При различении спряжений учитывается лишь форма инфинитива: глаголы на -ть относятся к I спряжению, на -ить — ко II.
Категория вида не отмечается и не учитывается при образовании различных глагольных форм, что приводит к смешению форм от различных глаголов, например настоящее время — я бываю, будущее — я побываю.193
В изложении материала о глаголе Адодуров не свободен от подражания схемам античных грамматик, что приводит его к некоторым фактическим ошибкам, например формы боюся, сержуся отнесены к отложительному залогу.194
Наклонение
Материалы о грамматической категории наклонения, сохранившиеся в рукописном виде, немногочисленны. В трех записях утверждается наличие в русском языке специальных форм трех наклонений — изъявительного, повелительного и неопределенного (7, 695704, 697—698725) и в двух из них отмечается отсутствие особых форм желательного и сослагательного наклонений «в российском языке», вместо которых употребляют изъявительное с приложением союзов: когдабы, дабы, естьли, буде и проч. (7, 697—698725 и 680563).
Теоретические положения о категории наклонения вошли без изменения в § 267 «Российской грамматики», термин неопределенное наклонение в печатном тексте заменен термином неокончательное наклонение.
«Материалы» показывают, что Ломоносов предполагал, по-видимому, написать об употреблении наклонений, о чем свидетельствует краткая латинская запись (7, 60969): «De usu futuri pro praesenti conjunctivo [Об употреблении будущего времени вместо настоящего времени сослагательного наклонения]. Ежели поставишь — si constituas».
Однако эта тема в «Грамматике» не была разработана. Отголоском ее служит формулировка той части § 267, в которой говорится об отсутствии особой формы для сослагательного наклонения в русском языке и об определенной ее замене.
В приводимых Ломоносовым грамматических образцах в соответствии с § 267 глагол дается в трех наклонениях — изъявительном, повелительном и неокончательном (§§ 359—362, 396—397, 404—405, 407, 420, 422, 425).
Рукописные записи (7, 613114, 688621, 693685, 708798) находятся в полном соответствии с описанием способов образования повелительного наклонения, изложенным в §§ 333—335 и 384—386.
- 133 -
Повелительное наклонение образовано добавлением местоимений 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа подобно изъявительному наклонению. В качестве нормы повсюду в парадигмах встречаются описательные формы с побудительными частицами: да, пусть, пускай.
В литературной практике Ломоносова исследователи отмечают факты отступления от установленных им норм: с одной стороны, наблюдаются просторечные варианты «форм без флексии: Скажи и не утай, что было без меня», когда по общей норме положена флексия -и, и, с другой стороны, часто встречается «обратное явление с употреблением форм без флексии в соответствии с ожидаемыми образованиями на -и... Внемлите и мою услышьте днесь мольбу».195
С. И. Глушков в своей кандидатской диссертации установил, что в одах Ломоносова «живые разговорные формы, например расти, старайся, ликуй», составляют значительный процент и преобладают над архаическими церковно-книжными формами типа: возвыси, посли.196
Следует отметить, что формы повелительного наклонения некоторых глаголов, приведенные Ломоносовым, не совпадают с соответствующими формами современного языка, например: в § 333 от глагола краду повелительное наклонение крадь, от мычу — мычь, так как нет ударения «на последнем складу». Акад. С. П. Обнорский пишет, что «вариантные образования крадь при кради объясняются двоякостью глагольных форм по ударению — на основе в старом (книжном) языке, на флексии — в просторечии и в современном языке».197
В §§ 336—341 освещается вопрос о неопределенной форме глагола (по терминологии Ломоносова, неокончательном наклонении). Рукописные материалы по данному вопросу очень обширны по объему. В основном они написаны рукой помощника Ломоносова, подбиравшего материалы по указанию автора грамматики: одни из них представляют собою перечни глаголов 1-го лица настоящего времени и неопределенной формы, подобранных по принципу сходных окончаний. В некоторых случаях рядом с глаголами рукой Ломоносова приписаны однокоренные существительные (7, 741—746). Многочисленны также записи глаголов 1-го лица единственного числа с одинаковыми окончаниями. Они написаны рукой Ломоносова и имеют самое непосредственное отношение к теме о неопределенной форме, потому что систематизация глаголов в рукописи проведена Ломоносовым по формообразовательным признакам.
- 134 -
В §§ 336, 338—341 без колебаний Ломоносов утверждает как норму русского языка окончание неопределенной формы на -ть, -ти (под ударением), -чь, что соответствует вышеуказанным записям в «Материалах». Отклонение от данной нормы он допускает для глаголов, оканчивающихся на -бу, -ду, -зу, -ту, имеющих в неопределенной форме окончание -сти или -сть: скребу, скрести или скресть; веду, вести и весть; грызу, грыстъ; плету, плести и плесть (§ 337). Акад. С. П. Обнорский отдает дань «научной прозорливости Ломоносова», установившего возможность чередования формы на -ти и -ть у некоторых глаголов на -сти.
В дограмматический период в научных трудах Ломоносова можно отметить случаи (правда, очень редкие) употребления формы неопределенного наклонения на -ти, например: «Зимнею порою воздух должен вливатися в нижний шахт АВ» (1, 329, 1749 г.); «Твой бодрой дух спешит любви щедроту дати И сильнейшим ружьем Тебе триумф сыскати» (8, 76, 1742 г.); «И дух его готов небесну власть склонити, Его чтоб сердце взять и мир благословити» (8, 72, 1742 г.) и от глаголов с основой на задненебные согласные — на -чи, например: «... для того тем, которые медь плавить хотят, надобно от сего беречись» (5, 407, 1747 г.). Форма неопределенного наклонения на -ти встретилась также в одном произведении 1761 г.: «Лишь только бы твоих врагов гордыню стерти» (8, 729, 1761 г.).
Но это лишь единичные архаизмы, которые были изжиты Ломоносовым в последующий, в особенности послеграмматический период. Грамматический такт Ломоносова и лингвистическое чутье не обманули его и на этот раз: вопреки утверждениям Сумарокова о возможности литературного употребления формы на -ти, восторжествовала точка зрения автора «Грамматики». Своей научной и литературной практикой, в том числе и одами, он закрепил установленные им грамматические нормы: по утверждению С. И. Глушкова, формы неопределенного наклонения на -ть «составляют около 90% ко всем формам инфинитива в одах, а количество форм с безударным -ти не достигает и 10%».198
Время и вид
В грамматической литературе до середины XVIII в., предшествовавшей «Российской грамматике», учение о виде как об одной из грамматических категорий глагола совершенно не было разработано.
В литературной практике автора «Грамматики» часты случаи употребления формы неопределенного наклонения на -сть: «Принудил древа верьх на землю с треском пасть» (8,
- 135 -
124, 1743 г.); «Ах, как ты малому даешь бресть толь далече?» (8, 190, 1747 г.); «Дабы скорее мне к концу привесть все дело» (8, 174, 1747 г.); «Мы тщимся праздничны сии огни принесть» (8, 212, 1750 г.); «Дерзнул, забыв о них, себя на рок привесть» (8, 348, 1750 г.); «И сын мой поспешит полки сюда привесть» (8, 302, 1750 г.); «София воздала преступны мзду и честь, И граматы Москвой на злых главах пронесть» (8, 716, 1761 г.) — наряду с формами неопределенного наклонения на -сти: «Гордыню сопостатов стерти И оных в ужас привести, От грозных бед тебя избавить, Судьей над царствами поставить И выше облак вознести» (8, 147, 1746 г.); «Затмитесь, чтобы отцу на память привести» (8, 338, 1750 г.); «Тебя и весь мой дом склонился вознести, И в общество принять своей гремящей славы, И сердце в дар тебе Геройско принести» (8, 351, 1750 г.); «И можноль больше мне страдания снести» (8, 438, 1751 г.); «Чтобы от тщетных мук теперь тебя спасти, От страсти свободить и в чувство привести» (8, 445, 1751 г.); «Докончать и принести к совершенству судил Бог подобной таковому Родителю Дщери в безмятежное и благословенное Ея владение» (8, 608, 1755 г.); «Покой отечеству со славой принести, Дабы могло потом в безмолвии цвести» (8, 672, 1760 г.).
В «Славянской грамматике» термин вид употребляется в значении род, подразделение, о чем может свидетельствовать следующий пример: «Виды глагола суть два: первообразный иже и совершенный, яко: чту, стою и прочая, и производный, ов убо начинательный, яко: каменѣю, трезвѣю и прочая, ов же учащательный, яко: читаю, ставаю и прочая».199 Никакого намека на глагольное качество, т. е. на категорию вида в современном его понимании, здесь не содержится.
Термин совершенный встречается в «Славянской грамматике» и в другом значении, не совпадающем с вышеприведенным. Он применяется при определении значения, выраженного глаголом того или иного времени: «Преходящее» время обозначает «несвершенно прошлое дѣйство»: «біенъ есмь». «Прешедшее» время обозначает «совершенно прошлое дѣйство»: «біѧнъ есмь». «Мимошедшее» обозначает «древле совершенно прешедшее дѣйство»: «биѧанъ бывахъ». «Непредѣльное» обозначает «вмале совершенно прошлое дѣйство»: «побіенъ быхъ».200
Термин совершенный, как это явствует из приведенных примеров, употребляется автором «Славянской грамматики» применительно ко времени совершения действия, а не для обозначения качества действия, выраженного глаголом.
Таким образом, термин вид у Смотрицкого не соответствует значению современного термина вид. Он употреблялся и в более
- 136 -
ранней грамматической литературе до Смотрицкого (например, у Зизания в том же понимании, которое, по существу, «восходит к понятию ειδος александрийских грамматиков»).201
В русской грамматике Лудольфа впервые фиксируются три времени глагола и не содержится никакого намека на вид глагола. Примеры, приводимые в качестве грамматических образцов, свидетельствуют о полном непонимании Лудольфом видовых форм русского глагола.
Теоретически не разобрался в вопросе о виде также автор славянской грамматики Ф. Максимов,202 практически же он правильно учитывал видовые различия русского глагола.203
В связи с тем, что Адодуров не наметил категории вида в русском глаголе, в его грамматике встречаются серьезные ошибки при образовании глагольных форм (см. выше, стр. 132).
В литературе существует мнение о том, что Смотрицкий «предчувствовал глагольные виды».204 При этом в качестве примеров приводилось упомянутое выше деление глаголов на первообразный (совершенный) и производный виды, последний, в свою очередь, — на начинательный и учащательный. Будилович, которому принадлежит это мнение, пытался обвинить Ломоносова в том, что он не развил намеков Смотрицкого на вид и создал очень сложную систему времен русского глагола.
Точка зрения Будиловича не выдерживает критики: во-первых, Смотрицкий употреблял термин вид, как уже говорилось выше, не для обозначения одной из глагольных категорий; во-вторых, он рассматривал лексический материал церковнославянского, а не русского языка. Ломоносов по-новому подошел к освещению вопроса о грамматических категориях глагола; учитывая особенности грамматического строя русского языка, он сделал попытку рассмотреть вопросы выражения глагольного качества и временных отношений в тесной взаимосвязи. Отсюда вполне закономерной становится наша задача рассмотрения грамматических категорий вида и времени в одном разделе.
Категория специфически славянского глагольного вида, сложившаяся в основном еще в праславянском языке, выражала качественные изменения в действиях и процессах реальной действительности. Скудные остатки довидового состояния встречаются в древнерусском языке и в других славянских
- 137 -
языках. Развитие видовых значений происходило постепенно в тесном взаимодействии с изменением сложной системы времен русского глагола.205 К середине XVIII в. интенсивно развиваются различные способы выражения видовых значений.
В «Материалах к „Российской грамматике“» и в самой «Грамматике» Ломоносов рассматривает видовые образования (не употребляя при этом термина вид) как систему форм одного глагола, представляющих различные его времена. Отказавшись от слепого следования античной и западноевропейской традиции, он, как это видно из «Материалов», много и творчески работал над теорией грамматических категорий глагола и способах их выражения.
В «Материалах» прослеживается несколько этапов работы над глаголом, раскрывающих эволюцию взглядов автора «Грамматики» на грамматические категории и формы глагола. Ломоносов понимал необходимость рассмотрения способов выражения глагольного качества во взаимосвязи с временными значениями, в особенности со значениями прошедшего времени. Категория прошедшего времени, как известно, претерпела существенные изменения по сравнению со сложной древнерусской системой времен: имперфект и аорист — простые прошедшие времена — вышли из употребления в живой разговорной речи. Сложные прошедшие времена — перфект и плюсквамперфект — изменились как по форме, так и по содержанию.
Все это не ускользнуло из поля зрения исследователя и нашло свое отражение в следующих этапах работы над «Грамматикой» (табл. 1).
Наиболее ранним черновым вариантом раздела о глаголе следует признать текст на листе 126 (7, 695—696). Он отличается несовершенством терминологии: вместо слова «наклонение» употреблено слово «вид» («Видовъ 3: изъявительной, повелительной и неопределѣнной» — 7, 695), вместо «спряжение» — «склонение» («Склоненій 2. Simplex et compositum [Простое и сложное]» — 7, 696). Перечислены семь времен глагола: настоящее, прешедшее несовершенное, прешедшее совершенное, прешедшее единственное, прешедшее давное, будущее одинакое, будущее составленное — без сопровождения их иллюстрацией примерами. От названий времен «прешедшее давное», «будущее одинакое» автор впоследствии отказался.
Этот набросок был переработан им в более широком плане и сопровожден примерами (7, 698 — л. 127). Судя по его расположению и цвету чернил, эта работа была проведена вслед за работой над первым вариантом. В новом варианте вместо семи
- 138 -
времен названо восемь, причем слово «восемь» написано вместо зачеркнутого слова «десять». Основное направление работы — отказ от следования античным и западноевропейским образцам в названии и определении значений времен. По сравнению с предыдущим вариантом в терминологическом отношении без изменения осталось лишь настоящее время; другие времена изменили свои названия: прешедшему несовершенному в этом варианте соответствует прешедшее неопределенное, прешедшему единственному — прешедшее определенное, прешедшее давное заменено давнопрошедшим вместо зачеркнутого прешедшего давнешнего учащательного, прешедшим тщетным вместо прешедшего несовершенного, давнопрошедшим вместо зачеркнутого давнешне составленного, измененного далее на давнопрошедшее 3; будущему составленному соответствует будущее неопределенное, будущему одинакому — будущее определенное. Отсутствует время, соответствующее прешедшему совершенному. Введено время, которое не имеет соответствий в предыдущем перечне, — прешедшее начинательное, проиллюстрированное
- 139 -
рядом глагольных форм со вспомогательным глаголом стать.
Этот вариант в дальнейшем подвергся значительной переработке, в результате которой появился следующий, третий вариант, отличный от двух предыдущих (7, 680 — л. 96 об.). Перечислению времен в нем предшествует указание о том, что «простые россійскіе глаголы» (разрядка наша, — В. М.) имеют восемь времен. Это — настоящее, прошедшее неопределенное, прошедшее определенное, давнопрошедшее первое, давнопрошедшее второе, давнопрошедшее третье, будущее неопределенное, будущее определенное единственное. Ломоносов отказался от некоторых незачеркнутых и зачеркнутых в предыдущем варианте терминов, представляющих собою кальку с латинских терминов, например: прешедшее тщетное (Imperfectum), давнешнее (Perfectum), прешедшее давнешнее (Plusquamperfectum). Он опустил также разновидности прешедшего начинательного времени, образуемого с помощью глагола стать, как не обозначающие качество глагольного признака.
Таблица 1
Материалы
Грамматика
1 вариант
2 вариант
3 вариант
«Временъ 7: настоящее, прешедшее несовершенное, прешедшее совершенное, прешедшее единственное, прешедшее давное, будущее <извѣстное простое> одинакое, будущее составленное» (7, 696).
«Временъ имѣютъ россійскія глаголы <десять> восмь: 1. настоящее, н. п.: пишу, отпускаю, толкаю; 2. прешедшее неопредѣленное: писалъ, толкалъ, отпускалъ; 3. прешедшее опредѣленное: написалъ, толкнулъ, отпустилъ; 4. <прешедшее давнешнее учащательное> давно прешедшее: писывалъ, талкивалъ, отпускивалъ; <4> 5. прешедшее <несовершенное, сло> тщетное: я было написалъ, я было толкнулъ, я было отпустилъ; <6> 5. давно прешедшее <давнешне составленное> 7. я бывало читалъ, я бывало отпускалъ, я бывало толкалъ; 7. прешедшее начинательное: я сталъ писать, я сталъ отпускать, я сталъ толкать; 8. я сталъ было читать, 9. мнѣ было писать, 10. мнѣ быть было писать, 11. мнѣ быть писать; <6. прешедшее> 6. давно прешедшее 3. <составленное> 7. будущее неопредѣленное: буду писать, буду отпускать и пр., <преше> будущее опредѣленное: напишу» (7, 698).
«Временъ имѣютъ простые россійскіе глаголы восмь:
1) Настоящее: <н. п.> трясу, глотаю, бросаю, плещу.
2) Прошедшее неопредѣленное: <н. п.> трясъ, глоталъ, бросалъ, плескалъ.
3) Прошедшее опредѣленное единственное: <н. п.> тряхнулъ, глонулъ, бросиль, плеснулъ.
4) Давно прошедшее перьвое: <н. п.> тряхивалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ.
5) Давно прошедшее второе: <н. п.> бывало <дышалъ [?]> трясъ, бывало глоталъ, бросалъ, плескалъ.
6) Давно прошедшее третіе: <н. п.> бывало трясывалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ.
7) Будущее неопредѣленное: <н. п.> буду трясти, стану глотать, бросать, плескать.
8) Будущее опредѣленное единственное: тряхну, глону, брошу, плесну» (7, 680).
«Времен имеют российские глаголы десять: осмь от простых да два от сложенных; от простых:
1) настоящее — трясу, глотаю, бросаю, плещу; 2) прошедшее неопределенное — трясъ, глоталъ, бросалъ, плескалъ; 3) прошедшее однократное — тряхнулъ, глонулъ, бросилъ, плеснулъ; 4) давнопрошедшее первое — тряхивалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ; 5) давнопрошедшее второе — бывало трясъ, бывало глоталъ, бросалъ, плескалъ; 6) давнопрошедшее третие — бывало трясывалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ; 7) будущее неопределенное — буду трясти, стану глотать, бросать, плескать; 8) будущее однократное — тряхну, глотну, брошу, плесну. От сложенных: 9) прошедшее совершенное, напр.: написалъ от пишу; 10) будущее совершенное — напишу» (§ 268).
- 140 -
Рассматриваемый третий вариант свидетельствует о том, что Ломоносов, учитывая античную и западноевропейскую традиции при разработке учения о русском глаголе, отказывался от того, что несвойственно грамматическому строю русского языка. Он освобождался от теории времени нерусского глагола, обозначающей только лишь последовательный порядок действий. Одновременно с этим он совершенствовал грамматическую терминологию: в третий вариант введено «прошедшее определенное единственное» время вместо «прешедшего определенного», «будущее определенное единственное» вместо «будущего определенного». Новые термины, не отличаясь краткостью, по сравнению с терминами предыдущего варианта лучше отражают одну из сторон русского глагола — обозначение действия, совершившегося однажды, однократно.
По сравнению с предыдущими, черновыми вариантами, третья редакция отличается наибольшей полнотой разработки вопроса о глаголе, в то же время и наилучшим внешним видом, что позволяет отнести ее не к черновым, а к беловым редакциям. В отличие от предыдущих редакций, помимо перечисления времен, в ней содержится определение их значений.
Окончательная редакция, которую мы находим в § 268, отлична от всех других редакций и является шагом вперед по сравнению с ними. В ней проведено деление глаголов на простые и «сложенные» в зависимости от характера их основы. К числу времен, образованных от простых глаголов, отнесены те же восемь времен, которые перечислены в третьей редакции; отличие от нее состоит лишь в терминологической замене двух времен: прошедшего определенного — прошедшим однократным, будущего определенного единственного — будущим однократным. В отличие от всех рукописных редакций в данной редакции от «сложенных» глаголов, объединяющих глаголы с префиксами, образованы два времени — прошедшее совершенное и будущее совершенное. Эта окончательная редакция § 268 свидетельствует об утверждении созревшей у автора «Грамматики» мысли об отражении качественной стороны глагола посредством категории времени.
Как деление глаголов на две группы в зависимости от выражения глагольного качества основой, так и введение более усовершенствованной терминологии подтверждают наше наблюдение. § 268 знаменует собой новую ступень на пути отхода от античных и западных образцов и учета особенностей грамматического строя русского языка. Тесно связан с ним следующий, 269-й параграф, содержащий определение значений времен. Он появился в результате переработки рукописного беловика. Изменение коснулось как терминологии, так и определения значений времен. Термин «прошедшее определенное
- 141 -
единственное», как и в § 268, заменен термином «прошедшее однократное», термин «будущее определенное» — термином «будущее однократное». Сопоставим формулировку о прошедшем неопределенном времени:
Материалы
Грамматика
«Прошедшее неопределенное время заключаетъ въ себѣ нѣкоторое дѣйствія или страданія учащеніе и значить оное иногда совершенн<ую>ое иногда несовершенное» (7, 680).
«Прошедшее неопределенное время заключает в себе некоторое деяния продолжение или учащение и значит иногда дело совершенное..., иногда несовершенное» (§ 269).
Указание об обозначении глаголом страдания было опущено и при определении значений прошедшего однократного и будущего неопределенного и определенного времени. В этом сказалось преодоление Ломоносовым влияния грамматики Смотрицкого, в которой при определении значений глагольных времен присутствовал залоговый элемент.206
В немецкий перевод грамматики Ломоносов внес одно уточнение в определение значений «сложенных» времен: вместо «прошедшее и будущее совершенное значат полное совершение деяния», в немецком переводе читаем: «eine vollkommen verrichtete oder eine zu verrichten gewiß bestimmte Handlung andeuten [прошедшее и будущее совершенное или долженствующее быть совершенным]» (разрядка наша, — В. М.).
Таким образом, установленные на основании сопоставления рукописных материалов и грамматики этапы в изучении временных отношений глагола, терминологии времен и определении их значений позволяют сделать вывод о том, что Ломоносов в первый период испытывал на себе влияние античной и западноевропейской традиции, где различия времен обозначают последовательный порядок следования действий; некоторая зависимость от этих традиций проявлялась и в названиях их, представляющих собою кальку с трациционных терминов. До известной степени чувствовалось также влияние грамматики Смотрицкого при определении значений времен. В процессе своей работы Ломоносов освобождался от зависимости иноязычных и славянской грамматик, учитывая особенности грамматического строя русского языка. Окончательная редакция §§ 268—269 свидетельствует о глубоком понимании взаимосвязи временных отношений глагола с качественной его стороной, которая в современном языке обозначается категорией вида. В §§ 268—269 в перечислении времен и их
- 142 -
значений есть отчетливо наметившиеся значения категории вида, не названной терминологически.
Прошедшее время, по Ломоносову, может выражать следующие оттенки качества действия: 1) незаконченность, длительность действия посредством прошедшего неопределенного времени (§ 269); 2) однократность, совершенность действия посредством прошедшего однократного § (269), названного в § 406 прошедшим единственным; 3) законченность действия посредством прошедшего совершенного (§§ 269 и 406); 4) учащательность действия посредством давнопрошедшего времени (§ 269).
Будущее время может выражать следующие оттенки качества действия: 1) незаконченность, длительность действия посредством будущего неопределенного (§ 269); 2) однократность действия посредством будущего однократного (§ 269); 3) законченность действия посредством будущего совершенного (§ 269).
Некоторые оттенки качества действия Ломоносов подмечает и в настоящем времени — см., например, списки глаголов: первый под названием «Abundantia [Изобилующие]», находящийся среди черновых записей (7, 616131), содержит сопоставление глагольных форм «бѣгаю, бѣгу; величаю, величу; глотаю, глочу; даваю, даю; катаю, качу; кланяюсь, клонюсь» (далее следуют еще 23 пары глаголов); второй под названием «Frequentativa et abundantia [Учащательные и изобилующие]» (7, 692653) — «величаю, величу; бѣгаю, бѣгу; даваю, даю; катаю, качу; кланяюся, клонюсь; летаю, лечу; ломаю, ломлю; плюскаю, плющу; роняю, роню» (далее следует еще 17 пар). Оба эти списка нашли отражение в § 284 «Грамматики», в котором выделяются глаголы с учащательным оттенком: бѣгу, бѣгаю; даю, даваю; лечу, летаю; роню, роняю; тащу, таскаю.
В грамматических парадигмах спряжения глаголов качественный оттенок действия отмечен и в инфинитиве. В § 396 под названием «Наклонения неокончательные» встречаем: «Учащательное Вертѣть. Однократное Вернуть. Сомненное Вертывать». То же отмечено и для форм страдательного залога.
В § 407:
«Неопределенное
Совершенное
СомненноеПріучать
Пріучить
Пріучивать».В § 425:
«Неопределенное
Единственное
Совершенное
СомненноеКолоть
Кольнуть
Поколоть
Калывать».Среди черновых записей встречаем сопоставление двух слов — вывози́ть, вы́возить (7, 688623, 693687), написание которых отличается лишь постановкой ударений. Эта запись не является случайной: она отражает подмеченную Ломоносовым разницу
- 143 -
в оттенках качеств, в первом — frequ[entativum] [учащательный], во втором absol[utum] [совершенный].
Знаком NB отмечена следующая запись:
«Побить perf[ectum] [совершенный]
и побить frequent [ativum] [учащательный]» (7, 694697).В «Материалах» есть сопоставления и других форм глагола: рядом с перечислением синонимов, не имеющих никакого отношения к теме о глаголе, встречаем волнующую автора заметку: «Разница между двожды глядѣлъ и двожды взглянулъ» (7, 620156).
К записям раннего периода работы над «Грамматикой» относится также следующая: «Разница межъ почернѣ<ть> и буду чернѣть и межъ почернѣлъ и чернѣлъ» (7, 609). Сопоставление этих двух форм прошедшего и будущего времени двух соотносительных глаголов совершенного и несовершенного видов напоминает попытку распределения глаголов по видовому принципу.
В другом месте соотносительную пару глаголов совершенного и несовершенного вида Ломоносов помечает знаком NB:
«NB
<
Хочу бросить
Хочу бросать» (7, 630)
и сопровождает замечанием, написанным скорописью по-латыни: «Discernendus horum usus et signitica[ti]o [Следует различать их употребление и значение]» (7, 630).
Расположение этих небольших по объему, но весьма значимых по содержанию записей свидетельствует о том, что еще в ранний период собирания материалов для «Грамматики» Ломоносова волновала проблема обозначения качества в русском глаголе. Следовательно, уже в дограмматический период Ломоносов подходил к правильному пониманию тех особенностей русского глагола, которые позднее будут охвачены грамматической категорией вида.
Намечавшееся сопоставление соотносительных форм глаголов несовершенного и совершенного видов Ломоносов провел в некоторых параграфах «Грамматики»: как правильно отметил В. И. Чернышев, Ломоносов указал на наличие прошедшего однократного — тряхнулъ, глотнулъ, плеснулъ, и будущего однократного тряхну, глотну, плесну (§ 268), указал разницу между глаголами видать и видѣть, летать и летѣть (§ 380). Глаголы отдернулъ, откинулъ он отличает от «совершенного учащательного» глаголов отдергалъ, откидалъ, потому что «действие в первых в один раз, в других во многие совершается» (§ 406). Параллельно несовершенному глаголу пріучать он приводит совершенный пріучить (§ 407).207
- 144 -
Справедливо подмечает автор «Грамматики» добавочное значение однократности действия у ряда глаголов, образовавшихся от глаголов несовершенного вида посредством суффикса -ну без присоединения приставок. В § 310 он приводит список глаголов (ахаю, ахнулъ; болтаю, болтнулъ; брехаю, брехнулъ; брякаю, брякнулъ; виляю, вильнулъ и др., всего 75), заканчивая его вескими словами: «Кроме сих мало сыщется». Среди приведенных примеров, обозначающих однократность действия, есть глаголы, не употребляющиеся в современном литературном языке, например: глагол жегнулъ, образованный от жгу, и церковнославянский глагол двигнулъ (правда, наряду с формой двигнулъ в качестве равнозначной приведена форма двинулъ).
В рукописных материалах § 310 соответствует один из вариантов правила (7, 686602), отличающийся терминологически: вместо прошедшего однократного времени в нем употреблено прошедшее единственное. Перечислению большого количества примеров предшествует указание о том, что «прошедшее единственное время» «на нулъ имѣютъ только слѣдующіе глаголы». Некоторые примеры автор не ввел из рукописи в «Грамматику» как ошибочные (например, глагол брещу), другие заменил, например вместо глагола блистаю ввел глагол блещу, и, наоборот, некоторые неправильно вычеркнутые в рукописи глаголы ввел в «Грамматику» (например, дую, дышу).
В § 312 Ломоносов приводит в качестве примеров 111 глаголов «в прошедшем совершенном» времени, образованных посредством приставок от глаголов несовершенного вида, например: алкаю, взалкалъ, вѣдаю, увѣдалъ; венчаю, обвенчалъ; и др., причем приставочные глаголы совершенного вида в данных примерах не отличаются своим лексическим значением от однокоренных глаголов несовершенного вида и, следовательно, составляют видовую соотносительную пару. Следует отметить, что в некоторых случаях приведены 2 приставочных глагола, например: ругаю, обругалъ, изругалъ; владѣю, овладѣлъ, завладѣлъ; пустѣю, опустѣлъ, запустѣлъ; толкую, протолковалъ, истолковалъ. Ряд глаголов в современном русском литературном языке неупотребителен, например: голѣю, оголѣлъ; жидѣю, ожидѣлъ; плѣю, оплѣлъ и др.
Подобный же список соотносительных пар глаголов совершенного и несовершенного вида с одним лексическим значением (в количестве 85 слов) приведен в § 378, где совершенно справедливо подчеркнуто отсутствие настоящего времени у приставочных глаголов совершенного вида. Некоторые формы глагола в современном литературном языке вышли из употребления, например: голожу, оголодилъ; казню, сказнилъ и др.
В следующем, 379-м параграфе Ломоносов называет ряд бесприставочных глаголов, правильно отмечая, что они имеют
- 145 -
«силу» «прошедшего совершенного»: велѣлъ, видѣлъ, вредилъ, женилъ, рѣшилъ.
В § 415 дана очень меткая характеристика одного из значений глаголов с приставкой по- — «умалительное учащение»: пописывать, похаживать, попѣвать, — содержащая, по-видимому, намек на вид.
В своих рукописных материалах Ломоносов правильно подметил наличие в русском языке глаголов, нейтральных в видовом отношении, у которых одна глагольная форма употребляется для двух времен — настоящего и будущего. Прежде чем сформулировать положение, вошедшее в § 424 «Грамматики», он проводит наблюдения над формами глаголов: «Смышляю — praesens [настоящее]; смыслю, смышлю — praesens et fut[urum] [настоящее и будущее]» (7, 613106). Форма смыслю выпала из других рукописных записей: «Смышляю praesens [настоящее]; смышлю — praesens et fut[urum] [настоящее и будущее]» (7, 693673, 695699). В качестве нормы в § 424 «Грамматики» приведена архаическая форма смышлю.
Наблюдения над употреблением одной глагольной формы в настоящем и будущем времени проводились также над глаголом родить. Ломоносов перечисляет формы всех времен от этого глагола и в обеих записях утверждает одно и то же положение: «Praesens et fut[urum] [настоящее и будущее] она родитъ» (7, 628242) и «рожу praesens et fut[urum] [настоящее и будущее]» (7, 693681).
Результатом наблюдений над глаголами смыслить и родить явилась формулировка § 424 «Грамматики» о том, что эти глаголы относятся к числу неправильных, так как «времена настоящие и будущие без разбору употреблены быть могут одно вместо другого, например: смышлю, рожу».
Архаическая форма мышлю встречается и в литературной практике автора «Грамматики» в дограмматический и послеграмматический периоды (8, 37, 1741 г.; 8, 76, 1742 г.; 8, 701, 1761 г.), ср.: помысли, земнородных племя; помысли, зря дела толики (8, 502, 1752 г.).
Категория вида, как уже говорилось об этом, формировалась в связи с утратой некоторых временных форм, в частности форм прошедшего времени. Дифференциация ее проходила очень медленно и находила выражение в различных морфологических образованиях. Рассмотрим кратко одно из таких образований видового характера.
Как в рукописных материалах, так и в четвертом наставлении «Грамматики» большое место занимают формы давнопрошедшего времени, образованные от бесприставочных глаголов несовершенного вида посредством суффиксов -ыва- (-ива-), -ва-, -а- (-я-). Большая часть их имеет значение повторяемости, кратности действия (отсюда происходит их название в современном
- 146 -
русском литературном языке — многократные глаголы), т. е. обозначает оттенок качества действия.
Акад. С. П. Обнорский глагольные формы с -ывать (-ивать) называет образованиями «многократного вида» и считает их типическими русскими образованиями.208
«Форма давнопрошедшего времени, — как отмечает акад. В. В. Виноградов, — в определенный период ставилась грамматистами в центре всей системы прошедших времен русского глагола».209
В «Материалах» формам давнопрошедшего времени отведено несколько страниц рукописи (7, 686604—607, 686—687608, 687609—614, 688615); 15 параграфов «Российской грамматики» (§§ 316—328 и 380—381) во многом согласуются с соответствующими местами рукописи, где перечислены способы образования этих форм от различных групп глаголов и даны исключения. На основании этих данных можно утверждать, что давнопрошедшее время еще и в XVIII в. было очень распространенной формой глагола. Хотя Ломоносов в своей писательской деятельности не употреблял беспрефиксные глаголы с суффиксами -ыва- (-ива-), -ва-, -а-,210 в «Грамматике» он отвел этим формам значительное место, исходя из наблюдений над живой разговорной речью.
В связи с разработкой Ломоносовым вопроса о давнопрошедшем времени небезынтересно обратить внимание на сохранившиеся в том же фолианте, где находятся «Материалы к „Российской грамматике“», критические замечания к некоторым параграфам «Российской грамматики», написанные неизвестной рукой.211 Они представляют интерес, потому что принадлежат одному из современников Ломоносова, достаточно грамотному и образованному человеку, который, как это можно судить по замечаниям, свободно владел современной ему грамматической терминологией.
Ломоносов не придал замечаниям современника большого значения, о чем свидетельствует второе прижизненное издание «Грамматики», не содержащее никаких коррективов по сравнению с первым в тех параграфах, на которые сохранились замечания неизвестного лица. Тем не менее их надо принять
- 147 -
во внимание, потому что они написаны москвичом и содержат определенный фактический материал, сопоставление с которым позволяет судить, в какой степени Ломоносов учитывал данные «московского диалекта», создавая нормативную грамматику русского языка.
Коснемся замечаний к тем параграфам, в которых содержится или несогласие с автором «Грамматики», или дополнения к некоторым спискам глаголов, включенным Ломоносовым в печатный текст (§§ 318, 320, 322, 323, 327).
В § 318 дан список глаголов: «Алкаю, вѣдаю, величаю, вѣнчаю, ветшаю, голодаю, горчаю, гнушаюсь, дѣваю, дергаю, дичаю, должаю, дорожаю, жесточаю, икаю, касаюсь, киваю, ласкаю, пнаю, поздаю, потчиваю, прощаю, свобождаю, чаю», который заканчивается словами: «и некоторые другие давнопрошедшего первого не имеют».
Рецензент замечает, что «глагол алкаю неупотребителен; токмо от глагола алчу давнопрошедшее алкивалъ». Он считает также, что можно образовать давнопрошедшее время от глаголов «вѣдаю, вѣдывалъ; вѣнчаю, вѣнчивалъ; гнушаюсь, гнушивался; дѣваю, дѣвывалъ; дерзаю, дерзывалъ; икаю, икивалъ; касаюсь, касывался; киваю, кивывалъ; ласкаю, ласкивалъ; пнаю, пинывалъ; поздаю, паздывалъ; прощаю, пращивалъ». Перечень глаголов рецензент заканчивает словами: «а о прочихъ не слыхивалъ» (7, 882). Таким образом, по мнению рецензента, от 13 глаголов, названных Ломоносовым в числе исключений, возможны формы давнопрошедшего времени.
§ 320. «Глаголы, кончащиеся на ѣю, давнопрошедшего не имеют, кроме: брѣю, бривалъ; грѣю, грѣвалъ; прѣю, прѣвалъ; сѣю, сѣвалъ; вѣю, вѣвалъ; плѣю, плѣвалъ».
Замечания к нему: «Глаголы сѣю, сѣвалъ; вѣю, вѣвалъ; лучше сѣѣвалъ, вѣѣвалъ, а плѣвалъ совсем неупотребительно» (7, 882).
§ 322. «Кончащиеся на ую и юю давнопрошедшего первого не имеют, кроме: дую, дувалъ, цѣлую, цѣловывалъ».
Рецензент добавляет: «Глаголъ плюю, плевывалъ» (7, 882).
К § 325 он добавляет глагол гну, гибалъ (7, 882).
Интересно замечание к § 327, в котором рецензент добавляет глаголы блещу, клевещу, указывая, что «въ московскомъ діалекте давнопрошедшее употребительно блескивалъ, клеветывалъ» (7, 882, разрядка наша, — В. М.).
Характерно, что в число исключений из правила о невозможности образования формы давнопрошедшего времени у Ломоносова введены в основном глаголы книжного характера. В замечаниях неизвестного рецензента глаголы книжного характера перемежаются с глаголами некнижными и даже просторечными. В настоящее время трудно судить о степени правоты автора «Грамматики» и его рецензента относительно
- 148 -
конкретного употребления той или иной формы. Обилие примеров, которые приводит неизвестный нам современник Ломоносова, ссылающийся на авторитет московского диалекта, подтверждает установившееся мнение212 о большой продуктивности и употребительности форм давнопрошедшего времени еще в пору создания «Российской грамматики».
В произведениях высокого стиля (в похвальных словах, «Риторике»), а также в письмах Ломоносов употребляет глагольные формы преимущественно с суффиксом -а- (-я-) вместо суффикса -ыва- (-ива-), например: «забыв плодоносныя древа и прекрасные цветы напаять потребною влагою» (8, 250, 1749 г.); формы от глагола напаять многократно встречаются в «Риторике» 1744 и 1748 гг. («Рит.», 1744 г., §§ 52, 63, 271); «прочее сам Виргилий натуральным порядком докончал» («Рит.», 1748 г., § 295); «тем окончаются все мои великие химические труды» (Письма, 10, 475); «себе несправедливо присвояет» (Письма, 10, 492), присвояет (2, 359, 1751 г.).
Рассмотрим вопрос об образовании будущего времени.
Лудольф, отмечая возможным образование будущего времени с глаголами буду и стану, не указывал, равнозначны ли такие образования или в каких-либо случаях делается предпочтение тому или иному глаголу. В качестве примера он приводит форму буду здѣлать, не соответствующую правилам русского языка. Адодуров считал возможным образование будущего времени со вспомогательными глаголами буду, стану и имею, причем не указывал, в каком случае употребить тот или иной глагол.213
Ломоносов, как показывают «Материалы», много внимания уделил вопросу употребления вспомогательных глаголов буду и стану при образовании будущего аналитического времени. Он испытывает на слух звучание сочетаний с тем или иным глаголом, о чем свидетельствуют его лаконичные заметки: «Хуже», «нельзя» и др., сопутствующие записям. После серьезных размышлений он утверждает в качестве вспомогательных глаголов буду и стану и конкретно определяет возможность употребления того или иного глагола. Первая запись (7, 622168): «Способствующій глаголъ <буду, то> стану <только> въ дѣйствительныхъ глаголахъ употребить можно, а не можно сказать, что онъ станетъ согрѣтъ, но лучше будетъ согрѣтъ».
Вторая запись: «Станетъ и будетъ писать, однако станетъ
- 149 -
написанъ нельзя». «Станетъ <сочиня> и будетъ только сочиняются съ неопредѣленнымъ временемъ; станетъ колоть, а не заколоть, кольнуть, калывать: но ежели будетъ значитъ придетъ, то можно будетъ поглядѣть» (7, 692658).
Третья запись: «Я сталъ говорить. Ich habe angefangen zu reden» (7, 700741).
Четвертая запись: «Буду сплетать хуже, нежели: стану сплетать» (7, 700744).
В главе «О сочинении глаголов» (§§ 534, 535) эти мысли облечены в четкие, лаконичные формулировки: «Вспомогательные глаголы буду и стану не везде один вместо другого употреблены быть могут. Буду сопрягается с действительными и со страдательными равномерно: буду писать, буду писанъ, но хотя стану писать есть правильно, однако не говорится: станетъ написано».
«Также примечать должно, что не со всеми неокончательными наклонениями вспомогательные глаголы сочиняются, но токмо с неопределенными: стану писать, буду вертѣть, а с неокончательными единственными совершенными сомнительными: стану написать, стану вернуть, буду писывать, вертывать весьма неупотребительны».
Глагола имею, признаваемого Адодуровым равнозначным вспомогательным глаголам буду и стану при образовании будущего времени, Ломоносов даже не упоминает.
В литературной практике Ломоносова в качестве вспомогательного глагола изредка употребляется глагол начну,214 который образует с неопределенной формой будущее время, близкое по значению к будущему времени с глаголом буду.
Ломоносов сделал попытку систематизировать глаголы по формообразовательным элементам (2-я и 3-я главы IV наставления «Российской грамматики»). Рукописные материалы помогают представить частично характер предварительной работы над этим вопросом: собрано и систематизировано обширное количество глаголов, приведенных большей частью в неопределенной форме и в форме 1-го лица единственного числа. Они написаны рукой неизвестного писца и расположены столбцами. Обилие материалов и проведенная систематизация их позволяют сделать вывод о том, что этой стадии работы предшествовала другая — собирание отдельных, разрозненных примеров. Они сохранились лишь в незначительной части. Без этой работы невозможно было бы составление параллельных списков глаголов в двух формах.
Для выполнения систематизации собранных материалов был привлечен неизвестный нам сотрудник Ломоносова, который, по всей вероятности, был весьма трудолюбивый, грамотный
- 150 -
и добросовестный человек. Проделанная работа внимательно просматривалась Ломоносовым, о чем свидетельствуют многочисленные его пометы и дополнения, различные по значению. Среди них:
1) обозначение конечной согласной неопределенной формы глагола, например:
сижу, д дѣть
—
д
вписано
рукой
Ломоносова,
холожу, дить д
—
д
»
»
» »
лажу, дить, д дить
—
д
»
»
» »
брожу, дить д
—
д
»
»
» »
(7, 736)
слежу, слеза, з зить
—
з
вписано
рукой
Ломоносова,
ужу, зить з
—
з
»
»
» »
(7, 737)
2) перечень глаголов, выбранных из большого списка, написанного рукой помощника, например: из списка глаголов под названием «Кончащіеся на жу» Ломоносов выписывает 12 глаголов: «вижу, дѣть; гляжу, дѣть, брюжжу, жжать; вижжу, жжать; дрожу, жать; держу, жать; дребежжу, жать; сидѣть, лежать, низать, смердѣтъ, сидѣть» (7, 737818). Рукой Ломоносова написан также итог подсчета глаголов с одинаковой конечной согласной основы: « — 23, з — 13, д — 36, зд — 2» (7, 737). В первом случае пропущена конечная согласная основы ж;
3) списки существительных, а также одиночные существительные, от которых образовались приводимые глаголы; например, против списка «Глаголы, кончащіеся на жу и въ неопределѣнныхъ наклоненіяхъ имѣющіе зить» (7, 741—742828) приписано и зачеркнуто: «духъ, долга; голосъ, гласъ, грузъ, разъ, низъ, видъ, взглядъ, смрадъ, визгъ, дребезгъ, стыдъ» и др. Сопоставление этих существительных со списком глаголов показывает, что Ломоносова интересовали однокоренные с глаголами существительные, от которых образованы глаголы.
На других листах рукописи подобное сопоставление существительных с глаголами дано параллельно, например:
«клеплю — поклепъ» (7, 742),
«крещу — крестъ,
ищу — искъ,
плещу — плескъ» и др. (7, 743).
«машу — махъ» (7, 745; см. также 7, 746, где даны аналогичные сопоставления).
В «Материалах» сохранилось два варианта списков глаголов: первоначальные списки, составленные неизвестным помощником Ломоносова на основании ранее собранных материалов. Всем им свойственна однотипность оформления: под заголовком, обозначающим окончание 1-го лица единственного числа настоящего времени, следуют глаголы, рядом с которыми
- 151 -
приведена полностью неопределенная форма или, чаще, конечный ее слог. Некоторые списки не содержат неопределенной формы. Всего таких списков насчитывается 10:
а) на -ою: двою, дою, слою, трою, зною, гною, рою, рыть, мою, мыть и т. д., всего 18 глаголов (7, 736815);
б) на -гу: стригу, бѣгу и т. д., всего 6 глаголов (7, 736816);
в) на -жду: жду, бѣжду, врежду и т. д., всего 13 глаголов (7, 736817);
г) на -жу: алмажу, зить, <мижу>, вижу, дѣть, кажу, тужу, жить и т. д., всего 89 глаголов (7, 736—737818);
д) на -чу: мучу, итъ, пла́чу, <чешь> кать, плачу́, <тишь>, тить, кручу, тить и т. д., всего 88 (7, 737—738821);
е) на -шу: атлашу, сить, вершу, шить, душу, шить, сушу, шить и т. д., всего 44 глагола (7, 738—739822);
ж) на -щу: мщу, стить, мощу, стить, блещу, ститъ, брещу, щатъ и т. д., всего 35 глаголов (7, 739—740823);
з) на -лю: киплю, пѣть, свѣтлю, тлить, хвалю, лить, дремлю, мать, емлю, нятъ и др., всего 118 глаголов (7, 739—740824);
и) на -ню: баню; болваню, барабаню, бороню, браню и т. д., всего 39 глаголов, из них 1 вычеркнут (7, 740—741825);
к) на -рю: багрю, ба́грю, базарю, бодрю, варю и т. д., всего 40 глаголов (7, 740—741826).
Затем эти списки были тщательно просмотрены Ломоносовым, о чем говорилось выше, и переработаны, как можно предполагать, в соответствии с его указаниями. Всем им, как и первоначальным спискам, свойственна однотипность оформления. По сравнению с более ранними списками новые списки содержат и новые элементы:
1) в заголовке, помимо последнего слога 1-го лица единственного числа, указан последний слог неопредѣленной формы, например: «Глаголы, кончащіеся на жу и въ неопредѣленныхъ наклоненіяхъ имѣющіе зить»;
2) глаголы каждой группы разбиты на подгруппы в зависимости от последнего слога неопределенной формы;
3) так как в заголовок попадал лишь последний слог первой подгруппы, на полях напротив других подгрупп написан последний слог неопределенной формы;
4) в некоторых группах и их подгруппах глаголы расположены по алфавиту.
Следует отметить, что количество глаголов в некоторых группах осталось без изменений, в других — уменьшилось за счет изъятия зачеркнутых глаголов или не соответствующих данной группе и попавших в нее ошибочно.
- 152 -
Приведем примеры из второго, переработанного варианта списков глаголов:
1) на -ою: двою, дою, слою, трою, зною и т. д., всего, как и в первоначальном списке, 18 глаголов (7, 745—746836). Группа глаголов разбита в зависимости от неопределенной формы на две подгруппы: на -ить и на -ыть (рою, мою и т. д.). Отдельно выделены глаголы «стою имѣетъ стоять, пою, пѣть» (7, 746836);
2) на -гу: «стригу, стричь, стерегу, стеречь, берегу, беречь, могу <мочь>; бѣгу имѣетъ бѣжатъ». Рукой Ломоносова приписано рядом бѣгъ (7, 746837). Опущен глагол вергу, вычеркнутый еще в первом списке;
3) на -жду: бѣжду, врежду, гражду, кажду и т. д. на -дить и -жду «имѣетъ ждать» (7, 746838). Всего 13 глаголов, как и в первоначальном списке;
4) на -жу: оставлено 66 глаголов, из которых два вычеркнуты. Они разбиты на шесть подгрупп в зависимости от последнего слога неопределенной формы: на зить — алмажу, вожу и т. д., на -зать — нижу, рѣжу, на -дѣть — вижу, гляжу и т. д., на -жать — брежжу, вижжу и т. д., на -жить — блажу, ворожу и т. д., на -дить — бужу, блужу и т. д. (7, 741—742828);
5) на -чу: оставлены 78 из 88 глаголов и разбиты на пять подгрупп по тому же принципу, как и другие группы: на -ить — мучу, плачу и т. д., на -чать — стучу, торчу и т. д., на -тить — сычу, суечусь и т. д., на -кать — плачу, алчу и т. д., на -тать — гогочу, лепечу и т. д., на -тѣть — верчу, копчу, лечу (7, 744—745834);
6) на -шу: оставлено 42 глагола, которые разбиты на четыре группы по тому же принципу, как и предыдущие: на -сать — пишу, пляшу и др., на -хать — машу и др., на -сить — атлашу, воршу и др., на -шить — вершу, душу и др. и отдельно «вишу имѣетъ висѣть» (7, 745—746835);
7) на -щу: оставлено 30 глаголов, разбитых на семь подгрупп: на -стить — мщу, мощу и т. д., на -скать — ищу, плещу и др. (вся группа вычеркнута), на -стать — свищу, на -тать — клевещу и др. (вся группа вычеркнута), на -щать — верещу, трещу, на -тить — крещу, хищу и вычеркнуто хощу, против которого рукой Ломоносова написано хотѣть; на -щить — вощить и т. д. (7, 742—743830);
8) на -лю: оставлено 107 глаголов, которые разбиты на семь подгрупп: на -пать — клеплю, против которого рукой Ломоносова написано поклепъ, сыплю и т. д., на -ить — зноблю, картавлю и т. д., на -пѣть — киплю и т. д., на -мѣть — гремлю, шумлю, на -лѣть — велю, на -мать — дремлю и т. д., на -лоть — колю и т. д. (7, 742—744831).
- 153 -
9) на -ню: сохранены все 38 глаголов и разбиты на подгруппы: на -ить — баню, болваню и т. д., на -нѣть — звеню, косню и «гоню имѣетъ гнать» (7, 744832);
10) на -рю: оставлены 40 глаголов и распределены на две группы: на -ить — ба́грю́, ба́грю, базарю и т. д. и на -рѣтъ — горю, зрю и т. д. (7, 744—745833).
Анализ работы, проделанной по систематизации глаголов и разбивке их на группы, представляет интерес для понимания взглядов Ломоносова на формообразование глаголов. Как показало предыдущее изложение, ученый собрал обширные материалы о глаголах и вполне осознанно подошел к выводу (но не формулировал его) о необходимости деления глаголов на группы в зависимости от соотношения основы неопределенной формы и основы настоящего времени.
Рукописные материалы свидетельствуют также о большом интересе их автора к вопросу словообразования глаголов, связываемого ученым с вопросом образования глагольных форм. Систематизируя материалы о глаголах, собранные для «Грамматики», Ломоносов устанавливает связи между производными глаголами и существительными, от которых они образовались посредством суффиксов.
Попытка провести классификацию русских глаголов в зависимости от соотношения основы неопределенной формы и основы настоящего времени в рукописных материалах прослеживается значительно нагляднее, чем в «Грамматике», поэтому мы подробно остановились на характеристике групп глаголов и их вариантах.
В «Грамматике» автор дает группы глаголов не в таком виде, как это представлено в рукописи, и не делает теоретических выводов о классификации русского глагола, так же как не делает их и в рассматриваемых рукописных материалах. Тем не менее этим не обесценивается значение систематизированных материалов о глаголе. Из рассмотрения §§ 286—289, а также 2-й и 3-й глав IV наставления видно, что Ломоносов очень добросовестно использовал собранные им и систематизированные с помощью неизвестного помощника обширные материалы для написания этих разделов «Грамматики».
Следует отметить в то же время, что в отличие от рукописи автор «Грамматики» повсюду в этих разделах опирается на основу настоящего времени, не соотнося ее с основой неопределенной формы, отчего формулируемые им грамматические закономерности могли бы выиграть.
Непосредственную связь с систематизацией глаголов по формообразовательным элементам имеет система спряжения. В рукописных материалах сохранились краткие записи о наличии в русском языке двух типов спряжения. Две записи (7, 682581 и 700740) согласуются с § 285 — показателем типа
- 154 -
спряжения является окончание 2-го лица единственного числа настоящего времени: -ешь — для первого спряжения, -ишь — для второго. Одна из ранних записей отражает иную точку зрения, от которой автор отказался: делить спряжения на Simplex et compositum [Простое и сложное] (7, 696707), по-видимому, в зависимости от деления глаголов на простые и сложные.
Положив в основу деления глаголов на два типа спряжения окончание 2-го лица единственного числа настоящего времени, Ломоносов правильно подметил возможность возникновения затруднений при определении спряжения: в случае неударяемого личного окончания «трудно распознать», где следует писать -ешь, где -ишь (7, 700740).
Рукописные материалы свидетельствуют о том, что некоторые глагольные формы, в частности формы 2-го лица единственного числа, вызывали у Ломоносова сомнение. Он не обходил их молчанием и не ограничивался ролью наблюдателя, а продолжал вести исследование над большим количеством материалов. Если размышления не вносили ясности в решение вопроса, ученый не включал его в «Грамматику». Например, в число примеров «Грамматики» не вошел глагол мерзнуть, так как образование формы 2-го лица единственного числа от него вызывало у Ломоносова сомнение: «NB. Мерзну, мерзнешь или мержешь незнаю», — записал он (7, 60433).
В дальнейшем этот глагол в рукописи не повторяется, так же как не встречается и в соответствующих параграфах «Грамматики», например в § 287, где говорится о форме 2-го лица глаголов на -ну-.
Сомнения по поводу формы 1-го лица единственного числа глагола зябнуть — зябу́ или зябну (7, 628238), которая ни в рукописи, ни в «Грамматике» больше не встретилась, тоже не были разрешены.
Вызывала колебания у ученого форма 3-го лица множественного числа настоящего времени глагола «сучить». Он записывает: «Ску, сучишь и пр. Сучатъ или скутъ» (7, 688620).
Форма 1-го лица единственного числа ску. В дальнейшем Ломоносов, по-видимому, изменил мнение о форме 1-го лица, так как трижды среди глаголов на -чу в рукописных материалах встречается сучу (7, 703, 738, 744).
Форма 3-го лица множественного числа ни в «Материалах», ни в «Грамматике» (о глаголах на -чу говорится в §§ 289, 305, 327) больше не встретилась. Возможно, Ломоносов продолжал сомневаться в ее образовании, однако вероятнее полагать, что перевес был на стороне формы сучат по аналогии с согласным основы на -ч в 1-м лице единственного числа — сучу.
В рукописных материалах приведены формы настоящего времени глагола бѣжатъ с вариантами в 1-м лице единственного
- 155 -
числа бѣгу и бѣжу и в 3-м лице множественного числа бѣгутъ и бѣжатъ:
«Бѣгу, жишь, житъ
бѣжимъ, бежите, бѣгутъ
бѣжу, жить, житъ
бѣжимъ, жите, бѣжатъ» (7, 602).В другом месте Ломоносов пишет и зачеркивает бѣгу и бѣжу (7, 692663). Последняя запись имеет одну форму бегу: «бѣгу имѣетъ бѣжать при бѣгъ» (7, 746837). В § 284 этот глагол отнесен к числу «изобилующих», т. е. имеющих «два разных окончания в одном знаменовании». В § 287 тот же глагол отнесен к числу глаголов второго спряжения, следовательно, форма его 3-го лица множественного числа бѣжатъ.
В этих исканиях Ломоносова подчас важнее, может быть, и поучительнее не столько достижения и выводы, сколько пути искания, обнаруживающие метод работы ученого.
Выше (на стр. 154) мы приводили запись Ломоносова о возможном возникновении затруднений при определении спряжения, что относится к глаголам с неударяемыми личными окончаниями. Возможно, в связи с этим ученый предполагал подробно разработать вопрос об ударении в глагольных формах, о чем свидетельствует следующая заметка: «О удареніяхъ по спряженіямъ» (7, 695701). Однако никакой разработки этого вопроса в рукописных материалах не находим. В «Грамматике» также вопрос об ударениях в глагольных формах не нашел отражения.
Вслед за отмеченными сомнениями относительно распознавания личных окончаний 2-го лица настоящего времени в «Материалах» никаких правил не следует. На следующем и других листах рукописи встречаются списки глаголов, написанные рукой Ломоносова и подобранные по сходству окончаний настоящего времени (7, 700—701752, 701753—756, 704783), о которых подробно говорилось ранее, а также заготовки правил (7, 702—704) для §§ 286—289.
Сопоставление списков глаголов и заготовок правил с текстом «Грамматики» показывает, что Ломоносов воспользовался подобранными материалами для установления закономерностей спряжения глаголов.
Правила §§ 286—289 о распределении глаголов по типам спряжения, по сравнению с аналогичными правилами рукописных материалов (7, 702—704), носят более обобщенный характер: в одной формулировке говорится о глаголах, оканчивающихся на -бу, -ву, -гу, ду-, зу, -ку, -ну, -пу, -ру, -су, -ту, (§ 287), которые в рукописных материалах были разобщены (7, 702765—767, 703769—770, 772—773, 775—776, 778—779, 736816, 817); также
- 156 -
объединены в одной формулировке «глаголы, кончащиеся на ю с предыдущею согласною» (§ 288), разделенные в рукописных материалах на глаголы, оканчивающиеся на -лю, -ню, -рю (7, 703771, 774, 777, 740—741825, 826, 743—744831, 744832, 833), и глаголы, «которые кончатся на жу, чу, шу, щу» (§ 289), разобщенные в рукописных материалах (7, 703780, 702—703768, 704781, 782, 737—738821, 738—740822—823).
Сопоставление иллюстраций правил и их исключений в рукописных материалах с иллюстрациями в «Грамматике» позволяет сделать ряд интересных наблюдений.
В рукописных материалах в качестве иллюстраций правил приводится значительно большее количество примеров, чем в «Грамматике», например: на -жу в рукописных материалах насчитывается 35 иллюстраций, в «Грамматике» — 4, на -шу соответственно 13 и 2, на -чу — 28 и 3, на -щу — 13 и 2. Следует подчеркнуть при этом, что значительное большинство правил «Грамматики» сопровождено иллюстрациями, причем их отбор проведен очень тщательно, в результате чего среди них почти не встречаем церковнославянизмов и просторечных слов, которые были среди примеров в рукописных материалах.
Не менее тщательному отбору были подвергнуты примеры, иллюстрирующие исключения из правил, например, из списка исключений были выброшены и не попали в «Грамматику» просторечные глаголы пру (7, 683583), ср. § 287 и хлыкчу (7, 703780, ср. § 289), церковнославянизмы брящу, хощу (7, 704782, ср. § 289).
Несмотря на тщательный отбор исключений, их количество в отдельных случаях в «Грамматике» увеличилось по сравнению с рукописными материалами, например: на -жу в рукописных материалах 6 исключений (7, 702—703768), в «Грамматике» — 10 (§ 289, ср. также 7, 703774 и § 288). Все слова относятся к основному словарному фонду русского языка: брыжжу, вяжу, гложу, кажу, лижу, мажу, нижу, ржу, рѣжу, стружу.
Формулируя правила и иллюстрируя их минимальным количеством примеров, автор «Грамматики» пытался дать исчерпывающий список исключений из правил. Он не ограничивался при этом выборкой их из заранее заготовленных списков слов, а продолжал постоянно накапливать все новые и новые материалы. Об этом говорит, например, сопоставление исключений глаголов на -лю, приведенных в § 288 «Грамматики», со списком глаголов на -лю в рукописных материалах (7, 742—744831): из 11 исключений, приведенных в «Грамматике», в рукописном списке слов, насчитывающем 107 глаголов, встретилось лишь четыре исключения.
Знакомство с рукописными материалами показывает, что автор «Грамматики» очень долго и упорно занимался подготовкой
- 157 -
раздела о глаголе: обилие примеров и, в особенности, исключений из правил, взятых из живого разговорного языка, требовали большой затраты времени. До Ломоносова никто не производил подобных наблюдений над формообразовательными и словообразовательными процессами русского глагола. Естественно, возникал целый ряд трудностей, разрешение которых не всегда одинаково хорошо удавалось. Приходится сожалеть, что систематизация глаголов по формообразовательным элементам, правильно намечавшаяся в рукописных материалах, не получила всестороннего теоретического разрешения в «Грамматике»: отказ от принципа сочетания основы неопределенной формы глагола и основы настоящего времени при рассмотрении глагольных форм привел к созданию метода, не позволяющего исчерпывающе охватить наблюдаемые грамматические явления, и породил необходимость перечисления большого количества исключений из правил.
Этот недостаток присущ также 2-й и 3-й главам IV наставления, где рассматриваются в отдельности способы формообразования глаголов первого и второго спряжения. Мы не будем останавливаться на этих разделах, так как формы наклонения, времени и вида были рассмотрены в соответствующем месте. Отметим лишь, что количество иллюстраций в этих разделах превосходит количество иллюстраций во всех других разделах. Как и в предыдущих параграфах, Ломоносов пытается дать исчерпывающие списки исключений и заканчивает иногда перечисление словами: «Кроме сих, мало сыщется» (§ 310).
Залог
Рукописные грамматические материалы содержат несколько вариантов формулировок о залогах. Сопоставление их между собою и с окончательным текстом «Грамматики» позволяет установить последовательность разработки этого вопроса. Наблюдение над материалами о залогах ведется не изолированно от других грамматичских записей, а в тесной связи с ними. На стр. 137 указывалось, что наиболее ранним черновым вариантом раздела о глаголе следует признать текст на листе 126 (7, 695—696). В начале этого отрывка «О глаголѣ» Ломоносов пишет: «Глаголы раздѣляются на дѣйствительныя, страдательныя, среднія и общія» (7, 695). Здесь, как и во всех последующих рукописных вариантах, включая и «Табель грамматическую», он не употребляет термина залог, впервые введя его в § 71 «Грамматики». В отличие от Смотрицкого он указывает на четыре разновидности глаголов, исключая пятую, — отложительные глаголы, — введенную Смотрицким по образцу латинских и греческих грамматик (табл. 2).
- 158 -
Таблица 2
Материалы
Грамматика
1 вариант
2 вариант
3 вариант
Табель
грамматическая«Глаголы раздѣляются на дѣйствительныя, страдательныя, среднія и общія» (7, 695).
«Раздѣляется глаголъ на дѣйствительный, страдательный, относительный, средній и общій» (7, 697).
«Глаголы раздѣляются, перьвое, на дѣйствительныя, страдательныя, <возно> возвратныя, <взаимныя> среднія, общія и взаимныя» (7, 698).
Этот же вариант, переписанный набело: «Сверьхъ сего имѣютъ глаголы шесть особливыхъ знаменованій: дѣйствительное, страдательное, возвратное, среднее, общее и взаимное» (7, 681).
«Дѣйствительный
Страдательный
Средній
ОбщійВзаимный»
(7, вклейка между стр. 596—597).«Залогов шесть:
действительный,
страдательный,
возвратный,
взаимный,
средний,
общий» (§ 274).Ломоносова не удовлетворяло подобное деление глаголов, о чем свидетельствует запись на обороте рукописи: «Раздѣляется глаголъ на дѣйствительный, страдательный, относительный, средній и общій» (7, 697). Так как формулировка не сопровождена иллюстрациями, трудно сказать, какие глаголы предполагалось считать относительными.
Последующий вариант представлен значительно полнее: глаголы разделены «на дѣйствительныя, страдательныя <возно> возвратныя, <взаимныя> среднія, общія и взаимныя» (7, 698729), определены значения каждого из них и даны иллюстрации примерами. Ломоносов отказывается от термина относительные глаголы и к четырем ранее употребленным терминам добавляет еще два — возвратные и взаимные, отражающие особенности грамматического строя русского языка.
Такое деление глаголов он сохраняет и в переписанном набело тексте раздела о глаголе, наиболее близком к тексту § 274 «Грамматики». В отличие от всех предыдущих вариантов, где указывалось деление глаголов на действительные и другие, в этом варианте после перечисления категорий времени,
- 159 -
лица и числа Ломоносов пишет о том, что «сверьхъ сего имѣютъ глаголы шесть особливыхъ знаменованій: дѣйствительное, страдательное, возвратное, среднее, общее и взаимное» (разрядка наша, — В. М.) — 7, 681570. Он еще не ввел термина для обозначения этой категории, хотя ощущал в этом необходимость, о чем свидетельствует слово «знаменование».
В «Табели грамматической» Ломоносов подразделяет глаголы на действительные, страдательные, средние, общие и взаимные и лишь в § 274 «Грамматики» окончательно останавливается на шести залогах, одновременно введя в текст этот термин.
В результате творческой разработки этой грамматической категории Ломоносов утвердил шесть залогов, свойственных русскому языку. Он исключил из намеченных Смотрицким пяти залогов церковнославянского языка отложительный залог и добавил взаимный и возвратный залоги, в отличие от Лудольфа, который отбросил отложительный и общий и внес взаимный, и Адодурова, который исключил общий залог и сохранил четыре залога — действительный, страдательный, средний и отложительный. Адодуров указывает: «Die Genera Verborum als Actiuum, Passiuum, Neutrum und Deponens sind in dieser Sprache eben so gewöhnlich als in andern» [Действительный, страдательный, средний и отложительный глаголы в этом языке так же обычны, как в других].215
По словам акад. В. В. Виноградова, «в русской грамматике Ломоносова уже вырисовываются ясные контуры традиционных школьных шести залогов русского глагола».216
Ни в рукописных материалах, ни в «Грамматике» Ломоносов не дает общего определения этой категории, ограничиваясь определением каждого залога. В рукописи сохранилось несколько вариантов определения залогов, причем наибольший интерес представляют действительный и страдательный залоги.
Первоначальный вариант очень элементарен: «Дѣйствіе значащія глаголы называются дѣйствительныя. Н. п.: читаю, <читаеш ношу> вижу» (7, 696713); «Страданіе значащіе называются страдательны» (7, 696714). Определение залогов не содержит указания на характер действия и страдания. Иллюстрация залогов отсутствует.
В следующем варианте определения действительного глагола раскрывается характер действия, обозначаемого глаголом. Определение сопровождается иллюстрацией: «Дѣйствительный глаголъ значить дѣйствие, которое отъ одной вещи къ другой принадлежитъ. Н. п.: склоняю, возношу, откупаю» (7, 697717).
- 160 -
Определение страдательного глагола во втором варианте содержит указание на характер страдания и на грамматическое оформление этого залога: «Страда<тельн. есть>тельный глаголъ <есть, который> значитъ страданіе вещи, отъ <дѣйствія другой вещи происходящее или и отъ самой себя> собственного <своего>ея дѣйствія происходящее <н. п.> и рождается чрезъ приложеніе слога ся къ дѣйствительному глаголу» (7, 697718).
Ни содержание, ни стиль этого варианта не могли удовлетворить их автора, в особенности определение страдательного глагола: повторение слов «страдание» и «действие» сильно осложнило понимание контекста. Второй вариант определения был забракован автором, так же как и первый.
Третий вариант определения действительного глагола не представляет интереса и по существу равнозначен первому: «Дѣйствительный глаголъ есть, которой значитъ дѣйствіе, н. п.: <несу, ищу>, возношу, <кажу>, мою» (7, 698730).
Определение страдательного глагола в этом варианте содержит два элемента: указание на характер страдания и грамматическое оформление. Первый элемент выражен более четко по сравнению с предыдущим вариантом; вторая часть содержит другой способ образования страдательного залога: «Страдательный глаголъ значитъ страданіе <составляется>, отъ другого происходящее, и составляется исъ третіяго лица множественнаго числа действительнаго глагола и изъ мѣстоименій: меня, тебя, его; насъ, васъ, ихъ; Н. п.: меня моютъ» (7, 698731).
Противопоставление страдательного глагола действительному в данном варианте указывает скорее на различие действительного и страдательного оборотов, чем на различие действительного и страдательного залогов: подчеркивается, что «страдательный глаголъ значитъ страданіе, отъ другого происходящее», т. е. в страдательном глаголе (страдательном обороте) субъект действия не производит страдания. В отличие от предыдущего варианта, в котором предлагалось страдательный глагол производить из действительного прибавлением слога ся, в данном варианте в качестве формы выражения страдательного глагола (страдательного оборота) предлагается неопределенно-личное предложение со сказуемым, выраженным действительным глаголом. Этот вариант Ломоносов переписывает начисто (7, 681571, 572), уточняя лишь определение действительного глагола («Дѣйствительный глаголъ значитъ дѣйствие, отъ одного къ другому преходящее: возношу, мою») и добавляя иллюстрацию страдательного глагола: «меня возносятъ».
Определение действительного глагола из последнего варианта почти без изменений вошло в § 275 «Грамматики» с теми же иллюстрациями: «Действительный глагол значит
- 161 -
деяние, от одного к другому преходящее и в нем действующее».
Определение страдательного глагола в § 276 «Грамматики» оставлено без изменений. Способ выражения страдательного оборота предложен другой: он «составляется из причастий страдательных и из глагола есмь или бываю: Богъ есть прославляемъ; храмъ воздвигнутъ».
Однако Ломоносов не отказывается совсем от способа выражения страдательного оборота, предложенного в последнем рукописном варианте: в § 522 «Грамматики» он указывает, что «все действительные глаголы безлично склоняются, чем близко подходят к знаменованию страдательному: меня хвалятъ, тебя хвалятъ...» (разрядка наша, — В. М.).
Сохранились также варианты формулировок, в которых содержится определение значений и образование возвратного, взаимного, среднего и общего залогов глагола. Каждая из них сопровождена иллюстрацией.
Творческий процесс, связанный с созданием этих определений, заслуживает меньшего внимания по сравнению с определениями действительного и страдательного залогов: варианты рукописных материалов отличаются от соответствующих правил «Грамматики» в основном лишь стилистически, а не существом содержания. Сопоставим, например, варианты формулировок о возвратном глаголе: первоначальный вариант: «Возвратной глаголъ значитъ дѣйствіе и страданіе, <отъ самой стражд> к <одному> одной вещи или персонѣ надлежащее, и составляется изъ дѣйствительнаго глагола и слога сь или ся. Н. п.: возношусь, моюсь» (7, 698—699572).
Во втором варианте (7, 681573) слова «к одной вещи или персонѣ надлежащее» автор заменяет словами «к одному принадлежащее», а в окончательном тексте «Грамматики» — словами «от себя самого на себя ж происходящее», оставляя прочее без изменений. Следует признать, что правило «Грамматики» наиболее точно определяет значение возвратного залога.
Первоначальный вариант: о взаимном залоге: «Взаимный глаголъ составляется изъ действительн<ыхъ>аго <и> или среди <ихъ> яго глагола и частицы сь или ся и значитъ взаимное двухъ персонъ или вещей дѣйствіе, н. п.: вожусь» (7, 699735). Во втором варианте (7, 682576) слова «взаимное двухъ персонъ или вещей дѣйствіе» заменены словами «взаимное двухъ дѣяніе», что без изменений вошло и в текст «Грамматики» (следует отметить, что во всех определениях «Грамматики» встречается слово «деяние» взамен слова «действие», встречающегося в определениях в рукописных материалах).
Подобную же стилистическую кропотливую работу, направленную на улучшение смысла грамматических определений,
- 162 -
провел Ломоносов и над вариантами, относящимися к среднему и общему залогам.
Первоначальный вариант о среднем залоге: «Средній глаголъ значитъ бытіе самостоятельное, которое ни дѣйствія, ни страданія въ себѣ не заключаетъ, н. п.: сплю, хожу» (7, 699733). Второй вариант: «Средній глаголъ есть, который значитъ дѣяніе самостоятельное, ни дѣйствія, ни страданія въ себѣ не заключающее: сплю, хожу» (7, 681574).
В текст «Грамматики» (§ 279) внесен элемент сопоставления с действительным залогом в смысле грамматического оформления и характера действия, обозначаемого залогом, отчего правило значительно выиграло: «Средний глагол кончится, как действительный», и значит деяние, от одной вещи к другой не преходящее» (разрядка наша, — В. М.).
В рукописных материалах есть запись, содержание которой перекликается со смыслом этого параграфа: «Ex neutris fiunt aliquando activa per compositionem [Из средних образуются иногда действительные путем сложения]: лежу, отлеживаю бока; хожу, отходилъ ноги» (7, 697721). В прямом значении эта запись была использована автором для § 403, где говорится об образовании действительных глаголов из средних.
Определение общего глагола в двух вариантах (7, 699734 и 682575) почти текстуально совпадает с правилом § 280 «Грамматики».
Рукописные материалы содержат ряд примеров, отразивших размышления Ломоносова над вопросом о соотношении значений страдательного и возвратного залогов: меня бросаютъ (7, 630259), меня бъютъ — impersonale [безличный] (7, 693669).
Ломоносов тщательно обдумывает вопрос о значении, которое придает аффикс -ся, причем против некоторых выражений, которые употребляются вопреки правилам русского языка, он оставляет помету «худо», например: «Худо: я бьюсь отъ учителя» (7, 61080); «Я бьюсь отъ учителя худо»; рядом же приводит пример страдательного оборота: «Я бываю битъ учителемъ (7, 693668); «Это отъ тебя загорелось. Du hast es angezündet [Ты это зажег]» (7, 61081); «Мы боремся съ непріятелемъ». «Вы цѣлуетесь съ невѣстою» (7, 61083).
В отдельных случаях он правильно и тонко подмечает изменение семантики в некоторых глаголах с прибавлением аффикса -ся, например: Хожу, хожусь; вожу, вожусь (7, 694690), используя в § 363 «Грамматики» второй пример для иллюстрации правила и отбрасывая первый по понятной причине. Помимо примеров, в «Материалах» сохранилась лаконичная по форме, но глубокая по содержанию запись:
- 163 -
«Verba Ruthenica habent in significatione passive significationem prorsus diversam a relativa [Русские глаголы в страдательном значении имеют значение, совершенно отличное от возвратного]: отваливаю, отваливаюсь» (7, 697720).
Собранные материалы Ломоносов положил в основу § 363, где вопрос о соотношении страдательного и возвратного залогов рассмотрен весьма обстоятельно. Автор указывает, что «весьма обманывались многие, употребляя возвратный глагол вместо страдательного» по примеру латинского языка. Основным средством выражения страдательного залога он считал страдательное причастие в совокупности со вспомогательным глаголом. В § 363 говорится также о значениях, появляющихся в глаголе с прибавлением аффикса -ся к действительному и среднему глаголу.
Подчеркивая значение Ломоносова в разработке категории залога, акад. В. В. Виноградов отмечал, что автор «Российской грамматики» первый «обратил внимание на связь залоговых форм с различиями реальных значений глаголов и с различиями их синтаксического употребления».217
Значительное место рассмотрению категории залогов, в особенности действительного и страдательного (вернее, как уже говорилось, не залогов, а действительного и страдательного оборотов), автор «Грамматики» отводит в 3-й главе V наставления «О сочинении глаголов» (§§ 501—523). Совершенно справедливо Ломоносов переносит эти вопросы в раздел синтаксиса. В полном соответствии со взглядами Ломоносова высказывает свое мнение по вопросу о месте категории залога в русской грамматике акад. В. В. Виноградов: категория залога «в области грамматики ближе к синтаксису предложения, чем к морфологии слова».218
В изучении категории залога русского глагола Ломоносов смело шагнул вперед: первый установил шесть залогов, ставших традиционными в школьных грамматиках, определил значение и грамматическое оформление каждого из них, наметил связь залоговых форм с различиями реальных значений глаголов и показал, что действительный залог является основным залогом, с которым связаны другие залоги, причем страдательный залог должен быть противопоставлен действительному.
Неправильные и неполные глаголы
Рукописные материалы свидетельствуют о большом интересе Ломоносова к вопросам суффиксального и, в особенности, префиксального формообразования глаголов. Как известно, различные
- 164 -
формы, образованные посредством суффиксов и приставок от одного корня, он рассматривал как разные времена одного глагола. Наблюдая над этими формами, Ломоносов пришел в «Грамматике» к небезынтересному заключению о том, что «в российском языке» есть «великое множество» неполных глаголов, которые «либо прошедшего однократного, либо совершенного, либо давнопрошедшего времени и от них происходящих не имеют» (§ 358).
Из числа неполных глаголов Ломоносов выделяет глаголы очутиться, очураться, очреватѣть и пр. (§ 426), лишенные целого ряда форм. В рукописных материалах два первых глагола он повторяет неоднократно: «Очудился.219 Derectivum [Неполный]» (7, 622163). «Очудился, довелось» (7, 692657). «Очураться» (7, 693675) и последний раз в рубрике «Неполныя» «очураться, очудиться» (7, 695). Глагол очреватеть в рукописных материалах отсутствует.
В § 427 «Грамматики» Ломоносов обращает внимание на глагольные формы типа глядь, брякъ, обозначающие, по его меткому выражению, «скорые действия».220
В рукописных материалах Ломоносов вел наблюдения над большим количеством примеров и как всегда к интересующей его теме возвращался неоднократно: на одном из первых листов рукописи (л. 6) встречается короткая неоткомментированная запись: «Глядь, брякъ Пихъ, тыкъ. Совь, тряхъ. Хвать, шасть» (7, 60426).
В следующих записях, хронологически более поздних, помимо глагольных форм, в одних случаях появляются иллюстрации их употребления, например: «Ощупомъ и чуръ Defect. [Неполные]. Чуръ забылъ» (7, 642. Разрядка наша, — В. М.), в других сведения об их образовании, например: «Глядь, брякъ, хвать, совъ, тыкъ происходить ab infin. [от неопределенной формы]: глядѣтъ, глядь; брякать, брякъ; хватать, хвать; совать, совъ; плевать, плювъ; крикъ, толкъ» (7, 692664).
Последняя запись относится ко времени систематизации материала, и эти формы включены исследователем в рубрику «Неполныя»: «глядь, брякъ, хвать, совъ, тыкъ, etc.» (7, 695) с замечанием «NB. приискать», что свидетельствует о намерении Ломоносова еще раз дополнить список иллюстрацией.
Рукописные материалы свидетельствуют о размышлениях Ломоносова над вопросами спряжения и употребления некоторых неправильных глаголов, например: «Даю, дамъ,
- 165 -
дашь, дастъ»; рядом с ним ѣстъ221 (7, 628239). Даю, емъ, дамъ (7, 693680). Даю, емъ (7, 695).
Ломоносова интересовало не только формообразование, но и употребление глагола дать: он записывает сочетание слов «Дастся написать», сопровождая его заметкой для памяти: «Usus verbi [Употребление глагола] даю» (7, 625). Последующие записи содержат примеры употребления этого глагола:
«О употребленіи глагола даю, давалъ
1) ich gab man[ch]mahl
ich pflegte zu geben2) ich wol[l]te ihm geben» (7, 694).
«Дай мнѣ говорить. Laß mich reden» (7, 700).
В «Грамматике» Ломоносов ограничивается лишь приведением парадигмы глагола дать (§ 422) и указанием на то, что этот глагол, как и ряд других, «окончаниями от правил отходит». Об употреблении глагола даю в «Грамматике» говорится лишь мимоходом (§ 525).
Рукописные записи свидетельствуют о колебаниях Ломоносова в выборе формы 3-го лица множественного числа глагола «хотѣть»: при спряжении глагола в настоящем времени Хочу, чешешь, четъ; тим, тите, <тятъ> (7, 612105) последнюю форму он вычеркивает и не заменяет другой. В следующей записи он дает две формы 3-го лица множественного числа хочу, хочешь; хотятъ, хочутъ (7, 694), не указывая на предпочтение той или иной. Одна из записей отражает ту точку зрения, которая изложена в § 422: «Хочу, хочешь — 1 con[jugationis] [первого спряжения], хотятъ — 2-dae irreg. [второе неправильное]» (7, 693674). Характерно, что формы хочемъ, хочете не встретились среди рукописных записей ни разу. В «Грамматике» Ломоносов называет их непристойными. Формы хотим, хотите, хотят, утвержденные «Грамматикой» и литературной практикой ее автора, становятся нормой русского литературного языка.
Следует отметить некоторую неточность отдельных формулировок рукописных материалов и «Грамматики» при определении форм спряжения, например: правильно отнеся ряд глаголов на -чу и -щу ко второму спряжению, Ломоносов вводит в число исключений из этого правила также форму хочу (7, 703780) и архаическую хощу (7, 704782, § 289). Так как эти формы находятся рядом с глаголами первого спряжения, создается впечатление, что и они относятся к тому же спряжению. Между тем в § 422 «Грамматики» Ломоносов справедливо относит этот глагол к неправильным, так как он отличается «разностию окончания в лицах».
- 166 -
Глагольное словообразование
Вопросы глагольного словообразования рассматривались Ломоносовым в связи с формообразованием глаголов. Об этом мы упоминали в разделе о классах глагола и видовой соотносительности. Ни рукописные материалы, ни «Российская грамматика» не содержат разработанных теоретических положений о префиксальном, суффиксальном и комбинированном способах глагольного словообразования (литературная практика Ломоносова по данному вопросу значительно шире его теории). Тем не менее и рукописные записи, содержащие отдельные теоретические замечания и, как всегда, богатый иллюстративный материал, и «Грамматика», содержащая ряд формулировок, позволяют со всей настойчивостью утверждать, что Ломоносов проявлял большой интерес к вопросам глагольного словообразования.
В рукописных материалах зафиксирован вывод, сложившийся в результате наблюдения над словообразованием и не вошедший в «Грамматику» (он следует после перечисления ряда предлогов): «Нѣкоторые изъ предписанныхъ предлоговъ <сочиняются> полагаются предъ именами существительными и обще съ глаголами совокупляются, <какіе суть> какъ: у, от, из или с, во, со, ко, над, о или об, по, под, пред, при, до, за и проч.». Далее приведен ряд примеров: «Убытокь, отдыхаю, избавляю, слагаю, вопросъ, сочетаю» и другие существительные и глаголы. Затем следует другой вывод: «Прочіе къ однимъ только глаголамъ предлагаются, напримеръ: восхожу, нисхожу, расхаживаюся, прехожу, прохожу» (7, 756852). Этим выводам предшествовали неоднократно написанные перечни предлогов и иллюстрации их приставочными глаголами (7, 693, 696, 708).
Многочисленны записи приставочных глаголов с целью разбивки их по значению, например:
«Учащательные, начинательные, увеличительные, умалительныя, кончательныя, удоволственныя.
Заговорилъ, заговорю, заговори, заговорить.
безъ, во, въ, вы, возъ, за, изъ, на, надъ, низъ, о, объ, отъ, по, предъ, пре, при, изъ, со, съ, у.
Безъ, безчещу, беспокою, беззаконствую, бездельничаю, въ вношу, вхожу, вкатываю» и т. д. (7, 704786; см. также 624190—192, 693666, 678, 696710).
Иногда Ломоносов иллюстрировал значение глагольной приставки приведением не одиночных примеров, а целых фраз, взятых из народной разговорной речи, например: «Онъ свое щастье въ саду проходилъ, на печи пролежалъ. Онъ свою бѣду проспалъ. Завтреню проспалъ. Никакъ ты завтреню проспалъ» (7, 630253).
- 167 -
Окончательным выводом наблюдений Ломоносова над значением, которое придают приставки глаголам, явилось теоретическое обобщение, изложенное в § 408. «Многие предлоги в прошедших и будущих совершенных временах наклонения изъявительного и повелительного и в неокончательном неопределенном служат к приданию особливого знаменования и силы глаголам, не имеющим того в настоящем времени изъявительного» (разрядка наша, — В. М.). Так как вопрос о приставочных образованиях, связанных с категорией вида, мы рассматривали в разделе «Вид и время», здесь повторять этого не будем.
В §§ 409—419 автор «Грамматики» раскрывает значение глагольных приставок, иллюстрируя выводы примерами. А. Будилович отмечал, что Ломоносов много работал над главой о глаголах, «стараясь определить... оттенение смысла глаголов в сложении с разными предлогами».222
В литературной практике Ломоносова глагольное приставочное словообразование, как отмечают исследователи, представлено очень широко.223
Ни рукописные материалы, ни «Грамматика» не содержат теоретических замечаний о суффиксальном способе словообразования глаголов (здесь уместно вспомнить еще раз, что Ломоносов не признавал суффикс как особую морфему слова). Однако в своей литературной практике и при грамматических исследованиях, в частности, при рассмотрении глагольных форм, обозначающих оттенки качества действия (см. выше стр. 143—144) широко прибегал к этому способу глагольного словообразования.
В рукописных материалах и «Грамматике» Ломоносов приводит примеры образования глаголов от различных частей речи: «Производные рождаются 1) отъ именъ, н. п. странствую, бѣлѣю, 2) отъ местоименій, н. п.: присвояю, 3) отъ наречія, н. п.: поздаю, 4) отъ междометія, н. п.: ахаю, гагайкаю» (7, 700739, 679560). Другой вариант: «Сложенныя составляются 1) изъ имени и глагола: благодарю, 2) изъ мѣстоименія и глагола: своевольствую, 3) из нарѣчія и глагола: прекословлю, несмотрю, 4) изъ одного предлога и глагола: отдаю, прославляю, 5) изъ двухъ предлоговъ и глагола: преодолѣваю, 6) изъ трехъ предлоговъ и глагола: разопредѣляю, 7) изъ предлога, имени и глагола: обоготворяю, отреноживаю, оживотворяю» (7, 679—680561).
В полном соответствии с первым вариантом находится § 264, со вторым — § 265.
- 168 -
В рукописных материалах содержатся многочисленные примеры отыменных глаголов в тех местах, где приводятся списки глаголов, разбитых на группы. Однокоренные существительные приведены в параллель глаголам, образовавшимся от них (об этом упоминалось выше в связи с классами глаголов).
—————
- 169 -
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Российская грамматика», созданная гениальным русским ученым не только в силу страстной любви к науке и исследованию, но и из высоких патриотических побуждений, явилась, по определению акад. И. И. Давыдова, «родоначальницей» всех последующих грамматик русского языка.224 Создавая грамматику, Ломоносов, по словам Е. Ф. Будде, обнаружил «мужество и отвагу мысли».225 Все содержание этого классического труда носит на себе печать гения его создателя. Успех исследования определило всестороннее изучение письменных источников древнерусского языка и грамматических сочинений предшественников и, главное, умение вслушиваться в живую разговорную речь и понимать законы ее развития.
Исследование вопроса о создании основных отделов «Российской грамматики» показывает, что она имеет свою большую и поучительную историю. Автор этого замечательного труда обнаруживает материалистическую направленность мировоззрения научного метода как при рассмотрении общих теоретических вопросов языка, так и при создании разделов о грамматических категориях имен и глаголов и их грамматических формах.
Исключительную роль в изучении вопроса об истории возникновения «Российской грамматики» играет черновая рукопись материалов к ней, раскрывающая перед нами ход лингвистических мыслей ее автора, сложный и трудный путь его творческих исканий. Она представляет нам во всей красочности и многообразии богатейшую основу, на которой прочно возводилось здание первой научной грамматики русского языка. Многочисленные языковые факты, выбранные из различных
- 170 -
источников, подвергались оригинальной, строгой группировке и самостоятельному освещению. Сопоставление черновой рукописи с печатным текстом дало возможность установить, как создавались те или иные положения, как рождались чеканные формулировки грамматических правил.
«Материалы к „Российской грамматике“» позволили выявить первоначальные замыслы Ломоносова о характере грамматики, осложненной различными теоретическими рассуждениями («присовокуплениями») по общим вопросам. Они дали возможность проследить, как в процессе обдумывания плана работы Ломоносов постепенно освобождался от мысли о «присовокуплениях», изложив четкий план основы «Грамматики» в виде «Табели грамматической», где все грамматические категории даны во взаимосвязи.
Рассмотрение черновой рукописи помогло обнаружить ряд материалов и формулировок, не вошедших по тем или иным причинам в окончательный текст «Грамматики». Оно позволило в отдельных случаях более широко, чем в «Грамматике», выявить формы литературного словоизменения и, в особенности, словообразования середины XVIII в., представленные в самой «Российской грамматике», по словам акад. В. В. Виноградова, «с небывалой полнотой».226
Сопоставление зафиксированных в «Материалах» и «Грамматике» норм литературного языка с литературной практикой самого их автора свидетельствует о том, как Ломоносов, колебавшийся подчас в выборе той или иной формы, следовал «рассудительному» ее употреблению, сопоставляя теорию с языковой практикой. Установленные им нормы литературного языка, а также научная и художественная проза и поэзия показывают, как в целом ряде случаев талант грамматиста и писателя помогал ему глубоко и правильно понять и определить основные тенденции исторического развития русского языка.
В свете гениального определения общественной функции языка, данного В. И. Лениным («Язык есть важнейшее средство человеческого общения»),227 очень ценным является великий почин Ломоносова в деле активного воздействия на русский литературный язык в эпоху его становления. Отмечая заслуги Ломоносова в развитии русского литературного языка, М. И. Калинин писал: «Великий русский ученый Ломоносов много потрудился над созданием русского языка, что способствовало восприятию новых идей его времени русским обществом».228
- 171 -
Морфологические исследования Ломоносова (в частности, исследование о глаголе, представленное как в «Материалах», так и печатном тексте «Российской грамматики») с современной точки зрения страдают недостатками. Однако при оценке научной деятельности прошлого мы руководствуемся указанием В. И. Ленина о том, что «исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками».229
—————
- 172 -
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Стр.
1. М. В. Ломоносов. Мраморный бюст работы Ф. И. Шубина) (1793)
2. Первая страница корректурного оттиска словаря А. И. Богданова с визой И. И. Тауберта (ААН СССР, p. V, оп. Т-2, № 10, л. 9)
3. Титульный лист многоязычного словаря К. А. Кондратовича (ААН СССР, p. V, оп. 1-К, № 41, л. 1)
4. Страница из рукописи «Материалы к „Российской грамматике“» (ААН СССР, ф. 20, оп. 1, № 5, л. 88 об.)
5. Страница из рукописи «Материалы к „Российской грамматике“» (ААН СССР, ф. 20, оп. 1, № 5, л. 7 об.)
6. Фронтиспис первого издания «Российской грамматики»
—————
- 173 -
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Введение
3
Глава I. Филологическая деятельность Академии наук в доломоносовский период (1725—1741)
6
Глава II. Филологическая подготовка Ломоносова и его деятельность в области филологии до выхода в свет «Российской грамматики»
23
Занятия филологией в годы учения
23
Словарная деятельность
28
Работа над теорией русского стиха и прозы
32
Грамматический спор с Тредиаковским
34
Переводческая и педагогическая деятельность
35
Глава III. Работа над материалом для «Российской грамматики» и история ее текста
37
Глава IV. Разработка категории имени
60
Имя существительное
60
Род
61
Число и склонение
66
I склонение (71). II склонение (80). III склонение (101). IV склонение (102).
Словообразование имен существительных
105
Имя прилагательное
113
Некоторые замечания о грамматических формах имени числительного
126
Глава V. Разработка категории глагола
129
Наклонение
132
Время и вид
134
Залог
157
Неправильные и неполные глаголы
163
Глагольное словообразование
166
Заключение
169
Список иллюстраций
172
—————
- 174 -
- 175 -
Валентина Николаевна Макеева
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «РОССИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ»
М. В. ЛОМОНОСОВА
*Утверждено к печати
Институтом истории естествознания и техники
Академии Наук СССР
*Редактор Издательства А. И. Соболева
Художник Д. С. Данилов
Технический редактор Л. М. Галиганова
Корректор Н. М. ШиловаСдано в набор 10/IV 1961 г. Подписано к печати 19/VII 1961 г.
РИСО АН СССР № 20—115В. Формат бумаги 60×921/16. Бум.
л. 51/2 Печ. л. 11=11 усл. печ. л. + 1 вкл. Уч.-изд. л. 10,93 +
+ 1 вкл. (0,04). Изд. № 1450. Тип. зак. № 146. М-63505.
Тираж 3000.
Цена 76 коп.Ленинградское отделение Издательства Академии наук СССР
Ленинград, B-164, Менделеевская лин., д. 1
————————————————————————————
1-я тип. Издательства Академии наук СССР
Ленинград, B-34, 9 линия, д. 12
- 176 -
ИСПРАВЛЕНИЯ
Страница
Строка
Напечатано
Должно быть
26
6 сн.
Lohannis
Johannis
29
16 сн.
письмены
письмени
41
2 св.
Через
Черезъ
169
17—18 св.
мировоззрения
научного методамировоззрения
и научного методаСноскиСноски к стр. 3
1 В. Г. Белинский. Грамматические разыскания В. А. Васильева. Полн. собр. соч., т. IX, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 232.
2 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч. в шести томах, ГИХЛ, 1934, стр. 229.
Сноски к стр. 4
3 Rußische Grammatick verfaßet von Herrn Michael Lomonoßov... aus dem Rußischen übersetzt von Johann Lorenz Stavenhagen. St.-Pt., 1764.
4 А. Будилович. М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869, стр. 17—35; М. В. Ломоносов, Сочинения, т. IV, СПб., 1898, стр. 49—50, 69, 89, 99, 115—122, 126, 127, 130, 139, 140, 142—143, 145, 147—154, 159—161, 163, 166, 167—177, 178—197, 201—209, 216—221, 227—229, 231, 236, 237, 242—245, 250—258 втор. пагинации.
5 М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., Тр. по филологии, т. VII, Изд. АН СССР, М. — Л., 1952, стр. 593—760.
Сноски к стр. 6
6 С. И. Вавилов, Собр. соч., т. III, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 801.
Сноски к стр. 7
7 Б. А. Ларин. Русская грамматика Лудольфа 1696 года. Л., 1937, стр. 114.
8 П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом, т. II. СПб., 1862.
9 [Ф. П. Поликарпов]. Лексикон трехъязычный, сиречь речений славенских, эллиногреческих и латинских сокровище, из различных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное. Москва, 1704.
10 [Я. В. Брюс]. Книга лексикон или собрание речей по алфавиту с российского на голландский язык. Санктпетербург, 1717.
Сноски к стр. 9
11 [М. Г. Смотрицкий]. Грамматики славенския правильное синтагма, потщанием многогрешнаго мниха Мелетия Смотрицкого. [Евю], 1619. Это издание является библиографической редкостью, поэтому все ссылки в дальнейшем даются на более доступное издание 1648 г. сокращенно: М. Смотрицкий.
Сноски к стр. 10
12 М. И. Сухомлинов. Материалы для истории имп. Академии наук, т. I. СПб., 1885, стр. 75.
13 С. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. IV, т. XVI. СПб., [1893—1895], стр. 290.
14 Официальное открытие Академии наук состоялось 27 декабря 1725 г., когда было устроено торжественное собрание академиков. См.: П. Пекарский. История имп. Академии наук в Петербурге, т. I. СПб., 1870, стр. XXXVIII—XXXIX.
15 Там же, стр. 190.
16 Например, И.-Г. Лоттер (1735—1737).
17 Например, Г.-Ф. Юнкер (1731—1737) и Я. Я. Штелин (1735—1785).
Сноски к стр. 12
18 «Езда в остров любви». Переведена с французского на русский чрез студента В. Тредиаковского. СПб., 1730, к читателю, стр. 12—13 (ненум.).
19 П. Пекарский. История имп. Академии наук..., II, стр. 43.
Сноски к стр. 13
20 А. И. Соболевский. Русский литературный язык. Тр. I съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях (приложение 1). СПб., 1904.
21 ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 5, л. 611.
22 П. Пекарский. История имп. Академии наук..., I, стр. 403—404.
23 М. И. Сухомлинов. Материалы для истории... II, стр. 523.
24 Там же, I, стр. 603.
Сноски к стр. 14
25 Teutsch-lateinisch- und russisches Lexicon samt denen Anfangs-Gründen der russischen Sprache zu allgemeinem Nutzen. Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка к общей пользе. St.-Pt., 1731. В дальнейшем ссылки на эту работу даются сокращенно: Адодуров.
26 А. Будилович, стр. 71.
Сноски к стр. 15
27 С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России, т. I. СПб., 1904, стр. 321—322.
Сноски к стр. 16
28 ПСС, т. 7, стр. 87.
29 История Академии наук СССР, т. I. Изд. АН СССР, М. — Л., 1958, стр. 131—132.
Сноски к стр. 17
30 И. С. Вдовин. История изучения палеоазиатских языков. М. — Л., 1954, стр. 24.
31 Там же, стр. 18—38.
32 М. И. Сухомлинов. Материалы для истории..., II, стр. 633.
33 А. Куник. Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII веке, ч. I. СПб., 1865, стр. 10—11.
34 П. Пекарский. История имп. Академии наук..., I, стр. 403.
35 ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 519, л. 182.
Сноски к стр. 18
36 Избр. соч. В. К. Тредиаковского, изд. П. Перевлесского, СПб., 1849, стр. 105 (подлинник на французском языке).
37 П. Пекарский. История имп. Академии наук..., II, стр. 987.
38 ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 301, л. 141.
39 М. И. Сухомлинов. Материалы для истории..., X, стр. 545.
40 П. Пекарский. История имп. Академии наук..., I, стр. 643.
Сноски к стр. 20
41 П. Пекарский. История имп. Академии наук..., I, стр. 650.
42 М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, вып. 8. СПб., 1888, стр. 5.
43 С. К. Булич, стр. 220.
44 ААН СССР, разряд V, оп. Т-2, № 12, л. 7 об.
45 Там же, ф. 3, оп. 1, № 542, л. 214 об.
46 Там же, л. 225.
47 Там же.
48 П. Пекарский. История имп. Академии наук..., I, стр. 639.
Сноски к стр. 21
49 ААН СССР, разряд I, оп. 76. № 7, л. 3.
50 Там же, лл. 2—3.
51 Там же, л. 1.
Сноски к стр. 23
52 А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. VII, М. — Л., 1951, стр. 28.
Сноски к стр. 24
53 ПСС, т. 10, стр. 479.
54 А. С. Пушкин, т. VII, стр. 20.
55 Г. А. Воскресенский. Ломоносов и Славяно-греко-латинская академия. В кн.: М. В. Ломоносов, его жизнь и сочинения. Сб. историко-литературных статей, сост. В. П. Покровский, М., 1909, стр. 17.
56 ПСС, т. 7, стр. 790.
Сноски к стр. 25
57 Chr. Schlötzer. August Ludvig von Schlötzers öffentliches und Privatleben, Bd. 1. Leipzig, 1828, стр. 89.
58 А. Куник, ч. II, стр. 230.
59 Там же, стр. 247.
60 Там же, стр. 260.
Сноски к стр. 26
61 ПСС, т. 8, стр. 867—868.
62 М. И. Сухомлинов. Ломоносов — студент Петербургского университета. Русск. Вестн., т. XXXI, № 1, 1861, стр. 156.
63 См.: А. Куник, ч. 1, стр. 131, 132, где названия словарей даны в сокращенном виде. Полные их названия: Faber (Basilius Schmidt). Thesaurus eruditionis scholasticae omnium usui et disciplinis omnibus accomodatus post celeberrimorum virorum Buchneri, Cellarii, Graevii operas et adnotationes et multiplices curas iterum recensitus, emendatus, locupletatus a. Jo. Matthia Gesnero. Lipsiae [Фабер (Василий Шмидт). Сокровищница схоластической учености, приспособленная для всеобщего пользования и всех наук, после славнейших мужей Бухнера, Целлария, Грева с примечаниями, дополнениями и изменениями изданная вторично, улучшенная и исправленная И.-М. Геснером. Лейпциг], 1735; J.-L. Frisch. Nouveau dictionnaire des passagers françois-allemand et allemand-françois, oder Neues französisch-teutsches und Teutsch-französisches Wörterbuch... Leipzig [И.-Л. Фриш. Новый французско-немецкий и немецко-французский словарь путешественников... Лейпциг], 1733; Chr.-E. Steinbach. Vollständiges deutsches Wörterbuch, vel Lexicon germanico-latinum, cum praefacionibus et autoris et Lohannis-Ulrichi Koenig... Tomus I—II. Bresslau. [Хр.-Е. Штейнбах. Полный немецкий словарь или лексикон немецко-латинский с введениями автора и Иоганна-Ульриха Кёнига... Томы I—II. Бреславль], 1734.
64 ПСС, т. 7, стр. 790.
65 ААН СССР, ф. 20, оп. 2, № 3.
Сноски к стр. 27
66 ПСС, т. 7, стр. 791.
67 П. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 703.
68 ПСС, т. 7, стр. 690.
Сноски к стр. 28
69 Там же, стр. 608.
70 ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 2. Подробнее о лексикографической работе Ломоносова см. статью: В. Н. Макеева. Русская лексикография 40—50-х годов XVIII в. и Ломоносов. «Ломоносов. Сборник статей и материалов», т. IV, Изд. АН СССР, М. — Л., 1960, стр. 180—205.
Сноски к стр. 29
71 ПСС, т. 7, стр. 688.
72 Там же, стр. 689.
73 ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 2.
74 Там же.
75 М. И. Сухомлинов. Материалы для истории..., X, стр. 685.
76 ПСС, т. 10, стр. 381.
Сноски к стр. 30
77 Сборник отд. рус. яз. и словесности Академии наук, т. XIII, СПб., 1875, стр. 36—37.
78 ПСС, т. 9, стр. 622.
79 Там же, стр. 622—623.
80 Там же, стр. 623.
Сноски к стр. 32
81 ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 301, л. 141.
82 Там же, р. V, оп. Т-2, № 10.
Сноски к стр. 33
83 В первом, рукописном варианте (1744 г.) она именовалась «Краткое руководство к риторике», во втором, печатном (1748 г.) — «Краткое руководство к красноречию».
84 ПСС, т. 7, стр. 792.
85 В. Н. Татищев. История Российская с древнейших времен, кн. 1. 1768, стр. 493.
Сноски к стр. 34
86 ПСС, т. 7, стр. 70.
87 Там же, стр. 219, 236—237.
Сноски к стр. 35
88 Там же, стр. 803.
89 П. Пекарский. История имп. Академии наук..., II, стр. 396; М. И. Сухомлинов. Материалы для истории..., X, стр. 63.
90 М. И. Сухомлинов. Материалы для истории..., Х, стр. 477.
Сноски к стр. 36
91 ПСС, т. 7, стр. 691.
Сноски к стр. 37
92 «Ломоносов. Сборник статей и материалов», т. I, Изд. АН СССР, М. — Л., 1940, предисловие, стр. 3.
93 С. И. Вавилов, Собр. соч., т. III, стр. 801.
94 ПСС, т. 1, стр. 424.
95 Там же, стр. 74—75.
Сноски к стр. 38
96 Там же, т. 4, стр. 163.
97 Ф. И. Буслаев. Ломоносов как грамматик. В кн.: Празднование столетней годовщины Ломоносова 4 апреля 1765—1865 имп. Московским университетом. М., 1865, стр. 67.
Сноски к стр. 39
98 Там же, стр. 73.
99 Д. С. Лихачев. Возникновение русской литературы. М. — Л., 1952, стр. 16.
100 С. П. Обнорский. Язык договоров русских с греками. Сб. «Язык и мышление», вып. V—VII. М. — Л., 1936, стр. 403.
Сноски к стр. 40
101 ПСС, т. 7, стр. 895.
Сноски к стр. 41
102 Здесь и в дальнейшем при ссылке на «Материалы к „Российской грамматике“» в скобках указывается: курсивом — номер тома, прямым шрифтом — страница по ПСС, мелким шрифтом — номер примечания в том же томе; при ссылке на «Российскую грамматику» в скобках дается номер параграфа.
Сноски к стр. 53
103 ПСС, т. 10, стр. 389, 391, 464.
104 Протоколы заседаний Конференции имп. Академии наук с 1725 по 1803 год, т. II, 1744—1770. СПб., 1899, стр. 333.
105 ПСС, т. 7, стр. 847; ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 203, лл. 109—110.
106 ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 204, лл. 211—212.
107 ПСС, т. 7, стр. 848; ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 204, лл. 211—212.
Сноски к стр. 54
108 ПСС, т. 7, стр. 848; ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 466, л. 348.
109 ААН СССР, ф. 3, оп. 1, № 205, л. 7—7 об.
110 Там же, № 525, л. 51.
111 Там же, л. 78.
112 Там же, оп. 4, № 8, лл. 4—5.
Сноски к стр. 56
113 Rußische Grammatick verfaßet von Herrn Michael Lomonoßow... aus dem Rußischen übersetzt von I.-L. Stavenhagen. St.-Pt., 1764.
Сноски к стр. 61
114 М. Смотрицкий, л. пд̃.
Сноски к стр. 62
115 В. В. Виноградов. Русский язык. Учпедгиз, М. — Л., 1947, стр. 58.
Сноски к стр. 63
116 Современный русский язык, под ред. акад. В. В. Виноградова. Изд. МГУ, М., 1952, стр. 63.
Сноски к стр. 64
117 В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 69.
Сноски к стр. 65
118 М. Смотрицкий, л. пѕ̃. Адодуров, стр. 10.
Сноски к стр. 66
119 М. Смотрицкий, лл. ч̃ об., ча̃.
120 Адодуров, стр. 13.
Сноски к стр. 67
121 М. Смотрицкий, л. ча̃ об.
122 Там же, л. чв̃.
Сноски к стр. 72
123 Адодуров, стр. 14.
Сноски к стр. 73
124 Там же, стр. 14—15.
Сноски к стр. 74
125 Там же, стр. 14—15.
Сноски к стр. 76
126 Грамматика русского языка, т. I. Изд. АН СССР, М., 1952, стр. 169—170.
127 Адодуров, стр. 14.
128 С. П. Обнорский. Именное склонение в современном русском языке, вып. II. Множественное число. Л., 1931, стр. 201.
Сноски к стр. 77
129 Адодуров, стр. 15.
Сноски к стр. 79
130 Там же, стр. 15.
131 С. П. Обнорский. Именное склонение в современном русском языке, вып. 1. Единственное число. Л., 1927, стр. 293.
Сноски к стр. 80
132 М. Смотрицкий, стр. ри̃ об. — рѳ̃.
Сноски к стр. 81
133 Адодуров, стр. 17—18.
Сноски к стр. 87
134 С. П. Обнорский. Ломоносов и русский литературный язык. Изв. АН СССР, отд. литер. и языка, № 1, 1940, стр. 61.
135 Т. А. Шаповалова. Формы существительных и прилагательных в «Российской грамматике» и художественных произведениях М. В. Ломоносова. Уч. зап. Абаканск. гос. пед. инст., вып. I. Абакан, стр. 93.
Сноски к стр. 90
136 Адодуров, стр. 20.
Сноски к стр. 92
137 С. П. Обнорский. Именное склонение..., I, стр. 104.
138 Там же.
139 Т. А. Шаповалова. Формы существительных и прилагательных в «Российской грамматике»..., стр. 197—198.
Сноски к стр. 93
140 Адодуров, стр. 19.
Сноски к стр. 94
141 С. П. Обнорский. Именное склонение..., II, стр. 5.
142 Там же, стр. 134.
Сноски к стр. 95
143 Адодуров, стр. 20.
144 С. П. Обнорский. Именное склонение..., II, стр. 136.
Сноски к стр. 96
145 Там же, стр. 88.
146 С. П. Обнорский. Ломоносов и русский литературный язык, стр. 64.
Сноски к стр. 98
147 С. П. Обнорский. Именное склонение..., II, стр. 122—126.
Сноски к стр. 99
148 Там же, стр. 35—36.
Сноски к стр. 100
149 М. В. Ломоносов, Сочинения, т. III, СПб., 1895, прим. 11.
Сноски к стр. 103
150 С. П. Обнорский. Именное склонение..., I, стр. 241.
Сноски к стр. 105
151 Там же, стр. 17.
Сноски к стр. 112
152 С. П. Обнорский. Ломоносов и русский литературный язык, стр. 63—64.
153 С. П. Обнорский. Именное склонение..., I, стр. 29—30.
Сноски к стр. 113
154 А. Грандилевский. Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Сб. отд. рус. яз. и словесности, т. 83, № 5, СПб., 1907, стр. 7. Наряду с диалектизмами, свойственными «холмогорскому наречию», А. Грандилевский приводит ряд форм, которые находим и в сочинениях москвича А. П. Сумарокова.
Сноски к стр. 114
155 Адодуров, стр. 29.
156 ПСС, т. 7, стр. 83.
157 Т. А. Шаповалова. Формы существительных и прилагательных в «Российской грамматике»..., стр. 118.
158 В. И. Чернышев. Михаил Васильевич Ломоносов и его «Российская грамматика». Русск. яз. в школе, 1940, № 2, стр. 10.
Сноски к стр. 115
159 ПСС, т. 7, стр. 84, где вычеркнутый Ломоносовым текст был опубликован впервые.
160 Адодуров, стр. 30.
Сноски к стр. 116
161 Там же, стр. 29.
162 ПСС, т. 7, стр. 81—87.
163 Экземпляр этого издания с корректурными поправками Тредиаковского хранится в ААН СССР, р. III, оп. 1, № 93.
164 J. Langius. Colloquia latina. Halae Sax. [Латинские разговоры. Галле], 1730.
Сноски к стр. 117
165 ПСС, т. 7, стр. 801.
166 ААН СССР, р. I, оп. 76, № 5а.
167 Там же, р. III, оп. 1, № 93.
168 Более подробно об устной дискуссии Ломоносова с Тредиаковским см.: ПСС, т. 7, стр. 801—802.
169 П. П. Пекарский. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 103.
Сноски к стр. 118
170 ПСС, т. 7, стр. 84.
171 Там же, стр. 87.
172 Там же.
173 Там же, стр. 86.
174 П. П. Пекарский. Дополнительные известия для биографии Ломоносова, стр. 102—116.
175 Там же, стр. 105.
Сноски к стр. 119
176 Там же, стр. 107.
Сноски к стр. 120
177 В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 238.
178 Адодуров, стр. 12.
Сноски к стр. 122
179 Там же, стр. 12.
Сноски к стр. 123
180 В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 255.
Сноски к стр. 125
181 Т. А. Шаповалова. Формы существительных и прилагательных в «Российской грамматике»..., стр. 126.
182 С. И. Глушков. Язык од Ломоносова. Автореферат канд. дисс. Киев, 1954.
Сноски к стр. 126
183 П. Я. Черных. Историческая грамматика русского языка, М, 1952, стр. 205.
Сноски к стр. 127
184 Адодуров дает только форму сорокью (стр. 32).
185 П. Я. Черных, стр. 207.
186 Там же, стр. 211.
Сноски к стр. 128
187 Для женского рода Адодуров дает только эту форму.
Сноски к стр. 129
188 Будилович, стр. 70.
Сноски к стр. 130
189 Б. А. Ларин, стр. 25.
190 Там же, стр. 120.
Сноски к стр. 131
191 С. П. Обнорский. Русская грамматика Лудольфа 1696 года. Сб. «Советское языкознание», т. III, Л., 1937, стр. 43.
192 Адодуров, стр. 39.
Сноски к стр. 132
193 Там же, стр. 41
194 Там же, стр. 38.
Сноски к стр. 133
195 С. П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1952, стр. 163.
196 С. И. Глушков.
197 С. П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола, стр. 163.
Сноски к стр. 134
198 С. И. Глушков.
Сноски к стр. 135
199 М. Смотрицкий, л. рп̃г.
200 Там же, л. рп̃е об.
Сноски к стр. 136
201 П. С. Кузнецов. У истоков русской грамматической мысли. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 30.
202 [Ф. Максимов]. Грамматика славенская, вкратце собранная в греко-славенской школе яже в великом Нове-граде при доме архиерейском. СПб., 1723.
203 П. С. Кузнецов. Рецензия на диссертацию Т. А. Шаповаловой «„Российская грамматика“ и отражение ее норм в художественных произведениях Ломоносова» (рукопись).
204 А. Будилович, стр. 69.
Сноски к стр. 137
205 С. Д. Никифоров. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века. М., 1952, стр. 39.
Сноски к стр. 141
206 Ср., например, формулировку: «Преходящее есть, имъ же несвершенно прошлое дѣйство или страданіе знаменуемъ», сопровожденную примерами: «бихъ, бихъсѧ или біенъ есмь и быхъ» (М. Смотрицкий л. рп̃е об.).
Сноски к стр. 143
207 В. И. Чернышев, стр. 10.
Сноски к стр. 146
208 С. П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола, стр. 35.
209 В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 546.
210 Т. А. Шаповалова. Глагольные категории и формы в «Российской грамматике» и художественных произведениях М. В. Ломоносова. Уч. зап. Борисоглебск. гос. пед. инст., вып. 1. Борисоглебск, 1956, стр. 222.
211 ААН СССР, ф. 20, оп. 1, № 5, лл. 122—123. Они опубликованы в разделе примечаний: ПСС, т. 7 (стр. 881—883). Эти замечания подробно рассмотрены в статье: А. А. Никольский. Анализ замечаний неизвестного рецензента на «Российскую грамматику» М. В. Ломоносова. Филолог. сб. студ. научн. общ. ЛГУ, т. I, Л., 1957.
Сноски к стр. 148
212 Как и акад. В. В. Виноградов, проф. П. С. Кузнецов утверждает, что в начале XVIII в. при становлении русского литературного языка и неполной его отмежеванности от говоров формы на -ыва-, -ива-, от бесприставочных глаголов были широко распространены, что было связано, по мнению ученого, с падением имперфекта. См.: П. С. Кузнецов. Из истории сказуемостного употребления страдательных причастий в русском языке. Докт. дисс. (машинопись).
213 Адодуров, стр. 39.
Сноски к стр. 149
214 Т. А. Шаповалова. Глагольные категории и формы в «Российской грамматике»..., стр. 224.
Сноски к стр. 159
215 Адодуров, стр. 38.
216 В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 607.
Сноски к стр. 163
217 Там же.
218 Там же, стр. 606.
Сноски к стр. 164
219 В «Грамматике» в отличие от «Материалов» этот глагол встречается в написании с т.
220 Эти формы называются в современных грамматиках глагольными междометиями.
Сноски к стр. 165
221 В первом издании «Грамматики» формы этого глагола даны через е, во втором (последнем прижизненном) — через ѣ. В рукописных записях написание неустойчивое — то через е, то через ѣ.
Сноски к стр. 167
222 А. Будилович, стр. 78—79.
223 Т. А. Шаповалова. Глагольные категории и формы в «Российской грамматике»..., стр. 242—243.
Сноски к стр. 169
224 И. И. Давыдов. Предисловие к новому изданию «Российской грамматики» Михаила Ломоносова. В кн.: Грамматика русского языка академика М. В. Ломоносова 1755 года. СПб., 1855, стр. XVI.
225 Е. Ф. Будде. Несколько заметок из истории русского языка. (По поводу академического издания сочинений Ломоносова с примечаниями М. И. Сухомлинова). Журн. Мин. нар. просв., 1899, ч. CCCXIII, стр. 81.
Сноски к стр. 170
226 В. В. Виноградов. Русская наука о русском языке. Уч. зап. МГУ, 1946, вып. 106, т. III, кн. 1.
227 В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 20, стр. 368.
228 М. И. Калинин. О моральном облике нашего народа. В кн.: М. И. Калинин о воспитании и обучении. Избранные статьи и речи. Учпедгиз, М., 1957, стр. 106.
Сноски к стр. 171
229 В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 166.