5
ЧЕХОВ В ПОЛЬШЕ
—————————
Обзор С. В. Букчина
На торжествах в Варшаве, когда отмечалось столетие со дня рождения автора “Вишневого сада”, Ярослав Ивашкевич, подчеркивая близость польской и русской культур, сказал, что Чехов вместе с Толстым вошел “в нашу кровь” и является “самым лучшим соединяющим звеном между нашей и русской литературами”1. Это “вхождение” в сознание польского общества имеет далеко не простую историю; сложности еще прижизненного истолкования Чехова переплелись с последующей, подчас достаточно напряженной борьбой за подлинное осмысление и творчества, и личности писателя, чье имя сегодня в Польше, как и во всем мире, является символом величайших достижений мировой литературы. Эволюция польского чеховедения естественно отражает этапы освоения русской культуры в Польше на протяжении более чем ста лет.
Первые, и достаточно серьезные, попытки обобщить и проанализировать этот процесс относятся к началу 1950-х гг. На научной конференции в Варшаве, посвященной пятидесятилетию со дня смерти писателя, были сделаны три доклада молодых русистов: Л. Нодзиньской, Т. Позняка и Ф. Селицкого, которые легли в основу фундаментальных, насыщенных библиографическими материалами обзоров, опубликованных Польско-Советским институтом2. Работа Л. Нодзиньской “Начало литературной славы Чехова в Польше” характеризует первые переводы в периодике, отдельные издания рассказов и отзывы критики с конца 1880-х гг. до конца первого десятилетия XX в. Обзор Т. Позняка “О первых постановках пьес Чехова в Польше” охватывает период с 1906 по 1918 гг. и содержит наряду со сведениями о спектаклях выдержки из рецензий. Ф. Селицкий в статье “Чехов в межвоенной Польше” привел многочисленные свидетельства общественного восприятия произведений писателя, дал оценку переводов, книжных изданий, постановок пьес, а также критических выступлений в 1918—1938 гг. Эти три исследования служат основным источником информации об отношении к Чехову в Польше до 1939 г.
Сложнее обстоит дело с обобщением материалов, относящихся уже к истории культуры Польской Народной Республики. Ни одного обзора, похожего на упомянутые выше, за этот период не появилось. Между тем это было время особенно широкого и глубокого интереса к Чехову. Разделы “Чехов в Польше” в небольшом биографическом очерке Т. Лещиньского “Об Антоне Чехове” (1955 — см. примеч. 184) и во вступительной статье Н. Модзелевской к одиннадцатитомному собранию сочинений Чехова (1956 — см. примеч. 6) содержат, главным образом, сведения, почерпнутые из тех же обзоров Л. Нодзиньской, Т. Позняка, Ф. Селицкого, и скороговоркой (книга Т. Лещиньского) упоминают несколько фактов, относящихся к первой половине 1950-х гг.
6
Опубликованные в СССР работы имеют вид более или менее кратких библиографических заметок (также в значительной степени опирающихся на материалы польских обзоров до 1939 г.), в которых тема “Чехов в Народной Польше” характеризуется перечислением трех-четырех имен писавших о Чехове критиков, упоминанием нескольких чеховских изданий и спектаклей, а также событий, связанных с юбилейными торжествами 1960 г.3 В некоторые из этих публикаций вкрались ошибочные сведения, которые вводят в заблуждение исследователей и потому нуждаются в разъяснении. В статье З. М. Холониной сообщается: «К юбилею А. П. Чехова в Польше издается библиографическая книга “Произведения Чехова в Польше”, подготовленная Т. Шишко и А. Семчуком»4. В работе А. Ф. Захаркина эта книга объявлена уже вышедшей5. Однако такой книги до сих пор нет, точнее — она существует только в рукописи. В примечаниях к первому тому одиннадцатитомного собрания сочинений Чехова говорится, что в них использованы материалы «из приготовленной к печати книги “Чехов в Польше”, составленной Галиной Кипурской, Мирославой Коценцкой и Зофьей Жиданович»6. Имеется в виду та же работа, которую упоминают З. Холонина и А. Захаркин. Недоразумения между ее составителями и редакторами (ими должны были стать Т. Шишко и А. Семчук) привели к тому, что книга так и осталась в рукописи. Судя по всему, она охватывает период до 1960 г.
“Библиографию переводов Чехова на польский язык” подготовил отдел научной информации Национальной Библиотеки в Варшаве. Ее машинописный экземпляр (она не была опубликована) имеется в справочном отделе РГБ (Москва). Библиографический список этот, доведенный до 1953 г., не раскрывает содержания изданий и имеет хронологические пробелы.
При подготовке настоящего обзора были использованы указанные выше библиографические источники и многие материалы периодики, отдельных изданий, посвященных Чехову. Значительная их часть выявлена с помощью уникального справочника “Библиография польской русистики. 1945—1975”7.
Автор приносит глубокую благодарность Институту славяноведения Польской Академии наук, профессорам Рене Сливовскому и Базыли Бялокозовичу за научные консультации и содействие в ознакомлении с необходимыми материалами.
Обзор состоит из трех разделов. Первый охватывает период до 1918 г., второй — межвоенное двадцатилетие, третий — “прочтение” Чехова в условиях ПНР. Каждый раздел делится на две части: в первой рассматривается история переводов и изданий прозы Чехова, анализируются критические работы, во второй — приводятся сведения о театральных постановках и оценка их в критике.
Хронологически обзор доведен до 1981 г., когда он, собственно, и был представлен для публикации в “Литературном наследстве”. В 80-е годы и в следующий период (1989—2003), связанный уже с историей Третьей Речи Посполитой, когда польское государство обрело подлинную суверенность и независимость и, освободившись от коммунистического диктата, приступило к строительству демократического общества, Чехов достойно выдержал конкуренцию с новыми именами и произведениями, которые представляли русскую литературу в Польше в это время. Чехова здесь издают и ставят в театрах. Его творчество по-прежнему постоянный предмет углубленных исследований польских русистов, литературоведов и лингвистов. К сожалению, этот период мы вынуждены “зафиксировать” только в библиографической части обзора, без его конкретного раскрытия в основном тексте.
7

ЧЕХОВ
Петербург, 1901
Фото Ф. О. Опитца
I
Историческая переплетенность судеб русского и польского народов создала особые условия для взаимодействия двух славянских культур. “Об известности русской литературы в Польше нельзя судить только на основании переводов на польский язык или по количеству посвященных ей статей”, — справедливо отмечала советская исследовательница польско-русских литературных связей Е. З. Цыбенко. Вместе с тем представляется чересчур категоричным ее утверждение, что “благодаря широкому распространению русского языка в Королевстве Польском русская литература не нуждалась в переводах”8. При всей распространенности русского языка и в дореволюционные времена, и тем более в
8
наши дни, необходимость в переводах существовала всегда. Следует иметь в виду, что и до 1917 г. большим или меньшим знанием русского языка отличалась лишь некоторая часть интеллигенции. Поэтому для массового читателя непереведенные произведения русской литературы были недоступны. Другое дело, что само поступление русских книг в Польшу было значительно облегчено и можно говорить об определенной насыщенности ими польского рынка. Нет точных данных о степени распространенности русского чтения, но по словам известного польского слависта Мариана Якубца, “неприязнь к русской культуре у части польской шляхты и буржуазии” не означала, “что поляки не читали русских книг или их не ценили”9.
Во второй половине XIX в. широкое распространение в Польше получила русская периодика. Знающий русский язык читатель получал в числе прочих и юмористические журналы “Стрекоза”, “Будильник”, “Зритель”, “Осколки”, в которых встречал сценки, шутки, рассказы, подписанные Антошей Чехонте, Человеком без селезенки, Рувером, Улиссом. Тогда же, в 80-е гг., в книжных лавках появились первые чеховские сборники: “Сказки Мельпомены”, “Пестрые рассказы”, “В сумерках” и другие. Читать Чехова в подлиннике, как уже говорилось, имела возможность главным образом знакомая с русским языком интеллигентная публика. Для массового же читателя необходимы были переводы. Чехов “заговорил” по-польски сравнительно поздно — в 1897 г., когда газета “Дзенник кракувски” (№№ 395, 396) опубликовала анонимный перевод рассказа “Ванька”10. Это запоздание, на наш взгляд, вызвано как доступностью произведений Чехова на русском языке для части читателей, так и невниманием к Чехову литературно-общественных кругов, по инерции числивших его “по разряду мелких юмористов” и издавна тянувшихся к “серьезным” русским авторам — Тургеневу, Салтыкову-Щедрину, Достоевскому, Толстому.
Бурный рост чеховской славы в России к концу 90-х гг., выход десятитомного собрания сочинений в издании А. Ф. Маркса (СПб., 1899—1901) заставили польских издателей и переводчиков всерьез обратиться к Чехову. В польской периодике начала века появляется своего рода “чеховская страница”. Краковский “Час”, “Газета торуньска”, варшавские “Чительня” (приложение к петербургской польской газете “Край”) и “Слово польске”, “Дзенник познаньски” и другие газеты и журналы, словно соревнуясь друг с другом, публикуют переводы чеховских рассказов. Спустя десять-тринадцать лет после публикации на языке оригинала появляются на польском “Скучная история”, “Черный монах”. Для более же ранних произведений хронологический разрыв между первой русской публикацией и переводом — еще более значителен.
Основным источником для переводов служило марксовское издание собрания сочинений, которое в качестве приложения к журналу “Нива” широко разошлось по Российской империи. Не случайно активно печататься переводы из Чехова начали именно с 1901 г. И трудно согласиться с утверждением А. Ф. Захаркина: “В Польше издатели боролись за право перевода чеховских произведений прямо с рукописи до опубликования ее в России”11. Ссылкой это заявление не подкреплено, но источник его очевиден. Это обзор Л. Нодзиньской, в котором говорится: “Переводы чеховских произведений, широко рассеянные по периодическим изданиям, печатались во всех трех частях (имеются в виду территории Польши, находившиеся под властью России, Германии и Австрии. — С. Б.), более всего, однако, в австрийской части, что можно в определенной мере объяснить тем, что в Австрии и Германии (которые в то время неоднократно посредничали в пробуждении у польской
9
общественности интереса к русской литературе) популярность Чехова была особенно велика, и издатели, по свидетельству собственного корреспондента, добивались права перевода его произведений прямо с рукописи до опубликования ее в России”12. Свидетельством “собственного корреспондента” Л. Нодзиньская называет заметку “Чехов в Германии”, вошедшую в один из дореволюционных сборников материалов о Чехове. Ее автор, корреспондент “Санкт-Петербургских ведомостей” в Германии, рассказывая о реакции немецкой общественности на смерть Чехова, сообщает разнообразные сведения о популярности писателя и среди них такое: “Мне известны случаи, когда некоторые из шустрых переводчиков пытались монополизировать исключительное право перевода на немецкий язык произведений А. П. Чехова. Господа эти обращались к последнему с письменными предложениями, слезно прося его посылать им рукописи своих новинок до появления их в свет в русской периодической печати и в отдельном издании. За это любезное одолжение А. П. Чехову предлагалось, конечно, соответствующее вознаграждение. Но он, насколько мне известно, оставался ко всему этому глух и нем”13.
Таким образом, речь идет о борьбе за рукописи Чехова среди немецких, а не польских переводчиков и издателей. Другое дело, что немецкоязычная печать, имевшая распространение в германской и австрийской частях Польши и публиковавшая переводы из Чехова с середины 1880-х гг., в определенной мере содействовала привлечению внимания к его творчеству со стороны польской прессы. Л. Нодзиньская подчеркивает особенную популярность Чехова в Австрии. Поэтому не случайно, что именно в Кракове, находившемся до 1918 г. под австрийским владычеством, на страницах газеты “Час” начинают регулярно появляться польские переводы чеховских произведений. Можно сказать, что именно из Кракова Чехов начал свое шествие на польском языке. Своего рода “штатным” переводчиком Чехова в “Часе” был поистине неутомимый Габриэль Вендрыховский. Только в 1901 г. он опубликовал здесь шестнадцать переводов, среди которых “Альбом”, “Загадочная натура”, “Толстый и тонкий”, “Хамелеон”, “Неудача”, “Шило в мешке”, “Оратор”, “Сирена”, “Темнота”. Переводы Вендрыховского не отличались художественными достоинствами и нередко передавали лишь внешнюю сторону содержания. Но именно благодаря ему массовый читатель на протяжении трех с лишним лет познакомился с более чем тридцатью произведениями Чехова. Переводы, сделанные для “Часа”, Вендрыховский и под своим именем, а чаще анонимно публиковал почти одновременно в таких изданиях как “Газета торуньска”, “Дзенник познаньски”, варшавские “Глос народу” и “Слово польске”, “Чительня” и др. Стремясь потрафить издателям “по части развлекательного”, он отбирал вещи, на его взгляд, “посмешнее”. Но наряду с “развлекательными сюжетами” ему принадлежат и первые переводы рассказов “В ссылке” (1892), “Гусев” (1902) и “Архиерей” (1904).
В это же время в разных периодических изданиях появляется множество анонимных переводов. Их публикуют “Дзенник познаньски” (“Смерть чиновника”, “Орден”, “Из огня да в полымя”, “Произведение искусства”, “Шуточка” — 1901), львовский “Пшедсвит” (“Шведская спичка”, “Винт”, “Ну, публика!”, “На чужбине” — 1901), “Слово польске” (“Устрицы”, “Талант” — 1901, “Драма” — 1902), “Огниско” (“Счастливчик” — 1903, “Ночь перед судом” — 1904), “Зярно” (“Месть” — 1902), “Пшегленд”, “Нова реформа”, “Нове слово польске” и др. “Юмористический принцип” главенствовал в отборе произведений, но он иногда и нарушался. Свидетельством тому и упоминавшиеся выше несколько переводов Вендрыховского, и анонимные переводы “Егеря” (“Глос народу” — 1903) и “Мужиков” (“Напшуд” — 1902). Сюда
10
же следует отнести выполненный в 1900 г. Брониславом Яремой перевод “Палаты № 6” (“Глос литерацки и сполечны” — приложение к газете “Глос народу”). В краковском “Часе” в 1902 г. появились “Скучная история” и “Черный монах”. Эти произведения перевел такой же активный, как и Вендрыховский, поклонник русского писателя Юзеф Биссингер. В октябре 1901 г. он, в ту пору студент третьего курса философского факультета Ягеллонского университета, обратился к Чехову с письмом, в котором, ссылаясь на крепнущие литературные связи между славянскими народами, на влияние и интерес, возбуждаемый сочинениями русских писателей, просил “позволить <...> приготовить к изданию книжному переводы <...> повестей и рассказов”14.
Это было первое предложение об отдельном издании на польском языке. До этого к Чехову обращались лишь с просьбами о разрешении на перевод отдельных произведений для периодических изданий (Б. Р. Лондынский, И. Модзелевский, Л. Забавский, Я. И. Заремба, В. Кислянская, П. Миклавец)15. Большей частью это были предложения любителей или искавших легкого заработка. Приходили и просьбы о разрешении перепечатать “две-три повести” (письмо газеты “Лодзинский листок” от 13 января 1894 г.)16. Видимо, не без разрешения Чехова публиковались переводы его рассказов и в петербургском “Крае” (и в приложениях к нему — “Чительня” и “Жице и штука”). Редакция пригласила Чехова в мае 1899 г. на “литературный вечер и обед в честь Пушкина”17. Письма Чехова в редакции этих газет, как и его польским переводчикам, неизвестны. Но, очевидно, только с разрешения писателя Ю. Биссингер мог предпринять издание рассказов, вышедшее в трех небольших (по 80—90 страниц) книжках во Львове в 1903—1907 гг. 18 Сюда вошли “Смерть чиновника”, “Орден”, “Дочь Альбиона”, “Шведская спичка”, “Винт”, “Лошадиная фамилия”, “Житейская мелочь”, “Налим” и другие рассказы, которые, по мнению переводчика и составителя, могли дать наибольший юмористический “эффект” и, следовательно, принести какую-то прибыль. Поэтому он не включил в эти книжки уже переведенные им “Скучную историю” и “Черного монаха”.
Те же “рыночно-юмористические” соображения были основными и для таких переводчиков, как Зыгмунт Клошник, включивший ряд рассказов Чехова в сборник переведенных им произведений зарубежных авторов19, как Юзеф Янковский, выпустивший в 1904 г. в Варшаве книжку своих переводов из Чехова20. Такой подбор произведений в сборнике Янковского нарушал лишь один рассказ — “Хористка”. Конечно же, дело было не в самих произведениях, содержавших, как замечает Л. Нодзиньская, и “весьма глубокий общественный смысл и выразительные сатирические мотивы”21, а именно в стремлении односторонне, в развлекательном плане, представлять Чехова читателям. На это нацеливала и вступительная заметка переводчика в сборнике Янковского, обещавшая не только смешное, но и пикантное.
Публикация переводов особенно расширилась после смерти писателя, когда в русской печати появилось множество материалов о нем. В Польше на смену тонким дешевым книжкам пришли тома переводов по 400—500 страниц.
Особую ценность, по мнению тогдашней критики, имело краковское издание (1905), переводчица которого укрылась под псевдонимом H. del C22. В него вошли “Мужики”, “Палата № 6”, “Скрипка Ротшильда”, “Три года”, “Моя жизнь”. В 1906 г. в Варшаве выходит двухтомное собрание рассказов (перевод за подписью Т. К.) с предисловием Здислава Дембицкого23, в Познани — книга юмористических рассказов Чехова в переводе Зыгмунта Святополка-Слуцкого24.
Бо́льшая часть сборников, как и отдельных переводов в периодике, по-прежнему тяготели к юмористике. Постоянно перепечатываются “Хамелеон”,
11
“Произведение искусства”, “Дорогая собака”, “Смерть чиновника”. Не дождались в тот же период перевода “Степь”, “Дуэль”, “Остров Сахалин”, “Рассказ неизвестного человека”...
На несовершенство перевода и издания произведений Чехова указывали критики В. Яблоновский25 и А. Мазановский26. А. Гжимала-Седлецкий писал: “Только незначительная по количеству и по качеству часть чеховских произведений вошла в польскую литературу... Переводы обычно дают весьма односторонний образ Чехова-юмориста, то есть Чехова его первой, юношеской поры. А ведь самой основной и самой совершенной чертой его таланта был трагический тон, который пробивался еще в юмористических и сатирических его рассказах, — не гоголевский смех сквозь слезы, а глубоко серьезный, полный искренней боли горестный тон...”27 Если Гоголь “смеялся сквозь слезы”, то Чехов “горевал сквозь спокойную сдержанность”. Следует отметить, что, призывая шире переводить и издавать Чехова, Гжимала-Седлецкий, как и некоторые другие критики, считал второразрядными его ранние произведения. Что же касается качества большинства переводов той поры, то, по мнению М. Якубца, они были “неудачными, сделанными на заказ либо в целях заработка”28. Очевидна связь этого факта с установившимся отношением издателей к Чехову как к писателю чисто юмористическому, чьи произведения могут способствовать коммерческому успеху.
Однако и в тот период были издания, чьи публикации переводов Чехова преследовали совершенно иные цели. Чеховский протест против всяческого застоя, буржуазных, мещанских идеалов, чеховское стремление к обнажению горькой правды жизни, сатирическое изображение “быта и нравов” России привлекли внимание к произведениям писателя краковского еженедельника “Металовец”, органа профессионального союза рабочих-металлистов, получившего известность как издание социал-демократического направления. Переводы из Чехова на его страницах и в таких прогрессивных изданиях, как “Нова реформа”, “Напшуд”, “Свят” публиковались рядом с произведениями Эмиля Золя, Анджея Струга, Максима Горького, Анатоля Франса, Зофьи Налковской, Януша Корчака.
В целом сама география публикаций чеховских произведений в Польше 1890—1910-х гг. позволяет говорить об утвердившейся популярности писателя. На протяжении двадцати лет, с 1897 по 1917 г., в периодике и книжных изданиях появилось около 240 разных переводов его произведений.
Первым критическим отзывом о Чехове польская библиография считает небольшую статью Зенона Петкевича в журнале “Правда” в 1889 г. (за восемь лет до первого перевода)29. Бегло упомянув о трех сборниках (“Пестрые рассказы”, “В сумерках”, “Рассказы”), критик сосредоточился, главным образом, на общей оценке авторского облика, в значительной степени продиктованной поверхностным восприятием известных высказываний о молодом Чехове народнической критики (Н. К. Михайловского, А. М. Скабичевского). Следует, однако, иметь в виду, что З. Петкевич был известным социалистическим деятелем, неоднократно подчеркивавшим в своих выступлениях необходимость обращения литературы к проблемам общественного бытия и четкого обозначения гражданской позиции художника. В этом плане образцом для него была русская литература, к которой он обращался и как переводчик. В той же варшавской “Правде” (кстати, постоянно проявлявшей интерес к русской литературе) в 1897—1898 гг. были опубликованы его переводы сахалинских очерков В. М. Дорошевича, вышедшие затем отдельным изданием.
12
Считая в целом русскую литературу 80-х гг. (после ухода Достоевского, Щедрина, Тургенева) выражением упадочничества, Петкевич видел в Чехове характерное проявление этого состояния, сказавшееся и на содержании (“В произведениях его бесполезно искать орлиного взгляда”), и на формах его творчества (“...писатель этот блуждает между формами повести и рассказа и не всегда умеет совладать как с одной, так и с другой... Будет, по-видимому, писателем, воссоздающим жизнь своего общества достаточно поверхностно”). Не нравилось критику отсутствие у Чехова “глубины и тенденциозности”, которые он находил у Гаршина и Короленко, путаными были и сообщаемые им биографические сведения. Все это достаточно характерно и для последующих критических отзывов о Чехове в Польше конца XIX в. Статья Петкевича говорит и о некоей растерянности критика перед “непривычным” писателем, о том, что Чехов не укладывался в традиционные рамки. Какой бы “неглубокой” и лишенной “мыслей и идей” ни казалась Петкевичу чеховская проза 80-х гг., он не мог не ощутить значительности и очарования “Степи”, которой посвятил бо́льшую часть своих суждений. Отметил он и психологическое мастерство писателя.
Чеховское творчество прорывало догматизм и стереотипы критического мышления, обнажая противоречивость, шаткость аргументов и аналогий. Показательна в этом смысле первая энциклопедическая справка о Чехове (1894), где признается его “выдающийся талант, отмеченный юмором и высоким мастерством”, проводится параллель между его творчеством и “Записками охотника” Тургенева, новеллами Брет Гарта и тут же утверждается, что бо́льшая часть написанного им “страдает хаотичностью мыслей и недостатком оригинальности”30. Инерция устаревших или поверхностно воспринятых критических отзывов русской периодики 80-х — начала 90-х гг. долго ощущалась в польской критике. И вместе с тем очевиден процесс поиска путей к “истинному”, “потаенному” Чехову, ускользающему от привычных представлений и оценок.
Критические статьи в периодике — не единственные свидетели интереса польского читателя к Чехову. Уже в 1880-е — начале 1890-х гг. Чехова с интересом читает Стефан Жеромский, о чем свидетельствуют его “Дневники”31.
В 1895 г. корреспондентка Чехова, врач Л. А. Злобина, жившая в Лодзи, послала ему первое произведение получившего вскоре широкую известность писателя-натуралиста Игнацы Домбровского — повесть “Смерть”. Домбровский в 1894—1897 гг. жил в Лодзи и, судя по всему, поддерживал дружеские отношения со Злобиной, опекавшей молодого писателя. В письме к Чехову от 20 ноября 1895 г. Злобина цитирует письмо к ней Домбровского, написанное под впечатлением от чеховских произведений: «... с величайшим удовольствием прочел я собрание сочинений Чехова (он всего не прочел, так как у нас в Лодзи нельзя достать полного собрания Ваших сочинений ни за какие деньги32). Это, безусловно, талант гораздо более крупный, чем Гаршин. Его смело можно поставить наряду с Гоголем, Достоевским, Тургеневым, Толстым. Гаршин — талант более космополитический, при том довольно слабый, а потому бледный; талант же Чехова чисто русский, а потому для нас более оригинальный. Из всего, что я прочел, понравилась мне более всего “Степь”. Как там великолепно изображена природа!
Французы, немцы, даже мы, хотя и славяне, попросту флиртуем (не знаю, как это перевести по-русски) с природой, принаряжаем ее в луну, звезды, росы, в тоны света и всего лишь делаем из нее более или менее художественную декорацию. Только русский описывает природу для нее самой! Во многих таких описаниях просто чуется сено, навоз, сараи... Француз, если напишет о росе, то
13
развернет перед Вами все цвета радуги, которыми она блестит, — у русского же в этом описании будешь чувствовать сырость на сапогах».
В том же письме Злобина дополнительно сообщала: “В разговоре о Вас Д. говорил с таким энтузиазмом и восхищением, которому нужно особенно удивляться и ценить в поляках <...> И. Д. был так очарован Вашими произведениями, что хотел даже писать Вам <...> если Вы захотите написать Игнатию Домбровскому, то сделали бы прекрасное, благородное дело <...> Игнатий Домбровский молодой начинающий писатель, но он имеет славное доброе имя, и Вы его искренно порадуете, если дружески протянете ему руку”33.
Отзывы критики о Чехове во второй половине 1890-х гг. также становятся более серьезными. Тот же З. Петкевич, спустя десять лет после своей первой статьи (см. примеч. 29), говорил уже о наличии в творчестве Чехова “широкой и глубокой идеи <...> выражающей противоречие между общественной жизнью и духовным миром личности”34.
И в статьях Петкевича, и в других прижизненных отзывах очевидно столкновение критических стереотипов с живым эстетическим восприятием, с чисто человеческими эмоциями. В современном польском литературоведении отмечалось стремление критики 1890—1900-х гг. числить Чехова по разряду “пессимистов”. Термин этот, действительно, имел широкое хождение в отзывах о писателе той поры. О пессимизме Чехова по отношению к разным проблемам — общественному быту, любви, искусству — говорит Адольф Неуверт-Новачиньский в статье 1899 г. “Молодая Россия (В. Короленко. М. Горький. А. Чехов)”35. Он зачисляет Чехова в поклонники Шопенгауэра и Тэна, объявляет учеником Мопассана. Считая, что Чехов “имел много женского в темпераменте”, Новачиньский одновременно утверждает, что созданные им женские образы (героиня “Попрыгуньи”, Надежда Федоровна из “Дуэли”, Ариадна) ставят его “в один ряд с фанатичнейшими современными женоненавистниками — Ницше, Стриндбергом, Пшибышевским, Ропсом и другими”. Все эти заявления получили у Л. Нодзиньской довольно суровую оценку: “Пространная эта статья, помимо нескольких замечаний о писательской технике Чехова, не давала читателям необходимых фактических сведений и вместо этого создавала неверное представление о писателе”36. Конечно же, претенциозно-импрессионистская манера Новачиньского не способствовала знакомству с Чеховым мало или вовсе неосведомленного читателя. Его эссе о “молодой России” — характерный образец критики, которая, пытаясь воспринять Чехова как явление именно русское, одновременно старается “поверить” его новейшими западными эстетическими мерками, без глубокого прочтения писателя и проникновения в изображаемую им российскую действительность. Отсюда произвольность оценок и вкусовщина в анналогиях.
Но нельзя говорить о полной несостоятельности статьи Новачиньского, видевшего в Чехове не только пессимиста и женоненавистника, но и человека “современного, с социологическим чутьем”, ощущавшего необходимость “всемирной энергичной работы во имя завтрашнего дня, движения, роста, расцвета”. Рассказы Чехова, изображающие пошлость жизни, человеческих отношений, пишет Новачиньский, говорят о “тоске по лучшей, более светлой жизни, заставляют верить и ждать”. Для Новачиньского Чехов-художник не идет ни за “мечтателем Гаршиным”, ни за Щедриным, “суровым знатоком людей”; он “не иронизирует, как Тургенев, не высмеивает мещан, как Свифт, Хогарт, Жан-Поль, не освещает явления жизни с высшей субъективно-эстетической точки зрения, но объективно рассказывает со спокойным, терпким сарказмом <...> из будничных людских трагедий делает трагикомедию
14
существования, верований, устремлений, всяческой суеты”. Пластическая лепка образов, сама манера психологического рисунка являются, по мнению критика, художественным открытием, принадлежащим именно Чехову. Эти мысли следует оценивать как продолжение попыток, не всегда и не во всем удачных, “пробиться” к подлинному Чехову.
На этом пути возникало немало сложностей. Бронислава Добека, например, ввела в заблуждение простота чеховского стиля. Ему показалось, что произведения писателя с очевидной легкостью, “без ущерба для их духа, в противоположность сочинениям Успенского, Горького”, поддаются переводу. На этом основании Добек объявил чеховские произведения “космополитическими”, а самого писателя — “автором европейским и... мало имеющим в себе специфически российских признаков”37.
Ранняя смерть писателя вызвала волну откликов в периодике, в которой заметно полемическое обострение. Для некоторых критиков сам факт смерти в расцвете творческих сил знаменовал торжество пессимистических настроений в творчестве и жизни писателя. Если Б. Добек писал о чеховском “объективизме”, сквозь который проглядывает “славянский пессимизм”, то Влодзимеж Наконечный говорит уже о том, что чеховская грусть проистекает из сознания бесполезности всяких усилий, поскольку человек в борьбе с природой обречен на волю случая. По его мнению, в произведениях Чехова в лучшее будущее верят только глупцы вроде Вершинина38.
Своеобразной отповедью высказываниям этого рода стала опубликованная в журнале “Огниво” статья З. Петкевича, знаменующая новую ступень в его осмыслении творчества писателя. Критик пытается по-иному взглянуть на природу “чеховского пессимизма”. Нравственную суть чеховского творчества Петкевич определил следующим образом, цитируя слова Ивана Ивановича из “Крыжовника”: «“Пока молоды, сильны, бодры — не уставайте делать добро!” Таков, по существу, его пессимизм, сквозь который где-то вдали проглядывает солнце»39.
В критических работах, появившихся после смерти Чехова, намечается стремление высветить творческий путь писателя и особенности его развития. Сложность этой проблемы подчеркнул в своей статье о Чехове известный публицист Лео Бельмонт: «Какова граница между фельетонистом “Стрекозы” и автором навевающей ужас “Палаты № 6”, меланхолической даже в комизме отдельных черт пьесы “Три сестры”?.. А может, границы нет — и Чехов “Стрекозы” есть уже в зародыше тот самый Чехов, прах которого недавно торжественно везли из-за границы через Петербург в Москву?
Граница была — и не было ее»40.
Бельмонт, пожалуй, впервые в польской критике указал на связь достоинств раннего Чехова (наблюдательность, краткость) с последующими этапами его творчества. Впервые в его статье сделана попытка охарактеризовать особенности чеховской сатиры: “Более чем удивительный сатирик, на которого находит меланхолия, который не прячет под маской смеха озабоченного лица, впадает время от времени в лиризм и не стыдится этого”.
В то же время для Бельмонта, как и для некоторых других польских критиков, характерно стремление, ссылаясь на чеховское неприятие мещанства и пошлости, делать вывод о неприязненном отношении Чехова к российской действительности в целом. Правда, Бельмонт делает это осторожнее других: “Отличается он от Толстого тем, что в своих произведениях всячески ратует за культуру. Он самый настоящий европеец”. “Европейство” Чехова в глазах польской критики как бы изымало его из контекста русской жизни. Но тот же Бельмонт понимал, что не только в развитии культуры видел Чехов решение
15
главных проблем. Критик особо выделил глубину чеховского анализа бессмысленности и бесцельности бытия, в котором проявился протест против существующих условий жизни. «Нужно видеть “Трех сестер” на сцене театра Станиславского <...> чтобы понять, что мысль эта вовсе не смешна: порыв тоски в словах “в Москву!” — символ, олицетворяющий тоску метафизическую, безнадежный зов “excelsior!”1* людей, прикованных к скале жизни, высыхающих в пустыне скуки!» В самом изображении бесцельности существования критик ощутил призыв, чтобы “люди шли вперед, чувствовали, думали, действовали”, ощутил веру, что только таким путем “можно уничтожить скуку жизни”. Смерть писателя как бы обнажила подлинный смысл его творчества: “Стоя над свежей могилой, видели, что бессильная уже рука носила не кольцо Момуса, но кусочек раскаленного железа, которым постоянно метила болезненную пошлость жизни и никчемность душ”41. Для Бельмонта была очевидна новизна чеховской поэтики. Пытаясь определить ее признаки, он говорит об удивительном сочетании философичности, поэзии и сатиры в творчестве писателя.
Стремление к синтезу в оценке личности и творчества Чехова проявилось и в анонимной статье петербургской газеты “Край”: “Есть различные таланты — писательский, сценический, живописный. И есть еще один — человеческий. Таким талантом, помимо огромного писательского, обладал Чехов”42. “Писатель представляется критику, скрывающемуся за криптонимом И. О., — пишет об этой статье А. И. Грибовская, — очень трезвым, объективно наблюдающим жизнь, видящим все ужасы современной ему действительности и поэтому не признающим толстовских призывов к нравственному самоусовершенствованию путем возвращения к патриархальной крестьянской жизни, призывов, по мнению Чехова, несостоятельных в данной ситуации”43. Характерна концовка статьи газеты “Край”: “Сегодня, когда мы охватываем его творчество одним взглядом, четко выделяется основная идея его произведений, эта линия, идущая ввысь, — тоска по идеалу и безграничная боль при виде серой, будничной современности”.
В рецензии на варшавское издание “Избранных рассказов” Чехова в переводе Янковского (см. примеч. 20) Мария Конопницкая назвала писателя “творцом правдивых, реалистических психологических произведений, пользующимся утонченным и мастерским методом”44.
Чехова как писателя, который, изображая правду жизни, никогда не терял из виду нужд общества, охарактеризовал З. Дембицкий в предисловии к варшавскому изданию рассказов Чехова 1906 г. (см. примеч. 23): “Чувствуем в Чехове прежде всего человека — человека мудрого и доброго, ощущающего все боли жизни и склоняющегося в раздумье над каждым страданием, чувствуем также писателя, который видел насквозь людские души...” Дембицкий впервые в польской критике использовал в оценке личности и творчества писателя воспоминания Горького.
На социальное значение произведений Чехова указал в своем очерке “О русской литературе и нашем к ней отношении сегодня и триста лет назад” известный литературовед Александр Брюкнер45. В связи с этим он особо отметил повесть “Мужики”, упомянув о любви писателя к простому народу, и все это буквально в нескольких строках. Однако среди них нет тех слов, которые, ссылаясь на ту же книгу Брюкнера, приводит А. Ф. Захаркин, а именно: “Правдивость, реализм, наряду с превосходным стилем, неисчерпаемость выдумки
16
— вот достоинства его творчества”46. Откуда взята эта цитата, приписанная польскому историку литературы, — трудно догадаться. Зато в книге Брюкнера Чехову, как и Тургеневу, Достоевскому, Толстому, сделаны упреки по поводу изображения поляков в их произведениях: «Тот же Чехов, оглядывая всю Россию Победоносцева и Плеве вширь и вглубь, вспоминает о каком-то “надутом поляке”, но это был не поляк, а только прозвище русского; в другой раз нелестно упоминает любовные приключения офицера, прикатившего с маневров»47. Образы же поляков в некоторых рассказах Чехова для автора книги — в одном ряду той бесконечной галереи типов, в которой выстроились русские чиновники, купцы, кухарки и генералы... Таков, например, “Иван Казимирович Ляшкевский, поручик из поляков, раненный когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южных губернских городов...”48 (Имеется в виду рассказ “Обыватели”).
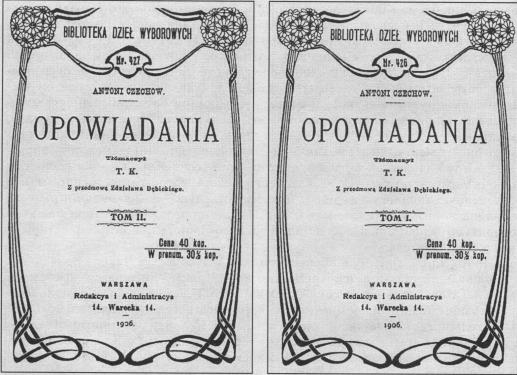
АНТОН ЧЕХОВ. РАССКАЗЫ. Т. I, II
Варшава, 1906
Предисловие З. Дембицкого
Обложки
Но нельзя не сказать о том, что, “оглядывая всю Россию Победоносцева и Плеве” (слова Брюкнера), Чехов интересовался и польской литературой. Конечно же, в 1906 г. Брюкнеру еще не могли быть известны письма Чехова, и поэтому он не мог знать его высказываний о романах Генрика Сенкевича “Без догмата”, “Семья Поланецких”, о его же “Письмах из Африки”. Были известны Чехову и такие русские издания Сенкевича как “Огнем и мечом”, “Quo vadis”, “Крестоносцы”, “Американские очерки”, “Путевые очерки”. Вместе с другими русскими писателями Чехов подписал приветственную телеграмму
17
Сенкевичу в связи с двадцатипятилетием его литературной деятельности. Среди многих книг личной библиотеки писателя, отосланных им в Таганрогскую городскую библиотеку, были книги Элизы Ожешко, подаренные переводчиком В. М. Лавровым (“Повести и рассказы”, 1895 г.; “Над Неманом”, 1896 г.; “Милорд. Бабушка”, 1896 г.; “Повести и рассказы”, 1900 г.)49. Из писем Чехова к П. Ф. Иорданову видно, что в Таганрог были также отосланы книги Ожешко “Хам”, “Панна Роза. Великий. Среди цветов” и книга Клеменса Юноши “Сизиф. Картинки деревенской жизни”.
В 1907 г. появляются три обширные критические работы, в которых очевидно стремление дать развернутую характеристику творчества Чехова. Это эссе Станислава Бжозовского50, статья Антони Мазановского в его книге “Горький. Чехов. Вересаев. Андреев. Исследования”51 и вышедший отдельным изданием этюд Казимежа Гросмана52. В самом этом факте нашел отражение интерес к писателю деятелей нового литературного направления “Молодая Польша”. Течение это было достаточно противоречиво: в нем сочетались элитарность взглядов на искусство, мистические настроения с романтическими и патриотическими традициями, с ощущением кризиса буржуазной культуры. Новизна творческого метода Чехова привлекла к себе особенное внимание “младопольской” мысли.
С. Бжозовский одной из основных черт чеховского таланта считал умение наблюдать: он “был гениальным зрителем”. В рассказах Чехова, — писал Бжозовский, — “каждое слово передает какую-то деталь, индивидуальную черту: в результате встает образ более чем выразительный, с ясной, умело выстроенной перспективой”. Восхищаясь мастерством писателя, он характеризует его как проявление специфического художественного отношения к жизни бесстрастного наблюдателя, поднявшегося над ней и наслаждающегося пониманием тщетности и бесцельности человеческих усилий. Отсюда, из этой посылки, делается уже заключение о некоем “соблазне игры”, который якобы испытывал писатель, о каком-то значении в его творчестве “фата-морганы и иллюзии”. Объясняет это Бжозовский тем, что Чехов «является типичным и талантливым представителем “безнадежных поколений”», основную формулу которых составляет “невозможность действия в виду полной разочарованности в целях и смысле всякой активной деятельности.
Стремясь оправдать такое настроение политическими условиями эпохи безвременья, критик вместе с тем утверждает, что “Чехов не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы овладеть непонятной, враждебной ему жизнью, не желая в то же время быть ее сообщником”. В писателях 80-х гг. Бжозовский видит бледные тени деятелей предшествовавшей эпохи и объясняет это тем, что для чеховского литературного поколения общественные условия усложнились до такой степени, что “для сохранения священного в русской литературе типа писательской деятельности (быть учителем, проводником, воспитателем и исповедником своего общества) необходима была почти сверхчеловеческая комбинация духовных способностей и качеств”. Отсюда, по его мнению, — иная реакция писателей чеховской поры на общественные проблемы. Особую роль он отводит повести “Мужики”. Она свидетельствовала, что “период народнической утопии и народнической романтики, последней героической и мученической фигурой которых был Успенский, закончился окончательно”. Конфликт поколений отразился в статьях Михайловского о Чехове, но после “Скучной истории” критик “сложил оружие перед могуществом таланта ее автора”.
18
Как и некоторые другие критики, Бжозовский считал Чехова “более художником в западноевропейском значении этого слова” и в этом плане сближал его с Тургеневым. Обоих писателей отличает умение “отделить и обособить себя от волнений, переживаний и чувств, становящихся содержанием их творчества; для них была доступна только та область волнений, которая обозначена немецким выражением die reine Lust des Schaffens1*, волнений, основой которых и сущностью является сам процесс формирования данного содержания, художественного освоения его”. Чеховская объективированная манера повествования определяется критиком как выражение чистого эстетизма. Поэтому в итоге его рассуждений Чехов оказывается в замкнутом пространстве, где ему отведена только роль наблюдателя, тоскующего по действию, “мучающегося его невозможностью и возникающей в связи с этим опустошенностью в глубине души”. Даже в последних произведениях писателя Бжозовский видел только “воображаемую и лишенную реальных оснований надежду”.
Сегодняшние польские литературоведы по-разному оценивают работу Бжозовского. Если М. Якубец, при всех отмеченных им просчетах, называет ее “продуктом самостоятельной и смелой мысли”, вплоть “до нынешнего дня лучшим польским исследованием о Чехове и бесспорно одним из лучших и наиболее оригинальных за пределами России”53, то Н. Модзелевская отождествляет позицию Бжозовского со взглядами Н. К. Михайловского: “В Польше рассуждения Бжозовского вспоминают неоднократно, обращаются к ним за цитатами в тех случаях, когда хотят убедить, что Чехов был писателем аполитичным”54.
Сложность творчества Чехова вызывала противоречивые суждения его первых толкователей. Сегодняшняя оценка их работ требует не вытаскивания отдельных цитат “к случаю”, но анализа всех аспектов их подхода к Чехову. Тогда мы увидим, что у многих из них за якобы устоявшимся, принципиальным взглядом стояли неуверенность, непоследовательность, отразившие все тот же поиск истинного Чехова. А. Мазановский (см. примеч. 51) искал аналогий то с эпизодической фигурой фотографа-любителя в “Трех сестрах” (“Вот такой фотограф и сам Чехов. Для него жизнь и природа становятся целью, а не средством исключительно. Как натуралист он предпочитает объективность”), то с Тригориным, который “всюду наблюдал и улавливал насыщенные чувствами впечатления, фиксировал их, переводил в образы и вселял в произведения”, то с французскими натуралистами. Материалистическое мироощущение Чехова переводилось Мазановским (и не только им) в план натуралистического изображения действительности. Каждый рассказ воспринимался как “еще один снимок” фотографа. Но в той же работе Мазановского утверждается, что рассказы писателя, внешне бесстрастные, часто заканчивающиеся без ясно выраженной развязки, “предоставляют читателям обширное поле для размышлений”, “задевают соответствующие струны души”. Называя писателя “убежденным натуралистом”, Мазановский пишет: “Вера в прогресс, как единственная вера, не могла дать ему твердой и сильной опоры в жизни”. Личность же Чехова — человека и художника — он оценивает как “чрезвычайно положительную”: “За все время своего творческого труда, на протяжении четверти века Чехов изучил свое общество, страдал с ним, разделял его радости. Четверть века Чехов рисовал в картинах и образах отрицательные стороны русского общества и потому может по праву называться одним
19
из наиболее значительных сатириков русской литературы”. Сопоставляя Чехова с Горьким, Мазановский, несмотря на различие методов обоих писателей (Чехов не открывает собственной души, а Горький знакомит читателя со своими взглядами), видит их духовную близость: “Только Чехов кажется мне более сильным художественностью своих произведений, Горький же — гениальностью”. Сквозь эту сбивчивую позицию и путанную терминологию пробивается основное в отношении критика к писателю. Чехов у него именно русский (а не космополитический) писатель, “благородный, простой, скромный, в чувствах глубокий и искренний”. Особую заслугу Чехова Мазановский видит в правдивом изображении русской деревни в повестях “Мужики” и “В овраге”. Вместе с тем очевидно непонимание сути конфликтов и образов в “Палате № 6”, “Моей жизни”, “Дуэли”, “Рассказе неизвестного человека” (герой охарактеризован как “несчастный социалист-лакей-туберкулезник, со всем своим безбожием, жестоким и разбойничьим намерением, со всем своим нравственным вырождением”, который только на фоне “низких, сгнивших фигур Орлова, Кукушкина...” может казаться привлекательным).
Для К. Гросмана, озаглавившего свою книгу о Чехове “Современная душа” (см. примеч. 52), чеховская этика, отталкиваясь от изображения пошлой будничной жизни, была проявлением индивидуалистического и обреченного бунта, призывом “к свободе от людей, от прошлого, от себя”. Стремление рассматривать произведения писателя в рамках литературы упадочнических настроений приводит к рассуждениям “об инстинктивной свободной любви”, “культе чувства” как основных чертах чеховского творчества, и даже о “повышенном мистицизме”, проявившемся якобы в последнем его периоде. По словам Гросмана, Чехов внушает себе и своим героям веру в то, что “сегодняшнее страдание обернется счастливой манной для будущих поколений”, но — “напрасно ищет он плечо, на которое можно было бы опереться, мысль, в которую можно было бы поверить”. Отдавая должное чеховскому таланту, любви писателя к людям, критик на первое место в его миросозерцании ставит фатализм, некую найденную им “мелодию, которая будучи раз услышанной, кладет тень на всю жизнь...” Эта “мелодия страшных вещей” — обыденная, ничем не примечательная на первый взгляд, — особенно явственна для Гросмана в “Палате № 6”: “Читая этот рассказ, видишь, как стены <больницы>, втянувшие в себя здорового доктора, постепенно втягивают и другие фигуры. Понятие сумасшедшего искажается, и, наконец, мы все, все человечество заключаемся в палату, которая вместе с халатом, решеткой, нечистоплотностью <...> и оскотинившимся хамом в роли сторожа и власти является отражением реальной жизни”.
Правда эмоционального восприятия пробивалась у Гросмана сквозь рациональные модернистские построения. Поэтому вряд ли правомерна претензия Л. Нодзиньской, видящей в его подходе к “Палате № 6” “неоправданное расширение очерченных Чеховым явлений до размеров почти космических, в то время как русский писатель располагал их весьма близко и точно”55. При всей перегруженности работы Гросмана претенциозными характеристиками (здесь и фатализм, и мистицизм и т. д.) он, как и другие критики, останавливается перед Чеховым в раздумье: “И неизвестно, что лучше — любить его как рыцаря под знаком страданий, или дивиться как мудрецу, вместившему в себя безмерную боль”. Отсюда понятна и гиперболизация мотива “чувства”, сильнейшее выражение которого он видит в “Рассказе неизвестного человека”. “Чувство” у Чехова — своеобразный термин критика, означающий, при всех его пессимистических акцентах, все-таки веру в прогресс, в людей, в гуманистический
20
пафос творчества. Гросман так и говорит: “Негаснущими буквами пишет Чехов и завещает человечеству призыв сохранять, пока хватит сил, сокровищницу чувств...”
Ощущая общую идейную направленность и новаторский характер творчества Чехова, критика 1900-х гг. не всегда умела правильно понять проблемы, поставленные в наиболее сложных его произведениях. Непониманием драмы старого профессора из “Скучной истории” отличается статья Тадеуша Ритнера “Тени смерти”, в которой акцент сделан на изменениях в психике героя под воздействием физиологических факторов, старости56. «Это крайний образец неверного понимания “Скучной истории”, — пишет Л. Нодзиньская. — Необходимо, однако, отметить, что чаще видят в ней выражение духовного тупика, трагического “не знаю”»57. Часть ошибок критики, безусловно, связана с модным в ту пору психологическим методом, приводившим к весьма субъективным выводам, вплоть до отождествления личности писателя с его героями и их исповедей с мыслями автора. В таком именно духе выдержана статья “Смерть Антона Чехова” Альфреда Высоцкого, опубликованная в “Газеце львовскей” и перепечатанная в “Дзеннику польским” и журнале “Тыдзень”. Немало было путаницы и в биографических сведениях. Тот же Высоцкий, например, сообщал: “Детские годы <Чехов> провел на Азовском море среди рыбаков и крестьян, скрывавшихся от наказания и кнута. Осталась в нем память об их слезах, проклятиях и рыбацких рассказах”58.
Были критики, считавшие, что у Чехова “трудно заметить выразительные фазы развития <...> и со временем он лишь усовершенствовал писательскую технику” (Б. Добек, см. примеч. 37). Наиболее распространенным на этот счет было мнение, которое Л. Бельмонт (см. примеч. 40) выразил в формуле: “Чехов перестал смеяться”. Пытался очертить творческую эволюцию писателя критик и историк Владислав Яблоновский: “Начал он с карикатуры и юмористики, порою весьма непритязательной, продиктованной требованиями юмористических журналов, а впоследствии перешел к будничной и с виду бесстрастной эпике, подавляя лиризм, произведения последних лет выражали больше веры, пессимизм был менее тяжким и порою освещался надеждой”59.
Гораздо успешнее рассматривалось в этот период мастерство Чехова. “Можно без оговорок утверждать, что у нас в Польше писательский талант Чехова захватил читателей, — пишет Л. Нодзиньская. — Он завоевал горячих поклонников даже среди тех, кто не был в состоянии оценить идейные качества его произведений...”60 Стилю чеховских произведений, их новаторской форме немало строк уделили рецензенты и авторы первых статей о писателе. Влодзимеж Пинский, характеризуя творческий метод Чехова, писал, в частности: «Работа такая требует от творца владения искусством композиции, требует творческого самопознания, математического склада ума. Отсюда, при непривычной ажурности словесной вязи, большая прозрачность и поразительный художественный эффект его композиции. То, что другие, при большом желании, но малом таланте, могли бы разложить на двухтомное повествование, Чехов, как смелый вождь, самовластно распоряжающийся и царящий над целым миром признаков, явлений, чувств, — силой контролируемого самопознания, мощью утонченного интеллекта — собирает, концентрирует, очищает и выдает, наконец, вещь безукоризненную и ясную как итальянская лазурь, как каррарский мрамор.
А весь этот процесс формирования эмоций и впечатлений художественных, все эти противоречивые и острые запасы, живущие в душе художника в минуты творчества, — все это бледнеет, гаснет, никнет... Чехов дает
21
им единственную “чистую форму”, никогда и нигде не поддается быстрому потоку минутных, капризных сновидений, заманчивых, сверкающих бликов. Можно назвать это качество его манеры творческим аристократизмом...»61
Таким образом, в прижизненных и первых посмертных отзывах о Чехове у критики было немало и промахов и ошибочных суждений (в немалой степени шедших как от догматических народнических приговоров, так и от модернистских толкований). В то же время прозорливые критики стремились связать Чехова с традициями русской литературы, подчеркнуть художественную новизну его творчества, а главное — привлечь к его произведениям читателя. Разнообразие взглядов на чеховское творчество, споры о нем отразили сложное состояние польской литературы, в которой реалистические традиции переплелись с модернистскими тенденциями. В критике идейно-эстетический анализ был отягощен символистскими и импрессионистическими элементами, лозунгами крайнего индивидуализма. В этих условиях “спор о Чехове” определял как внутренние эстетические линии общественной мысли, так и ее идейную зрелость в широком смысле. Развитие национального самосознания вместе с ростом антицаристских настроений в начале XX века давали пищу для осмысления исторических и культурных связей польского и русского народов.
***
Значительное место в процессе приобщения поляков к русской культуре начала XX в. принадлежало чеховской драматургии. Знакомство с ней зрителя, ее освоение критикой шли достаточно сложными путями. В связи с этим некоторым упрощением выглядит утверждение М. Якубца, что “по убеждению польской критики того времени, чеховский театр служил новым постулатом искусства, открывал новые грани человеческой личности, отказывался быть развлечением или копией жизни и превращался в трибуну психологических и социологических исследований”62.
Первые отзывы о сценическом творчестве Чехова появились в петербургском “Крае”. Благодаря этому журналу польский читатель, уже знакомый с рассказами Чехова, получил первую информацию о нем как драматурге. Журнал откликнулся на петербургские гастроли Московского Художественного театра в феврале 1901 г. О “Трех сестрах” рецензент, обозначивший себя псевдонимом Rm63, писал, что это “одна из тех нескольких пьес нового академика, которые раздражают классических теоретиков литературы, не знающих, к какой категории произведений ее отнести”. Но и сам рецензент, объявляя Чехова “интересным драматургом-новатором, открывателем новых путей”, спешил тут же оговориться, что «трудно согласиться с абсолютным театральным “новаторством” Чехова. Он, конечно, новатор, но в своей отечественной литературе». Рецензент сравнивает пьесы Чехова с западноевропейской драматургией и находит, что композиция в “Трех сестрах” “отсутствует вообще”, что не чувствуется в пьесе традиций «не то что времен “Théâtre libre”1*, “Freie Bühne”2*, но само отсутствие сценической традиции становится своего рода традицией». Что же касается изображения современного быта на сцене, то и тут у Чехова, по утверждению автора рецензии, были предшественники — Гауптман и Выспяньский. Мечты и порывы чеховских сестер воспринимаются
22
как русские мотивы иллюзий ибсеновских героев. К “оригинальным моментам” в творчестве Чехова критик относит альтруизм его героев (“стремления, звучащие в их собственных душах, не заглушают криков, звучащих в душах чужих”), способ изображения “житейского фона” — “вездесущности какого-то усиливающегося кошмара, глумящегося над умами и сердцами, безнадежной серости и монотонности жизни”. По мысли рецензента “Края”, обнажение этого фона будит в интеллигенции, в русской молодежи интерес к Чехову. В оценке идейной сути пьесы он идет вслед за русской либерально-народнической критикой, повторяя ее высказывания. А отмечая внутреннюю связь чеховской новеллистики и драматургии, он в обеих формах творчества как ведущий выделяет пессимистический тон. “В этом ошибочном понимании заключена типичность этой первой польской рецензии, являющейся вместе с тем образцом истолкования произведений великого русского писателя первыми польскими критиками”, — пишет Т. Позняк64.
В том же 1901 г. польские зрители впервые увидели пьесы Чехова на сцене — в постановке гастролировавших в Варшаве русских театральных трупп А. П. Ленского и В. Ф. Комиссаржевской, показавших “Иванова”, “Чайку”, “Три сестры”, “Дядю Ваню”. В “Иванове” один из рецензентов увидел лишь “современную драму супружеской жизни, закончившуюся самоубийством”65. Отмечая психологическую глубину, он упрекает автора в недостатке действия. В другом отзыве “Три сестры” были названы “мрачной пьесой”, философия которой заключается в том, что люди живут “для того, чтобы когда-нибудь, через сотни лет, уготовить человечеству счастливое существование”66. Совершенно не нашла понимания “Чайка” с Комиссаржевской в роли Нины Заречной67. Характеризуя эти отзывы, в которых непонимание смешалось с националистической неприязнью, Т. Позняк указывает на дежурно-официальное отношение к гастролям русских актеров представителей печати, выполнявших лишь формально распоряжение директора варшавских театров, объявленное им официальными властями. У многих из них попросту отсутствовало желание внимательнее вглядеться в драматургию Чехова, на писателя уже наклеили ярлык символиста, прозябающие герои которого живут расплывчатыми мечтами о будущей счастливой жизни.
Однако драматургия Чехова уже начинает привлекать к себе польских переводчиков. В 1902 г. публикуется перевод “Лебединой песни” в “Тыгоднику слова польскего”. В том же году во Львове выходит отдельное издание “Медведя”, переведенного Густавом Баумфельдом. Этот же переводчик в 1904 г. выпускает отдельное издание “Чайки” со своей вступительной статьей68. Главной темой пьесы Баумфельду показалась тоска однообразных будней в глухой провинции. Изображение этой тоски представляется ему в высокой степени “художественным, психологически точным — тоска предстает предметом достойным искусства”, а пьеса — “гениальным очерком”, только очерком, но не пьесой. Баумфельд заметил, что в “Чайке” есть и иные темы — “частная жизнь знаменитой актрисы Аркадиной, частная жизнь столичного писателя господина Тригорина, ненормальное состояние сына актрисы и, наконец, эта молодая, издерганная, второразрядная актриса Нина — какой она была, затем бросилась в этот водоворот театра и театромании...” Дать хоть какое-то толкование этим “частным” образам переводчик не сумел. В связи с этим странно выглядит заявление Т. Позняка, что эта вступительная статья “сыграла важную роль в популяризации драматургии Чехова в Польше”. Вероятно, исследователь хотел сказать не о действительной важности, а о влиянии этой статьи, о чем он и говорит буквально в следующем абзаце: «Баумфельдовская
23
концепция пьесы “Чайка” как песни о тоске и серости деревенской жизни прочно обосновалась в интерпретации других пьес русского писателя»69.
Пути к пониманию чеховской драматургии польским зрителям и театральным деятелям в тот период указал Московский Художественный театр. О возраставшем интересе к нему вспоминал крупнейший актер и режиссер Стефан Ярач: “Время от времени, в течение ближайших лет, узнавали об успехах Московского Художественного театра даже в Берлине, который захватил меня театром Рейнгардта...”70 Польская печать следила за гастролями МХТ в Западной Европе в 1906 г. Краковский “Час” поместил пространную статью Конрада Раковского о пребывании мхатовцев в Вене71. Возвращаясь с гастролей в Россию, МХТ в апреле сделал остановку в Варшаве и дал несколько спектаклей в здании Театра Велькего. Одним из первых на них откликнулся известный театральный критик Владислав Богуславский72. В Станиславском он видел прежде всего художника, который «не из внешней пластики, но из внутренней психологии извлекает “драматический момент”. Такой момент в “Дяде Ване” заключен в самом способе изображения “обыденной, приземленной жизни”». Критик готов даже видеть “сверхзадачу” спектакля в том, чтобы “сыграть симфонию серости”. “И эту задачу наилучшим образом решило товарищество Станиславского”. Но в этой же “симфонии серости”, где основной темой якобы является пресловутый “треугольник”, звучат “какие-то вздохи... какие-то протесты... какие-то устремления... и все эти неуловимые течения кружатся среди рассеянных в атмосфере атомов безнадежной скуки...” Неясные протесты и устремления эти толкуются тем не менее уже не как нечто нереально-романтическое, а связанное с самой жизнью, с естественными человеческими порывами и запросами: «Человек ощущает всюду в театре Станиславского биение своего собственного сердца, передающийся со сцены трепет своей боли; величие его страданий запечатлено каждым часом истории на всех уровнях социальной лестницы; а для воплощения в пластике идеала Теренция: “Я человек и ничто человеческое мне не чуждо” Художественный театр нашел такие средства художественной экспрессии, которые ставят его во главе европейских сцен».
Отношение прогрессивной польской критики к спектаклям выразил Ян Лорентович в открытом письме Станиславскому, опубликованном по окончании гастролей73. Он подчеркнул значительность реализма Художественного театра как “стремления к простоте и ясности воздействия через огромное тонкое сочетание деталей” и с удовлетворением констатировал, что в этом плане “варшавские артисты получили урок”. Имея в виду напряженную атмосферу (после событий 1905 г.), в которой проходили гастроли, он писал: “Мы все, чья общественная жизнь протекает в упорной борьбе и надежде, верим, что вскоре сможем иначе воспринимать ваш труд. Это будет тогда, когда мы сами пригласим вас в Варшаву, — в будущей Польше”. Полнота восприятия искусства Художественного театра, и прежде всего чеховской драматургии, протестующей против унижающего человека существования, ставилась критикой в зависимость от результатов широкого народного движения к общественным переменам.
Гастроли МХТ в 1906 г. стали школой мастерства для многих польских актеров и режиссеров. Мхатовское прочтение Чехова надолго стало основой для польских сценических версий “Дяди Вани”, “Вишневого сада”, “Трех сестер”... Познакомиться со спектаклями “художественников” в Варшаву приехали из Кракова выдающиеся деятели польской сцены Людвик Сольский
24
и Александр Зельверович. Особенный восторг у последнего вызвала игра Станиславского, “несравненного” исполнителя роли Астрова. “Этот спектакль, — вспоминал Зельверович, — произвел на меня поразительное, незабываемое впечатление, и сейчас, спустя сорок лет, храню его в сердце свежим, полновесным и наполненным жизнью, причем слово в слово могу повторить каждую сцену поочередно”74.
Подготовка же “Дяди Вани” в краковском Театре Мейском началась задолго до гастролей МХТ в Варшаве. За четыре месяца до приезда труппы Станиславского в Польшу, 20 января 1906 г., состоялась премьера пьесы, переведенной на польский язык актрисой Л. Валевской. Сам факт обращения к чеховской драматургии знаменовал не только известный поворот в художественных исканиях польского театра, но прежде всего ощутимый перелом в нравственно-ценностной общественной ориентации. Изредка обращаясь к русской драматургии (“Гроза” Островского, “Ревизор” Гоголя), польский театр в целом был ориентирован на западноевропейскую драму, а точнее мещанскую мелодраму Фульды, Скриба, Сарду, Мюссе. В известной степени путь Чехову на польскую сцену проложил Горький, чьи пьесы появились на ней буквально накануне первых чеховских спектаклей. Имена обоих писателей, выступивших с произведениями сильного общественного накала, вызывали в польском обществе представление о новом течении в русской литературе, развивавшем лучшие традиции критического реализма. А эти традиции польская общественная мысль ценила достаточно высоко. В. Прокеш, например, называл Чехова “самым значительным после Щедрина русским сатириком, обвинителем своего общества”. Критик считал, что “все качества выдающегося русского беллетриста усилены в его немногочисленных сценических произведениях <...> В этом методе столько же жизненного содержания, сколько наблюдения и сатирической философии. Каким же образным выходит у него <Чехова. — С. Б.> это общество, отраженное с фотографической точностью в галерее типов, брызжущих правдой и жизнью”75.
Чеховская эстетика приходила в противоречие с привычными театральными штампами, с устоявшейся манерой игры, в которой немало еще значили поза и декламация. Это понимал анонимный рецензент краковской газеты “Напшуд”: «Театр Чехова — это одно большое целое, где произведение не раскрывается перед нами, а “окружает” нас, поэтому играть Чехова это означает как-то наполнить зрителя не тем, что говорят и делают, но чем-то неуловимым, что проявляется за словами, что ощущается за незначительным, равнодушным жестом человека»76. Премьера “Дяди Вани” на краковской сцене готовилась с учетом опыта МХТ и собственных попыток осмысления Чехова как принципиально нового драматурга. Режиссером спектакля и исполнителем роли Астрова был Юзеф Сосновский. В роли Войницкого выступил Александр Зельверович. Работа эта сформировала его как актера и надолго закрепила за ним славу лучшего исполнителя роли. Спустя много лет в статье «Мой любимый “Дядя Ваня”» Зельверович писал: «Я могу смело сказать, что поступил на сцену под знаком любви к пьесам Чехова, с горячим желанием выступить когда-нибудь в далеком будущем в “Дяде Ване”. Так получилось, что в течение первых трех сезонов моей краковской сценической деятельности я играл либо комиков, либо комических любовников во французских фарсах и шутках. Дядя Ваня был первым живым, реальным человеком, чью трагическую судьбу мне довелось пережить на сцене и передать зрителям. После трех лет игры в Кракове, где директором был в то время Юзеф Котарбинский, моя заветная мечта о “Дяде Ване” превратилась в реальность. Я был
25
счастливейшим человеком в мире — я должен был играть в любимейшей пьесе, о которой я мечтал и которая мне снилась по ночам, роль дорогого, бедного дяди Вани.
Исполнение этой роли явилось важным этапом на моем актерском пути... С тех пор я поверил, что умею не только развлекать и смешить публику, но искренне и глубоко волновать ее...”77
Зельверович писал, что его привлекла в чеховской пьесе “богатая характеристика личности, психологически тонкой, полной чувства и настроения”, она рисует “роль из крови и костей, а благодаря возможности воссоздания <...> людей драмы в полном реалистическом значении этого слова” постановка открыла для исполнителей пути к новым художественным достижениям. В 1908 г., будучи в Москве, Зельверович встречался с Горьким и Станиславским, посещал спектакли МХТ, что оказало большое влияние на его творчество. Глубокое проникновение в “чеховскую тему” сделало Зельверовича признанным “чеховедом” среди польских актеров. «“Дядя Ваня”, — пишет Т. Позняк, — сросся с именем и талантом актера, который выйдя из краковской “школы”, передавал свой опыт другим театрам, а его появление на театральном горизонте Познани или Лодзи всегда было поводом для постановки какой-нибудь из пьес Чехова»78.
“Дядя Ваня” был возобновлен на краковской сцене 15 ноября 1907 г. в близкой к предыдущей режиссерской концепции. Название чеховской пьесы появилось на афишах Театра Мейского и 6 июня 1910 г. по случаю гастролей Зельверовича, в ту пору уже директора театра в Лодзи.
Одной из основных задач для создателей этого спектакля было строгое следование авторской воле, естественно, с учетом возможностей актеров. “Здесь нужно пережить собственной душой трагизм жертвы этих несчастных героев”, — утверждал Зельверович79. Успех постановки 1906 г. подчеркнули критические отзывы. К. Раковский писал, что “давно не видел на краковской сцене пьесы, сыгранной с такой отдачей, с таким проникновением в замысел автора”. Столь сильное впечатление на него произвела игра Юзефа Сосновского (Астров), что он, считая его главным героем пьесы, начинает с этого образа анализ спектакля80. Репортер “Пшегленда польского” Зыгмунт Стефаньский был убежден, что “Дядя Ваня” — лучший спектакль сезона 1906 г. 81 С удовлетворением отметил он, помимо выдающегося исполнения Зельверовичем роли Войницкого, игру Станиславы Высоцкой (Елена), Сильвии Юткевич (Соня), Мариана Едновского (Серебряков). По впечатлению того же Стефаньского, в спектакле постепенно нарастало ощущение пустоты существования героев, взорвавшейся конфликтом в третьем акте, в котором прозвучал выстрел Войницкого. Но, как писал В. Прокеш82, этот “бунт душ, разрывающихся между чувством долга и трагедией сердец <...> нашел непрочное убежище в <...> компромиссе с понятиями порядка и общественной этики”. Сказалась в отзывах рецензентов и традиция восприятия Чехова как писателя “бестенденциозного” и в силу этого “пессимистического”.
Отсутствие воли, тяги к решительным поступкам видел в героях пьесы Стефаньский: «Жизнь для них есть сила слишком независимая, чтобы они могли ее ухватить могучим напряжением воли, бороться последним напряжением нервов или мускулов, направить согласно своим мыслям; это даже не та “Ананке” греческой трагедии, слепая, но замечательная, сокрушающая борющихся героев, — это какая-то сила, которая искажает души, сердца и мысли, которую хотят поддержать безучастным страданием, устойчивой апатией, ленивая река, полная вод, несущая их не на трагическую смерть, а к большому морю тоски... Эти герои безнадежности не знают борьбы за осуществление
26
своих устремлений, желаний, мечтаний о счастье, не знают даже того, что русские каторжане называют “переменой участи”, желая выражения своей связанной воли хотя бы ценой еще худшего мучения»83.
Краковский театр показал “Дядю Ваню” в Познани (15 апреля 1907 г.), в 1908 г. — в Лодзи, Сосновце, Ченстохове, Калише. Почти одновременно с краковской состоялась премьера “Дяди Вани” во Львове — 24 февраля 1906 г. Режиссером спектакля выступил Максимилиан Венгжин, в роли Войницкого — Юзеф Хмелиньский, Астрова — Кароль Адвентович, Сони — Зофья Чаплинская. Как и его краковские коллеги, львовский критик Корнелий Макушиньский воспринял пьесу как “поэзию печали и тоски”84, а причину грусти чеховских героев склонен был видеть в специфической “российской неврастении”. Он сравнивает их с деревьями, корни которых подточены и “которые гибнут среди печального шелеста вянущих листьев”. Тяжело “людям-деревьям”, “но нужно жить, а чтобы жить, нужно трудиться, не зная отдыха”. Смысл этого труда львовский рецензент видел в христианском уповании на небеса, в спокойном, не отягощенном угрызениями совести ожидании смерти. Он приводит слова Сони, обращенные к Войницкому: “...и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и бог сжалится над нами, и мы <...> увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную <...> Мы отдохнем!”. Последние слова актриса Чаплинская произносила очень громко, с вызовом, что, по мнению критика, шло вразрез с общим минорным тоном пьесы. Современный же исследователь, Т. Позняк, считает, что этот поступок актрисы — “скорее всего спонтанный, не согласованный с режиссером”, — был «бессознательным протестом против официальной интерпретации Чехова, выразительно обрисованной в рецензии театрального хроникера»85.
Событием во львовском спектакле стало участие К. Адвентовича, получившего широкую известность исполнением ролей как западноевропейского репертуара (Гамлет, Ромео, Дон Жуан), так и русского (Протасов, Нехлюдов, горьковский Нил). В образе Астрова актер запечатлел сильного, мужественного человека драматической судьбы. Игра Адвентовича дала повод К. Макушиньскому утверждать, что после постановки “Мещан” Горького ни одна пьеса на львовской сцене не имела такого успеха, как “Дядя Ваня”86. Спектакль был возобновлен 16 июня 1910 г. в связи с гастролями А. Зельверовича.
Варшавская премьера “Дяди Вани” состоялась 9 июня 1908 г. Постановку в Театре Малом осуществил режиссер и драматург Мариан Гавалевич. В спектакле приняли участие известный актер Эдмунд Вейхерт (Войницкий), Кароль Адвентович (Астров), Лаура Дунинувна (Елена Андреевна), Хелена Ланцка (Соня), Ян Гутнер (Серебряков), Януш Орлиньский (Телегин). Восторженный отзыв спектакль получил на страницах газеты “Свят”87: “Произведение поэта, поэта, который чувствовал очень глубоко, который в своей душе носил боль целого поколения”. По словам рецензента, Чехов показал “муки русской души <...> униженной и поникшей, изболевшейся в своей мрачной неволе и не пытающейся даже потрясать оковами”. Характерна связь, которая устанавливается здесь между Чеховым и Горьким: «Потом придет Горький и из этой самой души исторгнет громкий, трагический крик страдания, зажжет в ней огонь ненависти и бунта... Как история заклеймит власти, которые толкали русское общество на это отравленное “дно нищеты”? И какие усилия нужны, чтобы разбудить омертвевшую душу, оживить ее, воскресить в ней новую энергию, отвагу и любовь к жизни!» Успеху спектакля, по мнению критики, способствовала и блестящая игра актеров, проникшихся духом чеховской пьесы, и состоявшиеся за два года до того гастроли МХТ в Варшаве, питавшие творческое вдохновение Мариана Гавалевича.
27
Как и в случае с “Дядей Ваней”, инициатором постановки на польской сцене “Вишневого сада” выступил краковский театр. Премьера состоялась 3 ноября 1906 г. с участием таких актеров, как Станислава Высоцкая (Раневская), Александр Зельверович (Лопахин), Хелена Аркавинувна (Варя), Бородич (Аня), Собеслав (Гаев). В дни премьеры в “Часе” появилась большая статья известного режиссера и драматурга Адама Гжималы-Седлецкого “Перед новой постановкой в Театре Мейском”, в которой сделана попытка некоего подведения итогов популярности Чехова в Польше. В расширенном варианте эта работа под названием “Антон Чехов” была опубликована в сборнике “Славянский мир” в 1907 г.88 «Последние годы XIX века, — читаем в статье, — были для новеллиста периодом, в котором грусть, меланхолия и отчаяние, рождающиеся в его творчестве, вытекли сердечной струей в русло того отчаявшегося и всеобщего состояния, которое переживала душа “лучшей России”». По мнению Седлецкого, “с ходом времени обнаружилось, что эти психо-исторические мотивы в творчестве Чехова заслонил герой новой волны — Горький”. Это было причиной того, «что прежний интерес к Чехову утратил уже привкус экзотичности, “оригинальности”, перед зрителем явился художник равнодушный к привычной злобе дня». Критик отмечает, что «в Польше “изменившийся” Чехов известен мало», что “печатают только Чехова-юмориста, поэтому читатель наш, за исключением трагикомизма отдельных сатир, не чувствует подлинного Чехова, поэта грусти”. Вместе с тем он пытается доказать, что в творчестве Чехова не было безнадежности, и решительно возражает Д. Мережковскому и Л. Шестову, видевшим в его произведениях выражение индифферентизма и тоскливой безысходности. Седлецкий опровергает утверждение Мережковского, что Чехов не связан ни с прошлым, ни с будущим России. “Что это не так, — пишет он, — можно доказать на примере Пети Трофимова”. И, приведя обращенные к Ане слова Трофимова (“Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом”), заключает: “В ком живет такая горячая жажда искупления грехов прошлого, того нельзя обвинить в безразличии к нему. Не были равнодушны к прошлому и будущему ни лучшие из героев Чехова, ни сам их создатель”.
Слова чеховских героев о страдании как некоей ступени очищения и подъема не раз получали в польской критике нравственно-религиозную окраску. По-своему пытался сформулировать эту мысль и Седлецкий, писавший, что “страдание становится религией во взглядах Чехова; через целеустремленное сознание человек должен прийти к высшей форме развития”. Соответственно отсюда делается характерный вывод: “...философский взгляд Чехова роднит его с историей польской общественной мысли. Впрочем, не только в области философии Чехов является наиболее близким для поляков среди всех современных русских писателей”.
Обращаясь к “Вишневому саду”, Седлецкий подчеркивает, что “героем пьесы является земля... идет процесс, суть которого сотрясает сейчас всю Россию”. Сам же критик понимает этот процесс не как смену в ходе истории “экономических форм” и отношений, но как утрату в “душах сегодняшних наследников твердых помещичьих позиций”. Именно эту “правду исторического момента”, по его мнению, “Чехов раскрыл за несколько лет до аграрного проекта в Думе”.
Не коснувшись непосредственно актерского исполнения в краковской премьере, Седлецкий лишь отметил как глубоко положительный сам факт появления на подмостках нового произведения писателя, обладающего даром создания “живых душ”.
28
Зато подробный разбор спектакля дали другие рецензенты, признавшие его полным провалом. Главная причина провала виделась в абсолютном непонимании Чехова-художника актерами и режиссурой. К. Раковский писал, что “Чехов-художник, Чехов-поэт, тонкий и проникновенный мастер”, в спектакле “исчез без следа. Пропала также без следа большая и чистая простота художественных средств, являющаяся существеннейшим качеством поэзии и таланта Чехова”. А их место занял “комедийный анекдот без содержания и значения, в сценическом своем выражении растянутый, утомительный, угнетающий скукой и равнодушием”. Упрекая режиссуру в бездумном подходе к “Вишневому саду”, Раковский резко отозвался об игре некоторых актеров, прибегавших к жеманству, форсированному голосу, аффектированным жестам — элементам, глубоко чуждым эстетике Чехова. Даже участие таких мастеров, как Зельверович, Сельский, Аркавинувна, не спасло спектакля89.
Газета “Глос народу” писала: «Такие произведения, как “Вишневый сад” или “Дядя Ваня”, нужно играть с большой простотой и естественностью; у нас же преобладает в игре искусственная аффектация, которая замазывает тончайшие черты и снижает весь художественный уровень пьесы»90. Как считает Т. Позняк, «причины неудачи краковской постановки “Вишневого сада” следует искать не только в искаженной идейно-художественной концепции, но прежде всего в ошибочной и безосновательной трактовке всего творчества Чехова как пессимистического и что менее всего соответствует действительности — бестенденциозного»91. Исследователь подчеркнул, что в этой трактовке значительную роль сыграл близкий к театру Гжимала-Седлецкий, видевший трагедию чеховских героев в утрате ощущения себя помещиками, владельцами вишневых садов.
7 марта 1912 г. “Вишневый сад” в постановке Владислава Кандлера показал своим зрителям театр в Познани. Об этом спектакле Казимеж Домбровский впоследствии писал: «Постановка “Вишневого сада” опиралась на образцы Московского Художественного театра. Натуралистические детали, употребленные в преувеличенной форме, не нашли признания...”92 Судя по отзыву историка лодзинского театра, и тамошняя постановка “Вишневого сада” не имела успеха93.
Для краковского театра память о неудаче была столь сильна, что он вплоть до 1914 г. не помышлял о новой постановке “Вишневого сада”. Но работа над чеховской драматургией в театре продолжалась, и 2 марта 1907 г. впервые была показана “Чайка” (перевод Г. Баумфельда). В спектакле были заняты Фаустина Крысиньская (Аркадина), Мелевский (Треплев), Максимилиан Венгжин (Шамраев), Собеслав (Тригорин), Ирэна Сольская (Нина Заречная), Александр Зельверович (Дорн). Как и “Вишневый сад”, этот спектакль постигла неудача. Видимо, стремясь учесть уроки предыдущего неуспеха, в театре перегнули палку — стали играть в некую чрезмерную естественность, ища то самое “настроение”, в отсутствии которого упрекала критика постановку “Вишневого сада”. «Для “настроения” две трети диалога произносились так, что если бы не подсказки суфлера, то ничего не было бы слышно», — писал рецензент “Пшегленда польскего” Юзеф Флах94. По его мнению, премьера не открыла ничего нового в Чехове: «...видя за год до того “Дядю Ваню” и недавно “Вишневый сад”, знали мы уже тогда “Чайку”... Даже сама “Чайка” зоологически напоминает “Дикую утку” Ибсена». Единственным новым моментом в пьесе Чехова является «снедающая молодого поэта ненависть к славе старшего... Это момент и новый у Чехова и вообще занимательный... кроме этого, нет нового в “Чайке” на этом выцветшем, лишенном живых красок фоне».
29
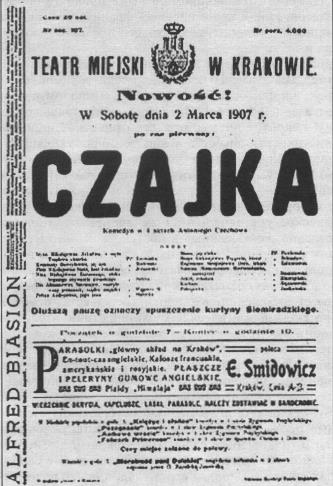
АФИША СПЕКТАКЛЯ «ЧАЙКА»
Краков, Театр Мейский
Премьера 2 марта 1907 г.
Такое же в принципе понимание пьесы обнаружил и рецензент газеты “Напшуд”95, добавивший только, что меланхолия “Чайки” значительно сильнее меланхолии “Вишневого сада”. Удивительным диссонансом звучат для него “слова бодрости, веры в жизнь, в себя”. «Но и они выходят из уст как будто жертвы, подстреленной “Чайки”, любовь которой растоптана, артистическая надежда осквернена, но которая, однако, горит по-прежнему готовностью любви и жаждой самосжигания». Рецензент газеты “Нова реформа” В. Прокеш96, также вспомнивший по аналогии “Дикую утку” Ибсена и кроме того сославшийся на близость сюжета с одним из моментов биографии Чехова, пришел к выводу о пагубности влияния западной культуры на чеховских героев: “Рафинированная культура Запада падает на суровые, неподготовленные души и создает в них блуждающие без точных целей маяки”. Автор рецензии, опубликованной в журнале “Критика”97, сравнивая “Чайку” с “Подсвечником” Альфреда Мюссе, писал, что “нельзя достигнуть большего контраста, чем ставя одновременно” эти пьесы: “Тяжелая, свинцовая меланхолия
30
русского поэта, даже в бестенденциозной пьесе проникнутая суровыми и патетическими аллегориями, и пьеса насквозь французская, полная шампанского веселья, задорного, дразнящего, вносящего прелесть в жизнь, — за всеми границами добра и зла...”
Критики, ориентированные на западноевропейские модернистские ценности, как например Влодзимеж Пинский, видели в самой форме чеховских драм “альянс двух элементов: ибсенизма с его символом и неоромантизма с его настроением и волей Судьбы, Предназначения, таящегося в самих героях”98. Еще в 1904 г. критик предлагал рассматривать “Вишневый сад” не как “обычную реалистическую пьесу”, а как “символ уходящей, замирающей жизни, как символ гибнущего мира — это произведение сразу встает для нас во всем величии и блеске своего богатства и красоты”. Но есть в нем и нечто за пределами символа — “лирическое настроение”, которое создается “ритмом, звуками и колоритом, независимо от главной идеи, вызывает особое музыкально-психическое состояние, а также элементы художественные, зрительные, столь щедро разбросанные в постановках пьес Чехова”. По мысли Пинского, главным желанием Чехова было стремление «в тесные рамки пьесы вложить побольше насыщенного материала, создать образ внутренней, духовной жизни, заботясь о драматической ситуации лишь постольку, поскольку она содействует выявлению тех или иных качеств, особенностей действующего лица. Отсюда драматические характеристики, избегающие описаний “героев” и “героинь”».
Если в отдельных работах о Чехове (В. Пинского и др.) наблюдается стремление выявить специфические особенности творчества, нащупать связи его с западноевропейской драмой, то в большинстве рецензий, как отмечает Т. Позняк, “преобладает скептицизм и неумение видеть ту силу, которая смогла бы разбудить охваченную грустью и убаюканную сном русскую душу”99. Отдельные проницательные высказывания теряются в общем потоке пессимистического толкования Чехова. Неоднократно цитировавшийся выше Гжимала-Седлецкий, чей подход к Чехову был далеко не свободен от противоречий, выделял существенное, на его взгляд, в психологии чеховских героев: “...если на них не смотреть с иронической усмешкой, мечтают они и о светлом будущем: через двести, через триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться...”100. Ожидания героев переводит в план авторских размышлений критик Игнацы Хжановский, отмечавший “внешнюю недраматичность основы” чеховских пьес как главнейшее их достоинство, обернувшееся “правдой и глубоким наблюдением, добросовестностью и полнотой художественных средств”. «Что является знаменательным и интереснейшим в этих пьесах, — писал он, — так это их субъективный элемент, который в рассказах только эпизодически пробивается; автор устами своих героев высказывает собственную веру в прекрасное, гармоничное будущее. Но спрашиваем невольно: кто его построит? Ведь эти “герои” даже пальцем пошевелить не желают!..»101
От символистско-декадентских взглядов на Чехова до вульгарно-натуралистического подхода — такова была режиссерско-артистическая амплитуда в толковании сценического творчества писателя периода 1906—1915 гг. Натуралистическая концепция возобладала в постановке “Чайки”, осуществленной 17 апреля 1910 г. в Варшаве труппой Польского драматического товарищества. Она не вызвала заметных отзывов в печати. Журнал “Сцена и штука” писал в привычном тоне, что в пьесе царит безнадежная тоска, нет даже проблеска солнечного луча102. “Чайка” была также поставлена
31
театром в Познани — премьера состоялась 1 апреля 1911 г. Готовилась пьеса к постановке и в Лодзи. Здесь же Театр Польски 28 января 1909 г. осуществил постановку “Трех сестер” с участием Стефана Ярача в роли Соленого. Несмотря на срывы и явные недостатки в сценической интерпретации, пьесы Чехова приобретали все большую популярность.
Особенным успехом у массового зрителя пользовались постановки по рассказам Чехова и его водевилям. 16 марта 1903 г. краковский театр в рамках благотворительного вечера показал “Медведя” (в переводе Г. Баумфельда). В спектакле участвовали А. Зельверович (Смирнов), Ядвига Мрозовская (Попова). 12 октября 1909 г. “Медведь” был поставлен в Познани, там же в 1907 г. — “Предложение”, возобновленное в 1915 г. 18 февраля 1908 г. в варшавском Театре Малом состоялась премьера “Свадьбы” с участием таких известных актеров как Бартошевский, Вейхерт, Мельницкий. Водевили были поставлены и в Польском драматическом товариществе в Варшаве. 23 ноября 1908 г. было впервые показано “Предложение” в любительском исполнении “с всегда превосходной госпожой Тхеловой вместе с господами Мерчиньским и Визорем, который, помимо очевидной литературной способности, проявившейся в переводе пьесы, оказался также очень хорошим исполнителем, представившим законченный тип русского помещика-обывателя”103. “Медведь” в том же артистическом исполнении был что называется частью “железного”, всем известного старого репертуара Товарищества.
Настоящей сокровищницей стали водевили Чехова для крестьянских любительских кружков. Специально для них отдельные издания выпустила “Библиотека любительских театров”. Некоторые из этих изданий были снабжены комментариями, не всегда верно ориентировавшими режиссера и исполнителей. Таков, например комментарий Генрика Цепника к “Предложению” (перевод А. Дзебкевича), в котором Чубуков представлен “характерным типом русского помещика старой формации”, а Ломов — пресыщенным ловеласом, у которого “неврастения и настойчивость, доходящая до истерики и жестокости, замаскированы поверхностным bon tonem”104. Но сами чеховские водевили вызывали неизменный живой отклик у зрителей. Юмор Чехова, как свидетельствует печать, скрашивал деревенским жителям тяготы жизни в период Первой мировой войны.
Резюмируя свой обзор постановок по чеховским пьесам, осуществленных главным образом в предвоенное десятилетие, Т. Позняк отмечает, что только “Дяде Ване” удалось “освободиться от ярма общего шаблона пессимистического толкования Чехова”. В том, что произведение это “завладело польскими сердцами и умами”, он видит прежде всего заслугу мастеров сцены — Сольского, Зельверовича, Адвентовича, Ярача. Непонимание же сущности таких пьес, как “Вишневый сад” и “Чайка”, вызвано фальшивыми концепциями, интерпретирующими эти пьесы как выражение пессимизма автора и натуралистических тенденций на сцене. Тем не менее, считает исследователь, пьесы Чехова “сыграли важную роль в формировании польской театральной культуры, а также в области актерского искусства и зрительского вкуса как противоядие против декадентской сценической продукции и как великолепная школа большого, правдивого, реалистического театрального искусства”105.
2
В межвоенное двадцатилетие, 1918—1939 гг. число переводов в периодике и отдельных изданий Чехова по сравнению с предыдущим периодом (240) значительно снизилось — до 75106. Но в действительности интерес к Чехову
32
не упал. Внушительные данные о публикациях переводов до 1918 г. отражают в значительной степени коммерческий “бум” по отношению к Чехову, который охватил периодику 1900-х гг. Цифра 240 в значительной мере составилась из множества перепечаток в разных газетах и журналах переводов одних и тех же произведений. Не следует сбрасывать со счетов и издательский кризис 1922—1926 гг., когда в целом по стране выпуск книг заметно уменьшился. Период 1918—1939 гг. характеризуется как многочисленными попытками повторных (на новом уровне) переводов, так и появлением произведений Чехова, до того не выходивших на польском языке. “Старшее поколение межвоенной Польши вынесло знакомство с произведениями Чехова еще из времени, предшествовавшего первой мировой войне, — пишет Ф. Селицкий, — а были они так популярны, что некоторые выражения из них и некоторые образы стали попросту общеупотребительными и на них часто ссылались в быту”107.
В 1921 г. отдельными изданиями выходят “Медведь” (перевод Г. Баумфельда, первое издание вышло в 1902 г.) и “Предложение” (перевод А. Дзебкевича, первое издание вышло в 1912 г.). По окончании издательского кризиса в 1926 г. появляются два новых собрания переводов чеховской прозы под названиями “Винт” и “Смерть чиновника”. Первое, вышедшее в переводах Мечислава Бирнбаума108, содержало 27 рассказов, из них 14 были переведены впервые (“Благодарный”, “Братец”, “В потемках”, “Ведьма”, “Два романа”, “Двое в одном”, “Единственное средство,” “На гвозде”, “Нарвался”, “Неудачный визит”, “Пережитое”, “Разговор человека с собакой”, “Ушла”, “Беззаконие”). Вторая книга, с переводами А. В., вышла под редакцией Антони Ланги109. Она включала 29 рассказов, из которых 3 были переведены впервые (“В почтовом отделении”, “Длинный язык”, “Не в духе”). Том этот имел большой успех у читателя и в 1938 г. был дважды переиздан — “Дешевой библиотекой” и «Библиотекой “Курьера Польского”».
В 1927 г. в Познани в переводе М. Пухальского вышла “Драма на охоте” и в переводе Э. Пухальского — книга рассказов “Живой товар”110. В последнюю, помимо заглавного произведения, вошла повесть “Ненужная победа”. Любопытно, что в то время как переводчик первого издания во вступительном слове отметил, что имя Чехова “золотыми буквами вписано в историю русской литературы”, переводчик второго, поместив во вступительной заметке известное письмо молодого Чехова к брату Николаю об условиях, которым должны соответствовать воспитанные люди (март 1886 г.), охарактеризовал это письмо ни больше ни меньше как свидетельство отстранения Чехова “от жизни истинно русской”.
В том же 1927 г. появились еще три издания. Сборник “Шведская спичка” составили восемь рассказов (титульная повесть, “Талант”, “Тссс!..”, “Страшная ночь”, “Мститель”, “Хористка”, “Драма”, “Загадочная натура”)111. Второй сборник, выпущенный варшавской “Дешевой библиотекой”, содержал два произведения — “Рассказ неизвестного человека” (давший название книге) в переводе Яна Парандовского и “В овраге” в переводе А. В.112 Книга эта, пользовавшаяся широким спросом, была переиздана в 1930 г. Явно коммерческий характер имел третий сборник — “Обнаженная невеста”, в котором заглавным был переименованный рассказ “Роман с контрабасом”113. В него вошли также подобранные “тематически” рассказы “Первый любовник”, “Средство от запоя” и, в этом контексте совершенно неожиданно, — “Унтер Пришибеев”. Сборник, вышедший тиражом десять тысяч экземпляров, переиздавался трижды — в 1927, 1928 и 1930 гг. Помимо названных выше четырех впервые переведенных рассказов, в нем представлены и произведения известные читателю
33
— “Злой мальчик”, “Знакомый мужчина”, “Беда”, “Лишние люди”, “Скрипка Ротшильда”, “Хористка” и “Шведская спичка”. Таким образом, рекламные цели издателей приходили в противоречие с самим содержанием чеховских произведений.
Из того же коммерческого расчета, ориентировавшегося на буржуазный вкус, рассказ “Знакомый мужчина” был переименован в “Девчонку из кабаре” — это название “украсило” том рассказов, выпущенный в Кракове в 1929 г. 114 Причем в книгу, вышедшую с именем Чехова на титуле, были включены произведения и других писателей. Чеховские рассказы включались и в издания, автором которых назывался почему-то только Марк Твен. Вошедший в одно из таких изданий рассказ “Мститель” был переименован с криминальным уклоном — “Хотел убить жену”115.
Как и в период до 1918 г., в межвоенной Польше в переводческо-издательском отношении к Чехову прослеживаются две линии: одна — стремление видеть в нем только юмориста, умеющего позабавить “почтенную публику”, вторая — ощущение Чехова как тонкого психолога, правдивого писателя, чье творчество протестует против засилья пошлости, бездуховности, “сонной одури” бесцельного существования. Первая линия преобладала, но и вторая — хотя и пунктирно — вычерчивается достаточно ясно. Демократическая традиция связывает публикации переводов Чехова в рабочей, прогрессивной печати 1908—1910 гг. (“Металовец”, “Нова реформа”, “Напшуд”) с публикациями 1920—1930-х гг. в таких изданиях как “Нова культура”, “Газета роботнича”. Начавший выходить в 1923 г. журнал “Нова культура” в первом же номере вместе с переводом “Нашего марша” Маяковского поместил рассказ “Толстый и тонкий”, а в седьмом — популярнейшее у польского читателя произведение — “Смерть чиновника”. «Рассказ этот, — отмечает Ф. Селицкий, — не только “смешивший”, но и являвшийся вместе с тем острой сатирой на чиновнические отношения, был весьма актуален в период разбухания пронизанного карьеризмом государственного аппарата буржуазной Польши». Особое значение имела публикация катовицкой “Газетой роботничей”, в первомайском номере 1937 г. рассказа “Унтер Пришибеев”, переведенного Халиной Пилиховской. По словам Ф. Селицкого, “перевод этот, помещенный рядом с первомайскими революционными стихами, был проявлением сдвига в общественном понимании идейного смысла творчества Чехова. Не случайно появился он в 1937 г., когда процесс фашизации приобретал в Польше все более выразительные формы пришибеевщины”116. В 1933 г. “Унтер Пришибеев” как классическое произведение мировой литературы был напечатан в шестом томе “Большой всемирной литературы”117.
На протяжении второй половины 20—30-х годов переводы чеховских произведений появляются в различных периодических изданиях — “Цырулик варшавский”, “Побудка”, “Илюстрация”, “Кобета вспулчесна”, “Фигляж”, “Наоколо свята”, “Гонец краковский”, “Новосци илюстроване”, “Жиче млодзежи”, “Мой дом”, “Нове дроги”, “Трибуна польска”, “Жиче и повесць”, “Тото”, “Пшегленд моды”, “Пломык”. Продолжал помещать свои переводы в краковском “Часе” Г. Вендрыховский (в их числе “Володя”, “У предводительши”). Основная масса публикаций этого периода — юмористика молодого Чехова. Среди других немногочисленных переводов следует отметить “Душечку” в журнале “Кобета вспулчесна” (1931, перевод Ст. Стемповского) и “Студента”, появившегося под названием “Великая пятница” в журнале “Нове дроги” (1923, перевод К. Гулкова). Детский журнал “Пломык” (“Огонек”) опубликовал сделанный Г. Москаликовой перевод “Белолобого” (1935). В 1931 г. в переводе К. Магницкого вышло первое отдельное издание “Вишневого сада”118.
34
В 30-е годы стал ощущаться недостаток в переводах зрелого Чехова. Р. Блюс, указывая на малочисленность переводов русской литературы, в частности, отмечал: “Не имеем переводов из Чехова, в то время как Куприн выходит постоянно”119. Потребность была прежде всего в тех произведениях, которые отсутствовали в библиотеках.
Частично недостаток этот был восполнен изданием в переводе М. Грибовской тома, включавшего, помимо титульного произведения (“Палата № 6”), “Дуэль”, “Враги” и “Неприятность”120.
На это издание откликнулись рецензиями “Вядомосци литерацке”, “Библиотекаж”, “Нова ксенжка”, “Рочник литерацки”. Все эти отзывы страдают характерной упрощенностью и путанностью суждений. Т. Парницкий в статье “Чехов спустя четверть века”, остановившись только на “Дуэли”, отмечал, что в ней «нет еще той ноты усмехающегося, но целиком уже безнадежного пессимизма, которым веет от разрабатывающих ту же тему пьес “Дядя Ваня” или “Вишневый сад”». Объясняя, почему “в свое время имевшее сильный отзвук произведение” сейчас якобы не влияет на читателя должным образом, критик приходит к совершенно неожиданному заключению: «...знаем, что нравственный упадок конца прошлого века, описанный Чеховым, производит впечатление немалой духовной “силы” в сравнении с нравственным обликом тех же слоев в предвоенном периоде: что из того, что слабому Лаевскому противопоставил автор фон Корена, сильного человека “ницшеанского” типа, когда пятнадцать, двадцать лет спустя сыновья фон Корена, двойники которых известны по Алданову или Алексею Толстому, стали классическими декадентами, в десять раз более истеричными и неприспособленными к жизни, чем Лаевский»121. А по мнению анонимного рецензента “Библиотекажа”, все четыре произведения однотомника “навевают чары утонченной меланхолии” 122. Рецензент “Новой ксенжки” Т. Макаревич рекомендует книгу молодому читателю как «наилучшее свидетельство нравственного состояния предвоенной русской интеллигенции с ее безволием и отсутствием общественных интересов <...> Жестокий объективизм в описании этих “мертвых” и маленьких душ, разных врачей, вечных студентов, фельдшеров, мелких помещиков и чиновников, каждый из которых носит в себе смертельную болезнь своего класса и России, есть итог не только презрения, но и собственной немощи, немощи столь характерной для современного писателю поколения. Внимательный читатель, умеющий обобщать, найдет даже в этих четырех новеллах объяснение многим общественным явлениям старой России и ее трагического конца»123.
При всей очевидной “смещенности” этих откликов нельзя не отметить установившийся взгляд на творчество Чехова как на “документ эпохи”. В таком духе рекомендовал чеховские произведения справочник “Книга в библиотеке”, подчеркивавший, что в них “взаимоотношения личные и общественные схвачены в характерных ситуациях и дается глубокое знакомство с человеческими типами...”124
Противоречивость оценок конкретных произведений, отдельных изданий и переводов определялась новым этапом борьбы вокруг Чехова, развернувшейся в условиях межвоенной Польши. В этот период в критике уже почти исчез взгляд на писателя только как на “веселого юмориста”, и поэтому как курьез воспринимались слова виленского рецензента, побывавшего на спектакле “Дядя Ваня”, о том, что “Чехов-драматург стоит ниже Чехова-юмориста”125. Как бы возражая этой уже сошедшей со страниц печати, но еще ощущавшейся подспудно оценке, львовский театральный рецензент Ежи Ходецкий впадал в крайность, утверждая, что для того, чтобы лучше понять писателя,
35
нужно согласиться с тем, что «его “веселость” — вещь такая же несущественная и поверхностная, как несущественно в оценке этого писателя было бы учитывать его профессию врача»126. Еще сильны были и рецидивы ярлыка “пессимизма” в оценках Чехова. Побывавший в начале 20-х гг. в театрах Москвы Роман Дыбовский называет писателя даже “ультрапессимистом”127. А Р. Блюс в поисках причин пресловутого пессимизма приходил к выводу о его непосредственной связи с “половинчатым религиозным скептицизмом позитивистского типа, а также с весьма своеобразным, не лишенным ницшеанского налета культурничеством”128. Другие критики искали корни чеховского “пессимизма” в особенностях легендарной на Западе “русской души”. Мартин Кридл с сожалением отмечал, что “и этот подлинный европеец по духу и таланту поддался меланхолии, пронизывающей всю русскую жизнь”129. Эта оценка закрепилась и в энциклопедиях того периода: “Юмор Чехова вырос на основе пессимистического взгляда на мир и переходит в тон горькой сатиры, вступающей не раз в сферу трагизма”130.
Давали знать о себе и отзвуки давних народнических упреков в общественном индифферентизме. В середине 1930-х гг. в Варшаве вышло новое издание книги умершего в 1911 г. С. Бжозовского “Культура и жизнь”, в которой пространная глава о Чехове посвящена его безыдейности, отказу от борьбы и т. д. На их устарелость обратил внимание Р. Блюс, оговорившийся, правда, что, возможно, “чересчур сильный акцент на интеллектуальной стороне тогдашнего трагического видения чрезмерно подчеркивал истоки его генерации”131. По мнению Ф. Селицкого, “даже эта осторожная <...> ревизия <...> свидетельствует о том, что в польских оценках этого писателя наступила выразительная эволюция”. Отмечая объективные трудности, с которыми сталкивалась польская критика, он ссылается на путаницу и ошибочность в трактовках чеховского творчества в советском литературоведении 1920—1930-х гг. В качестве примера Селицкий приводит цитату из статьи А. В. Луначарского “Чехов сегодня”, перепечатанной газетой “Вядомосци литерацке” в 25-ю годовщину смерти писателя: “Чехов был для своей эпохи писателем, мирящим читателя с судьбой, несмотря на то, что говорил о жизни правду, смеялся над жизнью и страдал по этой причине”132.
Однако и в этот сложный период были сделаны успешные попытки приблизиться к подлинному Чехову. Рецензируя опубликованную в Москве в 1934—1936 гг. переписку Чехова с его женой, те же “Вядомосци литерацке” отмечали: “О чем бы ни писал Чехов в своих письмах — о погоде ли, о мучающих его желудочных страданиях, о хозяйственных новостях, о театре и литературе — они прежде всего зеркало его жизненной мудрости и глубоко чувствующего сердца. Вместе с пронзительной любовью к жене в каждой строке проглядывают своеобразный чеховский юмор и та задушевность, которой высвечена его общественная врачебная деятельность и все богатое творчество художника”133. Социальную значимость чеховского наследия подчеркнул в своих историко-литературных трудах А. Брюкнер. В “Истории русской литературы” он назвал писателя даже “Гомером александровской России”, имея в виду как отраженность настроений эпохи безвременья, так и широту писательского кругозора, вобравшего ее разнообразные явления и типы. Брюкнер не без удовольствия констатирует, что народническая критика, упрекавшая Чехова в недостатке гражданственности, позже признала несправедливость своих претензий. Объективность творческой манеры он связывает с материалистическим мировоззрением писателя (оно “раскрыло глаза на голую правду, заставило терпеливо следить за развитием каждого явления; подобно врачу, появляется Чехов у ложа больного, ставит диагноз...
36
И встает из бесчисленных камешков образ-мозаика тогдашней серой провинциальной Руси...”)134 Спустя одиннадцать лет, в 1933 г., Брюкнер в “Большой всеобщей литературе” усилит эту характеристику: “Произведения Чехова — это огромная мозаика из мелких и мельчайших камешков всей русской жизни александровских лет, красноречивый, убедительный акт обвинения против них”135.
Единодушным было признание в этот период высокого литературного мастерства Чехова. Оно отмечалось как в публикациях, посвященных двадцати- и тридцатилетию со дня смерти, так и в связи с появлением новых переводов и отдельных изданий. В той же “Истории русской литературы” Брюкнер восхищался, как “несколькими взмахами пера, языком удивительно метким <...> изображает он конфликты — с собой и миром, с совестью и окружающей средой...” Чеховская вера “в прогресс и человечество” для исследователя неотъемлема от самого тона, манеры повествования, неназойливо, но точно обнажающей язвы старой России и вместе с тем свидетельствующей о любви к людям, ищущим своего пути в жизни, страдающим и надеющимся. «Никто не только в России не сравнялся с Чеховым в совершенствовании формы “short story”1*, где ни одного слова, ни одной детали вычеркнуть нельзя», — утверждает Брюкнер136. С таким же восхищением пишет о литературной технике Чехова и М. Кридл, он называет его “реалистом чистой крови”, обладающим «даром слова всегда меткого и точного и вместе с тем экономного, краткого, стилем простым, но ярким, свободно владеющим искусством “классической композиции”»137. Критик Габриэла Паушер отмечает, что Чехов “избирал такие положения и ситуации, при которых все глупое, отвратительное и малодушное выступает наяву выразительно и ярко”138. Писательница М. Домбровская в рецензии на рассказы Алексея Толстого и других советских авторов видит их удачу в связи со “зрелой школой великих русских писателей, в особенности Чехова”. Об этом свидетельствует умение быть кратким и “отражать всю современность или, по меньшей мере, целую среду в нелепом случае, в нечаянно подслушанном разговоре”139.
В критике появились стойкие приверженцы чеховского таланта, защищавшие его наследие от явно несправедливых нападок и даже попыток отодвинуть в тень. Влодзимеж Фишер в статье “Из русской литературы” жаловался, что Горький, Андреев, Арцыбашев и Куприн “заслонили собой правдивую фигуру великого писателя, каким был скромный и простой Чехов”140. Г. Паушер в статье по случаю двадцатипятилетней годовщины смерти писателя делает попытку обозначить те качества, которые особенно оценила у него польская общественность. Она пишет, что “Чехов немилосердно насмехался над теми людьми, на лбу которых отпечаталось тройное пятно — глупости, мелочности и стремления к насилию”, что «автор “Чайки” ненавидел ложь и насилие. Святыней его был человек...» И далее критик пересказывает слова из известного чеховского письма к А. Н. Плещееву 4 октября 1888 г., подчеркивая, что чеховское понимание “свободного художника” вызывает признательность тех, “кто в польской литературе борется за освобождение искусства от ярма этикета и принуждения во всех его проявлениях”141.
37
***
В межвоенное двадцатилетие заметно углубилось осмысление чеховского драматургического наследия. Если в начале 20-х гг. еще писали, правда, с многочисленными оговорками, о “несценичности” отдельных пьес, то в последующее время, под воздействием новых гастролей МХТ и собственных постановок, эти упреки как бы растворились в попытках проникнуть в специфику чеховской драматургии. “История русской литературы” А. Брюкнера свидетельствует о трудностях, с которыми столкнулась критика начала 20-х гг., несшая на себе еще отпечаток оценок предыдущего десятилетия. “В противоположность рассказам, — пишет исследователь, — в драмах автор не теряет надежды на перемены к лучшему, на победу разума и справедливости, уповая на земной рай хотя бы и через два столетия”. Но Брюкнер не видит оснований для таких перемен и людей, которые бы их осуществили. Он пытается разглядеть положительного типа в Лопахине, напомнившем ему гончаровского Штольца или тургеневского Соломина, кого-то из героев “Оскудения” Атавы (С. Н. Терпигорева). «В пьесах не хватает жизни, движения, сложности; мы являемся свидетелями бесконечных разговоров “под чай”; эти люди долго собираются что-то предпринять, но на этом все и кончается...» Это впечатление Брюкнер сам же опровергает буквально несколькими строками ниже, когда говорит: “Действия как бы не было, пьесы эти какие-то лирические, но наполненные необыкновенной правдой, естественным диалогом, они постепенно приобретают движение и жизнь”. И тем не менее автор “Истории...” уверен, что талант Чехова “хотя и первостепенный, но не драматический; это эпик, фигур своих в действии он не показывает...”142
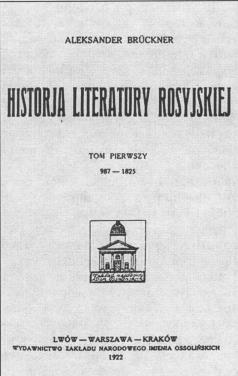
АЛЕКСАНДР БРЮКНЕР. ИСТОРИЯ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Львов—Варшава—Краков, 1922
Титульный лист
Рассуждения Брюкнера по сути поставили проблему драматического конфликта и действия у Чехова, осмысление которой только назревало. Пока же довольно широкое к концу 20-х гг. и в 30-е гг. признание сценичности чеховских пьес шло от роста популярности писателя у читателя и зрителя. Наиболее принципиальные из критиков, не сумев до конца осознать новизну чеховской драматургии, ощутили ее интуитивно. Вацлав Радульский в своем “Очерке русского театра” писал: “Собственно, Чехов — последний драматург, неразрывными узами связывающий литературное содержание с театральными формами”. И прибавлял, что “после смерти Чехова ни одно произведение не умеет охарактеризовать русскую современность и создать театр современного содержания”143. В этом плане красноречиво и признание Болеслава Горчиньского, назвавшего Чехова “самым представительным среди драматургов России на рубеже минувшего столетия”144.
38
В этот период особенно популярным у зрителя становится “Вишневый сад”, которому так не везло до того. Пробуждение нового интереса к последней пьесе Чехова связано с гастролями так называемой “Пражской труппы театра Станиславского”. Ее варшавским гастролям в мае 1929 г. сопутствовал большой успех, несмотря на то, что спектакли проходили в неудобном и маленьком зале кинотеатра “Водевиль”. Правда, успех этот не соответствовал мнению некоторых рецензентов. Обозреватель “Сцены польской” Тадеуш Кончиц считал, что сама тема “Вишневого сада” утратила актуальность: «судьба такой барской усадьбы как “Вишневый сад” мало кого взволнует». Слабым показался ему и сам спектакль, “несогласованный по духу, негармонический в деталях”145. Зато самую высокую оценку ему дал известный поэт, драматург и театральный критик Антони Слонимский, которому в особенности импонировало “здоровое, насквозь реалистическое режиссерское решение”. Несмотря на явные недостатки художественного оформления, со сцены “звучало живое слово в устах живых людей”, и “был там актер и режиссер, но, что важнее всего, был там Чехов”. «“Вишневый сад”, — продолжает критик, как бы возражая рецензенту “Сцены польской”, — это чарующая пьеса. Тонкое кружево проникновенной грусти и юмора не пожелтело, не посерело, — сохранил эту благородную ткань правдивый, упоительно точный рисунок человеческих характеров”. Приведя слова “какого-то русского профессора Кухарского”, считавшего пьесу “беспощадной сатирой на российскую обывательщину”, которой по сути ничего не противопоставляет «идеализм, представленный “вечным студентом”», Слонимский замечает: «“Вишневый сад” — сатира, но сатира теплая по колориту, как прекраснейший пейзаж французских импрессионистов, как “Пиквикский клуб”. Чехов так сближает нас со своими героями, что будит в нас снисходительность. Не очень можем мы на них гневаться и очень трудно нам их осуждать. Вот что самое главное; как человек, которому не чужды такие же недостатки, мог бы с ними немного поспорить, не переставая их любить, — как это часто случается с близкими родными...”146 Это впечатление Слонимского вызвано, по мнению Ф. Селицкого, тем, что для тогдашней русской эмигрантской труппы «пьеса была прежде всего своего рода элегией, а не “приветствием новой жизни”», как назовет позднее “Вишневый сад” В. Ермилов. В подтверждение Селицкий ссылается на то, что ни в одной из рецензий не была затронута общественная суть пьесы, “которая выделялась в постановках польской режиссуры”147.
27 апреля 1937 г. премьера “Вишневого сада” состоялась в варшавском Театре Польском (приурочена к 25-летию этого театра). Интерес к постановке был сильнейший — пресса еще за два месяца до премьеры начала публиковать материалы о пьесе и ее авторе. С двумя статьями в журнале “Театр” выступил Б. Горчиньский. В первой — “Чехов в Театре Польском” — он характеризует “Вишневый сад” как “единое целое, полное гармонии <...> глубокой внутренней драматической динамики, играющей на струнах чистого, тонкого лиризма и благородного, в меру дозированного, юмора”. Критик высказывает надежду, что “выдающееся произведение Чехова будет поставлено с учетом всех его особенностей, по духу и форме в точном соответствии с замыслом автора”. Статья кончается словами: «Постановка “Вишневого сада” <...> бесспорно станет событием культурно-театральной жизни Варшавы»148. Во второй статье — «От доктора медицины до “Вишневого сада”» — дается очерк жизни Чехова и его драматургии. “Спустя тридцать лет после смерти художника, — пишет Горчиньский, — на польской сцене разворачивается волнующая и комическая попеременно театральная повесть о неудачниках русской жизни — белый цветок преклонения и памяти об одном из тончайших
39
драматических писателей мира”149. Журнал “Театр” опубликовал также фрагменты из книги Станиславского “Моя жизнь в искусстве”, посвященные анализу “Вишневого сада”, проблемам его постановки.
Чеховская пьеса в Театре Польском не могла не вызвать обостренных высказываний с политической “подкладкой”, в которых определялось отношение к социальным переменам в России. Хелена Радзиукинас в статье “Чехов и его театр”, опубликованной в журнале “Просто з мосту”, сравнивая атмосферу пьес Чехова с летними ночами, “нежными и душными, во время которых ничего не происходит, но кажется, что боль существования достигла своей вершины в этой безмолвной тиши”, пишет далее, что Чехов, видя «страшное безволие, угасание всех идеалов и устремлений, которые охватили русскую интеллигенцию на рубеже XIX—XX веков, сочувствовал ей, доходя до личного отчаяния, ставил диагноз и рекомендовал как врач — “стремиться” и “работать”». На этом основании утверждается, что идея “Вишневого сада” — “пробуждение интеллигенции” и проводится параллель со “Свадьбой” Выспяньского: «Не удалось ему пробудить интеллигенцию от зачарованного сна бессилия, и поэзия “Вишневого сада” напоминает мелодию скрипок Хохола, под которую пары в свободном кружении движутся к бездне» (в пьесе Выспяньского танец сомнамбулически передвигающихся фигур становится символом маразма и бессилия общества). Эта цепь рассуждений и сравнений приводит Х. Радзиукинас к выводу: “Вишневый сад выкорчеван, осталась разрытая целина, огороженная колючей проволокой”150. Комментируя эту статью, Ф. Селицкий указывает, что еще перед премьерой были очевидны попытки “навязать зрителям реакционную интерпретацию, возбудить рефлексию с антисоветским оттенком”151.
Злободневную интерпретацию предлагал читателям и переводчик “Вишневого сада” Константы Магницкий в предисловии к отдельному изданию пьесы. По его словам, “Чехов как представитель той части русской интеллигенции, которая боролась за лучшее будущее своего народа”, предвидел не только революцию, но и “все ее ужасные последствия”. Магницкий с сочувствием говорит о “нечеловеческих страданиях” тех, которые когда-то “не хотели слушать предостерегающего голоса Чехова”, и подчеркивает, что пророческие слова писателя о грядущей новой жизни в нынешней обстановке следует связывать с единственным условием — падением революционной власти в России152. Трактовка переводчика была отчасти подхвачена справочником “Книга в библиотеке”, который писал: “Вишневый сад, подлежащий продаже и обреченный на уничтожение, является символом того гибнущего общественного класса, который принимает этот факт как неизбежное свое предназначение”153.
Спустя семь лет значительно изменил свой взгляд на чеховскую пьесу А. Слонимский, побывавший на варшавской премьере. Добродушно-снисходительное отношение к ее героям сменилось недоверием и тревогой. Слонимского не устраивает расплывчатость характеров и неопределенность устремлений героев, могущих склониться под воздействием обстоятельств в любую сторону. Он так и пишет: “Что же до будущего Петра Трофимова, то здесь возникают серьезные сомнения. Вечный студент может стать революционером, а может — провокатором”. Даже над “таким невозмутимым рамоли” как Леонид Гаев нельзя “смеяться здоровым и радостным смехом”, потому что и он подозревается, “наподобие индейца, прячущего за пазухой томогавк”. Уточняя позицию, Слонимский говорит: «На “Вишневом саде” испытываешь такое же чувство, как при чтении Достоевского. Фигуры драмы выходят
40
из собственных контуров с очевидной, поразительной легкостью. Юмор в этих условиях становится чем-то чудовищным»154.
Эта новая требовательность к чеховским героям была в немалой степени продиктована обострившейся общественной обстановкой во второй половине 30-х гг. Один из побывавших на премьере рецензентов, Казимеж Вержиньский, писал: “Из этого сада доносится нездоровое поветрие. Когда-то оно отравило целую эпоху, сейчас также отдает трупным запахом. Среди цветущей вишни лежит открытый гроб с останками живых людей. Ложились туда поколениями, подкошенные собственным безволием, духовной нищетой, даже как навоз под будущее. Это руины без заслуг, как можно было бы перефразировать слова Норвида”. Заслугой же могло быть только сопротивление революции. С героев пьесы Вержиньский переносит свое недовольство на автора: “Если в действительности Чехов чувствовал, что Россия падет под топором, как пали деревья в вишневом саду, то он прислушивался к своей совести ненамного больше, чем госпожа Люба к предостережениям Ермолая. Он был более влюблен в бессильную красоту отечества, нежели готов к геростратовскому протесту. Его голос звучал как тревога, но как тревога, исторгнутая бессилием; предупреждающий сигнал прозвучал над миром, но не пробудил людей от смертельного сна”. Естественно, что рецензент был возмущен прозвучавшими в пьесе словами веры в прекрасное будущее России. Отсюда его нападки на Трофимова: “Студент Петр, псевдоморалист и трескучий реформатор высказывает различные мнения об исправлении жизни, а сам не может закончить учебы”. Вержиньский делает также множество упреков режиссеру и актерам, но не может не признать, что «постановка “Вишневого сада” вызвала в Варшаве давно не наблюдавшуюся заинтересованность»155.
Об успехе спектакля, поставленного Збигневом Зембиньским с участием таких актеров, как Мария Пшибылко-Потоцкая (Раневская), Станислава Стемпнювна (Аня), Ирена Боровская (Варя), Казимеж Юноша-Стемповский (Гаев), Богуслав Самборский (Лопахин), Ежи Роланд (Трофимов), Яцек Вошчерович (Епиходов) писал журнал “Театр”: “Пьеса Чехова, как и ожидалось, вызвала среди театральных завсегдатаев столицы большой интерес. Зал Театра Польского каждый вечер со дня премьеры заполнен публикой, находящейся все четыре акта под неослабевающим воздействием глубоко волнующего настроения этой пьесы — вершинного произведения незабвенного драматурга...”156
Конечно же, не “трупный запах”, а большая художественная правда Чехова привлекала ценителей театрального искусства. Это подтверждает и впечатление известного публициста Тадеуша Бой-Желеньского: «На первый взгляд, “Вишневый сад” это что-то вроде наших “Обломков” (имеется в виду пьеса известного драматурга Юзефа Близиньского, запечатлевшая упадок польского дворянства; написана в 1881 г. — С. Б.), ликвидация одной дворянской усадьбы, может быть, гибель класса, исчезновение определенных форм жизни. Но кажется, что это произведение, написанное в первые годы двадцатого века (почти одновременно с нашей “Свадьбой”), выражает что-то большее; заключает в себе обзор или настроение всей русской жизни. Трудно найти нечто более грустное, безнадежное, чем эта жизнь в вишневом саду, заброшенном хозяевами, в этом доме, где все какое-то нелепое и чудаковатое, в доме обреченном, впрочем, на гибель”. Последние сцены пьесы представляются критику особенно значительными: “Этот вынос чемоданов и отъезд происходят в похоронном настроении. Мы невольно поддаемся этому настроению, но вскоре охватывает нас рефлексия: о чем мы, собственно, грустим? Об этом ли вишневом саде? Но ведь мы не так уж хорошо
41
представляем себе, символом чего он являлся. Или о том, что прекрасная и гармоничная патриархальная жизнь уступает место меркантилизму и грубости? Может быть, — если мы в это красивое прошлое не очень верим, а та жизнь, образчик которой мы видели, была страшной. По нашему нынешнему разумению, лучше уж быть довольным, что исчезнет этот бывший когда-то полезным сад, ныне же никому не нужный, что уступит он место дачам над рекой в красивой местности. Может быть, в тех домах жизнь будет лучше, и есть надежда, что их владельцы тоже посадят какие-то деревца”. И здесь Бой переходит к тому, что знаменует для него оптимистическое начало в пьесе: «Петр, давний репетитор покойного сына госпожи Любы, вечный студент, снедаемый <...> нищетой, мыслитель, резонер и бессребреник. За ним пойдет молодая Аня, несмотря на то, что оба, — как говорит Петр, — “выше любви”, пойдет, чтобы рука об руку с ним совершенствоваться и работать для лучшего будущего. В этой паре, в которой мы сами домысливаем недосказанное по цензурным причинам, видел, очевидно, автор (сам гаснувший уже от туберкулеза) проблеск светлого будущего; но эту его веру, если мы правильно ее угадали, ощущаем рефлекторно; на сцене она не проявляется»157. В плане этих рассуждений понятен заголовок статьи Боя: “Грустим, но о чем?”
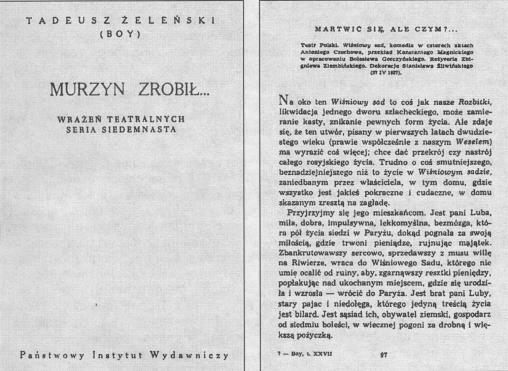
Т. БОЙ-ЖЕЛЕНЬСКИЙ. ГРУСТИМ, НО О ЧЕМ?
Рецензия на премьеру «Вишневого сада» 27 апреля 1937 г. в Театре Польском
Из кн.: Т. Бой-Желеньский. Мавр сделал... (Варшава, 1970)
Титульный лист и первая страница рецензии
Успех постановки “Вишневого сада” в Театре Польском, несомненно, содействовал тому, что спустя полтора года к пьесе обратилась работавшая в Варшаве “Русская драматическая студия”. Рецензия на этот спектакль, с которой выступила упоминавшаяся выше Х. Радзиукинас в том же журнале
42
“Просто з мосту”, повторяла прежние положения о Чехове как “враче”, стремившемся предупредить о “грозной буре”. Сегодня же его пьеса, отмечала рецензентка, “дает русской эмиграции много тем для размышлений о давних ошибках, она имеет значение исполнившегося, но в свое время неоцененного трагического пророчества”. Другим народам она дает удивительное видение мира, где все, “как сон” и предупреждает, что такой сон может кончиться неприятным “пробуждением”158. По поводу этой рецензии Ф. Селицкий замечает, что автор ее стремится «создать из “Вишневого сада” какой-то ужас перед революцией — сознательно фальсифицирует главную идею этого произведения»159.
Другим произведением, которое часто ставилось в период межвоенного двадцатилетия, был “Дядя Ваня”. 21 июня 1919 г. спектакль был поставлен в Лодзи по случаю гастролей Александра Зельверовича, выступившего в своей “коронной” роли — Войницкого. 29 мая 1925 г. состоялась премьера в Театре Польском в Вильно (постановка С. Фишера). Судя по отзыву в газете “Тыгодник Виленьски”, актеры играли хорошо, но сути рецензент совершенно не понял, что и выразилось в откровенном признании: «Эта плохо переведенная на польский язык пьеса содержит лишь голое отрицание и неотвратимо приводит к безответному возгласу: “Зачем все это?”»160 Годом позже “Дядю Ваню” поставил Театр Новости во Львове (режиссер Эдвард Житецкий, в роли Войницкого — Александр Зельверович). О спектакле писал в “Слове польском” Ян Заградник, выражая удивление, что пьеса Чехова “не примыкает” к его рассказам: если в рассказах наряду с меланхолией есть и юмор, то в “Дяде Ване” “элемент ясности исключен целиком”. “Люди Чехова, — продолжает критик, — не борются за свою любовь и свои устремления, они хотели бы, чтобы кто-то за них все сделал <...> Эти несчастные не знают даже, чего от них ждет жизнь, за что она им мстит <...> очевидно, Чехов понимал эти проблемы глубже и яснее, но, как видим, написал он не пьесу, а скорее психологически-бытовой этюд, заключенный в форму драматического диалога”161.
15 июля 1928 г. в Кракове играла “Дядю Ваню” упоминавшаяся выше русская труппа из Праги, а на следующий год она же показала спектакль в Варшаве. Хроникер этих гастролей Т. Кончиц отмечал, что пьеса “все еще интересна и свежа эмоциональными конфликтами, происходящими в напряженном драматическом действии, привлекает весьма характерной темой, психологической разработкой образов”162. Спустя одиннадцать лет после премьеры в виленском Театре Польском, в 1936 г. “Дядю Ваню” поставил другой виленский польский театр — Театр на Погулянке (режиссер Владислав Ченгера). Спектакль прошел десять раз без каких-либо заметных отзывов в прессе. Наконец, в 1937 г. “Дядю Ваню” показала Русская драматическая студия в Варшаве. Все та же Х. Радзиукинас из журнала “Просто з мосту” заявила по поводу этого спектакля, что “трудно нам сейчас понять этих бездеятельных людей”, а “Чехов — это документ давно отошедшей эпохи, ныне непонятной”. Заканчивается рецензия словами: «Атмосфера полной безнадежности — попросту страшная. Лекция на тему “как не следует жить”»163.
Пытаясь ответить на вопрос о причинах падения популярности “Дяди Вани”, пользовавшегося значительным успехом до 1914 г., и очевидном интересе зрителя к “Вишневому саду”, Ф. Селицкий указывает, что «“Вишневый сад” в результате происшедших в России перемен приобрел большее политическое значение, в то время как “Дядя Ваня”, запечатлевший только образы серых людей и их страдания, не отвечал запросам межвоенного общества, которое в ходе обостряющейся классовой борьбы все активнее искало выход из
43
нараставших экономических и политических противоречий и потому было менее склонно к созерцанию натуры чисто лирической»164.
По-прежнему были очень популярны в народных, любительских кружках водевили “Предложение”, “Юбилей”, “Медведь”. Их тексты неоднократно переиздавались специально для любителей. Чехова играли и в школьных театрах, где нередко использовали инсценировки по его рассказам (в их числе — инсценировка по рассказу “Размазня”, осуществленная Натальей Зарембиной и вышедшая отдельным изданием под названием “Рохля”; в режиссерском комментарии инсценировка рекомендовалась школьным театрам не только как “очень хороший сценический материал”, но прежде всего как тема “для подрастающей молодежи, глубже и шире интересующейся общественными проблемами”)165.
Таким образом, произведения Чехова в межвоенной Польше были значительным явлением культурной жизни общества. Вызывая к себе неизменный интерес, они стали и ареной идейной борьбы, и школой гуманизма и мастерства. Чеховская эстетика уже в этот период стала мерилом подлинного в искусстве. Не случайно Кароль Гусарский в статье “Двадцатилетие Театра Польского”, характеризуя “Дом женщин” Зофьи Налковской, оговорился: “Эта оригинальная пьеса, как и пьесы Чехова, лишена внешнего действия, она волновала и глубоко трогала действием внутренним”166. На пьесах Чехова учились актерскому мастерству воспитанники Государственной драматической школы под руководством Александра Зельверовича167. Пожалуй, глубже и проницательнее других в этот уже чреватый близкой катастрофой период разглядел духовную актуальность, гуманистическую насыщенность произведений русского писателя Влодзимеж Фишер в статье, посвященной тридцатилетию со дня смерти Чехова:
“Жизнь должна быть перестроена — сегодня же она организована так, что одни, эксплуатируя других и пользуясь их трудом, поступают так либо по злобе и сознательно, либо добродушно и бессознательно. Устроить свою личную жизнь таким образом, чтобы она не была построена на чьем-то несчастье — эта задача почти неразрешима при нынешнем положении вещей. Обязанность трудиться должна быть всеобщей, пользование сокровищами культуры должно быть доступно для всех... Все творчество Чехова пронизано предчувствием грядущей неизбежной катастрофы, которой он ясно себе не представлял. Кажется ему временами, что лет через 200—300 жизнь на земле будет прекрасной... И думается ему не только о справедливости, о благополучии, но и о красоте, ибо без прекрасного нет жизни.
И, может, потому Европа теперь зачитывается Чеховым, что также ощущает канун больших перемен, опасность катастрофы, что та красота, которую создала многовековая культура, может быть сейчас уничтожена.
А Россия, в которой столько вишневых садов пало под топорами новых хозяев, имеет перед собой задачу большого творческого труда, к которому словом и делом призывал Чехов”168.
3
В новых исторических условиях, возникших в послевоенной Польше, Чехов становится одним из самых почитаемых и, естественно, широко издаваемых зарубежных писателей. Правда, еще давала о себе знать «многолетняя тенденция подавать Чехова “с юмором”»169. Из тридцати изданий первого послевоенного десятилетия девять содержат произведения только юмористического характера. Не обошлось и без курьеза, напоминающего историю с
44
“Прекрасной Вандой”. В 1947 г. в серии “Библиотека избранных произведений” была выпущена книга “Страшная ночь. Жуткие повести”, а вошли в нее рассказы с юмористической окраской, лишь названия которых (“Мститель”, “Смерть чиновника”, “Сирена” и др.) “подыгрывали” словам, стоявшим на обложке. Первые послевоенные издания Чехова были небольшими по объему, содержали, как правило, произведения хорошо известные читателю, давно завоевавшие популярность. Это прежде всего водевили “Свадьба. Медведь” (переводы Е. Вышомирского и Н. Михайлова; Варшава, изд. “Вспулпраца”, 1948) и “Юбилей” (переводы Ю. Тувима, В. Марковской, Л. Борщевской, Б. Милевича; Варшава, “Ксенжка и ведза”, 1949). Отметим также два сборника этого времени: “Рассказы” (переводы З. Колачковской; Краков, 1949) и «Рассказы. “Вишневый сад”» (перевод рассказов осуществлен Ежи Ромианом, пьесы — Тадеушем Лопалевским; Варшава, “Чительник”, 1949).
Волна читательского интереса к Чехову ширилась, о чем свидетельствовали новые издания. Только в 1950 г. разные издательства выпустили семь чеховских книг: “Юмористические рассказы” (с иллюстрациями Кукрыниксов) и “Степь” (обе в переводе К. Трухановского в издательстве “Чительник”), “Ванька” (“Наша ксенгарня”), “Шило в мешке” (“Чительник”), «“Лошадиная фамилия” и другие рассказы» (переводы З. Петерс, А. Остоя, А. В.; “Чительник”), “Свадьба”. “Медведь”. “Забыл!” (первое произведение в переводе Е. Вышомирского, второе — А. Малишевского, он же написал инсценировку по рассказу “Забыл!”. Изд. “Ксенжка и ведза”). Особую популярность получило вышедшее в “Чительнике” стотысячным тиражом издание “Рассказов” в переводе Ежи Помяновского.
Все эти издания, в основном, закрепляли сложившиеся традиционные представления широкого читателя о Чехове. В то же время многие значительные произведения оставались для него неизвестными. Далеко не все переводы конца 40-х — начала 50-х гг. отличались художественными достоинствами, некоторые же из них были попросту беспомощными. Все это выдвинуло вопрос о принципиально новом подходе к изданию Чехова, который нашел воплощение в выпущенном в 1953 г. двухтомнике “Избранных произведений” (“Чительник”, “Золотая серия русской литературы”). Подчеркнуто непривычным был его состав, намеренно контрастировавший с “традиционно юмористическим” обликом Чехова. В него вошли рассказы “Тоска”, “Спать хочется”, “Агафья”, “Егерь”, “Княгиня”, повести “Попрыгунья”, “Палата № 6”, “Анна на шее”, “Степь”, “Моя жизнь” и другие произведения, мало или вовсе не известные польскому читателю. Инициатор и составитель этого издания, известная исследовательница чеховского творчества Наталья Модзелевская, привлекла к участию в нем крупнейших писателей: Ярослава Ивашкевича, Марию Домбровскую, первоклассного мастера перевода, великолепного знатока русского языка Ежи Вышомирского,
Прекрасно знавший русскую литературу, с детских лет знакомый с бытом старой России (родился в 1894 г. на Украине, учился в Киеве), Ивашкевич, работая над переводами, как бы заново открыл для себя Чехова. О своем настроении в период этой работы и шире — о своем восприятии Чехова как художника, как человеческой личности, он сказал в письме в “Литературную газету” в связи со столетним юбилеем писателя: “Больше всех я люблю двух русских писателей: Льва Толстого и Антона Чехова. Но если к Толстому я отношусь как к недостижимому образцу писательского искусства, как к патриарху всемирной литературы, то мое отношение к Чехову более интимно. Оно проникнуто глубокою любовью, я его люблю, как брата. Конечно, он тоже является недостижимым образцом, но я его не боюсь. Я верю его доброте,
45
его глубокой гуманности, и я даже перевожу его произведения на польский язык без страха, что он меня за это мог бы побранить. Большая радость для меня эти переводы. С каким удовольствием погружаюсь в эту спокойную стихию, которою является чеховская проза, словно в воды большого спокойного озера. Его фраза, его образ всегда ясны и определенны, но за ними всегда таится свойственная только Чехову улыбка. В ней отражаются своеобразная, нисколько не попечительская любовь к человеку, к его будничному дню, к его работе и сердечное, несентиментальное сочувствие человеческим страданиям.
Этот глубоко гуманный облик Чехова, который виден у него везде, — и в ранних, и в последних рассказах, в его драмах, эта чарующая, несколько виноватая улыбка, которой он скрывает изрядное знание человека, пленяют меня больше всего, когда я раскрываю его книги, когда я вижу его пьесы”170.
“Следы” переводческого прикосновения к Чехову видны и в статье Ивашкевича 1971 г. “Рассказы Чехова”. “Открытие, что на самом деле представляют собой рассказы Чехова, — пишет он, — пришло только с течением времени и было нелегким. Особенно трудным оказалось верное прочтение маленьких шедевров, и до сих пор мы сталкиваемся с определенными препятствиями в их правильном восприятии.
Конечно, эти трудности чисто внутренние. Нас очаровывает простота настроения рассказов Чехова, естественное течение фразы, ясность и богатство содержания, а также необыкновенное умение автора создавать несколькими словами настроение, точно передать пейзаж, создать запоминающиеся, хотя внешне эскизные, индивидуальные портреты людей. Создается впечатление моментальной зарисовки, но тот, кто знаком с творчеством Чехова, может оценить, какое участие в этой кажущейся импровизации принимает художественное сознание писателя”. Обращаясь к форме чеховских рассказов, Ивашкевич отмечает, «как сразу, с первой же фразы, писатель вводит нас в суть дела. Обычно уже в первом предложении он называет имя, фамилию героя, несколькими точными мазками рисует его внешний вид. Последующий рассказ течет быстро и плавно, без всяких ненужных подробностей. Но детали, которые Чехов приводит, всегда подмечены безошибочно. Повествование спокойно приближается к эффектному завершению (например, адрес, который Ванька пишет на письме к деду) или же расплывается в “открытом конце”, когда читатель может сам досказать себе продолжение. В этой форме Чехов достигает настоящего совершенства»171.
Особое наслаждение доставила Я. Ивашкевичу работа над переводом “Степи”, о котором он, по собственному признанию, мечтал тридцать лет. Это произведение он считал шедевром, в котором простота художественного изображения достигла высочайшего уровня: «Эта история путешествия маленького Егорушки в город, в школу, эта самая простая в мире “история одной поездки” благодаря умению показать самых простых людей и самые обычные события на фоне самого обыкновенного пейзажа в сияющем ореоле художественного переживания <...> становится подлинной эпопеей, чем-то неожиданно прекрасным и трогательным, хотя там нет ничего специально красивого или трогательного»172.
Над переводами для чеховского двухтомника трудилась и Мария Домбровская. О творческом подъеме, испытанном ею во время этой работы, говорят ее письма к Н. Модзелевской 1950—1951 гг. 173 В 1954 г. в “Заметках о работе переводчика” Домбровская посвятила отдельный раздел работе над переводом чеховских рассказов и повестей, в котором выразила свое отношение к Чехову как художнику и привела интересные подробности своих переводческих
46
штудий. «Чехов, давно пользующийся известностью в Западной Европе, где вышли в свет полные собрания его сочинений, у нас только сейчас начинает занимать заслуженное место, — говорится в “Заметках...” — Часть юмористических рассказов и несколько пьес — вот и все, что до недавнего времени выходило на польском языке. Я тоже знала только Чехова-юмориста и Чехова — автора “Вишневого сада” и “Дяди Вани”. Кроме рассказа “Душечка”, переведенного в свое время Станиславом Стемповским, я не читала ни одного из тех произведений, которые мне предстояло перевести. Познакомившись с ними, я просто влюбилась в писателя, о достоинствах которого имела раньше только самое общее представление. И если я стала переводить Чехова не по собственной инициативе и зову сердца, то в ходе работы над его рассказами открыла в нем писателя, который восхитил меня, писателя, как-то по-особому мне близкого и toutes proportions gardées1* — родственного. Я переводила Чехова на польский с огромным наслаждением, за которое благодарна тем, кто побудил меня взяться за это дело»174.
Домбровская тщательно изучала оригинал, неоднократно возвращалась к тексту своего перевода, стремясь к максимальной адекватности. Н. Модзелевская, в тесном сотрудничестве с которой протекала эта работа Домбровской, писала, что «она не боялась упреков в “руссицизмах” и благодаря этому сохранила в неприкосновенности строй авторской речи во всех случаях, когда в польском языке с равным правом можно употребить тождественный оборот. С необычайной тщательностью подбирала она самые точные из близких синонимов, неутомимо работала над каждой фразой, над каждым словом, добиваясь максимально полной передачи всех смысловых и художественных ценностей оригинала»175. В числе переводов, сделанных писательницей для двухтомника 1953 г., — “Моя жизнь”, “Попрыгунья”, “Палата № 6”.
Наряду с двухтомным изданием рассказов и повестей в том же 1953 г. вышло двухтомное собрание драматических произведений Чехова в переводах Артура Сандауэра. Оба издания были охарактеризованы критикой “как серьезный документ <...> пиететического отношения к русскому писателю”176. И успех обоих двухтомников и возраставшая потребность в более широком ознакомлении читателя с чеховским наследием выдвинули к середине 50-х гг. идею издания собрания сочинений писателя. За дело взялось издательство, уже накопившее опыт выпуска чеховских книг, — “Чительник”. Редактором всего издания стала Н. Модзелевская, написавшая к нему большой вступительный очерк. Первое собрание сочинений Чехова на польском языке вышло в одиннадцати томах в 1956—1962 гг. При подготовке текстов издатели и комментаторы опирались на советское двенадцатитомное издание, вышедшее в «Библиотеке “Огонька”» (издательство “Правда”) в 1950 г. Первые девять томов составили рассказы и повести, десятый — пьесы, одиннадцатый — “Остров Сахалин” и избранные письма177. Значительная часть вошедших в собрание произведений была переведена впервые. Были использованы и переводы двухтомных изданий 1953 года. Тринадцать рассказов и повестей вошли в собрание сочинений в переводах М. Домбровской (“Ванька”, “Спать хочется”, “Хористка”, “Егерь”, “Агафья”, “Ведьма”, “Бабы”, “Душечка”, “Попрыгунья”, “Палата № 6”, “Горе”, “Тоска”, “Моя жизнь”). Я. Ивашкевич, помимо “Степи”, перевел такие произведения, как “Свистуны”, “Переполох”, “Анюта”, “Святою ночью”, “В суде”, “Княгиня”, “Крыжовник”, “О любви”, “Ионыч”, “Архиерей”, “Дядя Ваня”. По свидетельству Н. Модзелевской, писатель
47
заранее оговорил, что не берется переводить юмористические рассказы и произведения из крестьянской жизни. Видимо, жизнь русской интеллигенции, изображение ее Чеховым были ближе ему как художнику, проявлявшему особенный интерес к философско-этическим, нравственным исканиям и психологическим конфликтам в столкновении с реальной действительностью (романы “Луна всходит”, “Заговор мужчин”, “Красные щиты”, драма “Лето в Ноане”, трилогия “Честь и слава”). В то же время М. Домбровской, при всей широте ее переводческого “диапазона” по отношению к Чехову, возможно, ближе были произведения, рисовавшие жизнь мещанства, помещиков, деревни — той социальной сферы, быт и нравы которой она запечатлела и в первых своих вещах (“Люди оттуда”, “Самый дальний путь”) и в знаменитой тетралогии 30-х гг. “Ночи и дни”, отразившей социальные изменения в среде польской шляхты.
В первом томе значительная часть переводов принадлежит Ежи Вышомирскому, крупному знатоку русской литературы, эссеисту и критику, стремившемуся использовать богатейшие возможности польского языка в передаче особенностей чеховской поэтики. Среди его переводов, вошедших и в другие тома, — “Толстый и тонкий”, “Дочь Альбиона”, “Смерть чиновника”, “Хамелеон”, “Унтер Пришибеев”, “Анна на шее”, “Каштанка”, “Детвора”, “Мальчики”, “Медведь”, “Свадьба”. Второй том, который как и первый, включает произведения 80-х гг., целиком составили переводы Александра Вата, оригинального стилиста и экспериментатора, с особым увлечением работавшего над самыми трудными произведениями, текст которых пестрит архаизмами, диалектизмами, выражениями специфическими для мещанско-чиновничьего, купеческого мира. Множество юмористических рассказов перевел для собрания известный детский писатель и сатирик Ян Бжехва (в их числе ряд произведений совместно с женой Яниной). Высокое мастерство отличает переводы Наталии Галчиньской (“Враги”, “Володя”, “Припадок”, “Огни”, “Дуэль”, “Черный монах”, “Три года”, “Дом с мезонином”, “Дама с собачкой”, “Три сестры”; ей же принадлежит перевод всех вошедших в 11-й том писем). Глубоким пониманием Чехова пронизаны и переводы Марии Монгирдовой (“Поцелуй”, “Скучная история”, “Рассказ неизвестного человека”, “Скрипка Ротшильда”, “Убийство”, “В овраге”). Один из ведущих редакторов издания Ирена Байковская перевела “Произведение искусства”, “Тиф”, “Рассказ старшего садовника”, “Мужики”, “Остров Сахалин”. Библиографический комментарий к изданию подготовил Петр Гжегорчик, указавший предшествовавшие переводы и публикации в польской периодике, книжные издания. В комментарии отмечены также произведения, впервые переведенные специально для собрания сочинений.
Еще в период выхода издания Н. Модзелевская, характеризуя трудности, с которыми столкнулись редакторы, в частности, отмечала: «Уже хотя бы то, что приходится делить его сочинения между несколькими художниками, различными по своей индивидуальности, неизбежно влечет за собою некоторую разностильность. Как ни разнятся по языку ранние рассказы Чехова от “Невесты” или его водевили от “Вишневого сада” — они написаны тем же Антоном Павловичем, и русский читатель всюду узнает его характерный голос. А для польского читателя разница в стиле, положим, “Попрыгуньи”, переведенной Домбровской, и “Анной на шее”, переведенной Вышомирским, гораздо ощутимее, хотя оба перевода сделаны прекрасно. И тут уж ничего не поделаешь»178.
Одиннадцатитомное собрание сочинений стало базой для последующих чеховских изданий, среди которых следует отметить неоднократно переиздававшиеся в 60—70-е гг. “Избранные рассказы” с предисловием Я. Ивашкевича.
48
Отметим также вышедшие во Вроцлаве с предисловием Р. Сливовского “Избранные пьесы”, краковский двухтомник “Избранных рассказов”, варшавский сборник «“Моя жизнь” и другие рассказы» (все вышли в 1979 г., на пороге стодвадцатилетия со дня рождения писателя). Р. Сливовский подготовил также оригинальный сборник “Афоризмы”, вышедший в Варшаве в 1975 г., — фрагменты из записных книжек и отдельных произведений Чехова.
Критические публикации о Чехове конца 40-х — начала 50-х гг. имели, в основном, популяризаторский характер, с сведениями о жизненном и творческом пути писателя. В конечных своих выводах они ориентировались на довоенные попытки углубленного его прочтения. Само время подталкивало не столько вспоминать явно устаревшие формулы “чеховского пессимизма”, сколько искать в произведениях писателя нравственной, духовной поддержки. Этот взгляд характерен для первых послевоенных публикаций — небольших популярных статей В. Фишера и К. Трухановского179. Общественное внимание к личности и произведениям Чехова стало особенно заметным в 1954 г., в дни пятидесятилетия со дня смерти писателя. Растет число как популяризаторских публикаций, дающих общее представление о творчестве, так и статей, отмеченных стремлением к углубленному идейно-эстетическому анализу творчества Чехова. Среди первых отметим брошюру Ежи Вышомирского “Антон Чехов”, вышедшую в серии “Маленькая библиотека” (1954), статьи Станислава Поволоцкого “Жизненный путь А. Чехова”, Зофьи Жолонтковской “Антон Чехов”, предисловие Северина Поллака к материалам литературного вечера по чеховским произведениям, послесловие Дзеннет Полторжицкой к отдельному изданию “Степи” (1955), статьи М. Веселовской “Жизненный путь и творчество Чехова” и Е. Вышомирского “Два больших путешествия Чехова”180. Ко вторым следует отнести и вступительные очерки Н. Модзелевской к различным изданиям сочинений Чехова, ее же статью “Творческий путь Чехова”, работы Л. Будрецкого, В. Кивильчо и других литераторов181.
На посвященном памяти писателя заседании в Варшаве в 1954 г. выступил Ярослав Ивашкевич. “...Сегодняшний праздник для нас не пустое и лишенное внутреннего содержания торжество, — говорил он. — Напротив, вызван он широким ростом почитания и любви к великому писателю, является выражением нашей привязанности к нему и благодарности за красоту его простого слова, за любовь к человеку, за добрую усмешку, а более всего за искреннее и правдивое человеческое возмущение подлостью мещанского мира, которое всегда пробивается в произведениях Антона Чехова.
Поэтому в нынешнем преклонении перед памятью Чехова чувствуется большая сердечность, которую питает все наше общество к этой замечательной личности грустного, доброго человека, усмехающегося сквозь слезы и всегда держащего на конце своего золотого пера художника самое искреннее выражение сочувствия простому человеку, борющемуся за общее благополучие человечества”182.
11 декабря 1954 г. в Варшаве состоялась организованная Славянским и Русистским комитетами научная конференция, на которой с докладами выступили М. Якубец, Л. Нодзиньская, Т. Позняк, Ф. Селицкий, осветившие восприятие чеховского творчества в Польше, его роль в культурной жизни страны183. На чеховской “волне” первой половины 50-х гг. появилась и книга Тадеуша Лещинского “Об Антоне Чехове” — первый достаточно подробный, хотя и сжатый по форме, очерк жизни и творчества писателя184. Изданная в 1955 г. тиражом десять тысяч экземпляров работа Лещинского имела популярный характер, оценки личности и произведений писателя в ней совпадали
49
с тогдашним уровнем трактовки Чехова в советском литературоведении (за год до этого в Варшаве вышел перевод книги В. Ермилова185). В построенной в форме традиционного биографического очерка книжке Лещинского, наряду с упомянутым переводом, широко использованы такие издания, как “Чехов в воспоминаниях современников” (М., 1954), “М. Горький и А. Чехов. Сборник материалов” (М., 1951), “Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер” (М., 1934—1936), а также вышедшие на польском языке сочинения В. Г. Короленко, К. С. Станиславского и, естественно, польские переводы чеховских произведений.
Не следует, однако, думать, что названные выше публикации в периодике, выход очерка Лещинского и перевода книги В. Ермилова знаменовали окончание той борьбы вокруг Чехова, которая велась в довоенный период. Правда, применительно к книге публициста Станислава Мацкевича, вышедшей в Кракове в 1957 г. и объединившей его публикации эмигрантского периода, следует говорить не о рецидивах пресловутого “пессимистического” истолкования творчества Чехова, а о попытках более грубого свойства — намеренном искажении идейного и нравственного облика писателя. В цикле “Наедине с Чеховым”, вошедшем в книгу “Мухи ходят по мозгу”186, Мацкевич, наперекор фактам и документам, стремится представить писателя “тайным” реакционером, скрывавшим свои взгляды под маской прогрессиста, которую он надел лишь по воле моды и для карьеры. Разрыв Чехова с Сувориным в период “дела Дрейфуса” представляется ему легендой. Ссылаясь на рассказ “Тина”, он объявляет его антисемитом. Гениальность Чехова заключалась для Мацкевича только в его коротких юмористических рассказах и сценках. И все это подавалось под флагом якобы истинного понимания Чехова и даже любви к нему. Кстати, с подобного рода искажениями истины Мацкевич выступал не только в связи с Чеховым, но и с Толстым, Гоголем, Достоевским. Его клеветническая книга об авторе “Братьев Карамазовых” (Варшава, 1957) получила отпор и в польской, и в советской критике187. С разоблачением измышлений Мацкевича о Чехове в польской печати выступила Н. Модзелевская, опровергнувшая их на конкретных примерах188. Об этом же писал в своей статье “Еврейские мотивы в творчестве Чехова” Р. Сливовский189. Тем не менее в вышедшую десять лет спустя книгу “Отошедшие в сумерки”190 Мацкевич вновь включил тот же цикл “Наедине с Чеховым”, не исправив в нем ни единого слова.
Самую верную информацию о Чехове читателю давали прежде всего многочисленные издания его произведений и высказывания таких авторитетнейших писателей, как Ярослав Ивашкевич, Мария Домбровская. Существенную роль здесь сыграл и большой очерк Н. Модзелевской, предваривший одиннадцатитомное собрание сочинений191. Как и книжка Лещинского, очерк широко опирается на тексты чеховских произведений и писем, свидетельства современников. Вместе с тем в работе Модзелевской очевидно стремление не только познакомить читателя с основными этапами жизни и творчества писателя, но и подчеркнуть принципиальную новизну его метода, одновременно выявив связи с предшественниками — Пушкиным, Гоголем, Тургеневым. “Ткань чеховских произведений, — пишет исследовательница, — всегда как бы двухслойная: сверху — то, что менее значительно, чаще всего банальное и неинтересное, а снизу — существенные вещи, скрытое течение людских чувств и мыслей. Чехов заостряет наш взгляд, учит различать под оболочкой будничности малые и большие драмы, комедии и фарсы”. Касаясь драматургии писателя, она подчеркивает, что “в его пьесах комические и драматические элементы не выступают сами по себе, а существуют во взаимосвязи, как
50
две диалектически противоположные особенности одного явления”. В анализе пьес Модзелевская высказывает мысли, которые вскоре разовьет в последующих своих работах о Чехове. В частности, в том же вступительном очерке сделан акцент на том, что “Чехов не соглашался с драматизированием моментов и фигур”, которые сам он трактовал, как она считала, сатирически. Обращаясь к “Дяде Ване”, “Трем сестрам”, “Вишневому саду”, Модзелевская утверждает, что сценические интерпретации не совпадают со взглядом автора на его же пьесы и приводит свидетельства разногласий между писателем и МХТ в период постановки “Вишневого сада”. В очерке звучит призыв к современному театру «отказаться от привычной интерпретации пьес Чехова как меланхолических драм “со слезой”, проникнуться взглядом свежим, смелым, новаторским, выделить и расставить по-своему все сатирические акценты — и показать правдивый облик автора “Вишневого сада”». Этим рассуждениям Модзелевская придала более широкую аргументацию в опубликованной в 1958 г. статье “Рыцари вечного разлада”, перепечатанной с подзаголовком “Письмо из Варшавы” в 1960 г. в журнале “Новый мир”192. Характеризуя постановки чеховских пьес, прежде всего мхатовские, исследовательница говорит о ставшем традиционным неверном понимании их комедийной специфики. По ее словам, у Чехова, утверждавшего, что его “пьесы — это комедии”, прежде всего “речь шла об ироническом показе довольно печальных явлений, о саркастическом раскрытии диспропорции между тем, что люди определенного типа, в определенных ситуациях думают и говорят о себе, — и тем, чем они являются в действительности. Конкретно: речь шла об иронично-сатирическом показе главных персонажей, которых театр играл всерьез, в тональности высокой лирики и трагизма”. Это отношение писателя к своим героям проистекает из его восприятия их прототипов. Обращаясь к безвольному интеллигенту как характерному продукту “эпохи безвременья”, Модзелевская настаивает на критическом отношении Чехова к нему: “Он считал, что нужно иметь смелость глядеть правде в глаза и называть вещи своими именами. Тот, кого на это не хватало, не заслуживал его полного уважения и признания, даже если был наделен многими прекрасными качествами, даже если был милейшим человеком.
Чехов не обманывал себя надеждой, что та интеллигенция, с которой он сталкивался, создаст новую политическую программу. Но он верил и даже был убежден, что рано или поздно постыдная пора кончится и что можно будет не только мечтать об общественной справедливости, но и действовать. И считал, что долг каждого честного гражданина — переждать, не теряя собственного достоинства, не обезличиться, не втянуться в тупое прозябание, не пускаться на сделки с совестью, не изолгаться и не сваливать ответственности за собственное падение на всяческие роковые обстоятельства вроде злополучной эпохи. Ибо иначе интеллигенции грозит неизбежное разложение, а это значит, что, когда придет пора действия, не найдется уже среди нее никого, способного мыслить и действовать”. Исходя из этого, основная тема чеховских пьес определяется так: “Люди, оказавшиеся в стороне от хода истории <...> Люди, которые в черную годину истории легко позволили оттеснить себя с главного тракта и довольствовались ролью зрителей, не переставая при этом сетовать на пустоту жизни и утешаться абстрактной картиной какой-то мифической светлой будущности”.
В том же номере “Нового мира” опубликована “Реплика критику” советского театроведа А. Анастасьева193, который, признавая точность некоторых наблюдений Н. Модзелевской, плодотворность ее попытки «протянуть нити от героев чеховской драматургии к современным “рыцарям вечного
51
разлада” — известной части интеллигенции нашего времени», счел необходимым указать на существенные просчеты статьи. На конкретных примерах А. Анастасьев показал, что “нет оснований говорить, что Чехов совсем не принял спектаклей Художественного театра и что он видел в них не то, что написал”. Жанровая природа чеховской драматургии представляется критику более сложной, нежели “иронично-сатирический показ главных персонажей”. Поэтому “Три сестры” и “Вишневый сад” — не только сатира на слабых и безвольных людей. «“Убийственная ирония” далеко не исчерпывает отношения автора к трем сестрам. Можно, конечно, свести поездку в Москву к одному из “простейших житейских дел” и подивиться беспомощности трех сестер. Однако тем самым мы утратим тот лирический подтекст, ту глубину и многоплановость образа, без которых нельзя представить себе Чехова-художника». Признавая правоту Н. Модзелевской, выступающей “против того, чтобы сводить смысл чеховских пьес к размагничивающей сентиментальности”, А. Анастасьев обращает внимание на недооцененную в ее статье сторону творчества писателя: “на лирический подтекст произведений, связанный с верой писателя в человека, с поисками героя, которые никак нельзя считать тщетными и безуспешными”. Надо сказать, что и в польской критике прозвучали голоса, выразившие несогласие с теми претензиями к мхатовской интерпретации чеховских пьес, которые получили суммированное выражение в статье Н. Модзелевской. Известный театральный деятель Адам Тарн (ему принадлежит перевод пьесы Чехова “Платонов”) писал в статье “Очная ставка”: «Известное дело, у нас поветрие “нового освещения”... Ну, конечно, Беккет не знает, как надо ставить его пьесы, а Станицын понятия не имеет, как следует ставить Чехова. Все это известно только варшавским и краковским знатокам». Тарн считает, что так называемый “свежий взгляд” на драматургию Чехова, «требующий от постановщика делать спектакль “современно”, — это скорее трюк, нежели углубление тематики. И это касается вовсе не мхатовской постановки, а, по сути дела, самого Чехова»194.
Чеховская “полоса” в литературно-общественной жизни Польши, начавшаяся с середины 1950-х гг., заполненная многочисленными публикациями, постановками, выходом новых томов собрания сочинений, приобрела особенно насыщенный характер в год столетнего юбилея писателя. В состав национального юбилейного комитета, под руководством которого проходила подготовка к торжествам, вошли писатели Ярослав Ивашкевич, Мария Домбровская, Владислав Броневский, Леон Кручковский, Ежи Путрамент, Наталия Модзелевская, актрисы Эльжбета Борщевская и Мечислава Цвиклиньская, академик Ян Дембовский. 25 января 1960 г. в Варшаве в Театре Народовом состоялся торжественный вечер, на котором “Слово о Чехове” произнес Я. Ивашкевич. Крупнейший польский писатель на протяжении многих лет обращался к творчеству Чехова, все глубже проникая в его тайны, постигая его уроки и ощущая возраставшую с годами значимость его нравственного облика. Об этом говорил он и на вечере в Варшаве и спустя несколько дней на торжествах в Москве: “Художественное совершенство Чехова <...> его страх перед окружающим миром и в то же время вера, что этот мир будет улучшаться, что мы стоим на пороге каких-то новых, гуманистических, не только технических, побед, — делают Чехова близким сегодняшним временам, сегодняшнему читателю и сегодняшнему писателю. Тут таится секрет его всемирного признания”195.
Спустя четыре года в заметке “Чехов и революция” Я. Ивашкевич попытается глубже раскрыть суть исторического значения творчества русского писателя.
52
Размышляя над “революционностью Чехова”, он придет к мысли, что “у каждого, кто внимательно читает Чехова, не может не возникнуть ощущения, что изображаемое им общество недолговечно, что его должен смести великий ураган, буря, первые порывы которой уже начинают бушевать в народных глубинах”. Приведя слова Куприна о постоянно совершавшейся в Чехове незримой, но упорной работе — “работе взвешивания, определения и запоминания”, Ивашкевич затем утверждает: “Именно благодаря этой внутренней постоянной работе Чехов смог воспроизводить картину российского общества в канун революции. А каждое такое воспроизведение и есть объяснение. И если Чехов был типичным писателем — он так и понимал задачу писателя, — который ставит вопросы, ставит с высочайшей точностью, но не дает на них ответа, то уже сама по себе постановка определенных вопросов была ответом на них. А вопросы, которые ставил Чехов, были революционными вопросами”. Очевидность для Чехова “бессилия буржуазии и ошибочности путей интеллигенции”, по мысли Ивашкевича, дает основание применить к нему «определение — “зеркало русской революции”, или скорее — зеркало общества, в котором революция должна свершиться»196.
В своем выступлении на юбилейном вечере в Варшаве Я. Ивашкевич подробно остановился на близких ему сторонах чеховского творчества. Его особенно привлекает деликатность в изображении человеческих слабостей, как и то, что Чехов не ищет необыкновенных сюжетов или необыкновенных людей, а показывает жизнь в ее повседневности, так, как “она идет”. Чехов “говорит о людях жестокие вещи, изображает их невозможную глупость, их мелочность, их примирение с унижением и темнотой, в которую они погружены, и всегда он делает это без возмущения, без того, чтобы рвать на себе одежду, но с сочувствием, очень далеким от какой-либо сентиментальности”. И вместе с тем Чехов — “великий волшебник”: “При всей этой правде и объективности у читателя или зрителя сжимается сердце, ибо в них содержится нечто еще, какой-то суд над человеческой жизнью и ее абсурдом, суд, который затрагивает самые глубокие пласты нашего чувства”197. Высоко оценивая чеховский подтекст, Ивашкевич одновременно выделяет как главнейшую особенность писательского дара необыкновенную простоту, присущую только великим художникам. Эта особенность была центральным ориентиром в эстетических поисках польского писателя. Отвечая в 1965 г. журналу “Вопросы литературы”, он сказал: “Если говорить о средствах художественного выражения в моем творчестве, то более всего мне по душе максимальная простота. Простота фразы, простота описания. Я стремлюсь к тому, чтобы сквозь эту обыденность и простоту просвечивала глубина, подобно далекому пейзажу, виднеющемуся сквозь решетку балкона. И, разумеется, не могу судить, удается ли мне это. Моим учителем здесь является Чехов, который именно с такой кажущейся легкостью достигает той прозрачности и глубины, о которой я веду речь”198.
В свою очередь, известный драматург Леон Кручковский, отвечая на проводившуюся в 1960 г. журналом “Театр” анкету “Чехов в моей жизни”, как ярчайшее качество чеховского искусства выделил прежде всего “подтекст”: «Лично я отношусь к числу почитателей автора “Вишневого сада”. Находит ли это какое-нибудь конкретное выражение в моей собственной драматургии? Пожалуй, да, хотя бы в моем старании в полной мере оценить роль “подтекста”, мастером которого был Чехов. Не только мастером, но, пожалуй, в этой области и первооткрывателем». Кручковский видел новаторство Чехова и во введении на сцену человеческой обыденности, заурядности и выявлении драматизма, кроющегося в обычном, неинтересном повседневье.
53
«Это открытие было неожиданным, особенно в театре, оно представлялось тогда противоречащим основным законам драматургии, требовавшим особых и необычных ситуаций и соответственно необычных, “сильных” личностей. Оно обозначало, по существу, конец старых традиций театра». С этой точки зрения Чехов для Кручковского “полная противоположность” Ибсену. Автор “Строителя Сольнеса” представляется ему “человеком прошлого века, Чехов же — современником”. Кручковский проницательно отметил воздействие Чехова не только на театр XX века, но и на кинематограф, он даже склонен связывать с именем русского писателя сам факт возникновения “неореалистической школы итальянского кино”. Касаясь “истории Чехова на сцене”, он возражает против того, чтобы “его пьесы играли как тяжелые, мрачные драмы”, и считает, что “теперь мы, пожалуй, близки более, чем когда бы то ни было, к чеховскому пониманию комического, элементы которого выступают не поочередно с драматическими элементами, а одновременно с ними, спаянные в диалектическое единство противоположностей”. “Такое понимание комического, наиболее нам сегодня близкое, — подчеркивает Кручковский, — это также одно из чеховских открытий, одна из его великих правд о сущности жизни и искусства”. Создателю политического, интеллектуального театра, ставящего острые морально-философские проблемы современности, показывающего человека в процессе исторических перемен (драмы “Немцы”, “Возмездие”, “Первый день свободы”), оказалась близка чеховская эстетика, самый способ изображения жизни, ибо, по собственному признанию, он “всегда свободнее дышал в диалогах”199.

ТРИ СЕСТРЫ
Спектакль Высшего театрального училища
Фото А. Кацковски
Литературный музей, Москва
54
Чеховские торжества 1960 г. были отмечены в Польше рядом новых театральных постановок, конкурсом Министерства культуры и искусства, Общества польско-советской дружбы и Союза народных театров и хоров на лучшую постановку пьесы или рассказа Чехова среди коллективов художественной самодеятельности. В октябре варшавский Дом книги организовал большую выставку, посвященную жизни и творчеству Чехова. 15 октября в Варшаве состоялась организованная Отделом славяноведения Польской Академии наук и Польско-советским институтом научная конференция. Вступительным словом ее открыл профессор Ягеллонского университета Виктор Якубовский. Доклад “Чехов и польская литература” сделал профессор Вроцлавского университета Мариан Якубец. Были заслушаны также доклады Рене Сливовского “Чехов и французская литература”, Зыгмунта Ягельского “Специфика юмора Чехова”, Наталии Модзелевской “В поисках Чехова”200. На конференции выступил директор краковского театра им. Ю. Словацкого, известный режиссер Бронислав Домбровский. Расширенный вариант доклада М. Якубца был опубликован в следующем году в “Славия ориенталис”. Сделав беглый обзор отзывов критики о Чехове и театральных постановок по его произведениям начиная с 80-х гг. XIX в. до 1939 г., автор подчеркнул: “Произведения Чехова пустили в последние годы в Польше глубокие корни и сделались близкими самым широким кругам общественности. В то же время, в отличие от предшествующих лет, относительно мало еще сделано в области их критической интерпретации. Случаются превосходные рецензии на его пьесы, идущие на польских сценах, появляются меткие замечания деятелей театра о его драматургии, но, к сожалению, сборники рассказов снабжаются более или менее поверхностными вступительными статьями и комментариями, переводятся советские монографии, но все это не соответствует ни потребностям времени, ни уровню советских исследований его творчества”. Выделив, как наиболее значительное, речь Я. Ивашкевича на вечере, посвященном 50-летию смерти Чехова, очерк Н. Модзелевской в собрании сочинений и обзоры Л. Нодзиньской, Т. Позняка и Ф. Селицкого, сделанные на научной сессии в 1954 г., М. Якубец заключил статью словами, прозвучавшими как призыв: “Не имеем — помимо скромной книжечки Тадеуша Лещинского — монографии об этом писателе, недостает оригинальных польских научных исследований об его мастерстве новеллиста и драматурга. Чехов ждет еще в Польше своих исследователей, комментаторов и популяризаторов”201.
С 1960-х гг., когда в стране получает особенно сильное развитие русистика, а в ее пределах расширяются исследования в области русской классической литературы, изучение Чехова приобретает подлинно научную основу. Его творчество рассматривается в сопоставлении с произведениями других русских писателей, включается в контекст европейского литературного процесса. Исследователей привлекает сравнительный анализ творчества Чехова и Льва Толстого, история их взаимных отношений и литературных оценок. Этому посвящена статья комментатора чеховского одиннадцатитомника Петра Гжегорчика в журнале “Твурчосць”202. Подчеркивая односторонность восприятия чеховских произведений русской критикой конца XIX в., автор говорит о сложном отношении к ним Толстого (неприятие драматургии и восторженные оценки рассказов и повестей), останавливается на толстовском послесловии к изданию “Душечки” 1905 г. Очевидна вместе с тем упрощенность толкования Гжегорчиком эстетики Толстого, во взгляде на искусство драмы якобы “застрявшего в своих натуралистических канонах” и потому не способного принять “тонкие полутона лирических комедий Чехова...” Более
55
успешно этот вопрос решается в работе известного исследователя Толстого Базыли Бялокозовича “Чехов в оценке Льва Толстого”. При рассмотрении его, считает автор, “необходимо учитывать, что чеховские искания в области драматургии были далеки от драматических принципов Толстого”. Помимо этого, сказалось и “требование от художника религиозно-поучительного элемента, проповеди и назидательности”. Раскрывая области взаимного творческого притяжения и идейного расхождения, Бялокозович пишет: “Соединяющей чертой творчества обоих писателей является их безупречная искренность, гуманизм и высокая нравственность, внимание к личному и духовному миру человека”. Он отмечает, что “Толстому нравились чеховская сжатость, немногословие, бережное отношение к родному языку, отбор точных, ясных, простых, емких слов, верность деталей, внимание к конструкции фразы”203. Все эти положения подкреплены многочисленными примерами из воспоминаний о Толстом и другими документами.
Углубленный анализ проблемы содержится в работе Б. Бялокозовича “Воздействие Льва Толстого на творчество Чехова”. “Глубокий интерес к этой теме, — пишет автор, — обусловливается ее связью с общими проблемами развития русской литературы последних десятилетий XIX — начала XX века”. Говоря о том, что “Чехову дорога была нравственная требовательность Толстого, постоянное беспокойство и искания его мысли”, что “толстовская разрушительная сила, страстность натуры, прямота и резкость вызывали восхищение Чехова”, исследователь особо выделяет интерес Чехова к этической стороне философии Толстого. Он видит его отражение в рассказах 1886 г. “Хорошие люди”, “День за городом”, “На пути”; 1887 г. — “Нищий”, “Встреча”, “Казак”, “Письмо”; 1888 г. — “Пари”, “Именины”, “Сапожник и нечистая сила”. Явную перекличку с толстовскими произведениями Бялокозович находит в повестях Чехова “Скучная история”, “Дуэль”, “Жена”. Развитие идей Толстого о необходимости труда для всех членов общества, его критики эгоизма и фальши паразитического образа жизни дворянства исследователь обнаруживает в “Доме с мезонином”, “Моей жизни”. Полемика с теорией непротивления злу насилием, религиозно-философским учением Толстого видится ему в таких произведениях, как “В ссылке”, “Палата № 6”, “Убийство”, “Мужики”, “В овраге”. В основном же, по мнению Б. Бялокозовича, отношение Чехова к Толстому определяли такие качества автора “Войны и мира”, “как его способность непрестанно будить мысль, ставить все новые вопросы и настойчиво требовать на них ответа”204.
В этот же период заметно усиление интереса к общественным условиям и особенностям формирования таланта молодого Чехова. Этой проблеме посвящены работы П. Гжегорчика и Р. Сливовского205. Внимательно следят польские исследователи за работами советских чеховедов, в научной периодике появляются обзоры трудов, рецензии на книги А. И. Роскина, А. Б. Дермана, А. Ф. Захаркина, Г. П. Бердникова206. В 1962 г. выходит перевод книги А. Роскина207. С конца 50-х гг. в работах Р. Сливовского обретает устойчивость и все более широкое развитие сопоставление творчества Чехова с опытом западноевропейских литератур. От сравнительного анализа произведений Чехова и английской и новозеландской писательницы Кэтрин Мэнсфилд, тонкого мастера реалистической психологической новеллы, особенно близкой к Чехову в рассказах о детях208, Сливовский вскоре переходит к проблеме восприятия Чехова на Западе209. Изучив публикации конца XIX — начала XX вв., работы советских и других зарубежных авторов, исследователь значительно расширил “материальную базу” темы за счет привлечения множества новых, неизвестных источников. Р. Сливовский подробно останавливается на переводах
56
чеховских произведений, отзывах критики и театральных постановках во Франции. Он не только дополняет новыми материалами обзор Софи Лаффит, опубликованный в 68-м томе “Литературного наследства”, и раздел “Чехов во Франции” из ее же книги, вышедшей в 1957 г. в Париже210, но и исправляет ошибки в ряде приведенных ею цитат и фактов. Сливовский считает, что и работе Томаса Г. Виннера, обозревающей восприятие Чехова в США (ЛН. Т. 68), недостает полноты сведений о судьбах чеховской драматургии на американской сцене, о взаимодействии творчества русского писателя с американской литературой. Положительно оценивая вошедшую в тот же том ЛН работу М. Шерешевской “Английские писатели и критики о Чехове”, он отмечает, что ее можно было бы дополнить отзывами ряда писателей, в частности Джозефа Конрада. “Все эти материалы, как французские, английские, так и американские, — пишет Сливовский, — трактующие в том или ином смысле восприятие Чехова, не дают, однако, ответа на единственный вопрос: почему творчество Чехова возбудило и вызвало такой интерес критиков и писателей? Чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы рассматривать творчество Чехова в русле мировой литературы, а это, в свою очередь, требует кропотливых и детальных сравнительных исследований”. Дальнейшая работа над этой темой дала возможность исследователю подготовить сборник “Чехов в глазах мировой критики”211, в который вошли статьи И. Эренбурга, Т. Манна, М. Горького, А. Белого, Е. Замятина, С. Балухатого, Б. Шоу, Э. Бентли, Ст. Бжозовского, Т.-Г. Виннера, Д.-Б. Пристли, Д. Стайна, Б. Шлусзера, Ж.-Л. Барро, Е. Гатто, М. Гадо, А. Роскина, Г. Даниэль-Ропса, Л. Немета, Н. Модзелевской и др. Издание это получило положительную оценку в польской критике212. Сливовскому принадлежит также подготовка текстов статей и высказываний о Чехове, вошедших в сборник “Писатели и критики. Из восприятия русской литературы нового времени в Польше”213. Раздел “Антон Чехов” в этом оригинальном издании составили отрывки из критических работ конца XIX — начала XX вв. — А. Неуверта-Новачиньского, Б. Добека, В. Пинского, Л. Бельмонта, А. Брюкнера, Ст. Бжозовского, К. Гросмана, А. Мазановского, А. Гжималы-Седлецкого, И. Хжановского. В предваряющей публикацию этих текстов вступительной заметке, помимо их оценки, приводятся выдержки из откликов критики на постановки чеховских пьес. Исследователь отмечает трудности постижения критикой чеховской драматургии.
Разностороннее освоение чеховского наследия позволило Сливовскому к середине 60-х г. подготовить первую в Польше серьезную монографию214. С первых же страниц этой живо написанной работы ощущается стремление к созданию неканонического портрета писателя. Сливовский концентрирует внимание на наименее исследованном периоде — до 1884 г., стремится глубже обрисовать общественную атмосферу, в которой происходило формирование мировоззрения и развитие литературного таланта молодого Чехова. Он возражает против традиционных обвинений современной писателю критики в том, что она не понимала его. В статьях К. Арсеньева, Д. Мережковского, В. Кигна-Дедлова, А. Бычкова он находит немало тонких и глубоких наблюдений. Говоря о литературной традиции, которой следовал Чехов, Сливовский не соглашается с параллелью Чехов — Щедрин — Гоголь и выдвигает свою: Чехов — Толстой — Тургенев. Увлекшись ранним периодом, исследователь менее полно охарактеризовал позднейшее творчество, за исключением драматургии. В рецензии на монографию А. Чудаков отметил как её недостаток чересчур близкие параллели между фактами жизни писателя и его творчеством, приписывание Чехову высказываний героев некоторых произведений215.
57
В целом же книга получила положительные отзывы как в советской, так и в польской печати216.
Многие мысли о драматургии Чехова, высказанные в этой монографии, получили развитие в появившейся шесть лет спустя обширной работе автора — “От Тургенева до Чехова (Из истории русской драматургии второй половины XIX века)”217. Десятая глава ее — “Непроторенные пути (Антон Чехов)” — содержит развернутую концепцию, подкрепленную многочисленными примерами из постановок польских театров и отзывов критики. Поэтика Чехова рассматривается на широком фоне тогдашней драматургии. Ключом к пониманию сценического творчества писателя, его последних творений исследователь считает “Платонова”. Эта пьеса была переведена на польский сравнительно поздно — в 1960 г. (перевод Адама Тарна, в собрание сочинений не вошел). И в книге “От Тургенева до Чехова...”, и в опубликованной почти одновременно статье на русском языке «Польская инсценировка “Пьесы без названия” (“Платонов”) А. Чехова» Р. Сливовский подчеркивает, что в “Платонове” имеются “почти все проблемы, мотивы, образы, фигурирующие в пьесах зрелого драматурга-новатора, не столь уж удаленные от их прототипа”218. Но если в статье делается акцент на том, что “Платонова” можно трактовать двояко — и как “русскую версию Дон Жуана — Дон Жуана насквозь современного, носителя своеобразной, острой, безжалостной, уничтожающей критики определенной среды, а, следовательно, также и определенной эпохи” и как “трагикомедию, созданную пером моралиста, чуткого к фальши в каждом ее проявлении”, в которой “можно лишить текст бытового фона, нейтрализовать историзм пьесы посредством соответствующего отбора материала, подчеркнув тем самым вневременность драмы Платонова”219, то в книге эта последняя интерпретация преобладает. Для Р. Сливовского Платонов олицетворяет фигуру героя современной литературы — интеллигента, втянутого в противоречия общественного быта. Он видит связь его не столько с пьесами Островского, Сухово-Кобылина, Толстого, “сколько с современной авангардной драмой, более всего с Беккетом, и Ионеско или с Тенесси Уильямсом, прежде всего с самим героем авангардной драмы — жалким в своей убогости, не понимающим ни себя, ни окружения, тоскливо живущим среди таких же тоскливых людей”220. Этот же “расширительный” подход характерен и для трактовки “Чайки”, “философский смысл” которой “сближает русского драматурга со всеми культурами и литературами мира”. По Р. Сливовскому, «общечеловеческий признак “Чайки” подчеркнут дополнительной схемой, в которую облечена пьеса, — схемой шекспировского “Гамлета”»221. Подтверждением этой мысли служит ссылка на работу американского исследователя Томаса Г. Виннера.
В анализе “Вишневого сада” Р. Сливовский обращает особое внимание на чеховскую иронию и вместе с тем подчеркивает “симфоническое богатство оттенков пьесы”. Пытаясь идти вслед за чеховским указанием, что “Вишневый сад” — комедия, он видит здесь желание писателя обратить внимание постановщиков на необходимость “климат безнадежности <...> нейтрализовать акцентами оптимизма, правда неочерченного, скорее интуитивного, нежели сознательного, но и эти акценты должны быть выражены в иронически-скептической форме”. В этом для Сливовского “очередной парадокс Чехова-драматурга, скрывающий ловушку для постановщиков его пьес”222. Выделяя ироническое отношение Чехова к своим героям, исследователь считает, что в его пьесах тем не менее живет, хотя бы и иллюзорная, вера в завтрашний день. И в “Вишневом саде”, и в “Трех сестрах” притязания героев превышают их возможности, но, с другой стороны, “они выражают убеждение, что человечество
58
постепенно идет все-таки путем прогресса”. Поэтому последнее слово чеховского “пессимизма” не является выражением “абсолютной безнадежности”. “Переводя эти вопросы в психологические категории, — говорит Сливовский, — можно было бы рискнуть утверждать, что посредственность героев Чехова не отрицает величия человека, но напротив — ставит его высоко”. Этот аспект драматургического творчества Чехова, считает он, “отличает его от современного авангардного театра”223.
В стилистическом плане Сливовский считает драматургию Чехова продолжением драматургии Тургенева. «Собственно говоря, — пишет он, — гораздо большее их объединяет, чем разделяет, и легче находить в их методе аналогии, чем различия. Как у одного, так и у другого неизменно велика роль психологических пауз; оба писателя одинаково избегают монолога, крайне редко заставляя своих персонажей говорить “в сторону”; оба объективизируют субъективные ощущения героев, прибегая к одинаковому по своему художественному эффекту принципу подтекста для выражения чувств и мыслей действующих лиц <...> сходные функции у обоих драматургов выполняет пейзаж, на фоне которого изображается психическое состояние героев. Не статичный декоративный пейзаж, но участвующий в переживаниях персонажей драмы». Сливовский также замечает, что Тургенев “выделялся исключительным умением изображать состояния и психические рефлексы при помощи ничтожного количества слов, за которыми без каких-либо других разъяснений зритель мог детально представить себе мысли и чувства того или иного героя, дополнив собственным воображением то, что не было досказано до конца. Как позднее у Чехова, его герои разговаривают об обыденных вещах, а на глазах зрителя раскрывается драма, глубоко спрятанная в их душах”224. Этому сближению подтекста у обоих писателей возразил в рецензии на книгу А. Чудаков, отметив, что у Чехова «“второй план” не поддается однозначной интерпретации, в то время как “открытый” текст тургеневской реплики тесно связан с ее скрытыми смыслами» и, “не исчерпывая их, он все же их приоткрывает, продолжая вовне то, что спрятано внутри”225.
С 70-х гг. исследователей все более привлекают проблемы художественного мастерства Чехова. К ним обращаются Ю. Борсукевич, Ф. Неуважны, Д. Кулаковская, Э. Бройде и др. В работе Эдгарда Бройде “К проблеме чеховского комизма”, вышедшей на русском языке в Москве, получила развитие тема, к которой польские исследователи проявили особенный интерес. «Своеобразие позиции Чехова, — пишет Э. Бройде, — опередившего не одну эпоху, заключалось не только в отрицании всех существующих догм, но и в отказе “создавать” другую, замкнутую систему. Чехов раскрепощает свое искусство от “положительных” и “отрицательных” героев, от “идееносителей”, от “победы” одной из противоборствующих идей... Поэтому юмор, ирония приобретают у Чехова особую функцию, ограждая читателя от принятия “на веру” той или иной концепции. “Победителем” оказывается не та или иная идея, а диалектика жизни»226.
Флориан Неуважны в “Заметках о новеллистическом мастерстве Антона Чехова” рассматривает объективность изображения действительности и лаконизм как основные черты стиля. Исследователь отмечает стремление писателя “к проникновению в существо предмета изображения — явления, человека, и максимальному приближению их к читателю”. Отсюда “исключительная экономия в средствах выразительности, исключение любых длиннот в описаниях, цельность и лаконизм в передаче самых существенных черт, что способствовало конденсации изобразительной манеры, близкой к поэтической”.
59
Ф. Неуважны опирается на наблюдения Сергея Антонова и Сергея Залыгина над чеховской прозой. Вслед за ними он приходит к выводу, что мастерство Чехова не было какой-то суммой новых технических приемов, но явилось выражением того нового гуманистического отношения к миру, которое он утверждал всей своей жизнью “человека скромного в словах и жестах, стыдливого лирика, обращенного к глубоко скрытым элементам красоты, добра и правды”227.
К страницам залыгинского эссе о Чехове обращается и Эдвард Павляк в статье, посвященной творчеству русского прозаика. «То, в чем Залыгин видит величие Чехова, — пишет Павляк, — это, между прочим, редко встречаемая “обыденность гения”, держащегося скромно <...> это тактичность писателя, всегда верного себе, неустанно ищущего многознаменательности и далекого от легких оценок и однозначной интерпретации человеческих поступков»228. Личность Чехова привлекает все большее внимание не только литературоведов, но и писателей. Ян Копровский в публицистических заметках рассказывает о чувствах, испытанных им во время посещения ялтинского Дома-музея229. В книге Моники Варненской “Литературные вечера” есть глава “В гостях у доктора Чехова”, посвященная московскому Дому-музею на Садовой-Кудринской улице230. Н. Модзелевская в книге “Писатель и любовь” пытается рассматривать личность писателя сквозь призму отношений с близкими ему людьми, прежде всего с Л. Мизиновой, Л. Авиловой, О. Книппер. В эссе вошли отрывки из предыдущих работ Н. Модзелевской, в частности, глава “Мир чеховского интеллигента”, которая повторяет основные мысли статьи “Рыцари вечного разлада” (см. примеч. 192), а главы “Бремя детства” и “Брат своего брата” перекликаются с соответствующими страницами вступительного очерка к собранию сочинений. В заключительных абзацах эссе автор дает сжатую оценку роли чеховского творчества в общественном бытии страны: “Писатель, который с жестким лаконизмом описывал общественное состояние неудовлетворенности и безвременья, когда умирали в людях призывы к бунту, инстинкт свободы, сознание своих прав и человеческого достоинства, а сила инерции и тупой покорности, казалось, становилась все значительнее, — этот писатель видел свой народ пробуждающимся от долгой спячки и набирающим разбег для большого рывка, которым была революция пятого года. Чехов-скептик, Чехов трезвый реалист одним из первых мыслящих руских осознал это новое положение вещей231.
Как и в предыдущий период, в 70-е гг. стоек интерес к работам зарубежных исследователей. Появляются рецензии на книги советских авторов И. Гурвича “Проза Чехова”, А. Чудакова “Поэтика Чехова”, голландского литературоведа Ф. Хюбнера “Индивидуальное исполнение <ролей> в пьесах Чехова”232. В 1979 г. на IV конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, состоявшемся в ГДР, с докладом “Роль художественной литературы в формировании ценностной ориентации личности (на примере творчества Чехова)” выступила известная исследовательница русской литературы Данута Кулаковская. Споря с некоторыми биографами, пытавшимися обосновать “столь грандиозное литературное явление <...> философской и политической неопределенностью писателя да некоей печальной неудачливостью в любви”, она подчеркнула: «Совсем другой облик обретают его художественные образы и эстетические категории освоения мира, в том числе образ “человека с молоточком”, если мы учтем все богатство их предпосылок. А именно — личный и социальный опыт драматической борьбы за достоинство человека; гуманизм, опирающийся на автономную этику, исторический
60
оптимизм; политическую дальнозоркость в критике либерализма, псевдорадикализма и толстовства, как патриархальной утопии; оригинальный лирический вариант философского материализма, восходящий к комплексу естественных наук, которые давали отправные моменты тогдашним радикальным общественным программам.
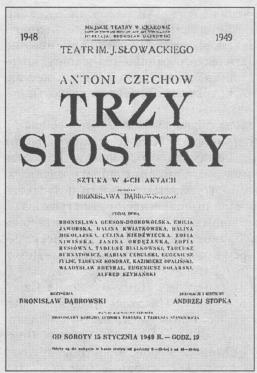
АФИША СПЕКТАКЛЯ «ТРИ СЕСТРЫ»
Краков, Театр им. Ю. Словацкого, 1949
Постановка Б. Домбровского
Литературный музей, Москва
Человеколюбие Чехова, автора “Дяди Вани”, “Трех сестер”, “Дамы с собачкой”, а также “Каштанки”, — это не абстрактный гуманизм, а строго определенная и последовательно претворяемая в жизнь мировоззренческая программа»233.
***
В первые годы ПНР Чехов не просто занял прочное место в репертуаре многих театров. С конца 40-х гг. началось страстное, набиравшее силу полемическое осмысление чеховской драматургии, изобиловавшее как взлетами, так и неудачами. Событием культурной жизни того времени стала осуществленная в 1949 г. Брониславом Домбровским в краковском Театре им. Ю. Словацкого постановка “Трех сестер”. Режиссер поставил пьесу в собственном переводе. Впоследствии Домбровский так рассказывал об этой захватившей театр работе: «Вспоминаются долгие, проникновенные разговоры и споры над текстом этого прекрасного произведения. Не знаю, есть ли в мировой литературе автор, который сумел, не обозначая мысль окончательно, выразить так много в подтексте написанных слов... Сколько было радости в минуты открытия, когда, проникнувшись главной мыслью Чехова, удавалось нам расставить существенные акценты... Не только на репетициях, во время которых происходила читка текста и постановка мизансцен, не только в пламени генеральных репетиций и первых спектаклей “Трех сестер” охватывала нас атмосфера тепла и нежности. Не было ни одного вечера, а составили они сотни спектаклей, когда кто-либо (как это обыкновенно бывает в других пьесах) из исполнителей нарушил бы общую гармонию. Даже за кулисами царило настроение какой-то необычной сосредоточенности и внимания. Уже выходя из театра, актеры все еще переговаривались между собой словами пьесы, продолжая жить мыслями чеховских образов... Никогда не забуду, как после сцены Тузенбаха с Ириной (Кондрат и Миколайска) слышалось только тихое дыхание зрительного зала, а потом взорвалась буря аплодисментов. “...Если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе”. Разве не слышим в этих словах голос живого Чехова, разве он не продолжает участвовать в нашей жизни, разве эта поэзия меланхолических прощаний не переходит сейчас в веяние новой жизни и новых идей? Именно этими сердечными волнениями связаны мы с великим
61
русским писателем. Поэтому также сколько раз ни открывали бы мы его пьесы, сколько раз ни приглашали бы на репетиции актеров, сколько раз ни освещала бы рампа чеховские березы, фигуры дяди Вани, бедной Чайки, сколько раз ни вдыхали бы мы удивительный аромат вишневого сада, мудрые глаза Чехова всегда будут глядеть нам в душу и мы будем думать о нем, как о добром, правдивом и мудром друге»234.

ТРИ СЕСТРЫ
Краков, Театр им. Ю. Словацкого, 1949
Постановка Б. Домбровского
Литературный музей, Москва
Критик Р. Шидловский писал о “Трех сестрах” в краковском театре: “Это был один из лучших спектаклей в освобожденной Польше. Тонкий и вдумчивый анализ текста и подтекста, подлинно чеховский лиризм, которым повеяло со сцены, превосходное исполнение ролей обеспечили спектаклю всеобщее признание. Особенно отличились в нем Казимеж Опалиньский (Чебутыкин), Галина Миколайска (Ирина), Тадеуш Кондрат (Тузенбах), Зофья Рысь (Маша) и Целина Недзведская (Ольга)”235. В том же 1949 г. на фестивале русских и советских пьес в Варшаве Б. Домбровский получил первую премию за эту постановку. “Три сестры” в краковском театре знаменовали прежде всего возрождение польского театра, свидетельствовали о его творческом потенциале и верности лучшим традициям реалистического искусства. Постановка была созвучна общественным настроениям, связанным с надеждами на возрождение освобожденной Польши. Следует, однако, отметить, что усиленный режиссером оптимистический финал вызвал упреки критики в нарушении художественной правды, в создании “декларативной, неискренней сцены”236.
62
В 1948 г. режиссер Иво Галл поставил “Вишневый сад” в Гданьском Театре “Выбжеже”. В следующем году в его же постановке эта пьеса была показана в Лодзи, где ее играли сорок лет назад. Обе постановки были признаны неудачными. Критика отмечала как основную причину неуспеха непонимание художественной природы чеховского замысла. К. Пузына писал, что режиссера подвел подзаголовок пьесы — “комедия”: “...захотел в итоге показать сатирическую комедию вместо пьесы настроения”237. Впоследствии к “Вишневому саду” обратились Театр Стары (1954) и Театр Народовы (1964) в Варшаве. Но и эти постановки не имели успеха. «“Вишневый сад” до нынешней поры еще не зазвучал с польской сцены во всем симфоническом богатстве своих оттенков, хотя театры неоднократно обращались к этой пьесе Чехова», — отмечал Р. Сливовский238. Критик видел ошибку театров в том, что в споре Чехова с МХТ о природе пьесы они пошли за интерпретацией Станиславского. В этом плане характерна его статья “Над чем же тут плакать?”, в название которой вынесены чеховские слова о “Вишневом саде”. Сливовский настаивает на необходимости более сложного истолкования пьесы, в котором “рядом с лирическим течением, элегической грустью” должно занять свое место и “другое течение — сатирическое, саркастическое, с помощью которого писатель хотел показать диспропорцию между словом и поступком, мечтами и действительностью”239.
В 1954 г. варшавский Театр Народовы во время московских гастролей показал “Дядю Ваню”. Делясь впечатлениями об этом спектакле, имевшем успех и в Польше, и в Москве, Николай Погодин писал о противоречивых эмоциях, вызванных постановкой. С одной стороны, — несомненный высокий профессионализм Мечислава Милецкого (Войницкий), Эльжбеты Борщевской (Елена Андреевна), Антони Ружицкого (Серебряков), Яна Свидерского (Астров), создавших образы “чеховские, художественные”, а с другой, — несколько давящая режиссерская концепция, ведущая “к тому, чтобы взять у Чехова все негативное и показать таким образом зрителю мрачные стороны жизни русской интеллигенции конца прошлого века”. Концепцию “сумерек” усиливали как трагическая трактовка образа Войницкого, так и то обстоятельство, что часто сцена оставалась “освещенной одной свечой”. Тем не менее “с этого спектакля не уходишь с грустью на сердце”, потому что атмосферу его “создает не один образ Войницкого и не все время на сцене темно. Светло и от Сони, и от доктора Астрова. Он умен, полон юмора, не очень строг к людям, легок. Пусть эта легкость и тонкий юмор придают неожиданную оригинальность образу Астрова, но это образ самый чеховский”240.
Погодинские критические замечания стали как бы прологом к той полемике, которая развернулась в польской периодике вокруг проблем театральной интерпретации Чехова. Погодину в спектакле польского театра недоставало не просто “веры в человека”. Он был убежден, что “ради того, чтобы изобразить несчастного неудачника, омраченного и доведенного до крайних пределов, Чехов не стал бы писать пьесы”. Подтекст этой реплики — требование более широкого, многогранного подхода к Чехову. Такое же по форме требование зазвучало и в польской критике с середины 50-х гг., а по сути вдохновлялось оно той идеей нового, “ужесточенного” прочтения Чехова, которая вскоре оформилась в разбиравшихся выше работах Н. Модзелевской и отчасти Р. Сливовского. “Дядя Ваня” в Театре Народовом был в известной степени детищем этой идеи, однако, по мнению критики, воплощенной достаточно односторонне: новизна заключалась лишь в усилении трагизма, атмосферы безысходности. В целом же издержки традиционного истолкования приписывались влиянию МХАТа, пренебрегшего, по словам Н. Модзелевской
63

ДЯДЯ ВАНЯ
Варшава, Театр Народовы, 1954
Марина (няня) — Мунцингер, Астров — Я. Свидерский
Сцена из I действия
Литературный музей, Москва
(в статье “О новой интерпретации пьес Чехова”), “сатирическим у Чехова”, делавшего акцент главным образом на “благородстве, тонкости, интеллигентности героев”, стремившегося только к тому, чтобы возбудить к ним “симпатию зрителей”. На чеховских героев «не налагали ответственности за пустоту и скуку их существования. Ведь это все были жертвы “плохой эпохи”, которая отобрала у них шансы на счастье и возможность борьбы за свои идеалы». Модзелевская считает, что Чехов, сочувствуя своим героям, в то же время относился к ним с иронией и что этот его взгляд отверг МХТ, “став певцом всех этих Вершининых и Войницких”. “А если и допускалась ироническая усмешка в их адрес, то это была всегда ирония добродушия, ирония чуткой няни”. Характеризуя “Дядю Ваню” в Театре Польском как постановку, соответствующую старым традициям Художественного театра и в этом плане признавая Милецкого лучшим исполнителем роли Войницкого, критик называет “ошибочной” интерпретацию “заключительного монолога” Сони, видя в ней “аккорд, которым режиссура пыталась сгладить настроение горечи на сцене и в зале”: “Ее слова о триумфе любви и всепрощения — после смерти! — это прежде всего крик отчаявшегося человека, который утратил последнюю надежду на что-либо на земле”. “Кардинальная ошибка”, по мнению Модзелевской, именно в подходе к пьесе “как к драме ее главного героя”: “Вина, как в греческой трагедии, падает на какой-то фатум, независимый от этих людей”. Следует же “так показать героев, чтобы на первый план вышли их недостатки, их неприспособленность к жизни в трудных условиях. Нужно показать, что их идеалы и устремления бессильно увядают... Нет тут настоящей борьбы, нет подлинного напряжения сил и чувств — есть вялые и скучные
64
страдания”. Правда, критик предупреждает, что не следует делать и карикатуры: «Речь идет о должной мере, о пропорции, с одной стороны, между их устремлениями и конкретными возможностями, которые предоставляла эпоха, а с другой, — между тем, чего они жаждали и чего смогли достичь. “Выше головы не прыгнешь”, — говорит русская пословица. А уровень их прыжка был совсем невысок. И это, между прочим, нужно показать»241.
Основные положения этой статьи, написанной в 1957 г., были вскоре развиты в работе “Рыцари вечного разлада”, односторонность которой, как уже говорилось, показал А. Анастасьев в “Реплике критику” (см. примеч. 192 и 193). Более широкий подход исследовательница продемонстрировала в книге “Театр Чехова — современный театр”242, в которой учтен опыт постановок на польской и зарубежной сцене. Поиски обновленного, современного воплощения чеховской драматургии, которые велись в 1960—1970-е гг. в советском театре, в известной мере соответствовали исканиям польских театральных деятелей. Новое обращение к Чехову диктовалось и обостренным вниманием к духовным проблемам интеллигенции, характерным для общественной жизни этого периода. Об этом говорил в ответе на “чеховскую” анкету журнала “Театр” драматург Ежи Лютовский: “Мне кажется, что современный зритель жаждет совсем иного искусства. Ему нужны спектакли, которые заставляют работать воображение, говоря правду о людях и жизни, и в то же время дают переживания такой силы, которые нельзя получить в повседневности, переживания, которые может подарить и может позволить себе только театр.
Я знаю художника, метод которого полностью удовлетворяет этим требованиям, все творчество которого является как бы символом этих требований. Его имя Чехов”.
Для Е. Лютовского очень важно, что «Чехов ничего не “приподнимает”», что “его герои говорят и поступают точно так же, как говорят и поступают в жизни действительно существующие люди”. И вместе с тем «сказанные ими слова “обычны” только в их внешнем значении. В глубине под ними существует как бы второе течение подтекста психологической правды. Эта психологическая правда, простая, но захватывающая, определяет для меня то, что называется “человеческим” в театре». Польский драматург считает, что “возрождения театра удастся достигнуть, лишь используя чеховский метод психологической конструкции и подтекста; они позволят говорить о вещах простых и одновременно сложных, как сама наша современность. Возрождения театра смогут добиться лишь те, кто, не отрываясь от реальной действительности, сумеют воспроизвести чеховскую атмосферу, при этом имея в виду всечеловеческие масштабы, а не только русский или какой-либо другой конкретный национальный климат, те, кто будут говорить о вещах не напрямик, не называя по имени мысли и чувства героя, а используя второй план, разбудят воображение и мысль зрителей”243.
Одним из первых спектаклей, знаменовавших новый подход к Чехову, стал “Платонов”, поставленный Адамом Ханушкевичем в 1962 г. в варшавском Театре Драматычном. А. Ханушкевич проделал значительную работу над текстом, приспособив его к возможностям театральной интерпретации. Критика положительно оценила эту работу как “попытку” “возвращения” зрителю неизвестного, незнакомого Чехова244. Хотя раздавались и голоса, упрекавшие А. Ханушкевича в нецелесообразности сокращений, приведших к выделению негативных качеств пьесы — затянутости и “болтливости”245. Критические мнения с очевидностью разошлись в оценке режиссерской концепции спектакля. “Из многих мотивов пьесы, — отмечал Р. Сливовский, — режиссер выбрал один: донжуанство Платонова, трактуемое не в форме мелодрамы,
65
а в форме гротеска, придав судьбе Платонова и остальных героев драмы общечеловеческие измерения и смысл». Эти общечеловеческие измерения и смысл трагедии человека, загубленного в мире, полном парадоксов и противоречий, придал центральному герою пьесы Густав Холоубек246. По словам критика А. Вирта, актер создал Платонова, сходящего с ума от скуки, Платонова, больного Платоновым, Платонова, который боится жизни и поэтому бросает ей вызов, Платонова-интеллектуала, которого опасаются женщины и который заставляет их страдать, защищаясь от их любви. Восхищаясь Холоубеком в роли Платонова, которого, в соответствии с замыслом польского перевода, замечательный актер лишил русского своеобразия (хотя, по мнению рецензента, “это фигура чисто русская”), Вирт резко полемизирует со сценической трактовкой режиссера, выдвигая против нее такие аргументы, как “отсутствие проблемы стиля и жанра: остается тайной, чего же именно хотел режиссер, фарса или психологической драмы, современного гротеска или, может быть, чего-нибудь другого. Возможность нового прочтения Чехова оказалась игнорированной, расплылась в неумении”247.
Почти так же оценил спектакль Ежи Кениг, отметивший, что “ожидал чего-то большего, чем еще одной интеллигентно и с чарующим обаянием сыгранной роли Холоубека, так благосклонно и опасно награжденной аплодисментами, чего-то большего, чем еще одного, на этот раз в театральном Чехове, дебюта Ханушкевича, чего-то большего, чем комиксовой обработки текста, чего-то большего, чем гладкость и безупречность, чего-то большего, чем мелодрама не в лучшем вкусе, густо усеянная неведомо почему кусками из Чехова”. По мнению Е. Кенига, Платонов «мог быть ключом к театру Чехова <...> а стал повестью о Платонове и его жалких завоеваниях, которые, однако, утратили теперь былое значение, ибо никто ныне не понимает трагико-гротескной жалобы, что “у людей мировые принципы в голове, а у меня женщины”. Остался роман, который призван был стать пародией на роман не в лучшем вкусе, а здесь внезапно выскочил на первый план»248. По мысли другого критика, Э. Стружецкой, полонизация и актуализация пьесы стали главным недостатком варшавского спектакля, так как эти усилия режиссера привели к утрате общественного смысла комедии, к созданию “искусственно монотонной и скучноватой атмосферы застоя и хаоса, которая заставила каким-то образом прибегнуть в представлении к средствам современного абсурдного гротеска”249. Кшиштоф Старчиньский в своем обзоре русских и советских пьес на сцене Театра Драматычнего подчеркнул, что “Ханушкевич лишил спектакль значительной части примет, которые давали бы возможность соотнести героя с определенной эпохой. Этот своеобразный универсализм был использован актером — такой герой может появиться и сегодня”. Далее Старчиньский пишет: «Оценки “Платонова” в Театре Драматычным достаточно трудно свести к чему-то одному по причине различных мнений об отдельных его элементах. Однако дискуссия, достаточно оживленная, свидетельствовала о сильном интересе к спектаклю. Бесспорным успехом театра является воплощение впервые на польской сцене этого интересного произведения русской драматургии»250. Р. Сливовский следующим образом оценил высказывания критики: «Вероятно, этот спектакль можно было бы обвинить в неровности настроения, в неожиданных переходах от гротеска к лиризму, в отсутствии последовательно выдержанной однородности стиля и атмосферы. Правда и то, что концепцию Чехова (а отчасти и режиссера) Густав Холоубек реализовал самым удачным, самым адекватным образом, заслоняя своей актерской индивидуальностью другие образы. Кажется все же, что критика слишком безжалостно отнеслась в ту пору к “Платонову” Ханушкевича, недооценила
66
в варшавском спектакле те элементы, которые действительно давали возможность приблизить эту пьесу к современности. А именно это прежде всего имел в виду спектакль»251.
Надо отметить, что с годами режиссерская поэтика А. Ханушкевича, в том числе и как интерпретатора Чехова, завоевала широкое признание. Новая постановка “Платонова” в 1977 г. в Театре Народовым, по словам Р. Шидловского, “целиком убедила: такой Чехов не только возможен, но и более интересен, глубок, умен, более современен и склонен к рефлексии, чем прежний сентиментальный и слезливый Чехов”252. В рецензии на этот же спектакль М. Мисюрны отмечал, что новая постановка “Платонова” более последовательна, чем прежняя в Театре Драматычным. Ханушкевич реализовал в ней идею не столько историко-литературную, сколько современную — вывел на сцену эгоцентрического типа, заставляющего чуть ли не поклоняться себе, спекулирующего на чувствах окружающих, прежде всего женщин. В соответствии с режиссерским замыслом комедия в ряде сцен переходит в фарс, в водевиль. “Комедийным эффектом, — продолжает М. Мисюрны, — становится в итоге завершающий отчаянный выстрел одной из женщин: этот финал так последователен, настолько вся драматургия спектакля точно подготавливает к нему, что нет сомнения, что прострелен воздушный шар, а не человек”253. В роли Платонова в Театре Народовым выступил Здислав Вардейн, Войницкой — Зофья Куцувна, Трилецкого — Казимеж Вахняж, Венгеровича — Януш Клосиньский, Венгеровича-младшего — Кшиштоф Вакулиньский.
Иную версию “Платонова” предложил гданьский Театр “Выбжеже” в 1963 г. Режиссеры Роза Островская и Ежи Голиньский дерзнули воссоздать атмосферу эпохи духовного хаоса, интеллектуальной потерянности, кризиса ценностей и обостренного конфликта поколений. В центре два образа — Платонова и студента Венгеровича, ясно осознающих собственное бессилие, ничтожность существования и реагирующих на губящую их действительность отчаянной насмешкой над своим окружением. Постановщики придали драме оттенок современности, показав метания людей, не видящих цели в жизни. Отсюда — бесплодный и потому смешной бунт. Таким “бунтовщиком”, “гневным юношей 80-х годов” изобразил Платонова в Гданьском театре актер Станислав Михалик254. «В гданьской инсценировке, — пишет Р. Сливовский, — Платонов был не столько смешным взбунтовавшимся комедиантом и позером, разоблачающим комедиантство и позерство своей среды, сколько страдальцем даже тогда, когда он — по замыслу актера — паясничает, принимая позу нигилиста. В конечном счете, гданьский спектакль, задуманный смело, интересно и современно, не решился на выбор театрального жанра — сатира это или драма настроения? Трудность состоит в том, что при всей своей резкости юношеская сатира Чехова повсюду соприкасается с мелодраматическими эффектами и ситуациями. А это должно было сыграть решающую роль в общей атмосфере спектакля в ущерб гротескному изображению бездействия русского идейного банкрота 1870—1880-х годов.
Но одновременно молодой драматург как будто бы порой полемизирует с этими эффектами и ситуациями. С этой точки зрения “Платонов” не является однородным текстом и оставляет для своих постановщиков большую свободу действия и нестесненную возможность выбора сценической трактовки». Р. Сливовский считает, что пьеса имеет мало общего с “театром настроения”: “здесь больше злобы, сарказма, желчности, чем заботы о мелодраматическом переживании”. Но создатели гданьского спектакля, в отличие от варшавской постановки, не отказались от изображения реальной русской действительности 1880-х годов, сохранили бытовой фон, выдвинув на первый план не только Платонова, но и Венгеровича-сына. Это решение отодвинуло на задний
67
план донжуанство Платонова, возобладавшее в варшавской постановке. По мнению Сливовского, то, что Венгерович и Платонов, «с их полным цинизма и слабости комедиантством, сделались ведущими образами драмы <...> еще раз подтверждает тезис об “эластичности” драматургического материала “Платонова”. Ведь центр тяжести пьесы лежит — независимо от стремлений театральных постановщиков — в ужасающе ясной осознанности Чеховым, выраженной в главном образе этой драмы, собственной трагедии, собственных духовных сомнений, источники которых — в крайне неблагоприятной для впечатлительного человека реальной обстановке конца XIX в.». Р. Сливовский подчеркивает, что эти сомнения «молодой Чехов изложил сценическим языком, который не мог дойти до эстетического сознания его современников. “Платонов” слишком опережал свое время»255.

ЧАЙКА
Краков, Театр им. Ю. Словацкого
Премьера 14 мая 1960 г.
Литературный музей, Москва
Новизной отличалась и постановка “Трех сестер” в Театре Вспулчесным, осуществленная в 1963 г. Эрвином Аксером. Критик А. Вирт писал в связи с этим: «Пьеса Чехова исторична, но вместе с тем эта пьеса “надвременная” <...> Пьеса о неприспособленности, о завышенных амбициях, неисполнившихся мечтаниях и трагизме постепенного одряхления и схождения с мировой арены <...> Аксер сохранил костюм, атмосферу, место и время действия <...> но не как конечную цель. Не было в этом спектакле музейности, историзм понимался как средство изображения “надвременного” содержания и высвечивания прежде всего сегодняшней перспективы»256. Р. Сливовский считает,
68
что спектакль Аксера полемизирует с краковской постановкой 1949 г. По его мнению, постановка Аксера была “спектаклем, опирающимся на традиции МХАТа, но вместе с тем полемизирующим с традицией плакатного оптимизма в отнюдь не радостном финале, содержащем признаки близящейся катастрофы. Не приняты здесь совсем псевдооптимистические декларации, стремящиеся сгладить горькую иронию автора”257.
В 1964 г. варшавский Театр Розмаитости показал “Иванова” в постановке Анджея Зембиньского. В главной роли выступил известный актер Ежи Калишевский, Сарры — Анна Цепелевская, Саши — Ванда Малерувна, Шабельского — Анджей Богуцкий. На концепцию спектакля оказали воздействие интерпретация “Иванова” в московском Малом театре, предложенная Б. Бабочкиным, и постановка Словацкого народного театра из Братиславы, показанная в 1962 г. во время краковских гастролей. Очевидно, сказались на спектакле и основные положения статьи К. Рудницкого “Чехов и режиссеры”, опубликованной в 1963 г. в польском журнале “Диалог”. Значительные отрывки из этой статьи, посвященные “Иванову”, вошли в программку спектакля. К. Рудницкий, в частности, отмечал, что постановка Бабочкина стала “новым, зрелым и самым правдивым прочтением Чехова”, сближавшим его с современным театром”, который, художественно акцентируя признаки “обыденной, привычной жизни”, все же верит в человека, хотя и “не утрачивает трезвого взгляда, свободен от наивных иллюзий”258. Спектакль в Театре Розмаитости не получил такого шумного успеха, как постановки “Платонова”, но был оценен положительно зрителями и критикой259. В 1977 г. “Иванова” показал на гастролях в Польше Московский театр им. Ленинского комсомола260.
В 1959 г. варшавский Театр Польски поставил “Чайку”. В 1967 г. эту пьесу показал своим зрителям вроцлавский театр. Трудности воплощения пьесы сказались на этих постановках, ставших тем не менее этапами в постижении одной из сложнейших чеховских тем. К ним принадлежит и постановка “Чайки” в 1978 г. в варшавском Театре Атенеум. Как отмечал рецензент Ежи Байдор, режиссер Януш Варминьский стремился быть ближе к чеховскому тексту, «не кокетничал со зрителями инсценировочными приемами <...> сосредоточился прежде всего на последовательной и точной игре актеров”. Особенно значительными получились образы, созданные Александрой Шленской (Аркадина), Кристиной Яндой (Заречная), Анджеем Севериным (Треплев). «Это был, по существу, сильный и ровный актерский спектакль <...> Театр Атенеум может зачислить премьеру “Чайки” в ряд своих несомненных успехов», — писал тот же рецензент261. Событием театральной жизни стал спектакль “Десять портретов с чайкой по Антону Чехову” в краковском Театре Старым в 1979 г. Его поставил Ежи Гжегожевский, давно и усердно изучавший пьесу. Этапом к краковской постановке были его “Вариации” в варшавском Театре Драматычным. В “Десяти портретах...”, как и в “Вариациях”, режиссер достаточно свободно обращается с текстом “Чайки”, хотя в краковской постановке он значительно ближе к нему. Сохранены структура, фигуры и основная мысль пьесы. Как писал Р. Шидловский, «проблема бесцельной, даром потраченной жизни... поворачивается в спектакле Гжегожевского в самых разных вариантах. Различны причины, по которым герои “Чайки” загубили свою жизнь и жизни других. Каждая из этих фигур непохожа на другую, проникновенный анализ каждой из них составляет силу этого умного, глубокого спектакля, в котором актеры имеют огромное поле для проявления своих способностей». “В краковском спектакле, — продолжает рецензент, — правда искусства становится правдой жизни. Гжегожевский компонует поочередно сцены и ситуации с исключительным мастерством и убеждает нас,
69

«СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ». СПЕКТАКЛЬ ИЗ ЧЕХОВСКИХ МИНИАТЮР («ПРЕДЛОЖЕНИЕ»)
<Познань>, Дом Ведля, 1947. Литературный музей, Москва

«СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ». СПЕКТАКЛЬ ИЗ ЧЕХОВСКИХ МИНИАТЮР («ЮБИЛЕЙ»)
<Познань>, Дом Ведля, 1947. Литературный музей, Москва
70
что с помощью больших художественных эмоций можно рассказать много правды о жизни, в общем под нее не подделываясь”. В слитном актерском ансамбле особенно проявились таланты Будзиш-Кшижановской (Аркадина), Анны Дымны (Заречная), Романа Станкевича (Сорин), Ежи Бинчицкого (Дорн). Слабее получились образы Тригорина (Ежи Стухр) и Треплева (Мечислав Грабка). Р. Шидловский отметил, что это типичный для Гжегожевского спектакль — “чистый и точный по форме и стилю. У него будут, наверное, как горячие поклонники, так и яростные оппоненты. Можно с ним соглашаться, можно спорить. Существенно, что в нашем театре живет явление такого значительного характера”262.
Плодом многолетнего сотрудничества варшавского Театра Польского и Театра им. Вахтангова стала постановка пьесы “Леший”, осуществленная под руководством Евгения Симонова в 1980 г. Отвечая на вопросы корреспондента газеты “Жиче Варшавы” с связи с готовившейся премьерой, режиссер поделился своими мыслями о пьесе и рассказал о творческих контактах между польским и советским театрами263. Чеховская поэтика нашла отражение и в постановках других русских авторов. Режиссер Януш Нычак, поставивший в познаньском Театре Новым “Дачников” Горького, по мнению рецензента “Трибуны люду”, “открыл эту вещь чеховским ключом”. Имелись в виду и общая атмосфера спектакля, и звучавшие в нем лирические и сатирические ноты, и даже философская направленность264.
По-прежнему очень популярны у польского зрителя чеховские водевили. В послевоенные годы “Предложение” шло в Лодзи (1946), Познани (1947), Ополе (1949). “Медведь”, “Свадьба”, “Предложение”, “Юбилей” были выпущены отдельными изданиями в серии “Клубная библиотека”. Большим успехом пользовалось исполнение чеховских произведений с эстрады. Во многих концертах рассказы Чехова звучали в исполнении Александра Зельверовича. Владислав Годик в варшавском Театре Сатиры выступал с монологом “О вреде табака”, а в детском театре “Клекс” чеховские рассказы читал Ян Курнакович. Заметным событием стала премьера “Медведя” и “Предложения” в варшавском Театре Новым в 1981 г. Поставил оба водевиля режиссер Венчислав Глинский, Подлинное наслаждение доставила зрителям игра Мариуша Дмоховского, Эвы Вишневской, Влодзимежа Панасевича (“Медведь”) и Анны Цеплевской, Эмила Каревича, Юзефа Перацкого (“Предложение”). “Этот искрящийся остроумием и фантазией спектакль возвращает нам радость жизни”, — писала газета “Экспрес вечоровы”265. Рецензенты отмечали, что водевили Чехова всегда были прекрасной школой актерского мастерства. В отзыве, озаглавленном “Рай для актеров”, газета “Жиче Варшавы” призывала читателей непременно посетить спектакль в Театре Новым, чтобы убедиться в том, какие “новые грани таланта открывает чеховская драматургия у давно известных и любимых артистов”266. Чеховские водевили неоднократно показывались по телевидению.
В заключение обзора скажем о том, что в Польше всегда вызывали значительный интерес советские фильмы по произведениям Чехова. В их числе — “Дама с собачкой”, “Дуэль”, “В городе С”, “Драма на охоте”, “Неоконченная пьеса для механического пианино”267.
71
РАБОТЫ О ЧЕХОВЕ ПОЛЬСКИХ АВТОРОВ. 1980—2003
Составители А. Енджейкович и Р. Сливовский
1980
Antoni Kmita. Anton Czechow dla dzieci (W 120 rocznicę urodzin) // Język Rosyjski. 1980. № 2. S. 67—72.
Данута Кулаковская. Роль художественной литературы в формировании ценностной ориентации личности (на примере творчества Чехова) // Przegląd Rusycystyczny. 1980. Z. I. S. 67—70.
1981
Olga Główko. Czechowowskie ujęcie postaci artysty. Poglądy na istotę i zadania sztuki // Przegląd Humanistyczny. 1981. № 1—2. S. 83—98.
Barbara Olaszek. “Chłopi” Reymonta a opowieści “wiejskie” Czechowa i Bunina // Przegląd Rusycystyczny. 1981. Z. 4. S. 37—44.
Rene Śliwowski. Kto jest kto? Rosyjskie jednoaktówki komediowo-satyryczne. Warszawa, 1981. S. 153—157.
1983
Alicja Wołodźko. Wstęp // Antoni Czechow. Trzy siostry. Warszawa: Iskry, 1983. S. 5—7.
1984
Andrzej Ksenicz. Twórczość Antoniego Czechowa w Polsce Ludowej // Proza rosyjska lat osiemdziesiątych XIX w. w opinii polskiej krytyki literackiej 1945—1974. Zielona Góra: WSP, 1984. S. 61—76.
1985
Ryszard Przybylski. 1. Don Juan jako gaduła. Platonow A. Czechowa. 2. Dramat teatru. Czajka A. Czechowa. 3. Grzech niemożności. Trzy siostry A. Czechowa. 4. Cena czasu. Wujaszek Wania A. Czechowa // Wtajemniczenie w los. Szkice o dramatach. Warszawa: PIW, 1985. S. 141—195.
1986
Rene Śliwowski. Antoni Czechow. Warszawa: PIW, 1986. 375 s.
1987
Anna Jędrzejkiewicz. “Świat zza kryształowej szyby”. Problemy rekonstrukcji systemu wartości w opowiadaniach Czechowa // Materiały sesji “Co badania fiłołogiczne mówią o wartości” zorganizowanej przez Wydział Neofilologiczny UW. Warszawa: Wyd. UW, 1987. S. 309—329.
1988
Bogdan Dąbrowski. Gawęda reżyserska o Czechowie. Wizyta w domu Czechowa // Poznałem ich w teatrze. Kraków: Wyd. Literackie, 1988. 184 s.
Bogdan Galster (rec.). Antoni Czechow. Rene Śliwowski. Warszawa: PIW, 1986. 375 s. // Nowe książki. 1988. № 5. S. 72—73.
Natalia Modzelewska. Wybór, redakcja oraz wstęp do I t. Przypisy do listów 1—193 // Antoni Czechow. Listy. Przeł. N. Gałczyńska, A. Sarachanowa. Kraków: Wyd. Literackie, 1988. 354 s.
72
Lucjan Suchanek. Wstęp i przypisy do II t // Antoni Czechow. Listy. Przeł. N. Gałczyńska, A. Sarachanowa. Kraków: Wyd. Literackie, 1988. 511 s.
Wiesława Woźniak. 1 (rec.). Мир Чехова. Возникновение и утверждение. Александр Чудаков. Москва: Сов. писатель, 1986. 382 с. // Słavia Orientalis 1988. № 4. S. 612—614.
2. Z radzieckich badań nad prozą Antoniego Czechowa. Refleksja współczesna 1975—1985 // Z lubelskich studiów rusycystycznych. Od Chieraskowa do Konstantina Fiedina. Pod red. J. Borsukiewicza. Lublin: Wyd. UMCS, 1988. S. 191—213.
1989
Antoni Czechow. Materiały konferencji Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego 21—23 XI 1984. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. T. 16. Warszawa: Wyd. UW, 1989. 238 s.
В составе сборника:
Rene Śliwowski. Słowo wstępne (s. 7—11).
Lucyna Kapała. 1. W poszukiwaniu sensu życia. Czechow a współczesna filozofia człowieka (s. 11—24).
Wasilij Szczukin. Дворянское гнездо глазами Тургенева и Чехова (s. 51—72).
Tadeusz Kołakowski. Meyerhold i Czechow (s. 73—88).
Tadeusz Szyszko. U źródeł Trzech sióstr Czechowa (s. 89—102).
Rene Śliwowski. Dramat na polowaniu (s. 103—113).
Maria Cymborska-Leboda. Czechow a estetyka symbolizmu. Przyczynek do problemu. Czechow a kultura literacka symbolizmu (s. 113—124).
Olga Straszkowa. Чехов, символисты и «новая драма» (s. 125—138).
Andrzej Ksenicz. Elementy religijne w twórczości Czechowa (s. 139—152).
Janina Sałajczykowa. Współczesna literatura rosyjska wobec Czechowa (s. 153—166).
Florian Nieuważny. Czechow a współczesna proza tzw. czterdziestolatków (lata 70-te) (s. 167—174).
Anna Doleżal. Proza Jurija Kazakowa w świetle tradycji Czechowa (s. 175—182).
Lidia Krukowska. “Душечка” А. П. Чехова и проблема развития характера в творчестве К. Федина (s. 183—194).
Anna Jędrzejkiewicz. Opowieść jako sposób przeżywania świata. Opowiadania Czechowa z narratorem wskazanym w tytule (s. 195—208).
Albert Bartoszewicz. А. П. Чехов о работе над языком художественного произведения (s. 209—216).
Wanda Zmarzer. O jednym ze sposobów semantycznej intensyfikacji wyrazu w opowiadaniach Czechowa (s. 217—222).
Jurij Lukszyn. Рассказ А. Чехова “Тоска”. Прием ритмической организации текста (s. 223—230).
Halina Milejkowska. Имена персонажей в пьесах А. Чехова и Л. Андреева (s. 231—238).
Lucyna Kapała. Ucieczka w futerał jako sposób życia. O małej trylogii Antoniego Czechowa // Analizy i interpretacje. Opracowanie zbiorowe pod red. J. Sałajczyk. Gdańsk: Wyd. UG, 1989. S. 7—20.
Walenty Piłat. Motyw “tragicznego błazna” w sztuce Antoniego Czechowa “Iwanow” i w dramacie Wampiłowa “Polowanie na kaczki” // Slavia Orientalis. 1989. № 1—2. S. 95—106.
Rene Śliwowski. Wstęp // Antoni Czechow. Opowiadania i opowieści. Wybór. Wrocław: Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. S. CV. 432 s.
73
1990
Anton P. Cechov. (1880—1983). Werk und Wirkung. Teil I. R.-D. Kluge (Hrsg.). Wiesbaden, 1990.
В составе сборника.
Lucjan Suchanek. Пространство здоровья и пространство болезни (“Палата № 6”) (s. 58—68).
Michał Łesiów. Антропонимическая система в языке раннего творчества А. Чехова (s. 193—207).
Marian Jakóbiec. К вопросу об антропофилософии ранних произведений А. П. Чехова (s. 455—463).
Ibid. Teil II:
Antoni Semczuk. А. П. Чехов в современной Польше (s. 1020—1030).
Wiesława Woźniak Myśl scjentystyczna w światopoglądzie Antoniego Czechowa // Studia z literatury rosyjskiej XIX—XX wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria 28. Łódź, 1990. S. 111—119.
1991
Jerzy Faryno. Введение в литературоведение. Wstęp do literaturoznawstwa. Warszawa: PWN. 1991. S. 114—125; 489—491; 531—535 i in.
Anna Jędrzejkiewicz. Komunikacja językowa w opowiadaniach Antoniego Czechowa. Niepowodzenia konwersacyjne bohaterów // Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Małe formy w literaturze rosyjskiej, nr 30. Olsztyn: WSP, 1991. S. 31—38.
1992
Andrzej Ksenicz. Antoni Czechow i świat jego dzieła. Zielona Góra: WSP, 1992. 180 s.
1993
Anna Jędrzejkiewicz. Literacka pamięć bohaterów Czechowa // Literatura i słowo. Wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne, Warszawa: Wyd. Studio AWP, 1993. S. 31—38.
Danuta Kułakowska Wybór i posłowie // Antoni Czechow. Czarny mnich. Białystok: Wyd. Łuk, 1993. S. 377—390.
Wiesława Woźniak. Вокруг импрессионизма Чехова // Ze studiów nad literaturą przełomu wieku XIX i XX. Poetyka i konteksty kulturowe. Praca zbiorowa pod red. J. Orłowskiego. Lublin: Wyd. UMCS, 1993. S. 27—39.
1994
Jerzy Faryno. Семиотика Чеховской “Чайки” // Russkij tekst. Lawrence; St. Petersburg; Durham. 1994. P. 95—114.
Andrzej Ksenicz Iluzja rzeczywistości w prozie Antoniego Czechowa // Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodniej słowiańszczyzny. Pod red. W. Wilczyńskiego. Zielona Góra Wyd. WSP, 1994. S. 87—97.
Izabella Malej. Antoni Czechow i rosyjski pejzaż impresjonistyczny // Slavica Wratislaviensia LXXXVII. 1994. S. 75—86.
Wiesława Woźniak. Czas i człowiek w opowiadaniach Antoniego Czechowa // Świat przedstawiony w dziełach pisarzy Wschodniej Słowiańszczyzny. Pod red. W. Wilczyńskiego. Zielona Góra: Wyd. WSP, 1994. S. 97—110.
Katarzyna Rzeźnicka. Onomastyka “Stepu” Antoniego Czechowa i jej przekład na język polski // Studia Russica Thoruniensia. Toruń: Wyd. UT, 1994. T. 2. S. 57—63.
74
1995
Wasilij Szczukin. Les Ruses et les Polonais à la recherche du “vrai” Tchekhov (1971—1991) // Revue de Littérature Comparee. 1995. № 4. S. 391—401.
Andrzej Żurowski (rec.). “Wujaszek Wania”. Antoni P. Czechow, reż. K. Kutz. T. Telewizji // Wiadomości Kulturalne. 1995. № 13. S. 18.
1996
Lucyna Kapała. Człowiek w świecie prawdy w twórczości Antoniego Czechowa // W kręgu literatury rosyjskiej. Pod red. E. Biernat. Gdańsk: Wyd. UG, 1996. S. 69—88.
Andrzej Ksenicz. Anton Czechow nieco inaczej o sobie i innych // Słowiańskie konteksty. Język i literatura. Pod red. B. Tichoniuka. Zielona Góra: Wyd. WSP. 1996. S. 87—107.
Zdzisław Skrok (rec.). Sachalin: notatki z podróży. Antoni Czechow. Przeł. I. Bajkowska. Warszawa: 1995. 476 s. // Literatura. 1996. № 3. S. 57—58.
1997
Anton P. Cechov — Philosophie und Religiose Demensionen im Leben und im Werk. Vorträge des Zweiten Internationalen Cechov-Symposiums Badenweiler 20—24 Oktober 1994. Hrsg. von V. B. Kataev, R.-D. Kluge, R. Nohejl. München: Otto Sanger, 1997.
В составе сборника:
Anna Jędrzejkiewicz. Религиозный мир человека и человеческое общение в творчестве Чехова (s. 315—321).
Lucjan Suchanek. А. П. Чехов и философия встречи (“Палата № 6”) (s. 323—328).
Lucyna Kapała. Человек в свете правды в творчестве А. П. Чехова (s. 329—334).
Grażyna Bobilewicz. Przełom modernistyczny. Kultura, sztuka i życie towarzyskie // Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz. Warszawa: PWN, 1997. S. 53—54.
Bartosz Cieniawa. Historia rosyjskich inscenizacji dramatu Antoniego Czechowa “Iwanow” // Slavia Orientalis. 1997. № 1. S. 47—58.
Andrzej Ksenicz. Europejski kontekst kulturowy w twórczości Antoniego Czechowa // Wielkie tematy kultury w literaturach europejskich. Pod red. K. Galon-Kurkowej i T. Klimowicza. Wrocław, 1997. S. 109—117.
Katarzyna Osińska. 1. Czechow, Sachalin i jego polskie edycje // Literatura na świecie 1997. № 1—2. S. 403—412.
2. Dramaturgia i teatr w latach 1895—1917 // Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz. Warszawa: PWN, 1997. S. 152—157.
Wasilij Szczukin. Рождение нового поэтического пространства // Мир дворянского гнезда. Неокультурологическое исследование по русской классической литературе. Kraków: Wyd. UJ, 1997. S. 227—250.
Andrzej Wanat. Krok od mizantropii // Pochwała teatru. Warszawa: Errata, 1997. 326 s.
Władysław Zawistowski. Antoni Czechow za kulisami teatru // Antoni Czechow. Historie zakulisowe, czyli anegdoty teatralne. Gdańsk: Tower Press. 1997. S. 129—139.
1998
Robert Boroch. Zbędny czy nie zbędny? Postać Fieraponta Spirydonowicza w “Trzech Siostrach” Antoniego Czechowa // Studia Russica Thorunensia. T. III. Toruń. 1998. S. 73—83.
Anna Jędrzejkiewicz. 1. Twórczość Antoniego Czechowa jako komunikat o problemach komunikacji międzyludzkiej // Słowianie Wschodni. Duchowość-Kultura-Język. Kraków: Wyd. UJ, 1998. S. 205—210.
2. Miłczenie a komunikacja międzyludzka w świecie opowiadań Antoniego Czechowa // Studia Rossica VI. Warszawa, 1998. S. 45—54.
75
Bożena Marzec. Пьеса-повесть чеховского типа в драматургии символистов // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. 1998. № 19. S. 24—35.
Tadeusz Osuch. О полемической направленности “Палаты № 6” А. П. Чехова // Słupskie Prace Humanistyczne. № 17a (1998). S. 27—33.
Grzegorz Przebinda. Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1822—1922). Kraków: PAU, 1998. S. 445—450.
Rene Śliwowski. Czechow i Niemcy (rec.). Чехов и Германия. Молодые исследователи. Ред. В. Б. Катаева, R.-D. Kluge. Москва, 1996. 284 с. // Przegląd Humanistyczny. 1998. № 4. S. 139—145.
1999
Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Pod red. E. Biernat i T. Bogdanowicza. Gdańsk: Wyd. UG. 1999.
В составе сборника:
Wasilij Szczukin. «Интеллигентское гнездо». Топос дачи в творчестве Чехова (s. 9—20).
Tadeusz Osuch. “Черный монах” Чехова. К истории замысла и символике образа (s. 21—27).
Jerzy Faryno. К невостребованной мифологемике “Лошадиной фамилии” Чехова (s. 28—38).
Robert Boroch. O interpretacji reżyserskiej i aktorskiej. Na przykładzie “Wujaszka Wani” Antoniego Czechowa (s. 39—47).
Maria Janiszewska (rec.). “Trzy siostry”, reż. A Glińska. T. Powszechny Warszawa // Czas Kultury. 1999. № 4/5. S. 114.
Lucyna Kapała. Wartość niezakorzenienia. O opowiadaniu Antoniego P. Czechowa “Перекати-поле” // W kręgu literatury rosyjskiej. II. Pod red. T. Bogdanowicza. Gdańsk: Wyd. UG, 1999. S. 46—61.
Andrzej Ksenicz. 1. Антон П. Чехов — писатель антиисторический // История и современность в русской литературе. Pod red. K. Prusa. Rzeszów, 1999. S. 77—85.
2. (rec.) Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов. Елена Толстая. Москва, 1994. 399 с. // Przegląd Rusycystyczny. 1999. Z. 1/2. S. 96—97.
3. Słowiański wielogłos, czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza. Zielona Góra: WSP, 1999. S. 5—60. 153 s.
Lidia Liburska (rec.). Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов. Елена Толстая. Москва, 1994. 399 с. // Słavia Orientalis. 1999. № 1. S. 119—123.
Rene Śliwowski (rec.). Чеховский Вестник, 1997. № 1 (Czechowowski Zwiastun) // Slavia Orientalis 1999. № 1. S. 123—127.
Małgorzata Świderska. 1. (rec.) Rolf-Dieter Kluge. Anton P. Cechov — Eine Einführung in Leben und Werk, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. Der Schwarze Monch. Russisch/Deutsch. Übersetzung von Kay Borovsky; Anmerkungen und Nachwort von Rolf-Dieter Kluge. Stuttgart: Philip Reclam jun, 1996. Rolf-Dieter Kluge. “...Ein Grober Garten, Dahinter Bewaldetete Berge...” Anton P. Cechov in. Badenweiler. Deutsche Schillergesellschaft Marbach an Neckar 1998// Slavia Orientalis. 1999. № 3. S. 470—473.
2. (rec.) Rolf-Dieter Kluge, Vladimir B. Kataev, Regine Nohejl (Hrsg.). Anton P. Cechov — Philosophische und Religiose Dimensionem im Leben und im Werk. Vorträge des Zweiten Internationalen Cechov-Symposiums. Badenweiler, 20—24. Oktober 1994. München: Otto Sagner. 1997 // Slavia Orientalis. 1999. № 3. S. 473—476.
Wiesława Woźniak. W zwierciadle Czechowa. O nowelistyce Włodzimierza Perzyńskiego z perspektywy intertekstualnej // Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku. Pod red. W. Kowalczyka. Lublin: Wyd. UMCS, 1999. S. 153—163.
76
2000
Piotr Gruszczyński. Do Hamleta podobni (rec.). Antoni P. Czechow. “Płatonow”, reż. G. Wiśniewski. T. Słowackiego. Kraków; Wiśniowy sad. reż. M. Prus. T. Narodowy. Warszawa // Tyg. Powszechny. 2000. № 40. S. 12.
Anna Jędrzejkiewicz. 1. “Dom z facjatką” Antoniego Czechowa. Próba nowej interpretacji // Studia Rossica X. Warszawa, 2000. S. 445—465.
2. Opowiadania Antoniego Czechowa — Studia nad porozumiewaniem się ludzi. Studia Rossica IX. Warszawa, 2000. 269 s.
Andrzej Ksenicz. Czechowowskie przemiany wewnętrzne // Konteksty Literatury rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej z pozycji XX w. Pod red. W. Wilczyńskiego. Zielona Góra, 2000. S. 17—25.
Tadeusz Osuch, Danuta Gierczyńska. Деталь как художественный прием в новеллистике А. П. Чехова // Słupskie Prace Humanistyczne. № 20 (2000). S. 41—45.
Tadeusz Osuch. О роли пейзажа в рассказах А. П. Чехова // Ibid S. 35—40.
Barbara Osterloff. Czy Hamlet może być rudy... ? (rec.) Historie zakulisowe (wg Antona P. Czechova) reż. Z. Zapasiewicz. T. Telewizji // Teatr. 2000. № 1/3. S. 54—55.
Małgorzata Świderska. Ostatnie lato Czechowa w Badenweiler // Tygiel Kultur. 2000. № 10/12. S. 44—52.
Рецензии на спектакль: Wujaszek Wania. Antoni P. Czechow, reż. J. Jarocki. T. Polski. Wrocław:
Rafał Bubnicki. Śmiech i litość // Rzeczypospolita. 2000. № 61. S. A 10.
Roman Pawłowski. Nuda prowincji // Gazeta Wyborcza, nr. 62. S. 12.
Anna Schiller. Ślad na wodzie // Wprost. 2000. № 14. S. 110—111.
Jacek Sieradzki. Jak kochać, wujaszku Wania? // Polityka. 2000. № 14. S. 42—43.
Łukasz Węgrzyniak. Żyć trzeba // Odra. 2000. № 6. S. 93—94.
2001
Elżbieta Baniewicz. Inteligenci Czechowa // Twórczość. 2001. № 2. S. 172—176.
Robert Boroch (rec.). Chekhov’s “Uncle Vania” and “The Wood Demon” Donald Rayfield. Bristol Classical Press. Critical Studies in Russian Literature. 1995. 88 p.
Jolanta Brach-Czaina. Czechow i wielostka ludzka // Res Publika Nowa. 2001. № 5. S. 12—19.
Łukasz Drewniak. 1. Źli, mali ludzie (rec.). “Trzy siostry”. Antoni P. Czechow, reż. A. Domalik. T. Bagatela. Kraków // Tyg. Powszechny. 2001. № 17. S. 15.
2. Raniewska to ja, albo powściągliwy analityk (rec.). “Wiśniowy sad”. Antoni P. Czechow, reż. R. Brzyk. T. Stary Kraków // Teatr. 2001. № 5. S. 23—25.
Kazimierz Dorczyk (rec.). “Trzy siostry”. Antoni P. Czechow, reż. P. Kruszczyński. T. Fredry. Gniezno // Arkusz. 2001. № 7. S. 9.
Malwina Głowacka (rec.). “Czarny mnich”. Antoni P. Czechow, reż. Kama Ginkes. T. Młodego Widza. Moskwa. Występy w Toruniu // Teatr. 2001. № 7/8. S. 33—34.
Paweł Głowacki (rec.). “Płatonow”. Antoni P. Czechow, reż. G. Wiśniewski. T. Słowackiego. Kraków // Teatr. 2001. № 1. S. 34—35.
Magdalena Hasiuk. Codzienna Apokalipsa (rec.). “Wujaszek Wania”. Antoni P. Czechow, reż. J. Orłowski. T. Jaracza. Łódź // Opcje. 2001. № 5. S. 94—95.
Krzysztof Karwat (rec.). “Trzy siostry”. Antoni P. Czechow, reż. Bogdan Ciosek. T. Zagłębia Sosnowiec // Śląsk. 2001. № 4. S. 68.
Andrzej Ksenicz. Реалии и их художественное отношение в творчестве Антона Чехова // История и современность в русской литературе. Rzeszów, 2001. S. 55—65.
Agnieszka Olczyk. “Lecą wędrowne ptaki...” (rec.). “Trzy siostry”. Antoni P. Czechow, reż. A. Domalik. T Bagatela. Kraków // Teatr. 2001. № 6. S. 31—32.
Aleksandra Rembowska. Ballada o sadzie (rec.). “Wiśniowy sad”, reż. P. Miśkiewicz. T. Polski. Wrocław // Teatr. 2001. № 6 S. 26—27.
Małgorzata Szum. Dalekie światełko w lesie (rec.). “Wujaszek Wania”. Antoni P. Czechow, reż. J. Orłowski. T. Jaracza. Łódź // Teatr. 2001. № 6. S. 28—30.
77
Rene Śliwowski. 1. (rec.) Opowiadania Antoniego Czechowa — Studia nad porozumiewaniem się ludzi. Anna Jędrzejkiewicz Studia Rossica IX. Warszawa, 2000. 269 s. // Przegląd Rusycystyczny. 2001. № 1. S. 72—74.
2. Wybór i posłowie // Antoni Czechow. Wybór opowiadań. Wrocław: Wyd. Śląskie. 2001. S. 503—511.
2002
Jacek Kopciński. Płatonow nam współczesny (rec.). “Płatonow”. Antoni P. Czechow, reż. P. Miśkiewicz. T. Dramat. Warszawa // Teatr. № 4/6. S. 81—83.
Piotr Ossowicz. Łzy Czechowa (rec.). “Wiśniowy sad”. Antoni P. Czechow, reż. P. Miśkiewicz. T. Polski. Wrocław // Notatnik Teatralny. № 26 (2002). S. 15—18.
Janina Sałajczyk (rec.). Opowiadania Antoniego Czechowa — Studia nad porozumiewaniem się ludzi. Anna Jędrzejkiewicz Studia Rossica IX. Warszawa, 2000. 269 s. // Slovanske studie. Studia Slavica. (201) 2002. № 5. S. 350—353.
2003
Hanna Baltyn. Jezioro. (rec.) “Mewa”. Antoni P. Czechow, reż. Zb. Brzoza T. Studio. Warszawa // Teatr. 2002. № 1—2. S. 58.
Lucina Kapala. Чеховский Агасфер. Мифические символы в рассказе “Перекати-поле” // Juvs and Slavs. Jevish-Polish and Jevish-Russian Contacts. Ed. by Wolf Moskovich and Irena Fijałkowska-Janiak. Jerusalem; Gdańsk, 2003. S. 256—267.
Anna Majmieskułow. О зеркале у Чехова // W kręgu literatury rosyjskiej. III. Gdańsk, 2003. S. 113—129.
Barbara Olaszek. Идея “позитивного труда” в творчестве А. П. Чехова // Praca i rosrywka Łódź: Wyd. UŁ. 2003.
Барбара Оляшек. Русское и универсальное. Драмы А. П. Чехова в постановке польского Театра телевидения // Русское слово в мировой культуре. Художественная литература как отражение национального культурно-языкового развития. Т. 2. Русская литература в общекультурном и языковом контекстах. СПб.: изд. “Политехника”, 2003. С. 100—109.
Подготовлено для Чеховской энциклопедии (проект Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры РАН):
Andrzej Ksenicz. Наследие Чехова в Польше.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Iwaszkiewicz J. Czechow 1860—1960 // Nowa Kultura. 1960. № 5.
2 Nodzyńska L. Początki sławy literackiej Czechowa w Polsce; Poźniak T. O pierwzych inscenizacjach sztuk Czechowa w Polsce; Sielicki F. Czechow w Polsce międzywojennej // Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego. 1955. № 3. S. 3—88.
3 Холонина З. М. Произведения Чехова в Польше // Вестник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Серия VII. Филология. Журналистика. 1960. № 2. С. 67—70; Карасиньская И. “Год Чехова” в Польше // Вестник истории мировой культуры. 1961. № 2. С. 63—68; Грибовская А. И. Чехов в польской критике // Вісник Львівського державного університету ім. Івана Франка. Серия філологічна. 1963. № 1. С. 30—39; Захаркин А. Ф. Чехов и литературы западных славянских стран // Очерки по истории русской литературы. Под редакцией А. И. Ревякина. Ч. 2. М., 1967 (Ученые записки Московского педагогического института им. В. И. Ленина. Т. 256). С. 117—140. А. Н. Чуркин утверждает, что «тема “Чехов в Польше и Чехословакии” достаточно подробно разработана проф. А. Л. Григорьевым» (См.: Чехов за рубежом. Библиографическая справка // Статьи о Чехове. Ростов-на-Дону, 1972. С. 61). Однако в работе А. Л. Григорьева “Чехов и прогрессивная зарубежная литература” теме “Чехов в Польше” уделено всего несколько строк (См.: Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Кафедра зарубежной литературы. Т. 121. Л., 1955. С. 5).
4 Холонина З. М. Указ. соч. С. 69.
5 Захаркин А. Ф. Указ. соч. С. 137.
78
6 Czechow A. Dzieła. W jedenastu tomach. Pod redakcja i ze wstępem N. Modzelewskiej. T. 1—6. Warszawa: Czytelnik. 1956—1962. T. 1. 1956. S. 557.
7 Bibliografia rusycystyki polskiej. 1945—1975. Literaturoznawstwo. Warczawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
8 Цыбенко Е. З. Из истории польско-русских литературных связей XIX—XX вв. М., 1978. С. 17.
9 Jakóbiec M. Literatura rosyjska wśród Polaków w okresie pozytywizmu // Pozytywizm. Cz. I. Wroclaw: Ossolineum, 1950. S. 300—301.
10 Сведения о первой публикации Чехова на польском языке разноречивы. Л. Нодзиньская называет рассказ “Человек в футляре” и 1898 г. (в статье опечатка: 1888), но не указывает издание, в котором появился перевод (см. Nodzyńska L. Op. cit. S. 6). Н. Модзелевская в статье “О новых переводах Чехова” также называет этот рассказ под 1898 г., не указывая издания (Instytut Polsko-Radziccki. Информационный бюллетень. Варшава, 1960. № 4. С. 40). Однако в принадлежащей ей же энциклопедической статье утверждается, что “первый перевод Чехова появился в Польше в 1887 г.” и что это был рассказ “Ванька” (Wielka Encyklopedia Powszechna. T. 2. Warszawa, 1963. С. 725). В комментариях к одиннадцатитомному собранию сочинений Чехова на польском языке как самый ранний перевод также указан “Ванька” (См.: Czechow A. Dzieła. T. 4. S. 569), но уже под правильной датой — 1897 г.
11 Захаркин А. Ф. Указ. соч. С. 132.
12 Nodzyńska L. Op. cit. S. 7.
13 Арефьев <Н. В. ?>. Чехов в Германии // Антон Павлович Чехов. Его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. Составил В. Покровский. М., 1907. С. 1053. Впервые заметка Арефьева была опубликована в “Санкт-Петербургских ведомостях” (1904. № 187).
14 См.: Вестник истории мировой культуры. 1961. № 2. С. 106—107.
15 См.: Лейтнеккер Е. Э. Архив А. П. Чехова. Краткое аннотированное описание писем к А. П. Чехову. Вып. 1—2. М., 1939—1941 (по алфавиту корреспондентов).
16 См. наст. том. Кн. 3. Раздел “Чехов в переписке с переводчиками. Польша”.
17 Там же.
18 Czechow A. Zbior Nowel. T. 1—3. Tłum. z ros. Jozef Bissinger. Lwów, 1903—1907 (Wyd. Biblioteka Powszechna W. Zuckerkandla).
19 Wybór nowel zagranisznych autorow. Krakyw, 1903.
20 Czechow A. Opowiadania (Wybór). Przełozył i słowem wstępnym opatrzył Józef Jankowski Warszawa: Wyd. M. Borkowski, 1904.
21 Nodzyńska L. Op. cit. S. 4.
22 Czechow A. Novele. Kraków: Wyd. Spólka wydawnicza polska, 1905.
23 Czechow A. Opowiadania. Tłum. T. K. T. 1—2. Warszawa: Wyd. F. Sikorskiego, 1906. (Biblioteka Dzieł Wyborowych).
24 Czechow A. Wybór 20 obrazków. satyr. humoresek i karykatur. Poznań: Wyd. Z. Slupski, 1906.
25 Jabłonowski W. (Rec.). Czechow Antoni. Opowiadania (Wybór). Przełozyl i słowem wstępnym opatrzył Józef Jankowski // Ksiązka. 1905. № 2. S. 64.
26 Mazanowski A. Studia. Gorki. Czechow. Wieresajew. Andrejew. Kraków: W. L. Anczyc, 1907. S. 79.
27 Grzymała-Siedlecki A. Antoni Czechow. Fragment studium // Świat słowiański. T. 1. Warszawa, 1907. S. 282—283.
28 Jakóbiec M. Antoni Czechow i literatura polska // Slavia orientalis. 1961. № 3. S. 300.
29 Pietkewicz Z. Wspólczesna beletrystyka (Antoni Czechow) // Prawda. 1889. № 37. S. 440—441.
30 Wielka Encyklopedia Ilustrowana. T. XIII. Warszawa, 1894. S. 739.
31 Źeromski S. Dzienniki 1882—1891. T. 1—3. Warszawa, 1953—1956.
32 Л. А. Злобина ошибочно предполагала, что у Чехова уже было собрание сочинений.
33 ОР РГБ. Ф. 331, 45. 28, л. 1—2. Ответные письма Чехова к Злобиной неизвестны.
34 Prawda. 1899. № 12. S. 140.
35 Krytyka. 1899. Z. 6. S. 331.
36 Nodzyńska L. Op. cit. S. 10.
37 Dobek B. Antoni Czechow // Tygodnik Słowa Polskiego. 1902. № 12.
38 Nakoneczny W. Antoni Czechow (Wspomnienie pośmiertne) // Czas. 1904. № 186.
39 Pietkiewicz Z. Antoni Czechów // Ogniwo. 1904. № 8. S. 727—728.
40 Belmont L. Antoni Czechow (Wspomnienie pośmiertne) // Prawda. 1904. № 36. S. 429.
41 Ibid. S. 430.
42 Kraj. 1904. № 29. S. 5.
43 Грибовская А. И. Указ. соч. С. 33.
44 Chimera. 1905. № 2. S. 23.
79
45 Brükner A. O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta // Szkic literacki. Lwów; Warszawa, 1906.
46 Захаркин А. Ф. Указ. соч. С. 134—135.
47 Brükner A. Op. cit. S. 16—17.
48 Ibid.
49 См.: Чехов и его среда. Л., 1930. С. 271.
50 Brzozowski S. Kultura i źycie. Zagadnienia sztuki i twórczośći. W wałce o światopogląd. Lwów, 1907. S. 90—118.
51 Mazanowski A. Gorki. Czechow. Wieresajew. Andrejew. Studia. Kraków, 1907. S. 96—103.
52 Grosman K. Dusze współczesne. Czechow (Studium). Warszawa, 1907. S. 5—16.
53 Jakóbiec M. Antoni Czechow i literatura polska (см. примеч. 28). S. 299.
54 Modzelewska N. Antoni Czechow // Czechow A. Dzieła (см. примеч. 6). T. 1. S. 78.
55 Nodzyńska L. Op. cit. S. 13—14.
56 Rittner T. Czechowa “Cienie śmierći” // Czas. 1904. № 179.
57 Nodzyńska L. Op. cit. S. 16.
58 A. W. Śmierć Antoniego Czechowa // Gazeta Lwowska. 1904. № 177.
59 Jabłonowski W. Op. cit. (см. примеч. 25). S. 64.
60 Nodzyńska L. Op. cit. S. 20.
61 Pinski Wl. Antoni Czechow // Przegląd Tygodniowy. 1904. № 20. S. 357—359.
62 Jakóbiec M. Antoni Czechow i literatura polska. S. 300.
63 Rm. “Trzy siostry” A. Czechowa // Kraj. 1901. № 3.
64 Poźniak T. Op. cit. S. 29.
65 Echo muzyczne, teatralne i artystyczne. 1901. № 10. S. 118 (б/п).
66 Ibid. № 13. S. 154 (б/п).
67 Ibid. S. 317 (б/п).
68 Czechow A. Mewa. Lwów; Złoczów, 1904.
69 Poźniak T. Op. cit. S. 33—34.
70 Jaracz S. Wspomnjenia. Warszawa, 1938. S. 374.
71 Rakowski K. Teatr rosyjski w Wiednu // Czas. 1906. № 96.
72 Bogusławski W. Pod znakiem tymczasowości // Biblioteka warszawska. 1906. T. III. S. 99—100.
73 Цит. по: Lorentowicz J. Stanislawski i jego teatr w Warszawie. Warszawa, 1938. S. 372.
74 Zelwerowicz A. Mój ukochany “Wujaszek Wania” // “Wujaszek Wania”. Program teatralny. Warszawa, 1953. S. 13.
75 Prokesh W. “Wujaszek Wania” A. Czechowa // Nowa Reforma. 1906. № 17.
76 “Czajka” A. Czechowa // Naprzód. 1907. № 62 (б/п).
77 Zelwerowicz A. Op. cit. S. 14—16.
78 Poźniak T. Op. cit. S. 51.
79 Zelwerowicz A. Op. cit. S. 14.
80 Rakowski K. Wujaszek Wania // Czas. 1906, wyd. wieczorowe. № 17.
81 Stefański Z. Teatr krakówski // Przegląd Polski. 1906. № 3.
82 Prokesh W. Op. cit.
83 Stefański Z. Op. cit. S. 396.
84 Makuszyński K. “Wujaszek Wania” A. Czechowa // Słowo Polskie. 1906. № 94.
85 Poźniak T. Op. cit. S. 52—53.
86 Makuszyński K. Op. cit.
87 S. K. Wujaszek Jaś // Świat. 1908. № 25.
88 См. примеч. 27.
89 Rakowski K. “Wiśniowy sad” A. Czechowa // Czas. 1906, wyd. wieczorowe. № 253.
90 Z teatru // Głos narodu. 1906. № 482 (б/п).
91 Poźniak T. Op. cit. S. 48.
92 Dąbrowski K. Materialy do historii Teatru Polskiego. 1896—1918 // Kronika miasta Poznania. Poznań, 1950. № 4. S. 389.
93 См.: Fallek W. Scena łódzka pod dyrekcja Aleksandra Zelwerowicza. Karta z dziejów teatru łódzkiego. Łodz, 1937. S. 33.
94 Flach J. Teatr krakówski // Przegląd Polski. 1907. Kwar. 4. 173—174.
95 <Rec.>. “Czajka” A. Czechowa // Naprzód. 1907. № 62 (б/п).
96 W. Pr. Antoni Czechow: “Czajka” // Nowa Reforma. 1907. № 103.
97 <Rec.> “Czajka” A. Czechowa // Krytyka. 1907. T. 1. S. 561 (б/п).
98 Pinski Wl. Antoni Czechow // Przegląd Tygodniowy. 1904. № 31. S. 368—369; № 33. S. 393—394.
99 Poźniak T. Op. cit. S. 50.
100 См. примеч. 27. S. 286.
80
101 Chrzanowski I. Życie duchowe Rosji w swietle rosyjskiej literatury pięknej // Przegląd Narodowy. 1908. № 3. T. 1. S. 449.
102 Polskie Towarzystwo Dramatyczne. “Czajka” A. Czechowa // Scena i sztuka. 1910. № 24. S. 37 (б/п).
103 Polskie Towarzystwo Dramatyczne // Scena i sztuka. 1908. № 57. S. 9 (б/п).
104 Oświadczyny — żart sceniczny w 1 akcie A. Czechowa. Spolszczyl A. Dzióbkiewicz. Lwów, 1912. S. 25.
105 Poźniak T. Op. cit. S. 62.
106 См.: Jakóbiec M. Antoni Czechow i literatura polska. S. 303.
107 Sielicki F. Op. cit. (см. примеч. 2). S. 68.
108 Czechow A. Partia winta. Warszawa: Rój, 1926.
109 Czechow A. Śmierć urzędnika. Warszawa: Biblioteka Groszowa, 1926.
110 Czechow A. Dramat na polowaniu. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa, 1927; Czechow A. Żywy towar. Poznań: Wyd. K. Rzepecki, 1927.
111 Czechow A. Zapałka szwedzka. Warszawa: Książka, 1927.
112 Czechow A. Opowieść nieznajomego. Warszawa: Biblioteka Groszowa, 1927.
113 Czechow A. Naga narzeczona. Tłum. W. D. Warszawa: Rój, 1927.
114 Czechow A. “Dziewczę z Kabaretu” i inne arcydzieła nowelistyczne wielkich pisarzy. Oprac. F. Mirandola. Krakow, 1929.
115 Рассказы “Знакомый мужчина” (“Прекрасная Ванда”), “Загадочная натура” (“В поезде”) вошли в книгу: Twain M. Pamiętnik Adama w raju. Warszawa, 1925. Рассказ “Мститель” (“Хотел убить жену”) — в книгу: Twain M. Naiwększy z detektywów. Warszawa, 1926.
116 Sielicki F. Op. cit. S. 75.
117 Czechow A. Podoficer Priszibiejew / Wielka Literatura Powszechna. T. 6. Warszawa, 1933. S. 676—678.
118 Czechow A. Wiśniowy sad. Przekład i wstęp K. Magnickiego. Warszawa, 1931.
119 Blüth R. Literatura rosyjska // Rocznik Literacki. 1932. S. 148.
120 Czechow A. Pawilon szósty. Warszawa: Rój, 1935.
121 Parnicki T. Czechow po ćwierćwieczu // Wiadomości Literackie. 1936. № 19. S. 4.
122 Czechow A. Pawilon szósty // Bibliotekarz. 1936. № 12. S. 168 (б/п).
123 Makarewicz T. Przekłady z literatur obcych // Nova Książka. Warszawa, 1936. № 4. S. 224.
124 Książka w bibliotece. Pod red. W. Dąbrowskiej. Warszawa, 1934. S. 245.
125 Orda J. Wujaczek Wania // Środy Literackie. Wilno, 1936. № 5.
126 Chodecki J. Antoni Słonimski w sylwetce // Teatry Miejskie we Lwówie. Sezon 1932/33. S. 7.
127 Dybowski R. Wrazenia z teatrów moskiewskich // Przegląd Warszawski. 1922. № 5. S. 204.
128 Blüth R. Literatura rosyjska // Rocznik Literacki. 1935. S. 105.
129 Kridl M. Glówne prądy literatury europejskiej. Warszawa, 1931. S. 123.
130 Wielka Ilustrowana encyklopedia Powszechna. Wyd. Gutenberga. T. 3. Krakow, 1929. S. 220.
131 Blüth R. Op. cit. S. 164.
132 Sielicki F. Op. cit. S. 65.
133 Listy Czechowa do żony // Wiadomości Literackie. 1934. № 27 (б/п).
134 Brückher A. Historja literatury rosyjskiej. T. II. Lwów; Warszawa; Krakow, 1922. S. 363—364.
135 Brückher A. Wielka literatura powszechna. T. IV. Warszawa, 1933. S. 490.
136 Brückher A. Historja... S. 365—366.
137 Kridl M. Op. cit. S. 123.
138 Pauszerówna G. Antoni Czechow // Głos Prawdy. 1929. № 309. S. 508.
139 Dąbrowska M. Na niskich tonach // Wiadomości Literackie. 1928. № 26.
140 Fiszer W. Z literatury rosyjskiej // Przegląd Warszawski. 1923. № 24. S. 406.
141 Pauszerówna G. Op. cit. S. 508.
142 Brückher A. Historja... S. 366.
143 Rodulski W. Szkic o Teatrze Rosyjskim // Życie Teatru. 1927. № 4. S. 29.
144 Gorczyński B. Chechow w “Teatrze Polskim” // Teatr. 1937. № 5. S. 19.
145 Kończyc T. Na marginesie występów trupy Stanisławskiego // Scena Polska. 1929. № 12. S. 17.
146 Słonimski A. Moskiewski Teatr Artystyczny w Warszawie // Wiadomości Literackie. 1929. № 21.
147 Sielicki F. Op. cit. S. 77.
148 Gorczyński B. Op. cit. S. 19—21.
149 Gorczyński B. Od doktora medycyny do “Wiśniowego sadu” // Teatr. № 6. S. 6—9.
150 Radziukinas H. Czechow i jego teatr // Prosto z mostu. 1937. № 18. S. 4.
81
151 Sielicki F. Op. cit. S. 79.
152 Czechow A. Wiśniowy sad (см. примеч. 118). S. 4—20.
153 Książka w bibliotece. Warszawa, 1934. S. 245.
154 A. S. Trzy premiery // Wiadomości Literackie. 1937. № 20.
155 Wierzyńsky K. W garderobie duchów. Lwów, 1938. С. 305—312.
156 Sezon wiosenny Teatru Polskiego i Małego // Teatr. 1937. № 8. S. 12 (б/п).
157 Цит. по: Boy-Żeleński T. Murzyn zrobił... Warszawa, 1970. S. 97—101.
158 Radziukinas H. Teatr Rosyjski // Prosto z mostu. 1938. № 52. S. 5.
159 Sielicki F. Op. cit. S. 83.
160 W. N. Wrazenia teatralne // Tygodnik Wileński. 1925. № 9. S. 9.
161 Zahradnik J. Wujaszek Wania // Słowo Polskie. 1926. № 217.
162 Kończyc T. Op. cit. S. 17.
163 Radziukinas H. Rosyjskie Studio Dramatyczne // Prosto z mostu. 1937. № 31. S. 7.
164 Sielicki F. Op. cit. S. 85.
165 Zarembina N. Ciepłe kluski // Teatr Szkolny. 1936/1937.
166 Husarski K. Dwadzieścia lat istnienia Teatru Polskiego // Wiedza i Życie. 1933. № 7. S. 528.
167 Wube. Popis Państwowej Szkoly dramatycznej // Życie Teatru. 1925. № 26. S. 237.
168 Fiszer W. Antoni Czechow (w 30-lecie zgonu) // Tygodnik Ilustrowany. 1934. № 31. S. 619.
169 Modzelewska N. Antoni Czechow // Czechow A. Dzieła... (см. примеч. 6). T. 1. S. 75.
170 Ивашкевич Я. Я Вас очень люблю // Лит. газета. 1960. № 12.
171 Ивашкевич Я. Собр. соч.: В 8 т. T. 8. М., 1980. С. 380—381.
172 Iwaszkewicz J. Czechow. 1860—1960 (см. примеч. 1).
173 Kowalczykowa A. Dąbrowska jako tłumacz Czechowa (Z listów Marii Dąbrowskiej) // Słavia orientalis. 1972. № 2. S. 177—188.
174 Домбровская М. Избранное. M., 1974. С. 438—440.
175 Модзелевская Н. О новых польских переводах Чехова (см. примеч. 10). С. 47.
176 Pollak S. Nowe wydania Czechowa // Nowa Kultura. 1954. № 28.
177 Czechow A. Dzieła... (см. примеч. 6).
178 Модзелевская Н. О новых польских переводах Чехова. С. 52.
179 Fiszer Wl. Czechow // Wiedza i Życie. 1948. № 3. S. 271—275; Truchanowski K. Poeta glębokiego nurtu (Antoni Czechow) // Listy z teatru. 1948. № 5—7.
180 Wyszomirski J. Antoni Czechow. Warszawa, 1954; Powołocki St. Droga życiowa A. Czechowa // Wiedza i Życie. 1954. № 8. S. 513—518; Źołątkowska Z. Antoni Czechow // Poradnik Bibliotekarza. 1954. № 11. S. 241—247; Pollak S. (Wstęp). A. Czechow. Wieczór literacki. Warszawa, 1954; Poltorzycka Dz. (Poslowie). A. Czechow. Step. Warszawa, 1955; Wesolowska M. Жизненный путь и творчество А. П. Чехова // Język Rosyjski. 1955. № 4. S. 4—12; Wyszomirski J. Dwie podróze Czechowa // Twórczość. 1955. № 3. S. 92—97.
181 Modzelewska N. (Wstęp) // A. Czechow. Utwory wybrane. T. 1. Warszawa, 1953; Modzelewska N. (Posłowie) // Czechow A. “Księżna pani” i inne opowiadania. Warszawa, 1956 и др.
182 Iwaszkiewicz J. Rocznica droga i wazna // Życie Warszawy. 1954. 3. VII.
183 Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego. 1955. № 3.
184 Leszczyński T. O Antonim Czechowie. Warszawa. Wiedza Powszechna, 1955.
185 Jermiłow W. Antoni Czechow. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
186 Mackiewicz St. Muchy chodzą po mózgu. Kraków: Wyd. Lit, 1957.
187 Lem S. O Dostojewskim niepowściągliwie // Nowa Kultura. 1957. № 25; Ларин С. Достоевский под пером Ст. Мацкевича // Вопросы литературы. 1959. № 2. С. 229—238.
188 Modzelewska N. Chodzą muchy, chodzą... // Twórczość. 1958. № 5. S. 100—114.
189 Śliwowski R. Motywy żydowskie w twórczośći Czechowa // Biuletyn Żydowskiego instytutu historycznego. Warszawa, 1963. № 47—48. S. 79—92.
190 Mackiewicz St. Odeszli w zmierzch. Wybór pism. 1916—1966. Warszawa: Instytut wydawniczy PAX, 1968. S. 299—326.
191 Modselewska N. Wstęp // Czechow A. Dzieła... (см. примеч. 6).
192 Modzelewska N. Rycerze wiecznej rozterki // Przegląd Kulturalny. 1958. № 45; то же на русском яз.: Модзелевская И. Рыцари вечного разлада // Новый мир. 1960. № 1. С. 186—197.
193 Анастасьев А. Реплика критику // Там же. С. 198—203.
194 Tarn A. Konfrontacij. Czechow i MCHAT // Dialog. 1958. № 8. S. 147, 149.
195 Правда. 1960. № 31.
196 Ивашкевич Я. Собр. соч.: В 8 т. T. 8. С. 266—267.
197 Iwaszkiewicz J. Czechow. 1860—1960 (см. примеч. 1).
198 Вопросы литературы. 1965. № 12. С. 133.
199 Кручковский Л. Пьесы. Статьи. М.: Искусство, 1974. С. 370—371.
200 Тексты докладов опубликованы в сборнике: Antoni Czechow. Materialy sesji zorganizowanej przez Zakład Słowianoznawstwa PAN i Instytut Polsko-Radziecki. Warszawa, 1961.
82
201 Jakóbiec M. Antoni Czechow i literatura polska (см. примеч. 28). S. 305—306.
202 Grzegorzyk P. Marginalia czechowowskie. Tolstoj i Czechow // Twórczość. 1960. № 34. S. 165—166.
203 Język Rosyjski. 1960. № 3. S. 1—6.
204 Ibid. 1962. № 4. С. 3—9.
205 Grzegorczyk P. Mlody Czechow // Język Rosyjski. 1960. № 1. S. 6—9; Sliwowski R. Wokól mlodego Czechowa // Slavia orientalis. 1963. № 3. S. 375—382.
206 Śliwowski R. Esseje o Czechowie // Slavia orientalis. 1960. № 4. S. 637—640; Salajczuk J. (Rec.) // Ibid. 1961. № 4. S. 622—623; Семчук А., Шаталов С. Работы А. Ф. Захаркина о А. Чехове // Język Rosyjski. 1968. № 5. S. 50—52; Białokozowicz B. Nowe prace radzieckie o Aleksandrze Ostrowskim i Antonim Czechowie // Ibid. 1969. № 1. S. 53—55; Zakiewicz Zb. (Rec.) // Słavia orientalis. 1963. № 2. S. 286—288.
207 Roskin A. A. Czechow. Opowieść biograficzna. Warszawa, 1962.
208 Śliwowski R. Czechow i Katarzyna Mansfield // Twórczość. 1959. № 3. S. 179—183.
209 Śliwowski R. Czechow w krytyce i literaturze zachodnieuropiejskiej // Język Rosyjski. 1960. № 1. S. 19—24; Śliwowski R. Z problematyki recepcji Czechowa na Zachodzie // Słavia orientalis. 1961. № 3. S. 307—320.
210 Laffitte S. Tchekhov par lui-même. Paris, 1955 (2-е изд. — 1957).
211 Czechow w oczach krytyki światowej. Wybór dokonal Rene Śliwowski. Warszawa. PAN, 1971.
212 Drawicz A. (Rec.) // Teatr. 1972. № 9. S. 18; Szybist M. (Rec.) // Nove Książki. 1972. № 13. S. 57—59.
213 Pisarse i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce. Wroclaw; Warszawa; Gdańsk; Kraków. Zakład narodowy imienia Ossolińskich wydawnictwa PAN, 1975. S. 303—325.
214 Śliwowski R. Antoni Czechow. Warszawa, 1965.
215 Czudakow A. Dobra książka o Czechowie // Literatura Radziecka. 1967. № 1. S. 172—176.
216 Iwaszkiewicz J. (Rec.) // Życie Warszawy. 1965. № 22; Nieuwazny F. Rzecz o Czechowie // Nowe Książki. 1965. № 18. S. 843; Kowalewski S. (Rec.) // Dialog. 1966. № 8. S. 108—111; Pollak S. (Rec.) // Życie literackie. 1967. № 18. S. 10.
217 Śliwowski R. Od Turgienewa do Czechowa (Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej polowy XIX wieku). PIW. 1970.
218 Сливовский Р. Польская инсценировка “Пьесы без названия” (“Платонов”) А. Чехова // Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 386.
219 Там же. С. 389.
220 Śliwowski R. Od Turgienewa do Czechowa... S. 454.
221 Ibid. S. 489.
222 Ibid. S. 528.
223 Ibid. S. 513.
224 Ibid. S. 516.
225 Чудаков А. Полвека русской драматургии // Вопросы литературы. 1971. № 9. С. 214—219.
226 Бройде Э. К проблеме чеховского комизма // Страницы истории русской литературы. С. 78.
227 Nieuwazny F. Uwagi o Kunszcie nowelistycznym Antoniego Czechowa. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci // Polonistyka. 1974. № 5. S. 10—15.
228 Pawlak E. Syberia. Czechow i wielka miłość // Miesięcznik Literacki. 1975. № 11. S. 69.
229 Koprowski J. Na wschodzie i na zachodzie. Lodz, 1970.
230 Warneńska M. Wieczory literackie. Lublin, 1975.
231 Modzelewska N. Pisarz i milość. Warszawa, 1975. S. 321.
232 Sałajczyk J. (Rec.) // Słavia orientalis. 1972. № 2. S. 217—218; Sławęcka E. (Rec.) // Ibid. 1973. № 4. S. 490—493; Dworski A. (Rec.) // Ibid. S. 483—485.
233 Przegląd Rusycystyczny. 1980. № 1. S. 70.
234 Dąbrowski B. Słowo aktora // Przyjazń. 1954. 5. IX.
235 Шидловский Р. Любовь к писателю братского народа // Славяне. 1954. № 8. С. 39.
236 Twórczość. 1949. № 8. S. 121 (б/п).
237 Puzyna K. Miłowy Kamień // Twórczość. 1950. № 4—5. S. 120.
238 Śliwowski R. Od Turgienewa do Czechowa... S. 529.
239 Teatr Narodowy. Wiśniowy sad. Program teatralny. Warszawa, 1964. S. 12.
240 Погодин Н. На спектакле “Дядя Ваня” // Театр. 1954. № 12. С. 71—72.
241 Modzelewska N. O nową interpretację sztuk Czechowa // Twórczość. 1957. № 3. S. 98—109.
242 Modzelewska N. Teatr Czechowa — współczesny teatr. Warszawa, 1960.
243 Театр. 1960. № 1. С. 42.
83
244 Przewoska H. Bohater nieokreśloności // Stolica. 1962. № 39; Jarecki A. Czechow i inni // Sztandar młodych. 1962. № 213; Potanica A. “Platonow” Czechowa // Słowo Powszechne. 1962. № 214; Piwińska M. Don Zuan N-tej guberni // Polityka. 1962. № 37; Sieczkowski M. Platonow // Przyazń. 1962. № 29.
245 Kosińśka M. Młodzieńcza sztuka Czechowa // Życie Warszawy. 1962. № 212; Frühling J. Młodzieńczy Czechow // Tygodnik demokratyczny. 1962. № 37; Jasińśka Z. Zastoj? Kryzys? Poszukiwania? // Tygodnik Powszechny. 1962. № 41; Mikołajtis Z. Kto winen? // Dziennik Ludowy. 1962. № 227.
246 Сливовский Р. Польская инсценировка “Пьесы без названия” (см. примеч. 218). С. 389.
247 Wirth A. Donżuanizm jako krytyka epoki // Nowa Kultura. 1962. № 37.
248 Koënig J. Zamiast Czechowa // Przegląd Kulturalny. 1962. № 38. Попытку собственной интерпретации “Платонова” Е. Кениг предпринял в интересном исследовании “W stronie Płatonowa” // Diałog. 1962. № 5. S. 115—123.
249 Strózecka E. Klopoty z Płatonowem // Teatr. 1962. № 11. S. 4—7.
250 Starczyński K. Sztuki rosyjskie i radzieckie na scenie Teatru Dramatycznego // Studia Połono-Słavica-Orientalia. Acta litteraria № 2. Wrocław i Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1976. S. 244—246.
251 Сливовский Р. Польская инсценировка “Пьесы без названия” (см. примеч. 218). С. 390.
252 Szydłowski R. Teatr poetycki Adama Hanuszkiewicza // Trybuna Ludu. 1977. № 22.
253 Misiorny M. Jaśnie pan Nikt // Trybuna Ludu. 1977. № 21.
254 См.: Ostrowska R. Ten wariat Płatonow // Głos Wybrzeża. 1963. № 289; Dulęba M. Ten wariat Płatonow // Dziennik Bałtycki. 1963. № 294.
255 Сливовский Р. Польская инсценировка “Пьесы без названия”. С. 391—392.
256 Wirth A. Trzy siostry // Nowa Kultura. 1963. № 10.
257 Śliwowski R. Od Turgienewa do Czechowa... (см. примеч. 217). S. 520.
258 Rudnicki K. Czechow i reżyserzy // Diałog. 1963. № 6.
259 Piwińska M. Iwanow // Teatr. 1964. № 4. S. 3—4.
260 См.: Czechow i inni // Trybuna Ludu. 1977. № 265 (б/п).
261 Bajdor J. Gorzka komedia // Ibid. 1978. № 51.
262 Szydłowski R. Prawda życia i prawda sztuki // Ibid. 1979. № 298.
263 Dziś polska prapremiera “Kusego” Czechowa // Życie Warszawy. 1980. № 75.
264 Szydłowski R. Klucz od Czechowa // Trybuna Ludu. 1977. № 290.
265 Radość z Czechowa // Express wieczorowy. 1981. № 95 (б/п).
266 Kosiński R. Czechow w Nowym // Trybuna Ludu. 1981. № 99; Chynowski P. Raj dla aktorów // Życie Warszawy. 1981. № 99.
267 См.: Pasje czechowowskie // Trybuna Ludu. 1977. № 299 (б/п); “Dramat na polowaniu” // Ibid. 1979. № 273 (б/п); Grzelecki St. Odkryte piękno // Życie Warszawy. 1979. № 237 (б/п).
Редакция приносит благодарность за помощь в подготовке к печати этого обзора и некоторых других статей заведующему отделом «Научно-библиографический центр» Библиотеки иностранной литературы Ю. Г. Фридштейну и научному сотруднику Л. А. Мартыновой.
Сноски к стр. 15
1* Зов “к небесам” (лат.; букв.: “высокий”, “досточтимый”).
Сноски к стр. 18
1* Чистая радость творчества (нем.).
Сноски к стр. 21
1* Свободного театра (франц.).
2* Свободной сцены (нем.).
Сноски к стр. 36
1* Короткого рассказа (англ.).
Сноски к стр. 46
1* Соблюдая все пропорции (франц.).