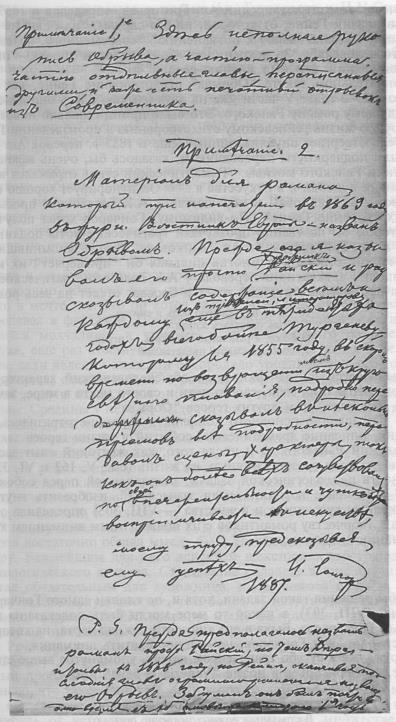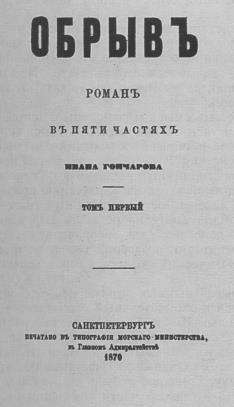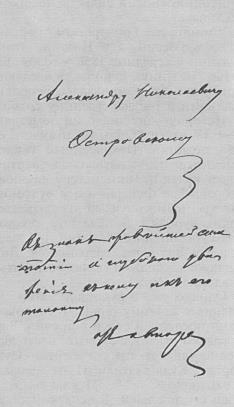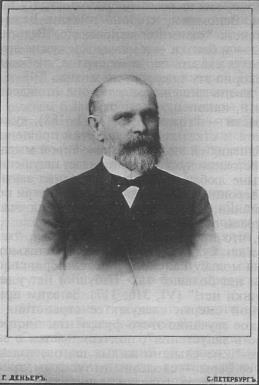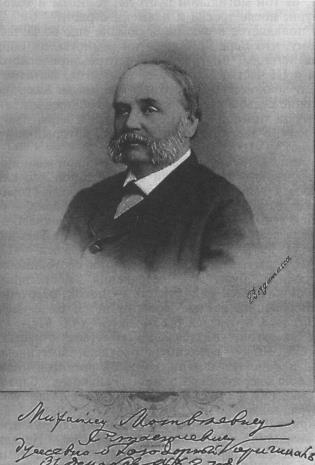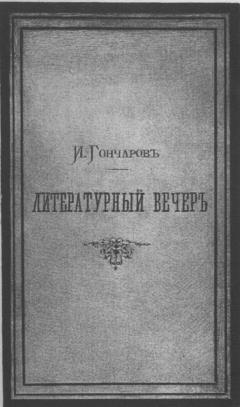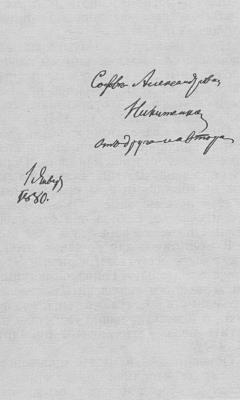- 83 -
“СООБРАЗНО ВРЕМЕНИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ...”
(Творческая история романа “Обрыв”)
Исследование Л. С. Гейро
Изучение творческой истории романа “Обрыв” возможно в двух направлениях. Первое — рассмотрение (на основании сохранившихся документов) разных этапов создания романа, начиная с 1849 г., когда впервые возник его замысел, и кончая созданием критического эссе Гончарова «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”» (1872). Второе — более глубокое — исследование творческого движения писателя на протяжении более чем двадцати лет, ознаменованных в его личной судьбе и в жизни России крутыми и неожиданными поворотами, не поддающимися однозначно-прямолинейной оценке. В первом случае перед нами событийно-хронологическая канва. Во втором — путь и судьба одного из самых загадочных русских писателей XIX в.
Попытаемся совместить два эти аспекта с тем, чтобы подвергнуть историю создания романа разностороннему анализу и прийти к необходимому для подведения некоторых итогов синтезу.
Основное внимание уделяется тому пути, которым романист долго и мучительно, отбрасывая один за другим разные варианты, шел к окончательному решению. Так вырисовывается объективная картина возникновения замысла, его движения, столкновения порою взаимоисключающих идей, выявляются периоды творческих взлетов, когда роман представляется автору близким к завершению, и — напротив — затяжных пауз, исполненных апатии, безнадежности или отчаяния, с характерным гончаровским признанием-вздохом: “бросаю перо”. Обнаруживается ряд общественных и личных обстоятельств, стечение которых оказывает на писателя по временам обнадеживающее, по временам — удручающее воздействие. Определяются личные симпатии и антипатии романиста, его привычки, пристрастия, его реакция на так называемые “мелочи быта”, житейские неурядицы, которые стороннему наблюдателю представляются незначительными, а для Гончарова были решающими в формировании его внутреннего психологического состояния и, следовательно, — творческого тонуса. В этом смешении разнородных и разномасштабных фактов общественного и личного бытия писателя вырисовываются факты главные и второстепенные, обстоятельства случайные и закономерные. Но в центре всегда стоит единственно важное: упорное и настойчивое следование своему призванию как исполнению общественного и нравственного долга. Преодолевая множество субъективных и объективных препятствий, среди которых на первом месте — всегдашнее отсутствие времени для творческой деятельности (“весь век на службе из-за куска хлеба!”1*), Гончаров упорно продолжает “вдумываться
- 84 -
в суть жизни, в ее коренные основы” (VII, 369) и, в конце концов, завершает свой роман.
В основу предлагаемой работы положены документальные материалы. Это прежде всего — рукописные варианты романа, занимающие почти двадцать печатных листов, т. е. около трети общего объема печатного текста (всего черновая рукопись “Обрыва” состоит из более чем пятисот двойных листов большого формата1*). Кроме того, документальную основу данного исследования составляют письма Гончарова (в том числе неопубликованные), его статьи, а также мемуарные и эпистолярные свидетельства современников писателя2*.
Наличие ряда трудов, посвященных общим и частным вопросам истории создания “Обрыва”, избавляет от необходимости рассматривать те особенности творческой работы романиста, которые привлекали внимание исследователей, начиная с первых десятилетий XX в., когда Е. А. Ляцкий впервые ввел в читательский обиход фрагменты черновой рукописи романа, и до наших дней1.
Общее название настоящей работы, как и названия всех четырех ее глав ориентированы на важнейшие аспекты эволюции гончаровского замысла и, являясь либо точной цитатой из сочинений романиста, либо парафразой его принципиально важных высказываний, определяют основные направления творческого движения писателя.
В 1879 г. в статье “Лучше поздно, чем никогда” Гончаров заметил: “Всего страннее, необъяснимее кажется в этом творческом процессе то, что иногда мелкие, аксессуарные явления и детали <...> как будто сами собою группируются около главного события и сливаются в общем строе жизни!” (VIII, 138). Несколько ранее, анализируя картину И. Н. Крамского “Христос в пустыне”, он подчеркнул, что в искусстве важен “тот образ, краски и тон, какой установил исторический взгляд и какой осветила фантазия” (VIII, 74). Изменение “микромира” последнего гончаровского романа в связи с эволюцией его “макромира”, т. е. общего замысла, подверженного разнообразным историческим и социальным воздействиям, до сих пор или вовсе не исследовалось, или трактовалось в узко социологическом аспекте в связи с так называемым политическим “поправением” писателя в 1860-х годах. Эволюция замысла романа в целом, как и отдельных его героев, изучалась преимущественно в плане идейной эволюции писателя. “Диалектика воззрений и творчества Гончарова была сложна, его творческий путь труден и непрямолинеен. Вовлекаясь в общественную борьбу, он терял равновесие, допускал уклоны вправо, становился в противоречие с самим собою. Порой он подпадал под прямое давление реакционных правительственных и общественных кругов”, — писал Н. К. Пиксанов2. Синхронные формированию и воплощению замысла изменения поэтики “Обрыва” рассматривались в основном с негативной оценкой. Своеобразие романа нуждалось в объяснении, и его находили в движении Гончарова вспять, от реализма к романтизму: “...реалистический метод писателя пришел в явное противоречие с мировоззрением великого романиста, и преодолеть это противоречие Гончаров не смог”3. “Но опасности для романиста, — утверждал другой исследователь, — были не столько в романтизме, который как-никак сообщал действию большую увлекательность, сколько в реакционной политической тенденции”4. Из сопоставления последнего романа Гончарова с произведениями Тургенева, Л. Толстого, Достоевского делался вывод: “Новый строй русской жизни не захватил его в свой
- 85 -
ДОМ А. А. КИРМАЛОВОЙ, СЕСТРЫ ГОНЧАРОВА
(С. ХУХОРЕВО АРДАТОВСКОГО УЕЗДА, СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ)Фотография М. Ф. Суперанского (?). Конец XIX — начало XX в.
Литературный музей, Москва
Во время пребывания на родине в 1849 г. Гончаров посетил
свою сестру Александру Александровну Кирмалову
СИМБИРСК. ДОМ, ГДЕ РОДИЛСЯ ГОНЧАРОВ
(ДО ПЕРЕСТРОЙКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В 1898 ГОДУ)Фотография Степанова. Симбирск
Литературный музей, Москва
«План романа “Обрыв” родился у меня в 1849 году на Волге, когда я после четырнадцатилетнего
отсутствия в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости,
новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провинциальной жизни — все это расшевелило
мою фантазию, и я тогда же начертил программу всего романа, когда в то же время оканчивался
обработкой у меня в голове другой роман — “Обломов”» («Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”»)
- 86 -
водоворот и не вызвал в нем той глубочайшей ломки, которую пережили прозаики пореформенной эпохи. Талант Гончарова оказался неподатлив на впечатления, возбуждаемые современной ему действительностью”5.
Так “Обрыв” оказывался на обочине движения русской литературы к нравственно-философскому роману. Лишь в самое последнее время были сделаны попытки уйти от понимания Гончарова преимущественно как обличителя “обломовщины” и ввести его в круг писателей, задумывавшихся о проблемах общечеловеческих, осмыслить его творческое наследие как явление исключительного эстетического, нравственного и философского масштаба, рассмотреть его героев в кругу “вечных образов” мировой литературы6. Наука о Гончарове готова была пойти по этому пути еще в 20-х годах нашего века, однако небрежение собственными духовными богатствами привело к тому, что только теперь чудом сохранившаяся рукопись книги выдающегося русского филолога Б. М. Энгельгардта, впервые наметившего этот путь еще 70 лет назад, печатается на страницах настоящего тома “Литературного наследства”. Появилась возможность вернуться к принадлежащим еще XIX в. характеристикам, данным творчеству Гончарова такими разными по своим политическим, философским и эстетическим воззрениям критиками, как А. В. Дружинин, Ап. Григорьев, В. В. Чуйко, Д. С. Мережковский, и объективно оценить их вклад в литературу о Гончарове. В аспекте изучения творческой истории “Обрыва”, т. е. в осмыслении пути, которым шел Гончаров от частного к общему, от явления к сущности, особое значение имеет высказывание Мережковского: “Каждый из характеров, созданных Гончаровым, — громадное идеальное обобщение человеческой природы. Обобщение, скрытая идея поднимают на недостижимую высоту микроскопические подробности быта, делают их художественными, прекрасными и ценными <...> Он разлагает художественным анализом ткань жизни до ее первоначальной клетки, из которой вышло все, весь организм общества. Вместе с тем он обладает могучей способностью творческого синтеза: воображение его создает отдельные миры эпопей и потом соединяет их в стройные системы. Он показывает, что одним и тем же вечным законам добра и зла, любви и ненависти, которые производят в истории перевороты, правят солнцами, подчинены и мельчайшие, для толпы незримые, атомы жизни”7.
Первая глава нашего исследования посвящена наиболее, казалось бы, изученной, но до сих пор вызывающей активный интерес проблеме соотношения двух художников: героя и автора романа. Здесь рассматриваются поиски Гончаровым “идеала” и осмысление им проблемы “выбора”, с особой остротой встающей перед личностью в кризисные эпохи, а также центральная для уяснения нравственно-философской концепции писателя тема самоопределения художника в быстро меняющемся мире. Основы исторической концепции романиста определяются его формулой, утверждающей губительность попыток “измерять события по своим карманным часам, а не по циферблату истории” (VI, 438). Эта формула — парафраза слов Райского из не вошедшей в окончательный текст романа главы: “...история делает дело по своему циферблату, а не по нашим карманным часам”8.
Вместе с проницательным и глубоким замечанием романиста, сделанным через 10 лет после завершения “Обрыва”: “... Волохов говорит именем правды, разума и свободы”, но он “заблуждается в значении этих понятий...” (VIII, 127), суждение Гончарова о “циферблате” истории стало объективной основой второй главы, в которой рассматривается идейное и нравственное противоборство Веры и Марка.
Этические искания Гончарова определяют основное содержание третьей главы, где на материале черновой рукописи романа в ее сопоставлении с окончательным текстом затронуты вопросы религиозного сознания Гончарова.
- 87 -
Исследованию того, как на страницах рукописи “Обрыва”, особенно двух его последних частей, осуществлялся глубоко охарактеризованный Мережковским процесс “идеального обобщения человеческой природы”, посвящена последняя глава, где широко используется не только окончательный, но первоначальный, черновой текст романа.
На протяжении всей работы роман “Обрыв” в разных его аспектах сопоставляется с произведениями Л. Толстого, Достоевского и с творениями крупнейших поэтов-лириков середины XIX в. как близкий им по высокому пафосу осмысления и воплощения общечеловеческих идеалов, отражению конкретно-исторических и национально-этических проблем и коллизий времени.
———
Между представлением настоящей работы в редакцию “Литературного наследства” и ее публикацией прошел немалый срок, в течение которого продолжали появляться разнообразные труды о Гончарове9. Исследователи получили не реализованную еще в полной мере возможность обсуждать такие ранее запретные темы, как преломление в творчестве Гончарова “русской идеи”, своеобразное решение им “русских вопросов”, христианскую проблематику его романов и мн. др.1* Автор настоящей работы лишь бегло касается некоторых из них и оставляет за собой возможность специально остановиться на них в будущих работах, сохраняя текст данной статьи в том виде, каким он был представлен “Литературному наследству” несколько лет назад.
I. ГЕРОЙ И АВТОР
“Обрыву” суждено было стать последним романом Гончарова. Автор, разумеется, не мог знать этого в годы, когда замысел еще только формировался. Но некое предощущение творческого завещания, воплощенного в нем, у Гончарова, по-видимому, было. Об этом говорят его письма 1850-х годов к И. С. Тургеневу и в особенности к И. И. Льховскому. Может быть, такое провидение будущего связано с идеей исповедальности, заложенной уже в первоначальном названии романа — “Художник”. Не являлся ли замысел “Художника” в первую очередь попыткой самоопределения? Эта тема развивается и относительно подробно рассматривается в письмах романиста. Начиналась она, признается Гончаров, с тоски “по том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне и за которым, чувствую, буду всегда гоняться, так же бесплодно, как гоняется за человеком его тень” (VIII, 211). “Артистический идеал” писателя — “изображение честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей степени идеалиста” — заключал в себе и “серьезные стороны” самого Гончарова. Первоначальная идея будущего романа ретроспективно изложена в письме автора к С. А. Никитенко от 21 августа/2 сентября 1866 г., то есть на рубеже нового перелома замысла, когда Райский не только отодвигался на периферию повествования, но и определилось намерение Гончарова “не осмеять, а представить его во всей уродливости” (VIII, 318). В этом письме — и близкая Достоевскому мечта о “положительно прекрасном человеке”, и попытка ввести героя в контекст “вечных образов”, и апелляция к “двум гигантам”: Сервантесу и Шекспиру, и важная в социальном
- 88 -
и эстетическом планах мысль о воздействии “отрицательного направления” на “общество и литературу”.
Как видим, замысел громаден. Даже не воплощенный, он отражает всегдашнее, начиная с первых опытов Гончарова, тяготение писателя к синтезу общественно-исторических и нравственных проблем и к воплощению драматических коллизий в рамках одной человеческой жизни. “Сужая” впоследствии идею всемирности и всечеловечности до масштабов российских, Гончаров настойчиво и неоднократно утверждает за собой право рассматривать свои романы как эпопею русской жизни трех десятилетий. “Я <...> вижу, — писал он, — не три романа, а один. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, — к другой <...>” (VIII, 107).
В какой-то мере столь мощная концентрация связана с уникальными обстоятельствами возникновения замысла гончаровской “трилогии”. Как известно, его романы задуманы на протяжении всего нескольких лет: 1845—1849. За это время выходит “Обыкновенная история” (1847); весной 1849 г. публикуется “Сон Обломова” — “увертюра” (VIII, 111) второго романа; летом того же года рождается замысел будущего “Обрыва”. Предварялся этот удивительный взрыв творческих идей неосуществившейся попыткой создания романа “Старики” (1843—1844), о котором нам известно из писем к Гончарову В. А. Солоницына. 1 декабря 1843 г. Солоницын писал ему: “... Вы только по лености и неуместному сомнению в своих силах не оканчиваете романа, который начали так блистательно. То, что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант”13. Сам автор вовсе не был в этом уверен: написанное было, по всей вероятности, им уничтожено и никогда (в известных нам документах) он ни словом не обмолвился о неосуществленном замысле.
Откуда такая требовательность к себе в самом начале писательского пути у безвестного чиновника Министерства финансов, произведенного в 1840 г. в титулярные советники за “отлично-усердную” службу14? Какова природа этого явления, давшего русской культуре три замечательных романа, задуманных в течение каких-то пяти-шести лет и читаемых во всем мире уже более чем столетие? Ответ на этот кардинальный для понимания творчества Гончарова вопрос еще не найден.
1
Широкая синтезирующая идея, привлекавшая автора “трилогии”, должна была проявить себя во многих аспектах, но уж в одном-то обязательно. Речь идет о названиях романов. Сведениями о возникновении первого из них — “Обыкновенной истории” — мы не располагаем (рукопись не сохранилась). Но авторское его толкование известно из письма Гончарова к А. А. Краевскому от 12 мая 1848 г.: “...обыкновенная история значит история — так по большей части случающаяся, как написано” (VIII, 194). Заложенный в заглавии обобщающий смысл подтвержден авторским разъяснением. Отчетливо выявленный социальный акцент предполагался в следующем романе, долгое время известном в литературных кругах под названием “Обломовщина”15. Здесь на первый взгляд наблюдаем как будто бы обратное явление: замысел движется от общего к частному — в окончательном тексте названием становится фамилия главного героя, т. е. нечто индивидуальное, единичное. Однако трагедия человека, погребенного под тяжестью всероссийской “обломовщины”, оказалась столь мастерски и глубоко воссозданной, что герой воспринимался как своего рода символ, а общественно-историческое явление, его породившее, стало предметом специального обсуждения в известной добролюбовской статье, где роман был оценен как “произведение русской жизни, знамение времени”16.
- 89 -
Долгое время конкурировавшие между собой условные названия последнего романа — “Художник” и “Райский”, разумеется, не сопоставимы по уровню заложенного в них обобщения. То же можно сказать и о возникшем на одном из завершающих этапов авторской работы намерении назвать роман именем Веры. В двух последних случаях (“Райский”, “Вера”) речь может идти об уточнении места того или иного героя в системе романа. В первом же (“Художник”, а затем — “Обрыв”) — о концепции, о явлении. Определившееся летом 1868 г. окончательное название — не только обобщающее, но и с явным социально-политическим подтекстом, — свидетельство кардинального поворота замысла. “Обрыв” посвящен трагедии поколения, занятого напряженными поисками своего места в истории и в обществе, но не нашедшего его и оказавшегося на краю пропасти. Если в этом ракурсе, руководствуясь владевшей Гончаровым идеей отражения нескольких эпох русской жизни в его романах, рассматривать движение авторской мысли на протяжении десятилетий творческого пути писателя, то нельзя не заметить, что движение это оказалось зашедшим в тупик.
Не в этом ли причина резкой критики “Обрыва”, исходившей из самых разных слоев общества? Исторический пессимизм — плохая опора для писателя да еще в кризисные моменты жизни его отечества.
Творческое развитие Гончарова проходило на сложном социально-психологическом фоне. На протяжении всей своей долгой жизни писатель остро ощущал некую социальную инородность в том круге, где он, по происхождению — из купцов, по общественному положению — чиновник, да еще и цензор, т. е. “лицо не популярное” (VIII, 269), оказался в силу своего литературного призвания. В минуты откровенности он рассказывал, как “должен был с неимоверными трудами создавать в себе сам собственными руками то, что в других сажает природа или окружающие <...>” (VIII, 211—212). Даже после создания “Обыкновенной истории” и “Обломова” Гончаров продолжает сомневаться в своем призвании: “...не есть ли писанье романов и вообще изящное творчество — роскошь, а не долг? <...> не лучше ли выбрать что-нибудь посуровее: например, служить?” (VIII, 291). Было у Гончарова и выстраданное им обоснование таких сомнений. В 1860 г., говоря о литературе, он замечает: “Только ведь со времени Гоголя начали видеть в писателе-художнике что-то серьезное, нужное и важное. Мог ли я задаться мыслью, что это мой долг и призвание — особенно пять, шесть лет тому назад” (VIII, 286). Через 16 лет, рассуждая в письме к П. Д. Боборыкину о судьбе актеров, он вновь свидетельствует: “...в старину и писатели считались в низшем ранге в общественной иерархии” (VIII, 454).
Не стоит забывать, что иерархическое мышление безусловно насаждалось в той среде, где рос и воспитывался Гончаров, и нельзя с уверенностью сказать, что писателю удалось бесследно вытравить его из своего социального сознания. С одной стороны, он сам отважно перерубил собственные социальные корни (отвергая естественную для своего происхождения купеческую карьеру, он покинул, не доучившись, Московское коммерческое училище и поступил в университет), а с другой, надо полагать не без внутреннего раздражения, всю жизнь наблюдал проявления барского дилетантизма с его “богатством и сибаритизмом”17. Характеристика дилетантизма, прозвучавшая в споре Райского с Волоховым (V, 276), в конце 1860-х годов воспринималась, возможно, как общее место, но для Гончарова она имела важное, сугубо интимное содержание, поскольку своим возникновением обязана была все тем же попыткам самоопределения художника. Дилетантизм же, по Гончарову, — это омертвление самой идеи общественного служения.
Вынужденный более тридцати лет жизни отдать тому, “чего не умел или не хотел делать”, — чиновничьей карьере, романист мог лишь короткие месяцы летних отпусков посвятить тому, “чем хотелось и чем следовало” заниматься18, — литературному творчеству. Признание в письме к Тургеневу от 28
- 90 -
марта 1859 г.: “Я <...> рою тяжелую борозду в жизни <...> служу искусству, как запряженный вол <...>” (VIII, 259, 260) — не было рассчитанной на сочувствие смелой метафорой.
Не следует, однако, думать, что литературный труд был для Гончарова чем-то вроде нравственной аскезы. Отнюдь. В его письмах мы находим весьма любопытные высказывания, проливающие яркий свет на причины его обращения к теме “Художника” и помогающие понять некоторые аспекты личности его героя. “Творчество — своего рода эпикуреизм, — пишет он в июне 1860 г., — наслаждения искусства суть тоже чувственные наслаждения — как Вы ни оспаривайте: творчество — это высшее раздражение нервной системы, охмеление мозга и напряженное состояние всего организма <...>” (VIII, 285). Нередки и признания, утверждающие его органическую необходимость: “...писанье для меня составляет такой же необходимый процесс, как процесс мышления, и поглощать все в себе, не выбрасываться — значит испытывать моральное удушье” (VIII, 233). Так возникает у романиста естественная потребность исследовать психо-физиологические основы творческого процесса. На страницах рукописи “Обрыва” сохранились многочисленные свидетельства разнообразных попыток их интерпретации. Вот одна из них:
“Вся жизнь для него не такова, как для других. Она становится в образах около него, кажет ему ряд картин, характеров, освещает их ярким колоритом — и велит писать ее. Ему дан ряд ощущений и впечатлений. Это минуты, но в минуты он испытывает все, что другие проживают в года. Ему велено ловить невидимые нити связей, ход и работу страстей, внутренний процесс жизни и отражение его на видимых явлениях”19.
Как итог многолетних размышлений Гончарова о природе художественного творчества можно рассматривать “программу” к 4-й главе V части “Обрыва”: “В этом разнообразии типов, лиц, противуположностей, крайностей, в которых он являлся попеременно в письмах и тем заставлял подозревать себя то в страстности, то в холоде, то в лукавстве, то в жестокости — он один — и то смутно угадывал, что у него — натура поэта, носящая все эти типы и что ему выражать их следует не в письмах, а каждого отдельно в формах особенных”20. Едва ли применимая к герою романа, не пошедшему в своей литературной деятельности далее слова “Однажды...”, эта “программа” во многом определяет натуру Гончарова — так же, как эта последняя вырисовывается из писем романиста, относящихся ко времени его работы над “Обрывом”.
Еще в начале 1850-х годов Гончаров ищет способы диалектического рассмотрения проблемы: изучая “явление”, он стремится познать “сущность” (VIII, 213). Во всех его высказываниях прослеживается мысль о внутреннем динамизме, свойственном творческой личности и творческому сознанию вообще. Не позднее 1858 г. на страницах черновой рукописи романа появляется запись — признание Райского: “...спокойствие в организме меня душит — мне нужно вечное движение, вечная новизна, жизнь должна играть, кипеть и биться около меня...”21 Близкая мысль, в концентрированной, что естественно для философской поэзии, форме была выражена в стихотворении Е. А. Баратынского “Мудрецу” (1840):
Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье — одно.
Тот, кого миновали общие смуты, заботу
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!
- 91 -
Значение такого рода общности, определяемой обращением двух художников, поэта и прозаика, к проблемам творческого сознания, трудно переоценить. В понимание центральных гончаровских образов — Обломова и Райского, в осознание диалектической связи покоя и движения в романах Гончарова она вносит существенно важные оттенки.
“Неопределенный, туманный” в первый период создания романа, “сложный, изменчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшийся постепенно, с ходом времени, которое отражало на нем все переливы света и красок, то есть видоизменения общественного развития”, Райский никак не давался Гончарову, который “должен был его больше, нежели кого-нибудь, писать инстинктом, глядя то в себя, то вокруг..” (VIII, 106). Это свидетельство требует особого внимания, поскольку указывает на конкретные источники авторской концепции образа.
Несколько забегая вперед, подчеркнем, что проблемы искусства лишь в бурные 1860-е годы могли показаться устаревшими или, по меньшей мере, не актуальными. Утрата интереса или хотя бы ослабление тяги к искусству и шире — культуре — чревата катастрофическими последствиями, в первую очередь, — для нравственного состояния общества. Гончаров не формулировал эту мысль прямо, но внутреннее ощущение такой опасности у него было. Вопросы, подобные прозвучавшим в статьях Писарева: “Отчего мы не можем и не должны говорить, что прошедшее нашей литературы для нас не существует? <...> Почему, на каком основании, мы будем помнить и уважать прошедшее нашей литературы?”22 — вызывали резко негативную реакцию Гончарова, стимулировали его стремление противостоять эстетическому и историческому нигилизму.
2
В то время, как процесс возникновения социально-политических взглядов людей, подобных Райскому, был в русской литературе достаточно хорошо изучен, механизм формирования особой психологии художника, “с преобладанием над всеми органическими силами человеческой природы силы творческой фантазии” (VI, 443), а также характер ее жизненных проявлений автору “Обрыва” приходилось открывать почти самостоятельно.
В 1869 г. Гончаров в неизданном тогда «Предисловии к роману “Обрыв”» писал о Райском:
«Для этого этюда мне особенно послужил тип “неудачника”-художника, у которого фантазия, не примененная строго к художественному творчеству, беспорядочно выражалась в самой жизни <...> У серьезных художников все это бешенство и вакханалия творческой силы укладывается в строгие произведения искусства. Но и затем остается еще у людей, щедро наделенных фантазией <...> этот избыток ее, который кидается в жизнь, производя в ней капризные, будто искусственные явления, кажущиеся для простого наблюдателя нелепою эксцентричностью» (VI, 444). В разные годы романист называл несколько современников, в какой-то степени послуживших прообразом Райского. Это В. П. Боткин, М. Ю. Виельгорский, Ф. И. Тютчев. Но ни разу не прозвучало в его признаниях имя еще одного человека, к которому цитированная характеристика представляется вполне применимой. Это один из самых ярких и своеобычных людей эпохи — А. А. Григорьев1*. Период его работы над “Одиссеей о последнем романтике” (в стихах и прозе; 1857—1862) совпадает с принципиально важными этапами, пройденными Гончаровым на пути осмысления его “художника”. Здесь рождалась авторская концепция романтического характера, подвергалась анализу любовь “человека века” (Ап.
- 92 -
Григорьев), рассматривались особенности психики, мироощущения и взаимоотношения художника и среды, т. е. вопросы, в неменьшей мере занимавшие тогда и Гончарова.
Во второй половине 1850-х годов закладываются основы детальной характеристики душевного склада гончаровского героя (она формировалась прежде всего в результате самонаблюдений автора), воплощается в жизнь “программа” Райского. Так называл Гончаров 15-ю главу I части романа, где повествуется о юношеской любви героя24. На ее страницах впервые были сформулированы важнейшие моменты психологической характеристики Райского, заложен фундамент будущего конфликта. Именно здесь начало мучительного пути героя к познанию самого себя.
“Зачем дана мне эта бурливая цыганская жизнь? — раздумывал он. — Зачем эта масса явлений? Зачем не привязываюсь я крепко ни к кому? Зачем меняюсь, играю как будто поневоле какую-то бешеную игру жизни? Не затем ли, чтоб она служила материалом созданиям, чтоб выражала не жизнь, а многие жизни? Но ведь есть художники, которые ведут не хмельную, а трезвую жизнь... Стало быть, это воображение необузданное: узда ему труд и искусство!”25
Ориентация на широкий круг проблем, определяемых и объединяемых понятием “художник”, вовлекает в сферу изучения творческой истории “Обрыва” многообразный культурный фон эпохи. Благодаря работам Б. М. Эйхенбаума сейчас уже кажется очевидной зависимость “художественного опыта” Толстого в период создания романа “Анна Каренина” от лирики Тютчева и Фета26, немало сказано о связи с поэзией романов Тургенева и Достоевского. Особое место, занимаемое последним гончаровским романом в его “трилогии”, во многом определяется тем, что, воплощая трагические коллизии в жизни своих героев, писатель использовал выдающиеся достижения лирической поэзии в области познания мятущейся души современного человека.
Речь идет, разумеется, не об отдельных поэтических реминисценциях, которых множество и в других романах Гончарова, а об интересующем автора “Обрыва” способе художнического восприятия мира и типе личности, формирующемся в процессе такого восприятия.
Перед нами раскрывается уникальное явление: один из крупнейших русских прозаиков не только оказывается под сильнейшим воздействием творчества поэтов-современников, но и в определенной степени предвосхищает лирический субъективизм поэтов будущего, в частности, например, А. Блока, с его исповедальными циклами-поэмами. Одно из объяснений тому — вскрывающийся при анализе рукописи “Обрыва” глубинный напряженно-психологический автобиографизм, свойственный первоначальному этапу работы над романом. Именно в этом ракурсе творческих поисков Гончарова возможности прозы представлялись ему недостаточными: для воплощения на страницах романа сокровенных порывов художнической натуры, пытающейся познать себя и определиться в быстро изменяющемся мире, необходима была та “лирическая дерзость”, о которой в 1857 г. писал Л. Толстой, характеризуя стихи Фета, — “свойство великих поэтов”27.
Непосредственно и открыто Гончаров обратился в своем романе к поэзии лишь однажды. Но сколь значительным было это обращение!
Начиная с 1858 г., т. е. еще в тот период, когда роман должен был называться “Художник” (или “Райский”), эпиграфом к нему на первой странице28 было выставлено воспроизведенное на языке оригинала стихотворение Г. Гейне “Nun ist es Zeit, dass ich mit Verstand...”1* На этом этапе гейневское стихотворение должно было, видимо, служить самому Гончарову камертоном, по которому настраивалось и проверялось звучание лейтмотива “Художника”.
- 93 -
“ОБРЫВ”
“Примечания” Гончарова к рукописи романа, переданной автором в Имп. публичную библиотеку
Автограф, 1887
Российская национальная библиотека, С.-Петербург
- 94 -
Именно в этом стихотворении Ап. Григорьев, определяя в 1859 г. основной мотив поэзии Гейне, от которой, по его словам, “нам еще не дано <...> отрешиться”, находил “ключ к объяснению” “современного, болезненно настроенного человека”; “За искренность <...> исповеди” поэта, — писал он, — “поручится всякий, кто жил жизнию сердца”29.
В окончательном тексте “Обрыва” стихотворение Гейне, как известно, приведено в 23-й главе V части уже на двух языках. Здесь оно дано как эпиграф к будущему роману Райского. Это было принципиально новое решение, давшее другую жизнь гейневскому стихотворению в произведении Гончарова.
Писатель отвергает опубликованный еще в 1853 г. перевод Ап. Григорьева, где были подчеркнуты переводчиком, казалось бы, очень важные для характеристики Райского мотивы: “Романтический стиль отражался во всем, // Был романтик в любви и в искусстве я...”30 Он игнорирует хорошо известный ему перевод Ап. Майкова31 и обращается к А. К. Толстому с просьбой перевести стихотворение Гейне32. По-видимому, Гончаров хотел получить перевод, в котором бы явственно прозвучали трагические ноты подлинника, утраченные и Ап. Григорьевым и Ап. Майковым. И хотя запомнившиеся романисту немецкие строки (во многих письмах он “примеряет” их к себе) не находят вполне адекватного перевода у А. К. Толстого, трагическое звучание оригинала пронизывает русский текст и бросает отсвет на весь роман:
И что за поддельную боль я считал,
То боль оказалась живая —
О Боже, я раненный насмерть — играл,
Гладиатора смерть представляя!Так выявляется и подчеркивается общечеловеческий характер трагедии ошибочного осознания себя, своего пути и своего места в мире, захватившей не только Райского, но и других героев “Обрыва”.
Новое осмысление основного конфликта в романе отразилось и на его композиции: описание драматических событий в жизни героев заключены в рамку раздумий Райского до и после того, как жестокий опыт заставил его прозреть и наконец трезво взглянуть на жизнь (см.: V, 162 и VI, 325).
Сложность психологической задачи, поставленной перед собою автором “Обрыва” с момента возникновения замысла (“...изобразить внутренность, потрохи, кулисы художника и искусства” — VIII, 303) определила обращение Гончарова к творчеству романтиков с их повышенным вниманием к уединенному сознанию индивидуума.
3
Способы решения такой задачи, хотя и, по словам самого Гончарова, “невозможной” (VIII, 303), в какой-то мере могли быть подсказаны жизнью и поэзией Ап. Григорьева. Была в его личности важная черта, на которую столь тонкий психолог, как Гончаров, не мог не обратить внимания.
Варьируя, уже в сугубо трагическом ключе, упомянутое выше стихотворение Гейне, Ап. Григорьев в поэме “Venezia la bella” писал:
Но с ужасом я часто узнавал,
Что я до боли сердца заигрался,
В страданьях ложных искренно страдал
И гамлетовским хохотом смеялся,
Что билася действительно во мне
Какая-то неправильная жила
И в страстно-лихорадочном огне
Меня всегда держала и томила.
Что в меру я — уж так судил мне Бог —
Ни радоваться, ни страдать не мог!
- 95 -
То же чувство прорывается в письме Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову от 23 сентября 1861 г.: “Муки во всем сомневающегося ума — вздор в сравнении с муками во всем сомневающегося сердца, озлобленного и само на себя, и на все, что оно кругом себя видело. Да, я все это видел над собою и от этого виденного у меня за одну ночь вырастали в бороде и висках седые волосы”33.
В воздухе ли эпохи было разлито это отчаянное беспокойство, было ли оно свойством тонко чувствующей художнической натуры, но нечто очень близкое испытывал и Гончаров. Летом 1860 г. он расскажет об этом С. А. Никитенко (см.: VIII, 286—287) и тогда же припишет собственные размышления герою “Обрыва”:
“Там <в Петербурге> идеалы, которые он поминутно творил из всякого лица и всякого события, расшибались при встрече с подлинниками в прах: он уже давно знал это и давно разочаровался. Это породило в нем даже какой-то недуг, который уносил понемногу цвет его здоровья, у него падали часто силы, прорезывались кое-где морщины, серебрились местами волосы. Но, несмотря на это, он, как ни бился, все не мог отделаться от двух крайностей: при встрече с новым лицом, с наступлением нового события, он или не предвидел и не сулил ничего сносного и заранее отшатывался, отступал угрюмо, нелюдимо, или уже шел навстречу, слепо веруя найти то, что уже жило у него в мечте, т. е. что он хотел видеть, чего ждал, что рисовал, разыгрывал, воспевал в фантазии. Последнее с летами случалось реже и реже, и он становился молчаливее и угрюмее и от мгновенного оживления при какой-нибудь, еще раз обманувшей его, встрече, быстро падал в бездну или отвращения, если явление слишком оскорбляло уродливостью его тонкое артистическое чутье, слишком было в разладе с его нравственными идеалами, или в тупую тоску и холод, если оно яркостью и блеском не гармонировало с его идеалом. Средины у него не было, оттого он был или в чаду опьянения, или в припадке тупой тоски и скуки”34.
Вскоре после смерти Ап. Григорьева Достоевский назовет его “одним из русских Гамлетов нашего времени”, из тех, “кто менее прочих раздваивались, менее других и рефлектировали”35. Гончаров не был знаком с поэтом столь хорошо, как Достоевский, но нечто общее с “русским Гамлетом” находим мы и в герое Гончарова. Сравнение себя с Гамлетом Райский считает вполне правомерным. «Всякий, казалось ему, бывает Гамлетом иногда! Так называемая “воля” подшучивает над всеми!» (VI, 93).
Но не эта достаточно общая мысль была главной в обращении Гончарова к Шекспиру. Важнейшим для него аспектом шекспировской трагедии была мощь психологического анализа. Стремление овладеть таким анализом Гончаров считал обязательным для художника, пытающегося постичь и воссоздать натуру человеческую вообще, тем более — натуру творческую. И еще одна особенность трагедии Шекспира не могла не привлечь внимания романиста, поскольку находилась постоянно в круге его собственных творческих интересов. Речь идет о соотношении автора и героя — и конкретно в применении к “Обрыву”, и в самом широком плане.
Мучимый проблемой объективации своего героя, он в 1866 г. напишет: “...если я знаю, что такое Райский, если умею создать его, значит у меня есть и критика ему, значит сам я — не могу быть Райским, или если во мне и есть что-нибудь от него, так столько же, сколько во множестве русских людей есть из Обломова...” (VIII, 318). В другой плоскости он возвращается к этой мысли уже после завершения работы над черновой редакцией “Обрыва”, дополняя первоначальный текст рассуждений своего героя о Гамлете явно автобиографическими строками:
«Райский прилежно углубился в свой роман. Перед ним как будто проходила его собственная жизнь, разорванная на какие-то клочки.
- 96 -
“Но ведь иной недогадливый читатель подумает, что я сам такой и только такой! — сказал он, перебирая свои тетради, — он не сообразит, что это не я, не Карп, не Сидор, а тип; что в организме художника совмещаются многие эпохи, многие разнородные лица... Что я стану делать с ними? Куда дену еще десять, двадцать типов?..”
“Надо также выделить из себя и слепить и те десять, двадцать типов в статуи, — шепнул кто-то внутри его, — это и есть задача художника, его “дело”, а не “мираж”!» (VI, 94; в рукописи этого фрагмента нет, он возник только в журнальной публикации романа).
Еще не раз вернется он к этой теме в письмах, а в середине 1870-х годов обратится к ней в оставшихся незавершенными заметках «Опять “Гамлет” на русской сцене». Так обнаружится глубинная мысль романиста о гамлетовских чертах в натуре художника, подчиненная одному из главных двигателей гончаровского интереса к искусству: изучению философии и психологии творческой личности. Так поздний эскиз даст ключ к уяснению одной из ведущих тем “Обрыва”.
Экстремальное состояние творческого вдохновения является, по убеждению писателя, катализатором сокровенных свойств и душевных движений личности, скрытых в спокойные периоды жизни не только от окружающих, но и от нее самой. В такое время они почти не поддаются воплощению. “Свойства Гамлета, — по замечанию Гончарова, — это неуловимые в обыкновенном, нормальном состоянии души явления. Их нет тогда в состоянии покоя: они родятся от прикосновения бури, под ударами, в борьбе. В нормальном положении Гамлет ничем не отличается от других” (VIII, 58).
Итак, то, что в Гамлете проявляется под воздействием чрезвычайных внешних обстоятельств, то в душевном строе художника рождается и обнаруживается под влиянием творческого вдохновения. “Тонкие натуры, наделенные гибельным избытком сердца, неумолимою логикою и чуткими нервами, — утверждает Гончаров, — более или менее носят в себе частицы гамлетовской, страстной, нежной, глубокой и раздражительной натуры” (VIII, 57). По существу, он проецирует здесь на шекспировского героя многолетние самонаблюдения. Почти одновременно (в “Необыкновенной истории”) он, сетуя на всеобщее непонимание, заметит о себе: “...проникнуть в душу страстного, нервного, впечатлительного организма <...> может <...> и то без полного успеха, только необыкновенно тонкий психологический и философский анализ!”36
Гончаров оказался здесь в том положении, которое остроумно охарактеризовано современным английским ученым:
“Портреты принца Датского, воссозданные критиками, разительно отличаются друг от друга, и нередко <...> они являются автопортретами или, по крайней мере, несут отпечаток предвзятости исследователей”37.
Так шекспировская трагедия оказалась вовлеченной в круг интересов Гончарова, не оставившего и после “Обрыва” своих размышлений о специфике художнической натуры в ее разнообразных жизненных проявлениях. Завершая данный сюжет, заметим, что в год столетия со дня рождения писателя появилась статья, автор которой, критик Л. Н. Войтоловский, писал, что Гончаров — это “Гамлет до сокровеннейших изгибов души”38.
4
В 1855 г. в статье “Обозрение наличных литературных деятелей” Ап. Григорьев заметил о Гончарове: “Блестящие произведения г. Гончарова (до сих пор известные) обличают художника несомненного, но художника, у которого анализ подъел все основы, все корни деятельности”39. То же он повторит и после выхода “Обломова”40. Так критик во всеуслышание сказал о том свойстве человеческой и художнической натуры писателя, которое к этому
- 97 -
времени стало определяющим мотивом самохарактеристик автора будущего “Обрыва” и характеристик его героя.
Сначала в письмах Гончарова, затем — на страницах рукописи его романа обдумывается и формулируется один из законов творческого восприятия действительности.
В 1858 г. Гончаров предупреждает своего адресата: “Что касается до цинического ко всему равнодушия, то будьте на этот счет осторожны: Вы сами будете такие, потому что тоже обладаете теми же, подчас выгодными, а подчас ядовитыми свойствами — пытливости и наблюдательности. Это обоюдоострый меч, поражающий вперед и назад. Анализ рассекает ложь, мрак, прогоняет туман и (так как все условно на свете) освещает за туманом — бездну” (VIII, 252).
Летом 1860 г., работая над II частью романа, Гончаров писал о том, что главная причина его творческих затруднений — это “равнодушие ко всему и ко всем на свете, которое дают лета <...> а еще более лет — это анализ, разъедающий все, как уксус” (VIII, 299). Несколько позже он в рукописи 3-й главы III части расскажет о минутах, когда герой его остается “один с впечатлениями и воспоминаниями дня и с своим беспощадным анализом, который все переберет в нем, все взвесит, очистит, оценит и разъест все, как уксус, все, что было, набралось и угнездилось в памяти, иногда и в сердце <...>”41
При подготовке “Обрыва” к печати романист перенесет это определение в несколько измененном виде в конец 1-й главы II части как психологическую экспозицию всего, что затем будет происходить в жизни и творческом сознании его героя (см.: V, 162).
5
Уже на раннем этапе работы над романом писатель обратил пристальное внимание на то, как властно вмешивается творчество в жизнь художника: “...несчастная или иногда счастливая способность его анатомировать и разлагать всякое отправление нравственной своей природы”42 проявляется помимо его сознания и воли даже в трагические моменты жизни, и воспринимается им как нечто неуместное, но неодолимое.
Жизнь самого автора “Обрыва” складывалась так, что некоторые ее обстоятельства оказывали разрушительное воздействие на творческий процесс и едва не сыграли роковую роль в судьбе его последнего романа. Речь идет о конфликте с Тургеневым.
При сопоставлении писем Гончарова 1860—1870-х годов с рукописью романа “Обрыв” и с “Необыкновенной историей” обнаруживается весьма любопытное явление. В наиболее острые и напряженные периоды, когда решается судьба будущего романа, или по выходе его в свет, когда резкая критика “Обрыва” в печати вызывает необходимость переоценки собственного творческого и жизненного пути, происходит процесс острейшего самоанализа на грани, близкой к умоисступлению.
Летом 1860 г., непосредственно после объяснения с Тургеневым, духовный кризис провоцируется серьезными творческими затруднениями писателя, вынужденного расстаться с надеждой на скорое осуществление давнего замысла; летом 1868 г. — рецидив острой неприязни к Тургеневу связан с рядом личных и литературных обстоятельств, но прежде всего — с огромным напряжением творческих и физических сил, мобилизованных для завершения романа.
Проведенное автором настоящей работы развернутое сопоставление черновой рукописи романа “Обрыв” с письмами Гончарова и с “Необыкновенной историей”43 избавляет от необходимости повторять сложную и разветвленную систему аргументации и позволяет от анализа перейти к синтезу.
- 98 -
Можно считать установленным тот факт, что черновая рукопись 4-й и 5-й глав IV части “Обрыва” (в письме к С. А. Никитенко от <22 февраля/6 марта 1869 г.> Гончаров назвал эти главы: “монологи героя с самим собою и его дневник”44) представляет собой свидетельство душевной драмы писателя, пережитой им летом 1868 г., когда решалось, быть или не быть его последнему роману. В окончательный текст “Обрыва” вошли только фрагменты этих глав, притом со значительной переработкой. Непосредственное отношение к герою имеют здесь лишь те его переживания, которые вызваны страстным влечением к Вере, попытками разгадать ее тайну. Все остальное: размышления о своей творческой судьбе, как и о судьбе будущего романа, анализ отношений с окружающими, препятствия, которые встречаются на пути героя, — никак не определяются и не мотивируются событиями его личной жизни, собственно сюжетом “Обрыва”. Зато самую обстоятельную мотивировку психологических метаний и творческих переживаний Райского, отраженных на страницах рукописи, находим в “Необыкновенной истории”. Интонация, лексика, эпитеты, крайне нервный тон повествования почти буквально соответствуют прямым высказываниям автора “Обрыва” в его письмах. Многочисленные филиппики, с какими обращается Райский “к мнимым своим врагам и соперникам, подозревая в них некоторых из городских лиц, с которыми успел познакомиться”45, — несомненный отголосок упреков, адресованных сначала в письмах Гончарова, позднее — в “Необыкновенной истории” Тургеневу. Автор “Обрыва” вкладывает в уста Райского (разумеется, не называя имен и в метафорически иносказательной форме) свои любимые идеи о несамостоятельности дарования Тургенева, о несимпатичных сторонах его личности, о заимствованиях из неосуществленных Гончаровым замыслов. Ремарка романиста: все это Райский “писал со злобой, ругаясь с невидимыми своими врагами, которых не знал, подозревая всех”46, — практически идентична замечанию Гончарова в письме к С. А. Никитенко от <22 февраля 1870 г.>: “Мне вообще тяжело видеть всех и всех в чем-нибудь подозревать...”47
Остро и болезненно реагировал Гончаров на любое неосторожное слово, на самую мелкую обиду, чуждался незнакомых людей, стараясь скрыться от мира, спрятаться в своем “углу”. Но ведущим мотивом его духовной драмы всегда был страх перед наступлением творческого бессилия. Отсюда ненависть к тем мнимым или истинным врагам, которые хотели бы заставить его замолчать. Не последнее место среди этой толпы врагов отводилось им Тургеневу.
Имя Тургенева в сопровождении весьма нелестных характеристик появляется (или подразумевается) в письмах Гончарова именно в периоды его интенсивной творческой работы, когда воскресает надежда на успешное завершение многолетнего труда, а вместе с ней и мысли о читательской реакции, неизбежно связанные в сознании Гончарова с предчувствием того, что Тургенев вновь опередит его, напечатав свой очередной роман. Долго и мучительно вынашивавший свои замыслы Гончаров не мог простить своему “сопернику” легкость, с которой последний, по мнению автора “Обрыва”, создавал свои “эскизы” и выдавал их за романы доверчивой и рукоплещущей публике.
Поднимая в своих произведениях огромные пласты жизни, Гончаров не мог в силу особенностей своего метода, дарования и, наконец, характера, дробить свои замыслы, не мог “рисовать <...> с жизни, еще не сложившейся, где формы ее не устоялись, лица не наслоились в типы” (VIII, 136). Он претендовал на воспроизведение целых эпох русской жизни, не вмещавшихся в рамки повести или небольшого романа. Обдумывая свои произведения годами, он с ужасом видел, что на тех же или близких путях ищет и, что самое главное, находит родственных героев Тургенев. Гончаров был глубоко убежден в том, что для “зодчества”, т. е. для создания больших эпических полотен, “нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд,
- 99 -
терпение” (VIII, 260). Не находя таких свойств “в характере, следовательно и в таланте” своего “соперника” (VIII, 260), Гончаров упорно повторяет в письмах, что у Тургенева “...есть очаровательный карандаш и лира, как ни у кого, но у него нет широкой кисти, он — как ни силится, а живописать глубоко и жизненно-тепло людей и их жизни не может, что и составляет его отчаяние”48.
6
Так определились основания для постоянно присутствующего в творческом сознании писателя и настойчиво проводимого им сопоставления, выявления сходства и различия двух художнических типов и конкретных характеров, собственного и тургеневского. Именно эта, намеченная самим Гончаровым центральная проблема, а не соображения о приоритете, тем более — плагиате, представляет сегодня интерес для исследователя “Обрыва”. Историка литературы должен занимать не самый спор, не проблема “кто виноват?”, а истоки спора, вопрос — что же даст вспыхнувший в конце 1850-х годов и затянувшийся до конца дней Гончарова конфликт для прояснения идеи “художника”, коль скоро удалось установить, что он был введен в структуру и концепцию первоначальной редакции IV части “Обрыва”.
В этой связи важно обратить внимание на один эпизод, который до сих <пор> не попадал в поле зрения исследователей творчества Гончарова. Между тем он многое объясняет в позиции писателя, в его взгляде на творческие возможности Тургенева, в концепции героя романа “Обрыв”.
10 ноября 1856 г. В. П. Боткин в письме к Тургеневу говорит о повести “Фауст”, одновременно давая характеристику творческой манеры писателя. Вот она: “Ты же собственно лирик и только то удается тебе, к чему ты расположен субъективно, по крайней мере до сих <пор> спокойная, отрешенная от себя объективность — мало удавалась тебе <...> Чем искреннее, субъективнее будут твои произведения, тем лучше будут они, тем благотворнее будет их влияние <...> Не забудь потом, что русские читатели любят тебя не за объективность твою, но за тот романтизм чувства, за те высшие и благороднейшие стремления, которые поэтически проступают в твоих произведениях, словом, за идеальную сторону их <...> я думаю, что твоя настоящая литературная деятельность только еще начинается и чем более будет вырабатываться в тебе жизненное (а не философское) сознание — тем лучше и благотворнее будут твои произведения. А от дидактики спасет тебя твое поэтическое чувство”49.
Тургенев откликнулся на это письмо благодарностью: “Все сказанное тобою насчет моего писания чрезвычайно дельно и умно — все принято к сведению и к надлежащему исполнению”50.
В свете этого высказывания Боткина возрастает значение той характеристики, которую 28 марта 1859 г., в разгар конфликта по поводу “Дворянского гнезда”, дает Гончаров манере Тургенева. Близость принципиальных оценок поражает. К ним мы еще вернемся, а сейчас обратим внимание на то, что между письмом Боткина к Тургеневу и письмом Гончарова к нему же пролегло три года. Тургенев уже автор романов, получивших высокую оценку современников (о том имеются прямые свидетельства и самого Гончарова51), но автор “Обломова”, еще печатающегося в “Отечественных записках”, продолжает настаивать на том, что лиризм есть определяющая черта таланта Тургенева, упорно говорит о неспособности его к эпическому роду творчества.
Нам не слишком важно, явилось ли мнение Гончарова результатом обсуждения тургеневского творчества в “дружеском кружке”52 середины 1850-х годов или это собственно его точка зрения, не претерпевшая за несколько лет изменений. Существенно другое: на раннем этапе становления тургеневского
- 100 -
романа такая его оценка присутствовала не у одного Гончарова и была вполне правомерной53.
Если это так, то Тургенев действительно мог нуждаться в определенном воздействии со стороны и тогда следует признать, что лучшего образца, чем творчество Гончарова, он найти не мог. Вернувшись к феномену возникновения в 1840-х годах замысла всех трех гончаровских романов, стоит вспомнить, что в это время Тургенев, едва-едва уйдя от стихотворений и нескольких опытов в прозе, обращается к “Запискам охотника”, что Л. Толстой не пишет еще ничего, а Достоевский находится в начале пути (ознаменованном, впрочем, “Бедными людьми” и “Двойником”). В такой ситуации значение Гончарова как создателя самого представления о классическом русском романе (при всей связи его с Гоголем он шел по иному пути) становится очевидным. Однако роль Гончарова как “учителя” признана была при его жизни только Л. Толстым (он мог себе это позволить), да Достоевский, всегда ревниво и пристрастно следивший за творчеством автора “Обломова”, в 70-х годах признал его “большой ум” (см. об этом ниже). Не нужно думать, что сам Гончаров всего этого не понимал. А вот жизнь его сложилась трагически, развившаяся на почве конфликта болезнь, о которой в 1870—1880-х годах все громче (не без влияния Тургенева54) говорили современники, действительно была. Но дело все-таки не в болезни. Дело в том, что подробные рассказы Гончарова Тургеневу в середине 1850-х годов о содержании и смысле будущего “Обрыва” дали его собеседнику и внимательному слушателю представление о том, каким может быть роман. И то, что рассказчиком был автор “Сна Обломова”, являлось абсолютной гарантией качества. Именно здесь ключ к возникновению прискорбной “Необыкновенной истории”.
Вернемся, однако, а ответному письму Тургенева Боткину. Откликаясь на суждения своего приятеля-критика о лиризме, субъективности и проч., Тургенев обращает его внимание на пассаж из книги немецкого писателя и литературного критика И.-Г. Мерка, посвященный Гете, цитируя его на языке оригинала. В переводе обращение Мерка к Гете звучит так: “Твое стремление, твое неуклонное направление состоит в том, чтобы придать действительному поэтический образ; другие же стремятся превратить так называемое поэтическое, воображаемое в действительное, но из этого ничего, кроме глупости, не получается”55.
Так определяется проблема, объединяющая несколько потоков общественно-эстетического сознания эпохи.
Если не случайны оценки Боткина, если не случайно внимание Тургенева к фрагменту, связанному с Гете, но явно проецируемому автором письма на сегодняшнее состояние эстетической мысли и собственные творческие интересы, то может ли быть случайным очевидное сходство цитируемых ниже высказываний?
“Вам, кажется, дано (по крайней мере, так до сих пор было, а теперь, говорят, Вы вышли на новую дорогу) не оживлять фантазией действительную жизнь, а окрашивать фантазию действительною жизнию, по временам, местами, чтобы она была не слишком призрачна и прозрачна”, — пишет Гончаров Тургеневу 28 марта 1859 г. (VIII, 261). А в романе “Обрыв” некий голос подсказывает Райскому: “Не вноси искусства в жизнь <...> а жизнь в искусство!.. Береги его, береги силы!” (V, 111). “Подсказка” характерная. В небольшом этюде, посвященном “намерениям, задачам и идеям” романа “Обрыв” (в печать не предназначался) Гончаров пишет о Райском: он — “художник от природы <...> Природа, очевидно, назначала ему кисть, резец, смычок или перо — словом, искусство, чтобы вносить в него из жизни все, что так быстро и легко воспринималось его впечатлительною и раздражительною натурою” (VI, 458—459).
При всех значительных оттенках, главное здесь — соотношение лирического и эпического начал в прозе и в жизни, т. е. центральная в системе гончаровской
- 101 -
критики тургеневских романов проблема. Как раз об этом (“Дворянское гнездо” — лишь предлог) писал Гончаров Тургеневу 28 марта 1859 г., имея в виду противостояние своего и тургеневского типов художественного мышления и отражения действительности (VIII, 260—261).
ГОНЧАРОВ
Фотография М. Б. Тулинова. Петербург, 1860-е годы
Литературный музей, Москва
Трудно выбрать наиболее существенные фрагменты этого письма, настолько значимым представляется оно для Гончарова-романиста, для перспектив его творческого развития, происходившего (в этом не может быть сомнений) при постоянном, так сказать, “контрольном”, присутствии Тургенева. Подчеркнем это: речь идет не о личных обстоятельствах вражды, но о масштабной проблеме становления русского романа.
Письмо не только свидетельствует о мастерстве гончаровских оценок, о глубоком проникновении в специфику литературного текста и подтекста, о высоком художественном вкусе. Оно является профессиональным кредо автора.
Ведь всем, чего не находит Гончаров у Тургенева, — тем, в этом он уверен, — обладает он сам.
- 102 -
Здесь звучат и восхищение собратом по перу, и крик о милосердии. Смотрите, как будто говорит Гончаров, сколь многим вы обладаете, а мне этого не дано. Оставьте же мне то, чем владею я, пощадите: это мое призвание, смысл моей, одинокого, непонятого человека, жизни. Для многих я “всегда темен и тяжел, и жесток”. Пусть так. Но и мне не чужда поэзия, и я надеюсь, памятуя слова моего кумира, “облиться слезами над вымыслом”. И век не тот, и лета мои не те. Но все же надеюсь. Не становитесь на моем пути. У вас есть свой, много обещающий. Оставьте мне мою трудную и горестную дорогу. А рядом — наивная угроза: “Ох, не раздразните меня когда-нибудь и чем-нибудь” (VIII, 262).
Гончаров еще не знает, что угрожает ему самому. Ничего страшнее, чем то, что происходит с ним сейчас, уже в его жизни не произойдет. Три десятилетия будет преследовать его мысль о бывшем друге, поверенном в самых светлых замыслах, тонком и умном ценителе литературы, в том числе и созданий самого Гончарова, а ныне — и пожизненно — злейшем враге. Не знает, что роман, о котором он сейчас думает, будет с великими мучениями завершен только через десять лет. Да еще вызовет такую бурную критическую, точнее — озлобленную — реакцию, какой автору, слышавшему когда-то похвалы Белинского, Добролюбова, Льва Толстого, да и самого Тургенева, и предвидеть было невозможно. Не знает, что станет он в глазах современников в лучшем случае объектом жалости, снисхождения к душевно нездоровому человеку. Что не досчитается русская литература, быть может нескольких замечательных романов, которые мог бы он создать, но, преследуемый призраками, рожденными его воображением, не создаст. Что доведет он, наконец, своими фантазиями Тургенева до крайней степени раздражения. Потеряв всякую объективность, позволит себе Тургенев несправедливо резкие отзывы сначала — об “Обрыве”, и вместе — об его авторе, а затем, в конце жизни, — о самом стиле гончаровском, который некогда вполне удовлетворял его взыскательному вкусу. И в этом самом последнем отзыве, пусть оригинальном и глубоком, будет все же сквозить подспудная антипатия, даже, быть может, презрительное отвращение ко всему, что связано с именем Гончарова.
Вот что напишет он в 1880 г. начинающей писательнице, предостерегая ее от попыток подражания “манере Гончарова”: “Тот же профессорский образцовый стиль, та же скромная и сдержанная, но сознательная виртуозность, то же постоянное присутствие какого-то грустно улыбающегося мудреца, уже седого, но увенчанного розами, тонкого знатока и ресурсов языка и человеческих сердец — который, в сущности, занят только одним элегантным разрисовываньем умных общих мест, те же излюбленные, сто раз повторяющиеся словечки — и в конце концов, тот же леденящий холод”56.
В рамках “тургеневской истории” обнаруживается, следовательно, принципиально важная проблема: противостояние двух типов художнической натуры в их жизненных проявлениях, с особенностями их психики и взаимоотношений с обществом. Писатель такого масштаба, как Гончаров, не мог не попытаться, пусть и в кризисные периоды, находясь под воздействием резко отрицательных личных эмоций, найти в обстоятельствах своей жизни, трансформируя их в системе романа, некий общезначимый смысл. Руководящая идея должна была присутствовать в его сознании и определять его суждения и оценки. Не руководили ли Гончаровым поиски идеала как объединяющего, гармонизирующего начала человеческой жизни? Вспомним то ощущение морального дискомфорта и социальной ущербности, которое, как говорилось выше, испытывал Гончаров. Сколь важными и необходимыми в такой ситуации были для него идеальные представления о служении искусству как об исполнении высшего нравственного долга. Не представлялись ли ему при этом служители искусства носителями этого идеала? Не означал ли конфликт с Тургеневым его крушение и потому так тяжко и остро переживался Гончаровым? Вспомним его горестное замечание в “Необыкновенной
- 103 -
истории”: “Мне казалось, и я потом убедился в этом, что одна литература бессильна связать людей искренно между собою, но что она скорее способна разделять их друг с другом”57. Подчеркнем, что названный духовный кризис охватил человека и без того чрезвычайно возбудимого, беспредельно впечатлительного и легко ранимого. «Страданье в разных видах, — писал Гончаров о свойствах “артистической” натуры, в частности, и своей, — без всяких внешних, грубых причин есть постоянный спутник этих натур»58.
7
Вместе с “тургеневскими мотивами” не был включен в окончательный текст романа еще один сюжет, непосредственно связанный с личными обстоятельствами жизни его автора. Любовная драма (состоявшееся, видимо, в 1867 — начале 1868 г. знакомство писателя с некой Агр. Ник., увлечение и очень скоро последовавший разрыв) также отразилась в тревожное лето 1868 г. на творческой производительности писателя, вошла в рукописную редакцию романа, оказалась связанной с “тургеневской историей”. Все эти до недавних пор остававшиеся неизвестными штрихи жизни Гончарова — необходимый комментарий не только к его биографии, но и один из эпизодов, проясняющий глубоко интимные стороны самого процесса работы над “Обрывом”1*.
Добрые чувства к Агр. Ник. постепенно вытесняются подозрениями, обидами, сменяются уверенностью в том, что само появление в жизни Гончарова этой женщины инспирировано “таинственным инкогнито, которое, через многих других, руководит всем этим замыслом <...>”59, в надежде помешать автору закончить роман, любыми способами осложнив ему жизнь. Так в любовную историю оказывается замешанным литературный конфликт. Так письма романиста превращаются в исповедь смертельно обиженного, оскорбленного в своих чувствах человека. Тот же оттенок присущ и письмам Райского к Вере, его сомнениям в ее искренности, ревности героя к неизвестному избраннику Веры, в них те же попытки объясниться или мечты о таком объяснении с “невидимыми врагами”.
Сопоставительный анализ рукописи романа и писем Гончарова выявляет картину, совершенно аналогичную описанной выше. То ли автор цитирует в своих письмах “дневник” героя, то ли цитаты из писем Гончарова в трансформированном слегка виде попадают в рукопись романа.
Как эхо настроений автора звучат переживания его героя, вырисовывается поведанная самим Гончаровым с присущим ему мастерством психологического анализа и в то же время в не свойственном его прозе лихорадочно-возбужденном тоне хроника его собственной несчастной страсти. Завязывается сложнейший, не имеющий аналогов психологический узел как в жизни автора “Обрыва”, так и в самом романе. Любовная интрига осложняется мотивом литературного соперничества. Психологические перипетии несчастной любви провоцируются обстоятельствами, от нее далекими и ей, казалось бы, чуждыми. Диалектика отношений определяется не столько неразделенностью любви, сколько отчужденностью, недоверием, возникшими отнюдь не на любовной почве. Вопрос стоит не столько в плоскости: любит не любит, сколько: понимает — не понимает. Вводится тема предательства, опять-таки скорее не любовного, а интеллектуального, точнее — духовного. Все это происходит на основе реального жизненного конфликта, но по своему существу он
- 104 -
вовсе не реальный, а фантасмагорический, однако воспринимаемый всерьез, на уровне гамлетовского “быть или не быть”.
Речь, следовательно, должна идти вовсе не о прототипе образа (у самого Гончарова указания на сей счет весьма противоречивы60), а, если так можно выразиться, о “прототипности” психологической ситуации любовного романа, осложненной рядом исключительных обстоятельств. В этом одна из специфических черт рукописного текста “Обрыва” — благодарный материал для исследования психологии художественного творчества.
“Монологи героя с самим собою и его дневник” (так в одном из писем назвал Гончаров черновую редакцию 4-й и 5-й глав части IV “Обрыва”)61 приобретают в итоге и черты литературного памфлета, и свойства болезненно-напряженной авторской исповеди. И тот, и другой жанр явно не соответствует творческому потенциалу Гончарова. В конце концов и эстетические воззрения писателя, и интимно-личные обстоятельства его жизни побуждают Гончарова отказаться от выстраданного им многостраничного текста, как не мотивированного сюжетом и характерами романа, противоречащего тому закону эстетики, который был сформулирован самим романистом: “...художественная правда и правда действительности — не одно и то же. Явление, перенесенное целиком из жизни в произведение искусства, потеряет истинность действительности и не станет художественною правдою” (VIII, 141).
При завершении и подготовке к печати “Обрыва” Гончаров, жертвуя интимно-важным во имя общезначимого, окончательно уходит от первоначальной идеи романа-исповеди.
8
Всего отчетливее путь от анализа к синтезу, от “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет” к художественному обобщению прослеживается при изучении работы Гончарова над образом Райского.
“Следил, — говорю я, — надо бы сказать: смотрел и писал, даже не думая, что вбираю в себя впечатлительным воображением лица и явления, окрасившиеся в краски момента, и такими выдаю их назад, то есть кладу на бумагу. В этом весь процесс” (VIII, 122—123). Так романист характеризовал свой метод, как всегда делая акцент на бессознательности творчества. Здесь видится большое преувеличение. На самом деле писателем проводился жесточайший отбор жизненных впечатлений, в результате выстраивающихся в определенную концепцию авторского видения мира. В другом месте цитированной статьи Гончаров более точен. Отклоняя похвалы, которые чаще всего относились к “галереям” лиц, портретов, представленных в его произведениях, романист пишет: “Эти похвалы имели бы для меня гораздо более цены, если бы в моей живописи <...>; найдены были те идеи и вообще все то, что, сначала инстинктивно, потом, по мере того как подвигались мои авторские работы вперед, заметно для меня самого, укладывалось в написанные мною образы, картины и простые, несложные события” (VIII, 102).
Проблема соотношения героя и автора в романе “Обрыв” занимала его критиков и читателей со времени первой публикации романа.
Знакомство с рукописями романов “Обломов” и “Обрыв”, особенно последней, насыщенной, как показано выше, автобиографическими мотивами, привело первого их исследователя, Е. А. Ляцкого, к тому, что едва ли не в каждом герое Гончарова он обнаружил черты, присущие самому писателю. Райский же для него — просто “слишком прозрачная ширма, за которой скрывается Гончаров”62. Крайнее выражение эта точка зрения нашла в работе Сакулина, утверждавшего, что в авторе “одновременно жили и Штольц, и Обломов, и Райский: у него склад ума (и миросозерцания) — Штольца, характер — Обломова, а художественные свойства таланта — Райского”63. В самом общем виде это замечание верно: каждый писатель вмещает в себе мир
- 105 -
своих героев. Известно, что и сам Гончаров однажды полушутливо, полусерьезно заметил С. А. Никитенко: «“Вот, скажете Вы — а еще мужчина! Стало быть женщина выше” и т. д. Но ведь мужчина этот Обломов, Райский и проч. и проч.»64. Но в том смысле, какой прочитывается в работе Сакулина, его концепция представляется весьма уязвимой.
Значительно более точной, отвечающей творческим исканиям и принципам Гончарова, является позиция В. Е. Евгеньева-Максимова, который писал: “...допуская <...> что в первоначальной стадии своего творчества Гончаров исходил от субъективного и что субъективное вообще имело преимущественное значение в его творчестве, нельзя закрывать глаза на то, что в процессе поэтической обработки своих картин и образов, Гончаров умел <...> объективировать субъективный по своему происхождению материал. В этом умении <...> одна из величайших заслуг Гончарова”65.
Ни один из героев “Обрыва” не давался Гончарову с таким трудом, как Райский. Не раз останавливался он в отчаянии перед казавшейся неразрешимой задачей.
Особые трудности при воплощении в романе представляли изменчивость и непредсказуемость поступков и жизненных реакций художнической личности. Об этом — в письме Гончарова к Стасюлевичу от 12/24 июня 1868 г.: “Не забывайте, пожалуйста, что я — барометр, что в натуре моей, и физической, и нравственной, есть какие-то странные, невероятные и необъяснимые особенности, крайности, противоречия, порывы, неожиданности и проч.”66 Но об этом же много раньше — в рукописи 13-й главы II части при характеристике Райского, написанной летом 1860 г.:
“Он стал наблюдать за собой, дорожил каждой чертой, заметкой, следил, что выражает его личность, в какие герои годится он сам, и приходил в отчаяние, что не давался сам себе, что не соберет, не сожмет он себя в один образ, не знал и не ведал, есть ли в нем одна, преобладающая сторона, где и какая она, к какому разряду отнести себя, какая бы фигура вышла из него, если бы его стал изучать и лепить кто-нибудь другой? Наблюдая за собой, он замечал, что его нрав, склонности, вкусы сегодня влекли его в одну сторону, и он выражал один образ, а завтра он послушно наполнял другую, противоположную первой форму. Или он исключение, аномалия, или натура художника и заключает все в себе, все элементы, все характеры, все нравы, все добродетели и все пороки, во всем их объеме, со всеми крайностями, все образы, все тоны, все краски — всю и всяческую жизнь...”67
Осознавая исключительную сложность задачи создания столь близкого себе по психо-физиологическим данным характера, Гончаров все острее ощущает необходимость объективации своего героя. Идея эта рождается летом 1860 г. Именно тогда Гончаров “напал на след смелого и оригинального способа” ее реализации, задумав воплотить в образе Райского натуру художника-дилетанта, — хотя и мучился сомнениями: “...это или вздор, нелепость, или единственный путь разрешить задачу”68. Для ее решения автор готов был, “как это ни тяжело”, “бросить все написанное и начать снова”69. Это был путь несколько неожиданный, но весьма перспективный, поскольку таким образом воздвигалась прочная преграда между героем и автором. Итак, рубеж между идеей художника вообще и художника-дилетанта, энергично определенного Гончаровым в его письме 1885 г. к Д. Н. Цертелеву словами: “Неудачный, хотя и даровитый: черт ли в нем?”70, — хронологически очень точен. При изучении рукописи I и II частей романа довольно просто обнаружить те пласты материала, с которыми автору следовало расстаться.
Можно было сохранить, например, некоторую близость героя и автора там, где она легко объяснялась характером эпохи. Ряд оценок Райского вполне вмещался в понятие “лишний человек”. Отсюда неприкаянность, обособленность героя, неопределенность его социального положения: Райский “не удовлетворил ни одному требованию общества, не взял на себя никакой
- 106 -
роли, и общество не знает, куда его деть, как сажать, какое название дать ему, в какой список внести”71. Ни в коей мере не мешал этому и печоринский колорит, присущий обрисовке Райского на очень ранних этапах становления образа. Не мешало даже иное, чем у предшественников Гончарова, объяснение душевных терзаний Райского, которые, оставаясь родственными “тоскующей лени” Онегина и ему подобных, приобретали постепенно характер специфический. Основываясь на собственном опыте, писатель склонен был рассматривать их как одно из проявлений мучительного состояния художника, лишенного возможности творить. Отсюда такое, например, замечание в рукописи: Райский “внес на страницы будущего романа заметку о скуке. Анализируя этот, если уже не новейший, то новый недуг, он чертил верную картину и вынимал готовые признаки ее из собственного сердца”72. Возможны были совпадения характеристики героя, признающегося себе, “какое гнездо эгоизма, равнодушия, холодной гордости <...> носит он в себе, он, современный <...> человек”73, и самооценок автора: «Что касается до “холода, эгоизма, равнодушия, жестокости” <...> все эти прекрасные плоды принадлежат не натуре моей <...> а они привиты мне опытом...» (VIII, 306). В конце концов, это было “общее место”, клеймо эпохи, а не индивидуальные свойства конкретной личности.
На пути пересмотра прежней идеи стояли иные препятствия. Дело в том, что на этапе, предшествующем радикальному изменению замысла, рукопись романа была своеобразной лабораторией, где, почти не переплавленные в горниле художественного обобщения, фиксировались размышления Гончарова о том, как соотносятся в подлинно художественном творении “идея” и “живопись”, происходили поиски оптимальной структуры романа, комментируемые Райским, от имени героя велись рассуждения о преимуществе контрастной расстановки образов, о необходимости избегать сухой дидактики при изображении сложных жизненно-психологических коллизий и о многом другом, составляющем предмет забот и размышлений автора романа. На фоне постоянных сомнений Гончарова, не покажется ли “мысль и характер героя <...> дико и неудобоисполнимо” (VIII, 263), совершался “мучительный процесс медленного труда создания плана”74.
Сопоставительный анализ этих страниц рукописи и прямых высказываний романиста в письмах и статьях, написанных уже после “Обрыва”, дает возможность не только проследить в деталях эволюцию образа Райского, но уточнить и дополнить существующие представления о формировании эстетических взглядов писателя, об особенностях его метода и технологии его труда.
Даже окончательный текст “Обрыва” дал повод одному из первых его рецензентов сразу по выходе романа в свет заметить, что размышления Райского “составляют почти полный критический комментарий к произведениям г. Гончарова...”75 Тем более оснований дает к такому умозаключению рукопись. Вот здесь-то и необходимо было пересматривать многое76.
Рассказывая в статье “Лучше поздно, чем никогда” о своем писательском труде, Гончаров заметил: “Я спешу, чтоб не забыть, набрасывать сцены, характеры на листках, клочках <...> и мне самому бывает скучно писать, пока вдруг не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне идти” (VIII, 105). Знающий рукопись “Обрыва” тут же вспомнит, что читал уже нечто подобное, только не об авторе романа, а о его герое. В рукописи 17-й главы II части рассказывается, как Райский “ломал себе голову, как бы не впасть в сухую дидактику, как бы угадать истинный колорит воздуха, которым дышат эти люди, перенять тон их речей, чтобы вдруг перед художественными глазами его исторгся на них поток живого света. И тогда <...> задача создания решена”77. Последние две цитаты — из статьи и романа — специально поставлены здесь одна за другой.
- 107 -
Весь вопрос в том, какой “свет” падал на творения героя романа и автора романа, как тот и другой осмысливали все, что в них и около них происходило. Именно это определяет границу между ними.
Изменение концепции романа потребовало существенной переоценки и переработки уже накопленного и во многом воплощенного на страницах рукописи материала. Вместе с новым героем в роман должны были войти качественно иные законы восприятия им действительности и ее отражения в художественном образе.
Нельзя было, не нарушив художественной цельности образа дилетанта и романтика Райского, каким он виделся Гончарову в аспекте изменившегося замысла, наделить его жизненным опытом, творческими воззрениями, душевной организацией, близкими автору романа в той степени, как это намечалось в уже написанных главах.
Естественно, что в первую очередь Гончаров подвергает пересмотру эстетические взгляды Райского. Все настойчивее подчеркивает он свойственное Райскому предпочтение “мира фантазии” “миру действительному” (V, 47), пишет о минутах “раздвоения” его “натуры на реальное и фантастическое” (VI, 203), обнаруживает суть идеалистических воззрений Райского-романтика: «Вся цель моя, задача, идея — красота! Я охвачен ею и хочу воплотить этот, овладевший мною, сияющий образ: если я поймал эту “правду” красоты — чего еще?» (V, 135). Углубляя характеристику романтических воззрений героя, замечает: “Не только от мира внешнего, от формы он настоятельно требовал красоты, но и на мир нравственный смотрел он не как он есть, в его наружно-дикой суровой разладице, не как на початую от рождения мира и неконченную работу, а как на гармоническое целое, как на готовый уже парадный строй созданных им самим идеалов...” (V, 305). Лишь в печатном тексте78 появляется заключающий II часть романа монолог Райского о красоте (V, 358—359), основное содержание которого определяется философией русского и западноевропейского романтизма в духе учения Платона (диалог “Пир”).
В упомянутом выше письме к Д. Н. Цертелеву Гончаров, рассуждая о Райском, подчеркивает, что, способный увидеть “художественную правду”, его герой не сознает, что “к этой правде надо достигнуть путем упорного труда, техники, знания, почти муки, а его на это нехватает..” И заключает: “Словом, не дилетантская работа требует всего человека...”79
Легко понять, что всякие следы осуществления такой работы, какие достались герою романа в “наследство” от Гончарова, нужно было искоренить.
При сопоставлении рукописи романа с текстом журнальной публикации и отдельным изданием 1870 г. обнаруживаются многочисленные вставки и замены, сделанные как на полях самой рукописи, так, вероятно, значительно позже, в гранках или в корректурах.
Чаще всего Гончаров резко сокращает те эпизоды, которые тесно связаны с жизнью и творческими исканиями его самого, и усиливает критику дилетантизма и романтизма Райского.
Новое и прежнее решение образа сталкиваются на страницах рукописи (особенно II части), переплетаются; противоречащие одна другой вставки часто появляются почти в одно время. Содержание некоторых дополнений явно идет вразрез с итоговой трактовкой героя.
Главным образом, это передоверенные Райскому размышления Гончарова о принципиальных вопросах теории романа, о психологии и технике творческого процесса, о типичности и методах типизации, о нравственной цели искусства. И если часть этих суждений остается в рукописи или вводится в окончательный текст в измененном соответственно жизненным и творческим установкам героя виде, то другие, естественные для Гончарова, но никак не вяжущиеся с характером воззрений его героя высказывания,
- 108 -
появляются на полях рукописного текста или уже на стадии корректуры.
На первый взгляд такого рода сочетание представляется весьма противоречивым. Значительная доля правды в этом соображении есть. Здесь сыграли свою роль и сложные условия, в которых проходило становление замысла романа в целом и его осуществление, и неоднократно пересматриваемое отношение автора к своему герою, и явное желание Гончарова, легко объясняемое ситуацией конца 1860-х годов, высказать свое мнение об актуальных проблемах искусства, хотя бы это и повредило цельности и художественной достоверности одного из центральных образов его последнего романа. Но нельзя, рассуждая на эту тему, забывать о многогранности и диалектической сложности реальной жизни. Обращаясь в 1860 г. к С. А. Никитенко, Гончаров замечает: “Письмо Ваше, Софья Александровна, навело меня и на серьезные мысли и рассмешило. Рассмешило теми противоречиями, которые Вы так мастерски извлекли, сгруппировали и так беспощадно поставили передо мной, как в зеркале” (VIII, 304). Вот такого рода противоречиями, из которых, как великолепно сознавал романист, соткана жизнь, полнятся и письма автора “Обрыва”, и самый его роман.
Наконец, как будет показано далее, поэтика Гончарова в процессе многолетнего обдумывания, написания и совершенствования “Обрыва” претерпела значительные изменения. Сложнее по сравнению с периодом “Обыкновенной истории” стало его отношение к философии и практике романтизма. Все это не могло не сказаться и на трактовке образа Райского.
Многое было сказано выше о том, какое принципиальное значение придавал Гончаров описанию душевного склада своего героя. Вопреки характерному для Гончарова на последнем этапе его работы над романом стремлению “заметить разность” между героем и собою, в основу воссоздания душевного мира художника автор “Обрыва” попытался положить наблюдения над самим собой. В целом это не противоречит творческим установкам Гончарова, которому было свойственно толкование эстетических законов в духе собственного художественного опыта. Достаточно вспомнить его теорию типического, суждения о возможностях романа, как всеобъемлющего жанра, и т. п. Наконец, многие его суждения о психо-физиологическом складе художнической натуры были поддержаны наблюдениями над миром творческой интеллигенции того времени. Оставался вопрос о специфике собственно гончаровской творческой индивидуальности. Ведь многое, сказанное в черновой рукописи “Обрыва”, было столь близко затрагивающим автора романа, столь интимным, и, следовательно, противоречащим характеру героя, как он представлялся писателю в конце 1860-х годов, что иного выхода, чем отказаться от значительных пластов рукописного материала или решиться на кардинальную его переработку, не было. Нельзя было, не нарушив художественной цельности образа дилетанта и романтика Райского, наделить его жизненным опытом, творческими исканиями и специфической душевной организацией Гончарова. Не во всех аспектах эта работа была проведена последовательно и доведена до конца, но в целом психологический облик героя значительно полнее соответствует характеру его творческой индивидуальности, его поведению, нежели его эстетические взгляды. В данном случае Гончаров сумел преодолеть естественное стремление к автобиографической близости, которое осложняло труд художника, пишущего о художнике. В окончательном тексте “Обрыва” сформулирована эстетическая и этическая позиция Гончарова, многие постулаты которой приписаны его герою, но, в отличие от черновой рукописи романа, в окончательном его тексте не содержится почти никакого конкретного материала для суждений о психическом складе, судьбе и жизненных затруднениях автора.
- 109 -
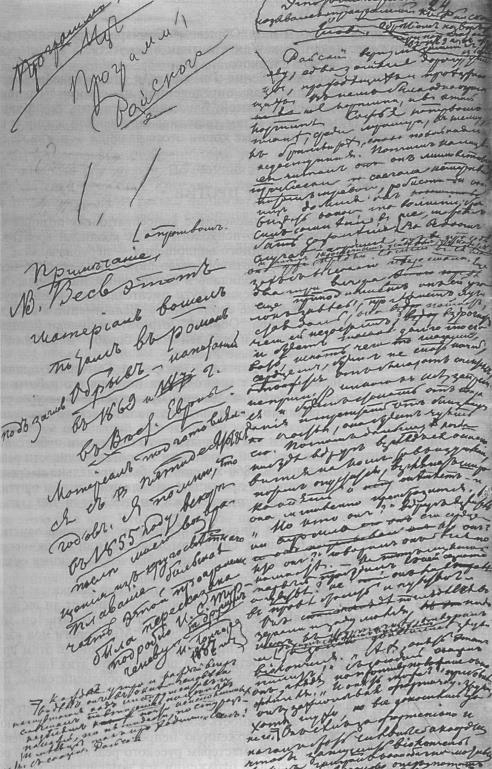
“ОБРЫВ”. ЧАСТЬ I. “ИЗ ПРОГРАММ<Ы> РАЙСКОГО”
Первоначальная редакция главы 15
Черновой автограф, 1887
Российская национальная библиотека, С.-Петербург- 110 -
На последней стадии работы над “Обрывом” Гончаров ограничился анализом такого сложного явления, как дилетантизм в искусстве и жизни — явления, воплощенного в образе Райского.
Самый же общий смысл обращения Гончарова к этому явлению тесно связан с генеральной идеей писателя, определенной им самим: “Что такое Райский? Да все Обломов, то есть прямой, ближайший его сын, герой эпохи Пробуждения” (VIII, 117). И здесь и там трагедия: загубленной жизни и нереализованного дарования. Социальные корни этого явления — все та же обломовщина.
II. ЗА И ПРОТИВ
Конфликт нового и старого, осмысление с консервативных позиций социально-исторических и нравственно-психологических коллизий времени и новаторские попытки их художественного воплощения — первоначальное согласие и постепенно нарастающее противоборство двух героев романа, Веры и Марка Волохова, долгое время находились в центре внимания Гончарова.
Нам важен не только итог творческого пути писателя, но и самый путь, каким он шел к окончательной оценке своих героев. Ведь именно в их судьбах должны были, по замыслу автора “Обрыва”, отразиться поиски молодым поколением своего места в обществе и драматическая борьба “новой лжи” и “старой правды”, определявшая будущее России.
До недавнего времени “постепеновские” воззрения Гончарова принято было оценивать только негативно, вся многолетняя история его работы над созданием романа “Обрыв” рассматривалась преимущественно в ракурсе становления консервативной позиции писателя, его политического “поправения”.
Сегодня, по прошествии почти ста тридцати лет со времени публикации романа, следует признать, что при всей сложности и противоречивости реакции Гончарова на действительность 1860-х годов он был предельно искренен в своих поисках истины и достаточно проницателен для того, чтобы ощутить существование трагических изломов русской жизни тех лет и показать в своем романе некоторые их грани.
27 февраля/10 марта 1866 г. в письме к Тургеневу Гончаров заметил: “...надо сознавать за собой большие силы, гоголевские или пушкинские, чтобы imposer1* на современную мысль или вкус общечеловеческими созданиями искусства”80.
9 апреля 1876 г. в письме к Х. Д. Алчевской Достоевский рассказал: “Я на днях встретил Гончарова, и на мой искренний вопрос: понимает ли он все в текущей действительности, или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое “перестал понимать” <...> “Мне дороги мои идеалы и то, что я так излюбил в жизни, — прибавил он, — я и хочу с этим провести те немного лет, которые мне остались, а штудировать этих (он указал мне на проходившую толпу на Невском проспекте) мне обременительно, потому что на них пойдет мое дорогое время”»81.
Ровно десять лет разделяют эти два признания писателя, отрицавшего, по крайней мере для себя самого, возможность воспроизвести в художественном творении сегодняшнюю жизнь, подверженную непредсказуемым изменениям, — признания, сделанного им двум мастерам русского реалистического романа, видевшим свою задачу именно в отражении тех воздействий, которым подвергается личность, вовлеченная в круговорот общественно-исторических событий переломной эпохи.
- 111 -
За эти годы был завершен, опубликован и подвергнут резкой критике прежде всего за консервативно-тенденциозное осмысление острых проблем современной жизни последний гончаровский роман.
Для правильной исторической оценки происшедшего, для объективного понимания существа бурных споров, развернувшихся вокруг “Обрыва” в периодической печати, жестких отзывов о нем в переписке ведущих литераторов того времени цитированные выше суждения Гончарова представляются принципиально значимыми.
Мы не располагаем сведениями о том, как было воспринято высказывание Гончарова Тургеневым. Но реакция Достоевского на его беседу с автором “Обрыва” нам известна. “Конечно, я про себя знаю, — писал Достоевский, — что этот большой ум не только понимает, но и учителей научит, но в том известном смысле, в котором я спрашивал (и что он понял с 1/4 слова <...>), он, разумеется, — не то что не понимает, а не хочет понимать”82. Это замечание великого писателя и проницательного психолога проливает некоторый свет на последние годы работы Гончарова над “Обрывом”, отчасти оно объясняет и авторские оценки романа, прозвучавшие в письмах и статьях 1860—1870-х годов.
Многие суждения писателя 1870-х годов определяются мыслью о трагизме современного общественного бытия — мыслью, которая формировалась у него на протяжении ряда предшествующих лет. “Отрицание и анализ расшатали все прежние основы жизни, свергли и свергают почти все авторитеты, даже и авторитеты духа и мысли, и жить приходится жутко, нечем морально! Не знаю, что будет дальше!”, — пишет он в “Необыкновенной истории”83. Несколько позже, в письме Гончарова к А. Ф. Кони, находим более лаконичную формулировку того же ощущения: “Это несомненно: мы попали в момент почти небывалой еще мировой химической работы и маемся в ней”84.
Объективная правота гончаровских оценок подтверждается свидетельствами его современников. “У нас теперь <...> все это переворотилось и только укладывается...” — пишет Толстой в романе “Анна Каренина”85. О судьбе героя из “случайного семейства” рассказывает Достоевский86. “Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются”, — утверждает Салтыков-Щедрин87.
Однако выводы о миссии и месте художника в сложившейся общественно-политической и нравственно-философской ситуации, которые делались писателями — современниками Гончарова, были весьма далеки от тех, к которым пришел автор “Обрыва”. В этом плане важным представляется высказывание Достоевского в “Дневнике писателя” за январь 1877 г., возможно, являющееся откликом на вышеприведенную беседу с Гончаровым: “И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса, и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до того, что это как бы еще рано для самих великих наших художников. У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся <...> Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения и нового созидания?”88
В отличие от Достоевского Гончаров отнюдь не был одержим “тоской по текущему”89. Последней его попыткой в эпической, романной форме откликнуться на насущные вопросы современности был “Обрыв”.
- 112 -
1
Еще в 1860 г. Гончаров заметил: “Вот подите же: если мы, люди, живем в противоречиях, боремся с ними и в этом проводим жизнь, так это потому, думал я, что не умеем, не устроились, не распорядились. А природа физическая? Ведь ее законы подлежат не произволу страстей, глупости и невежества, а постоянным мудрым законам? Что же это такое? За неуменьем решить этого вопроса приходится и эту загадку природы взять на себя бедному человеку, т. е. признать законом эту несообразность природы и сознаться в неумении решить ее: это, кажется, будет самое умное”90. Такое суждение весьма характерно для Гончарова. Отклонение от нормы (“безобразное”) было глубоко противно ему в любом своем проявлении. Политические бури, семейные конфликты, природные катаклизмы — все вызывало его внутреннее сопротивление. Не случайно так много сил он отдал попыткам разгадать натуру художника, не укладывающуюся ни в какие “нормы” общепринятых представлений. Но там в итоге длительных размышлений и самонаблюдения он готов был принять во внимание исключительные обстоятельства: особую психологию творческой личности, порывы вдохновения, нарушающие обыденное течение жизни, и проч.
Наступающая эпоха бурных 1860-х годов несла с собою качественно иные исключительные обстоятельства. Определиться в них оказалось неизмеримо сложнее, чем исследовать все изгибы души и все неожиданности непредсказуемых проявлений художнической натуры. Предчувствуя это, Гончаров в одном из писем 1859 г. горестно заметит: “...не то теперь требуется, это я понимаю и умолкаю” (VIII, 279).
На арену общественной жизни вышли проблемы исторического значения. Способы их разрешения, характер новых общественных деятелей — вот что стояло на повестке дня. Время эпически спокойного повествования, пристального и неторопливого вглядывания в душу каждого из героев уходило в прошлое. Внимания к себе требовали “новые люди”, а с ними должно было прийти новое осмысление жизни.
Еще в минувшем десятилетии Гончаров ощутил необходимость введения в роман фигуры протестанта, открыто выражающего недовольство устоями, на которых покоится всероссийская “обломовщина”. Это не Штольц, который не только не намерен разделить благородные и самоотверженные порывы Манфредов и Фаустов, выступить “на дерзкую борьбу с мятежными вопросами” (IV, 468), но полагает, что, признаваясь в этом, упрочивает свой авторитет в глазах мятущейся любимой женщины. Новый герой — это личность, стремящаяся к общественно-значимой деятельности, и романист решает, что именно такого человека должна полюбить новая его героиня.
Эта мысль вполне укладывалась в “первоначальный план” романа, где “на месте Волохова <...> предполагалась другая личность — также сильная, почти дерзкая волей, не ужившаяся, по своим новым либеральным идеям, в службе и в петербургском обществе, и посланная на жительство в провинцию, но более сдержанная и воспитанная, нежели Волохов. Вера также, вопреки воле Бабушки и целого общества, увлеклась страстью к нему, и потом, вышедши за него замуж, уехала с ним в Сибирь, куда послали его на житье за его политические убеждения” (VI, 463).
Нет сомнений, что перед мысленным взором Гончарова стояла судьба декабристов, в том числе и виденных им в Сибири, которым в заключительных главах “Обрыва” он сложит настоящий гимн: “С такою же силой скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо, их жены <...> унесшие с собой силу женской души и великой красоты...” (VI, 319).
Едва ли не самым серьезным последствием конфликта с Тургеневым явился отказ Гончарова от этого не имевшего прецедента в русской литературе середины 1850-х годов замысла потому только, если верить его свидетельству,
- 113 -
что, позаимствовав будто бы, среди прочих и эту идею (“дальнейшая судьба, драма Веры”91), автор “Накануне” развил ее в своем романе.
Необходимо, однако, со всей определенностью заявить, что рукопись романа “Обрыв” не дает никаких возможностей проследить формирование названного замысла. Бесплодны гадания, были ли в материалах Гончарова хотя бы заметки, объективно подтверждающие его существование. Все, чем мы располагаем, — это некоторые эскизы психологической разработки характеров новых героев, и то преимущественно не Марка, а Веры. Опираясь на гончаровские воспоминания, можно лишь предполагать, по какому пути первоначально намеревался идти автор. Но документально, на основании рукописи, можно говорить лишь о начатках другого решения, которое, судя по письмам романиста, было принято в 1860 г.: “Для меня теперь только понятно стало значение второго героя, любовника Веры; к нему вдруг приросла целая половина, и фигура выходит живая, яркая и популярная...” (VIII, 282). Речь идет о Марке Волохове. В соответствии с запросами времени намечается новая переориентация первоначального замысла.
На ранних этапах творческой работы Гончарова его отношение к Волохову определялось, по-видимому, интересом, близким к тому, какой, по воле автора романа, захватил Райского после его знакомства с Марком: “...разгадать это новое и странное лицо: узнать, какие причины могли его вывести из общественных рядов, сделать каким-то отверженцем общества, тогда как наружность его, немногие слова, вырвавшиеся у него, манеры <...> — все заставляло подозревать какие-то противоречия общему мнению”92.
Тогда же начинает развертываться и характер Веры, точно определенный Райским: “Холодна и... свободна” (V, 290). Для его понимания — именно в перспективе гончаровского замысла — весьма знаменательной представляется реакция А. В. Никитенко на прочитанную ему 16/28 сентября 1860 г. новую главу, посвященную героине романа (ч. II, гл. 16): “На этот раз я остался не безусловно доволен. Мне показалось, что характер этот создан на воздухе, где-то в другой атмосфере, и принесен на свет сюда к нам, а не выдвинут здесь же из нашей почвы, на которой мы живем и движемся. Между тем на него потрачено много изящного. Он блестящ и ярок”93. Слушатель проницательно отметил необычность этого характера и сообщил свои наблюдения автору. Гончаров мог сказать себе, что идет по правильному пути.
В романе завязываются новые сюжетные узлы, яснее становятся его контуры. Но порыв вдохновения сменяется полосой неудач и сомнений. Параллельно жалобам на трудности в обрисовке Райского, в определении доминанты этого образа звучат в письмах 1860 г. сетования на неясность Волохова: “...и приступить не умею, не знаю, что из него должно выйти...” (VIII, 298).
Волохов находится пока на периферии повествования, но интерес к нему Гончарова явно возрастает. На полях рукописи появляются авторские заметки на будущее, которые прежде всего относятся к исключенной впоследствии из окончательного текста “автобиографии” героя (“Рассказ Марка о своем воспитании”94) и к определению его литературного и, разумеется, идейного прообраза: “Карл Моор”95.
2
Черновые записи Гончарова дают возможность присмотреться к тому ряду общечеловеческих символов (или “вечных образов”), а также конкретных исторических деятелей, в который автор ставит своего героя — преимущественно в “программах”, но иногда и в тексте романа. Это, в свою очередь, позволяет определить тон, заданный решению конфликта нового и старого в романе “Обрыв”. В сопоставлении с другими героями, определение человеческой и духовной сущности которых также связано со множеством культурно-исторических ассоциаций, Волохов выступает как лицо не менее значимое
- 114 -
и не менее трагическое. Другое дело, что на таком высоком уровне замысел писателя в полной мере воплощен не был. Вероятно, поэтому историки литературы при рассмотрении этого персонажа никогда не обращали внимания на такого рода факты.
Итак, начнем с Шиллера. Обратимся за комментариями к статье Г. В. Краснова и В. А. Викторовича “Нигилист на рубеже 60-х годов как социальный и литературный тип”. Цитата из важной для понимания нигилизма работы поможет ощутить смысл найденного Гончаровым сопоставления:
«Объективно-исторически социальный тип революционера-разночинца находится в преемственной связи с типом дворянского революционера. Тип нигилиста — начальное, переходное звено между ними <...> Глубокое влияние на формирование декабристского типа личности оказал образ благородного и мужественного, решительного и самоотверженного героя, ярко воплощенный в произведениях Ф. Шиллера. Признание этого влияния мы находим еще у Пушкина в знаменитом обращении к радикально настроенному Кюхельбекеру: “Поговорим <...> // О Шиллере, о славе, о любви” (“19 октября”). Белинский называл Шиллера “благородным адвокатом человечества”, а Чернышевский “участником в умственном развитии нашем” <...>
“Шиллеровский комплекс” сохранился у последующих революционных поколений 30—40-х годов. “Шиллеровским периодом” назвал свои и Огарева студенческие годы А. И. Герцен <...>
Культ шиллеровского самоотверженного героя сохранялся еще в среде передовой молодежи 40—50-х годов, например у петрашевцев. Однако со временем жар подлинного поклонения Шиллеру все более остывал. Он давал еще знать себя отдельными вспышками в начале 60-х, но воспринимался новым молодым поколением уже как некий анахронизм...
Что же не устраивает “детей” — нигилистов — в шиллеровских идеалах “отцов”? Водораздел прошел по линии социальной психологии двух типов <...>
Самоотверженность дворянских революционеров “во имя народа” представлялась нигилисту искусственным, надуманным, “головным” увлечением, барской прихотью. На смену “идеальным” категориям долга, гражданской обязанности и т. д. нигилист приводит “материальные” понятия пользы, естественных потребностей; на смену благородному альтруизму — разумный “эгоизм”»96.
В свете этих разъяснений обратим внимание на глубину мысли Гончарова, на его до сих пор никем не оцененную осведомленность в духовных ориентирах эпохи. Вспомним, что “шиллеровское” определение (“Карл Моор”) дает Волохову именно дворянин Райский, среди предков которого, как известно из “Необыкновенной истории”97, был и декабрист. И если при первом упоминании шиллеровского героя Волохов пренебрежительно отмалчивается, то затем, в не вошедшей в окончательный текст романа главе, он “возвращает” Райскому классическую ассоциацию, вспоминая Вертера — героя другого произведения другого немецкого писателя. В споре с Райским о политической ситуации в России, посмеиваясь над умеренностью идеалов своего оппонента, Волохов иронически замечает: “С вас и довольно... Теперь опять надевать голубой полуфрак и под окном бряцать на лире о любви...”. На что, впрочем, получает в ответ не менее ядовитое замечание Райского: “А вы перевалитесь в другой город и там наденете мефистофельские штаны цвета адского пламени и <станете> опять потрясать вселенную затем, чтоб тревожить губернатора и заставить полицию освещать Трынкин переулок?”98
Отвлечемся теперь ненадолго от Шиллера и Гете и обратимся к отдаленным историческим и мифологическим ассоциациям, а именно к христианской символике. Начнем с определения “новые люди”, которое, хотя и с раздраженно-ироническим оттенком, постоянно присутствует в письмах Гончарова времен “Обрыва”. Здесь, конечно, намек на “роман о новых людях”
- 115 -
Чернышевского, но, возможно, и обращение к античному “homo novus”1* — так в Древнем Риме называли христиан. Далее вспомним, что Марк — имя одного из евангелистов. Сам герой не без удовольствия намекает на это в разговоре с Райским при первом знакомстве (черновая редакция): “...стараюсь заводить порядок: да не слушают моей простоты и добродетели. Вот и апостольствуйте после этого! Нил Андреич, губернский Нестор, пересиливает. Хочу просветить край, поставить на путь истинный, проповедую добро и свет2*, а меня гонят, преследуют; участь всех пророков: от нечего делать я развлекаюсь и развлекаю других”99.
Напомним важную евангельскую аллюзию — Марк иронически намекает на известное выражение: “...не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем” (Марк, VI, 4)3*. Да и весь гончаровский фрагмент чуть-чуть стилизован под евангельское повествование с его притчево-аллегорическим сказом.
Можно предположить, что конкретного евангелиста Гончаров выбрал как далекий прообраз своего героя вполне осознанно. Комментаторы Евангелия от Марка указывают, что оно было предназначено для христиан из язычников, т. е. новообращенных. Деталь для понимания гончаровского героя немаловажная. Они же сообщают, что Марка называли “толмачом” или истолкователем учения апостола Петра. По выражению блаженного Иеронима, “при составлении этого Евангелия Петр рассказывал, Марк писал”100. Так в подтексте романа вырисовывался вторичный характер программы Волохова. Гончаров имел в виду, конечно, осведомленного читателя-современника, с детства знакомого со Священным Писанием, и мог рассчитывать на понимание соответствующих аллюзий.
Претензии Марка на роль апостола (с намеком на мученическую кончину Марка-евангелиста) обыгрываются и в не вошедших в окончательный текст романа словах Веры: “Вы <...> ищете роли героя, передового человека, мученика, когда никакой муки не надо, — и мучите себя и меня”101 4*.
Сам Марк в своих высказываниях не только не чуждается библеизмов, но как будто щеголяет ими. В первом разговоре с Верой на заданный ею “с любопытством и иронией” вопрос: «Так вы — “новая, грядущая сила”?» (VI, 169), — он гордо отвечает (этот фрагмент остался за пределами окончательного текста):
“— Да, мы. — И много вас таких? — Легион. — С семинаристами<?> — Нет, с ними тьмы тём”102.
Не может вызывать сомнения и роль Марка как искусителя. Эта тема, одна из важнейших в “Обрыве”, поддержана рядом метафорических образов; впрямую она материализуется, как было отмечено рядом исследователей103,
- 116 -
еще в сцене знакомства Волохова и Веры, когда Марк предложил будущей избраннице яблоко — библейский символ искушения. Кстати, много позже, уже после “падения”, Вера вспоминает, что Марк призывал ее свободно отдаться чувству, “насмешливо” прибавляя: “И будем как боги...” (VI, 312). Так он сам признавал свою роль искусителя, намекая на библейскую легенду о грехопадении: “И сказал змей жене: нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло” (Бытие, III). Позднее, в споре с Райским, Волохов, вслед за своим собеседником, вновь вспомнит Евангелие, тот самый эпизод, который станет эпиграфом к роману Достоевского “Бесы”:
“— Да, если много таких художников, как я, — сказал Райский, — то таких артистов, как вы, еще больше: имя им легион!
— Еще немножко, и вы заплатите мне вполне, — заметил Марк, — но прибавьте: легион, пущенный в стадо...” (V, 280).
За такими лишь на первый взгляд случайными или необязательными библейскими ассоциациями скрывается в нравственно-философском подтексте гончаровского романа глубокий, полемически адресованный возможным оппонентам, смысл. Позднее мы увидим, что по крайней мере один из них, а именно проницательный Щедрин, не только по достоинству оценил и принял вызов, но и ответил на него. Мимо него как критика и политического противника Гончарова не прошло ни “апостольство”, ни “бесовство” Марка Волохова.
3
Ближе к действительности 1860-х годов еще один ряд книжных аллюзий. Обиженный определением “неудачник”, Райский ищет как бы побольнее задеть Марка. Наконец пренебрежительно замечает, что люди, подобные Волохову (“есть и дон-кихоты между ними”), “вообразят себя пророками и апостольствуют в кружках слабых голов, по трактирам. Это легче, чем работать”. “Других, — продолжает он, — запирают в сумасшедший дом за их идеи...” Далее следует заслуживающий особого внимания обмен репликами:
“— Это еще не доказательство сумасшествия1*. Помните, что и того, у кого у первого родилась идея о силе пара, тоже посадили в сумасшедший дом, — заметил Марк.
— А! Так вы вот что! У вас претензия есть выражать собой и преследовать великую идею!
— Да-с, вот что! — с комической важностью подтвердил Марк” (V, 281—282).
В ответных репликах Марка привлекают внимание два момента: уверенность в том, что всякая неординарная мысль вызывает у толпы подозрение о безумии ее носителя, а также намерение героя “выражать собой и преследовать великую идею” В памяти читателя 1860-х годов могло возникнуть стихотворение Беранже “Безумцы” в переводе В. С. Курочкина, впервые опубликованное журналом “Искра” в 1862 г., а в 1866 г. не пропущенное в издание сочинений поэта вследствие запретительного отзыва о нем Гончарова — члена Совета Главного управления по делам печати104. В первой его строфе читаем: “Чуть из ряда выходят умы: // “Смерть безумцам!” — мы яростно воем...”, а вторая начинается словами:
Ждет Идея, как чистая дева,
Кто возложит невесте венец.
“Прячься”, — робко ей шепчет мудрец,
А глупцы уж трепещут от гнева.- 117 -
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА “ОБРЫВ” (СПб., 1870)
Обложка первого тома и форзац с дарственной надписью:
“Александру Николаевичу Островскому в знак живейшей симпатии
и глубокого уважения к нему и к его таланту от автора”Институт русской литературы, С.-Петербург
В “Обрыве”, впрочем, не “идея”, а “великая идея”. Не входило ли это сочетание в словарь Эзопова языка русской демократии? Нам оно встретилось в контексте весьма любопытном, хотя и не имеющем прямого отношения к русской действительности. Вот он.
В 1869 г. (одновременно с “Обрывом” и непосредственно вслед за ним) в нескольких номерах “Вестника Европы” (за подписью: В. И.) публиковалась большая работа “Италия и Маццини”. Автор ее — В. И. Лихачев — широко цитирует статью — Джузеппе Мадзини “Религиозная сторона итальянского вопроса”, в 1867 г. дважды (на английском языке и во французском переводе) напечатанную в английских журналах. В этих цитатах несколько раз встречаем интересующее нас выражение: “По недостатку великой идеи, сдерживающей эгоистические расчеты <...>”; “у наших правителей нет великой идеи, руководящей их действиями <...>”; “Великие идеи образуют великие народы <...>”105. Не беремся за неимением данных судить, был ли знаком Гончаров с выступлениями Мадзини. Запомним только это имя, чтобы оценить значение пометы, сделанной автором “Обрыва” на полях рукописи: “Партия не действия, а шума — все в Моисеи хотят”106. И сама запись, и расшифровка первой ее части в романе1* помогают понять гончаровскую
- 118 -
концепцию “новой силы”, способствуют исторически верной оценке ее роли в “Обрыве”.
Упомянутая Гончаровым “партия действия” действительно существовала, но не в России, а в Италии. Это революционная организация, созданная Мадзини в середине 1850-х годов. Ее название встречается и в цитированной статье “Вестника Европы” в следующем выразительном контексте: “Не долго партия действия оставалась неподвижною; ее не могли остановить никакие опасности и государственные соображения”107.
Исторические аналогии помогают понять смысл мизансцены в последней главе IV части “Обрыва” и вместе с тем уяснить некоторые из основ авторской позиции. Потрясенный увиденным в обрыве, жаждущий “мщения”, Райский шептал: «Это наша “партия действия”1* <...> да, из кармана показывает кулак полицмейстеру, проповедует горничным да дьячихам о нелепости брака2*, с Фейербахом и будто бы мнимой страстью к изучению природы естественными науками вкрадывается в доверенность женщин и увлекает вот этаких дур!..»108 В печатном тексте романа смягчена резкость выражений, снято упоминание Мадзини, но “партия действия”, как обозначение системы взглядов Волохова, сохраняется. Дискредитации воззрений героя, по мысли Гончарова, должен способствовать трагический контекст происходящего (“падение” Веры).
Однако уже в рукописи автор “Обрыва” пытался “примерить” это определение к другому герою. В не вошедшей в окончательный текст главе — во время последней своей встречи с Волоховым Райский (так во всех вариантах) не только утверждает, что “настоящая” “партия действия” — это Тушин, но и сопоставляет его с Робертом Оуэном, на что слышит изумленный ответ Марка: “Куда хватили! И вы довольны этим? Оптимист! Счастливый! немного вам надо <...>”109. Исключив эту главу, Гончаров отнюдь не отказался от своей смелой идеи. В печатном тексте 18-й главы V части появляется отсутствующий в рукописи панегирик Тушину. Именно «Тушины — наша истинная “партия действия”, наше прочное “будущее”», — решает Райский, возвращаясь домой “после шестидневного пребывания” в усадьбе этого “заволжского Роберна Овена” (VI, 387, 389).
Через десять лет после первой публикации “Обрыва”, сочувственно приводя слова Райского в статье “Лучше поздно, чем никогда”, Гончаров вновь уверенно называет Тушина представителем “настоящей партии действия” (VIII, 135).
Тем не менее весьма начитанные в политической литературе современники Гончарова, даже в обстановке повышенного внимания к освободительной борьбе в Италии3*, не увидели реального смысла формулы “партии действия”, а значение ее упоминания в “Обрыве” не оценили вовсе или оценили превратно. Достаточно отметить раздраженное замечание М. А. Протопопова в его статье (отклике на смерть Гончарова), что “партия действия” — “простой плеоназм, потому что всегда и везде люди составляют партии затем именно, чтобы успешнее действовать”. “Партия, — писал он, — есть явление или понятие социальное: действие или бездействие есть явление или понятие психологическое или физическое. Как не может быть партии брюнетов или блондинов, так не может быть и партии действия или бездействия”111.
- 119 -
Так из сферы внимания современников Гончарова и нынешних исследователей его творчества, согласившихся с Протопоповым112, выпал знаменательный эпизод полемики писателя с демократической литературой эпохи, осталась неоцененной его попытка противопоставить реально происходящим процессам освободительной борьбы постепенное, эволюционное движение к прогрессу.
4
Расставив эти необходимые акценты, определившиеся при микроанализе текста, вернемся к начальным этапам работы Гончарова.
Объективная оценка эволюции образов Марка Волохова и Веры затруднительна без тщательного изучения тех фрагментов рукописной редакции романа, которые остались за пределами печатного текста или претерпели в процессе формирования авторского замысла качественные изменения. Гончаров считал эту эволюцию вполне естественной: “Но как роман развивался вместе со временем и новыми явлениями, то и лица, конечно, принимали в себя черты и дух времени и событий” (VIII, 127).
Не позднее 1862 г. была, по-видимому, создана первая редакция двух писем к Райскому: от Леонтия Козлова и от бабушки113. Характеристика Волохова в первом из этих писем и упомянутая выше “автобиография” Марка — это экспозиция образа, позволяющая представить, каким на одном из сравнительно ранних этапов работы мыслился автору его герой. Оценки Волохова и бабушки в этом письме соответствуют именно первоначальной стадии формирования замысла114. Содержание письма скорее всего навеяно событиями в Петербургском университете. Судя по записи в Дневнике А. В. Никитенко, Гончаров принимал активное участие в “бесконечных разговорах о современных происшествиях”, которые велись осенью 1861 г. в связи со студенческими волнениями, причем воспринимал он эти события в целом сочувственно115. Бывший ли студент заговорил в нем, внутренняя ли благоприятная ситуация (выходят почти одновременно переиздания «Фрегата “Паллада”», “Обыкновенной истории”, “Обломова”; только что опубликованы “Эпизоды из жизни Райского”) сказалась, — Гончаров настроен благодушно, собирается на лето к родственникам в Симбирск, обменивается с ними письмами.
Два из них, забытые исследователями гончаровского романа, имеют первостепенное значение. В них — истоки многих проблем, поставленных в период завершения “Обрыва”, авторское понимание конкретно-исторических и психологических причин появления Волоховых и “волоховщины”, мотивы выдвижения Тушина, как антипода Волохова. В какой-то степени они предвосхищают также некоторые суждения в посвященных “Обрыву” статьях Гончарова. Характерно, что написаны они без того раздражения, которое станет почти постоянным фоном поздних высказываний Гончарова.
В первом письме (февраль 1862 г.) — к племяннику, Александру Николаевичу Гончарову — романист утверждает:
“Вам, молодое поколение, надо далеко уйти от нас, стариков, вперед и смотреть на нашу науку и знания как на азбуку <...> общество проснулось, дела пропасть, одна реформа толкает другую; агрономия, полеводство, новое устройство крестьян — все это требует рук и голов ученых не слегка, а серьезно, практических людей, а не лентяев и фантазеров. Россия вступила в новый фазис исторической жизни, которая за этими вопросами выведет еще новые и задаст нескончаемую работу голове и рукам <...> Есть много молодых, скороспелых людей, которые громко кричат об успехах, не приготовившись, не поучившись, вдаются в крайности, любят натяжки и хотят всего достигнуть тотчас, а нет — так ругаются и озлобляются. Это все затем, чтобы
- 120 -
подешевле сделать себе имя и выскочить из толпы. Но все это мальчишеское племя исчезнет яко прах перед лицом ветра, перед настоящими, серьезными, хорошо подготовленными наукой деятелями, которые и будут вождями в идеях, в науках, в труде, в новой жизни <...> Теперь и здесь все молодое бросилось учиться <...> кто за философию, кто за химию, за естественные науки, кто за историю, все за языки, открыли публичные лекции, где слушателей наполовину женщин. А мы, старое, отжившее поколение вздыхаем и жалеем, что так праздно, пусто и дешево истратили жизнь. От этого и скука, и преждевременная старость, утомление гнетет душу: не знаешь, куда деться...”116.
Теми же идеями определяется письмо отцу Александра, Николаю Александровичу Гончарову, от 12 апреля 1862 г.: «...ты правду говоришь, что наши русские университеты, к сожалению, заняты не тем. Здешний вон закрытый стоит: юношество разбрелось и поговаривает, что “теперь-де не наука нужна, а слышь — важные вопросы призывают их к деятельности, современное движение, прогресс, реформы и проч.” Все так, да дело в том, что надо уметь принять разумное участие в этом, а чтобы уметь, надо приготовиться наукой и опытом. Саша, если займется, то уйдет не от современных вопросов, которые впереди, а от современного невежества, самонадеянности и нахальства...» Писатель настаивает на том, что молодым людям надо дать “волю в деле науки, труда и жизни, решить самим, куда они хотят, чему учиться, какой путь избрать, куда их повлекут способности, к какой науке, по какому пути поведет любовь, страсть, пусть туда и идут. При этом условии только и можно иметь успех <...> Вспомните, что мы старики, а жизнь ушла вперед, и мы ее не знаем, не знаем, что понадобится через несколько лет. У юношества чутье острее нашего: оно смекнет, что нужно и что нельзя”117.
Здесь и глубокое понимание юношеской психологии, и терпимость, и готовность априори признать правоту молодых сил в их исканиях, и, наконец, оптимистический взгляд на общее положение дел.
Под влиянием таких соображений и создавалась, вероятно, характеристика Волохова в письме Козлова к Райскому. В нем присутствуют и явно автобиографические моменты118, и веяние времени1*. Конечно, студенческая жизнь 1830-х годов с разнообразными проявлениями бытового вольнодумства имела нечто общее с жизнью студентов второй половины 1850-х — начала 1860-х годов. И все же знаменательно, что некоторые детали воспоминаний Леонтия Козлова о Марке до удивления схожи с тем, что рассказывает о своих студенческих годах А. М. Скабичевский, окончивший Петербургский университет в 1861 г.: “О ношении трехуголок и шпаг начальство уже и не заикалось: их сдали в архив даже франты беложилетники, любители униформ. Вместе с тем начали появляться в университете студенты с косматыми гривами и усами. Я помню одного товарища по факультету, который, отрастив роскошные усы, клялся, что он готов голову дать на отсечение, а усов ни за что не сбреет.
— Ну, а если вас выключат из университета? — возражали ему, — неужели из-за усов вы пожертвуете высшим образованием?
— Ну-ка пусть попробуют. Я тогда на всю Россию крик подниму”120.
Сравним это с письмом Козлова. По его воспоминаниям, Марк, “когда велели всем студентам остричь волосы <...> пришел в парике с волосами до поясницы, влез на кафедру и передразнил И. И. <Давыдова>, который так,
- 121 -
бывало, красноречиво и так пусто читал лекции. Его не выпустили и он вышел без аттестата”121.
Воспоминания Леонтия Козлова рисовали Марка противником всяческого лицемерия, эксцентрические поступки которого определены зарождающимся социальным протестом. При этом, подчеркивает Гончаров, многие неприемлемые в быту свойства личности Волохова, в их числе — цинически-пренебрежительное отношение к принятым нормам человеческого общежития, явились, как выразится он уже завершив “Обрыв”, следствием “небрежного воспитания” (VIII, 353).
Таков был его ответ на попытки “измерить человеческий прогресс только мерилом знания — и в нем одном слить совершенствование человечества!” (VI, 440). Эти принципы, со ссылкой на тот же источник (труды Бокля), с которым полемизирует Гончаров, были провозглашены, в частности, Д. И. Писаревым в статье “Наша университетская наука” (1863): “...воспитывать следует вообще как можно менее <...> Эта мысль находится в тесной связи с знаменитою идеею Бокля о том, что человечество подвигается вперед при помощи знаний и открытий и что нравственные истины не имеют почти никакого влияния на быстроту и успешность исторического развития”. Годом позже он писал, что “блистательным образом” поставленный Боклем вопрос, “какая сила или какой элемент служит основанием и важнейшим двигателем человеческого прогресса”, решен им “ясно, смело и просто”: “чем больше реальных знаний, тем сильнее прогресс <...>”122
Такие выводы противоречили коренным убеждениям Гончарова. Решающее значение в нравственном становлении личности он придавал именно воспитанию, первым впечатлениям ребенка и подростка, той атмосфере, которая окружает его в годы формирования.
Описание детства Марка Волохова резко контрастирует с тем, что говорится в романе о юных годах Райского или Веры и Марфиньки, окруженных заботой и любовью близких. Из всех возможных методов воспитания к нему применялся лишь один, наиболее распространенный: розги. Те же, по существу, принципы — наказание вместо убеждения — царили и в университете. Все это несомненно отразилось на характере Марка. Рассказывая Райскому о своей жизни, Волохов вспоминает, как было потрясено его юношеское стремление к справедливости тем, что на лекциях профессора “так гладко говорят о правах, о наказаниях за нарушения их, а оглянешься, — в жизни все видишь одни только нарушения, а наказывают больше за отыскивание, а не за нарушение прав!”123
Вопреки обыкновению Гончарова показывать формирование личности своих центральных героев едва ли не с пеленок (вспомним “Сон Обломова”), основные моменты “автобиографии” Волохова в окончательную редакцию романа не вошли. За пределами печатного текста остался рассказ Марка о его раннем детстве, полном, в силу случайных обстоятельств, “простора и воли”, о сумятице впечатлений, которую некому было прояснить, о пытливости, никем не введенной в нужное русло. Эпизод, в какой-то степени снимавший с Марка ответственность за уродливости его характера и поведения, был автором “Обрыва” решительно устранен. Не попали в печать и фрагменты первоначальной редакции, рисующие Волохова человеком незаурядным — умным, дерзким и проницательным. Намеченные уже в первом диалоге Марка и Райского черты слагаются в образ протестанта, пусть и с не совсем определившейся программой.
Люди, не предубежденные выходками Волохова, отзываются о нем с уважением. Козлов пишет Райскому о “живом и бойком уме” Марка124. Райский, ссылаясь на мнение Тита Никоныча Ватутина, говорит Волохову, что тот “очень неглупый, способный, кажется, от природы человек”125.
Волохов, правда, заботится о мнении окружающих в совсем противоположном смысле. В одном из вариантов первого его диалога с Райским читаем:
- 122 -
“— Что ж вы слышали обо мне? — спросил Марк.
— Не много хорошего!
— Ну, слава Богу, а я испугался, думал, что кто-нибудь здесь вздумал похвалить меня. Кажется, я делаю все, чтоб не дожить до эдакого сраму. Нил Андреич ненавидит меня, у губернатора я как бельмо на глазу, женщины падают в обморок, когда завидят меня...”126
Гончаров склонен был считать, что герой его “имеет в себе кое-что современное, и то несовременное, потому что во все времена и везде были люди, не сочувствующие господствующему порядку”127. Так писал он, публикуя “Обрыв” в “Вестнике Европы”. На страницах рукописи “Обрыва” писатель высказывался еще определеннее.
Так, вместо нескольких строк печатного текста, довольно туманно характеризующих политические симпатии и антипатии Волохова (V, 266), в рукописи содержится ряд более острых вариантов его диалога с Райским, которые недвусмысленно рисуют отношение Марка к существующему порядку вещей. Этот “пятнадцатого класса, состоящий под надзором полиции чиновник, невольный здешнего города гражданин” (V, 265) — так иронически оценивает Марк свой социальный статус, — в ответ на сбивчивый рассказ Райского о своих артистических метаниях, дает выразительную картину всероссийского застоя. “Занятия” Райского напоминают ему «то же, что все делают здесь, в городе, по деревням, в столицах, во всей России: у нас все или артисты, вот эдакие, как вы, — или деловые люди, вон, что в Палаты по утрам ездят, важные судьи с эдакими брюхами! Зачем же вы меня испугали давеча вопросом: “Что я делаю?”!28 Продолжает Марк так: “Все артисты, дилетанты <...> вон Нил Андреич — настоящий артист! Сначала долго притворялся деловым и добродетельным человеком, а потом и сам уверовал. Губернатор, вице-губернатор, советники, купцы — все артисты! Искусство процветает в России!”»129 Возвращаясь к оценке Райского как неудачника, Волохов замечает: “Стало быть, отвечу по-давешнему: я делаю то же, что и вы, т. е. ничего и, вероятно, по той же причине, как и вы. Нечего здесь делать мне. Поняли?”130
“Дело” не подразумевает здесь, конечно, революционного переустройства общества, как принято было его обозначать в Эзоповом языке русской демократии. Но уж безусловно оно противопоставлено тем занятиям, которые может предложить Марку благонамеренное общество. Показательна его реплика: “Меня тоже хотели сделать деловым артистом; посадили в канцелярию, да потом сняли поскорей”131.
Разумеется, радикализм Волохова не столь опасен, как представляется окружающим. Но на губернском уровне и Волохов оказывался личностью весьма подозрительной. Нравственное убожество, глухой провинциализм, отсутствие духовных интересов в массе его обитателей — таким видит город Райский (V, 187—189). В рукописи за описанием города следуют размышления героя, основной смысл которых в строках: “Неужели все такое скудное содержание, все одна и та же форма жизни, как четырнадцать лет тому назад. Ужели и еще через четырнадцать лет будет то же?”132
5
В написанных до 1862 г. главах наметилась, как показано выше, предварительная схема образа Волохова, которая по мере дальнейшего развития авторского замысла должна была трансформироваться в живой и убедительный характер.
Но, едва определившись, социальный и нравственный облик героя претерпевает серьезные изменения.
- 123 -
Рубежом стало лето 1862 г., период пребывания писателя в Симбирске, время знаменитых петербургских пожаров, которые реакция использовала как повод к ожесточенным репрессиям против демократии.
Не найдя ответа на свой отчаянный призыв: “Хотелось бы послушать правды, узнать, в чем дело, кто, что, как?”, — Гончаров решительно отказывается от продолжения творческой деятельности и возвращается на службу. “Нельзя писать и не стану, разве только придется писать доклад или записку”133.
Но и в “докладах”, и в “записках” романист, даже если бы захотел, не мог уйти от необходимости осмысления современной жизни.
В ноябре того же 1862 г. Гончаров, недавно назначенный на должность главного редактора газеты “Северная почта”, издававшейся Министерством внутренних дел, подает на имя министра П. А. Валуева записку о “способах издания” газеты, предлагая “допустить более смелости <...> говорить публично о наших внутренних, общественных и домашних делах...”134, но быстро убеждается в том, что подобные идеи отнюдь не соответствуют намерениям высшей администрации.
Ситуация явно не способствует творческой работе. Приведенными выше вставками исчерпывается, по-видимому, все, что написано за период 1862—1864 гг.
Новый этап создания романа начинается в 1865 г., как всегда во время летнего отпуска. Но уже не в первый раз оказывается, что “только собран материал и что другая, главная половина, и составляет все”135. Разочарования сменяются надеждами, многое удается написать, но на 14-й главе III части работа вновь прерывается136.
В конце августа писатель приезжает из-за границы в Петербург, где его, уже давно ушедшего из “Северной почты” и вернувшегося в цензурное ведомство, ждет назначение членом Совета Главного управления по делам печати. В своей деятельности “цензора цензоров” Гончаров детально знакомится с позицией крупнейших представителей русской демократии. Его контролю подлежит целый ряд органов периодической печати, в том числе “Современник” и “Русское слово”. Ему, следовательно, более, чем кому-либо другому, становятся известны программные выступления Чернышевского, Писарева, Салтыкова-Щедрина, Антоновича, многие из которых остаются недоступными читателю вследствие цензурных запретов или доходят до широкой публики с искажениями.
К этому времени он уже знаком с разными типами “нигилистов” — и теми, кого можно было бы охарактеризовать словами Тургенева о Базарове: “...если он называется нигилистом, то надо читать: революционером”137, — и так называемыми “бытовыми” нигилистами, в числе которых был его собственный племянник1*. Казалось бы, он получает редкую возможность полно и глубоко охарактеризовать общественно-политическую позицию своего героя.
В принципе это и происходит, но далеко не так масштабно и объективно, как можно было ожидать от столь осведомленного автора. В основе этой характеристики оказывается усердное чтение (по служебной надобности) журнала “Русское слово” и трудов Писарева, в нем помещенных.
- 124 -
19 декабря 1865 г. Гончаров пишет отзыв о статье Писарева “Новый тип”, посвященной разбору романа Чернышевского “Что делать?”. 23 марта 1866 г. — отзыв о его же работе “Популяризаторы отрицательных доктрин” (опубликована под псевдонимом: Н. Рагодин). 17 мая того же года — о третьей части сочинений Писарева.
Как романиста в работах Писарева, посвященных Чернышевскому, Гончарова в первую очередь могли заинтересовать два аспекта: самый роман о “новых людях” и его оценка критически мыслящим представителем молодого поколения со свойственною ему, как заметил однажды Гончаров о Писареве, “заносчивостью (но не без дарования и живой выработанной речью)”139.
Впечатление, произведенное на Гончарова высказываниями этого “разрушителя эстетики”, столь велико, что он возвращается к ним в своих письмах и литературных выступлениях вплоть до конца 1870-х годов. Исключительно важное значение они приобретают в процессе осмысления позиции Волохова, который в середине 1860-х годов оказывается, хотя и ненадолго, в центре внимания писателя как тип нового героя, выдвинутого эпохой.
6
На первых порах создания “Обрыва” Гончаров руководствовался стремлением к беспристрастному анализу, не исключавшему, разумеется, права на критику. Но события внутренней жизни писателя и жизни общества вторгались в его творческую деятельность и провоцировали его на крайне субъективные решения. Болезненно впечатлительный Гончаров остро реагировал на такого рода вторжения. Воспоминания А. Н. Гончарова убедительно свидетельствуют, каким серьезным поводом к пересмотру взглядов писателя на проблемы современной молодежи оказались волжские встречи и споры 1862 г.
Еще значительнее повлияла на историю “Обрыва” драма, разыгравшаяся в доме Майковых. Из высокоинтеллигентной семьи старых друзей Гончарова, бросив детей, ушла к нигилисту Федору Любимову Екатерина Павловна Майкова. Муж ее Владимир, по словам современников, был наименее ярким и одаренным в этой семье талантов. Но он горячо любил свою хрупкую жену, да и все в клане Майковых относились к ней нежно и сочувственно.
16 мая 1866 г. Гончаров адресует Майковой одно из последних (или последнее?) перед ее уходом из семьи писем. Ему, пожалуй, уже ясно, что процесс необратим. Тем не менее он мобилизует весь присущий ему дар убеждения, весь житейский и литературный опыт, пытаясь предостеречь Майкову от ошибок и заблуждений, от “умничанья”, от “хлестаковского предрешения жизненных, не испытанных на себе еще вопросов”, “от мнимой простоты, мнимой потому, что жизнь кажется проста не ведающим ее, которые еще не озадачены опытом и потому так бесцеремонно и распоряжаются ею”140. Сознавая, что метания Майковой — явление отнюдь не узко семейного, но общественного порядка, он предпринимает глубокий анализ причин, вызвавших конфликт, но ни одну из них не считает убедительной, а главное, на его взгляд, — ни одна не была обнаружена молодым поколением. Зачем же в таком случае отваживаться на столь разрушительные действия?
Разумеется, не является тайной для писателя, кто из собратьев по перу причастен к тяжкому решению, зреющему у Екатерины Павловны.
Не называя имен, он зло, резко, иронично обрушивается на сочинения Писарева и Чернышевского.
Именно этот аспект письма к Майковой в первую очередь важен для истории образа Волохова, поскольку внутренняя полемика с вождем радикально настроенной молодежи продолжается на страницах романа “Обрыв”.
На осмысление происходящего Гончарову потребовалось два года. 29 мая 1866 г., получив отпуск, он уезжает за границу.
Е. П. Майкову Гончаров явно ни в чем не убедил: в августе этого года она покидает семью. Поражение в острой, политической по существу, дискуссии
- 125 -
не могло не насторожить писателя, заставив его усомниться в своих возможностях. Мог ли он обращаться к читающей России с надеждой быть услышанным, если его доводы не принимает во внимание даже один потенциальный читатель, во многом, казалось бы, близкий человек?
КИНДЯКОВО, ВБЛИЗИ СИМБИРСКА
Фотография Каганина. Симбирск, <1912>. На паспарту надпись рукою А. Ф. Кони: “Вид с юга”
Гос. архив Российской Федерации, Москва
Согласно преданию, Киндяково — место действия романа “Обрыв”
Данная ситуация выстроена, конечно, гипотетически, но представляется весьма реальной.
Творческие итоги лета 1866 г. писателя не удовлетворяют. За это время он написал сравнительно немного: оставшиеся десять глав III части, программа которых была намечена в 1865 г. Его письма из Мариенбада свидетельствуют о том, что работает он медленно, без увлечения.
Годом позже Гончаров в одном из писем объяснял свои неудачи тем, что ему не даются “страстные сцены”141. Думается, что дело вовсе не в них. К концу лета 1866 г. на очереди стояли иные вопросы.
В заключительной 23-й главе III части раскрылась, наконец, тайна Веры, выяснилось, что мысли и чувства героини были заняты не кем иным, как Марком Волоховым. Предстояло объяснить читателю, чем привлек героиню “этот пария, циник, ведущий бродячую, цыганскую жизнь, занимающий деньги, стреляющий в живых людей...” (VI, 166). Ответа требовали не только движение творческого замысла Гончарова, но и сама жизнь. Осмысление продолжается, но итоги его пока не становятся достоянием рукописи.
Летом следующего, 1867 г., в письмах Гончарова опять звучит безнадежное признание: “Бросаю перо!”142
Но именно этим, казавшимся бесплодным, летом была создана первоначальная редакция 1-й главы IV части, в которой через год, наконец завершая роман, Гончаров увидит основу всей предстоящей работы: “...листы эти для меня драгоценны <...> в них Марк весь, как вылитый — и Вера тут же <...> без этого дальше даже и писать нельзя” (VIII, 334).
На этих созданных летом 1867 г. и переработанных летом 1868 г. листах черновой рукописи развертывается первый из двух бурных диалогов Марка и
- 126 -
Веры, проясняющий позиции обеих сторон, взгляды героев на жизнь и будущее.
Основное содержание их споров можно определить словами Веры о “вечной войне” Волохова “против гнезда, т. е. против семейства”143.
Здесь-то и проявились результаты осмысления Гончаровым событий предшествующих лет, раздумий о том, “что есть прочного, глубокого, истинного и разумного в том или другом движении умственном, социальном и т. д. <...>”144.
Однако чем ближе был роман к завершению, тем чаще итоги многолетних размышлений о “нигилизме”, т. е., по определению Гончарова, “крайнем воплощении юношеского увлечения”145, отражались в этом произведении не в объективном, а в намеренно тенденциозном освещении.
«Это, — пишет исследователь “Обрыва” Н. К. Пиксанов, — был ответ на образы романа “Что делать?”. Это была переоценка “новых людей”. Это была борьба с ними. И подобно тому как Чернышевский ставил вопрос “что делать?” и отвечал на него и передавал читателям свои мысли о будущем, так и Гончаров тоже говорил о будущем и отвечал на вопрос “что делать?”»146.
И если в деятельности Гончарова 1860-х годов как цензора можно увидеть проявление его политических разногласий с идейными противниками, то, завершая “Обрыв”, он вступил в прямую и ожесточенную полемику с революционно-демократической литературой, пропагандирующей идеи его противников, прежде всего по проблемам нравственно-философским. Свои взгляды, убеждения и принципы автор “Обрыва” отстаивал упорно и настойчиво, и в этом смысле творчество его не менее тенденциозно, чем произведения его литературных и политических антагонистов.
7
Притягательную силу нового учения Гончаров, мыслитель и художник, осознавал очень хорошо. Именно поэтому, не разделяя его, вступая с ним в борьбу, он последовательно и настойчиво, не чуждаясь преувеличений, не брезгуя пародией, вскрывал все его слабые места, утрировал противоречия. Оговорка в письме к Ек. П. Майковой о том, что “главная и почти единственная цель в романе — есть рисовка жизни, простой, вседневной, как она есть или была, и Марк попал туда случайно”147, справедлива лишь отчасти.
Иное дело, что в романе поставлены многие другие важнейшие проблемы, не на одном “нигилисте” сосредоточена мысль и творческая фантазия писателя. Но, как говорилось выше, самый ряд образов-символов, связанных с Волоховым в системе романа, объективно характеризует авторскую оценку исторического значения Волоховых в русской жизни 1860-х годов. Воспользовавшись словами Гончарова, сказанными им по другому поводу, подчеркнем, что писатель несомненно чувствовал “объективное величие этого типа” (VIII, 458).
Отношение Гончарова к Волохову было совершенно осознанным, хотя и не лишенным внутренних противоречий, что и отразилось на всем процессе работы над созданием этого образа — работы, которая не прекращалась вплоть до окончания журнальной публикации романа (в корректуру “Обрыва” вносились серьезные изменения, затрагивающие многие пласты трактовки героя).
Коренное отличие черновой редакции романа от окончательной состоит прежде всего в том, что рукопись позволяет составить более ясное и отчетливое представление о политической программе Волохова, безусловно связанной с общественным движением 1860-х годов, основную силу которого составляли разночинцы. В рукописи “Обрыва” эта связь подчеркнута еще в первом разговоре Волохова с Верой. В печатном тексте романа умелая рука Гончарова смягчила обличающий характер этого разговора (VI, 169). В рукописном
- 127 -
же тексте в ответ на замечание Веры о семинаристах: “— Да они теперь распространяют просвещение запрещенными книгами” — следует нарочито циничное, но весьма близкое реальности 1860-х годов замечание Волохова: “— Да, это наши миссионеры, — сказал он, — ничего. Они пока сглупа лезут в огонь, да усердно. Лбы у них крепкие и кожа здоровая, не дворянская: не то, что студенты. Те розгачей не терпят, не выдерживают, а этих порют, порют — всё терпят и молчат. И как бараны, куда одни, туда и другие1*. А нам таких и надо...”151. Этот разговор отзовется в словах Веры, обращенных к Волохову при их новой встрече (часть IV, глава 12-я): “...вы возмущаетесь тем, что я не слушаю вас, как ваши семинаристы... слепо”152.
Прямые намеки на связь воззрений Волохова с идеологией шестидесятников, в частности, с теорией “разумного эгоизма”, содержатся и в не вошедшем в окончательный текст романа эпизоде той же главы, где Марк замечает Вере: “...я долгов не признаю, точно так же, как и жертв. Да их и нет, по правде сказать... Если кто приносит жертву, так значит — она нравится ему самому — и он не даром приносит ее <...>”. Видимо, эта фраза повторялась Волоховым не один раз, поскольку Вера тут же перебивает его: “Знаю, знаю! — с утомлением сказала она”153.
Обратимся вновь к уже цитированной работе Г. В. Краснова и В. А. Викторовича. Исследуя явление “нигилизма”, авторы приводят ряд важных высказываний известных деятелей эпохи 1860-х годов с таким резюме: нигилизм начала 60-х годов «отрицал диалектику материального и духовного, как бы терял равновесие между ними. Его крайность была ответом на утверждения “отцов” о первостепенности духовных мотивов». Здесь же находим необходимые для понимания нравственно-политической позиции гончаровского героя суждения “шестидесятников” и соответствующие комментарии исследователей: «...Базарова выводит из себя слово, которое привычно произносится Аркадием: “должен”. Тургенев уловил здесь очень важную черту в психологии нигилизма. Так, один из наиболее законченных представителей этого типа, Варфоломей Зайцев, однажды признался: «Мы боялись слов “долг”, “обязанность”»; студент Московского университета Сергей Торчилло сделал в эти годы характерную запись: “...пигмеи нравственности <...> жужжат о долге, об обязанностях”154. Уместно вспомнить здесь покаянный монолог Волохова, в котором герой признается себе в том, что, “оставив бессильную женщину разделываться” за увлечение, он мог обещать ей только одно: «Уйти, не унося с собой никаких “долгов”, “правил” и “обязанностей”» (VI, 381).
Отдавая дань новому, последовательно приближая Волохова к типу “нигилиста”, Гончаров делает его из гуманитария естественником. Правда, тут следует уточнить, что и та и другая грань интересов Марка отражены преимущественно в рукописи романа и только в словах “от автора”.
Как видно хотя бы из цитированных выше писем Гончарова к родным за 1862 г. и тем более из его статей 1870-х годов, писатель вовсе не отрицал
- 128 -
положительной роли естественных наук в процессе обновления жизни. Известно, например, что он считал возможной публикацию в “Современнике” статьи М. А. Антоновича “Пища и ее значение”, в которой его коллеги, в частности А. В. Никитенко, увидели злостный материализм. Свое мнение Гончаров отстаивал, “стараясь доказать <...> что пора знакомить общество и с скверными идеями”155.
В романе “Обрыв” автор, однако, счел необходимым преподнести чуждые ему идеи в утрированно карикатурном виде. Возмущенный Волоховым Тушин в разговоре с Верой замечает: “Поучился бы правде у вашего ума и честности у сердца — вот и была бы естественная наука. А то букашек разбирает, а слона и не заметил”156. Этот пассаж не попал в окончательный текст. Но включена туда другая сентенция. В 6-й главе V части от имени Веры говорится, что Марк “закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям, разрушая младенческими химическими или физическими опытами и вечность, и бессмертие <...>” (VI, 310). Такие выпады вызвали резкое замечание Салтыкова-Щедрина: “Никто, ни даже хорошенькая Вера, не в праве инсинуировать, что за физическими и химическими опытами скрывается разрушение чего-либо другого, а не невежества. Это не ее ума дело”157.
Однако именно в цитированных словах, как и во всем контексте размышлений Веры, выражена принципиальная позиция автора — мысль о примитивности материалистического мировоззрения (“Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя” — VI, 310) и, более того, о разрушительном воздействии материализма на нравственные устои личности (“Он, во имя истины, развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, не животную сторону <...> Оставив себе одну животную жизнь, “новая сила” не создала вместо отринутого старого никакого другого, лучшего идеала жизни” — VI, 310, 311).
Уже из этого видно, что мысль о непременном интересе к естественным наукам как составной части нигилизма действительно слишком наивна для Гончарова. Здесь заметно проявляется та особенность образа Марка, которую неоднократно подчеркивал в свое оправдание автор “Обрыва”: “...он у меня вышел сшитым из двух половин, из которых одна относится к глубокой древности, до 50-х годов, а другая — позднее, когда стали нарождаться новые люди”158. В этом месте шов вышел уж очень неумелый. Здесь — либо вольная или невольная дань Гончарова “уличной философии”, либо прямая аллюзия, за которой стоит тургеневский Базаров (в “Необыкновенной истории” Гончаров заметил, что после “Отцов и детей” ему легче было писать своего Волохова)159.
Круг чтения “позднего” Марка также определяется веяниями времени. Не без иронии говорит он Вере, что будет приносить на свидание с ней, ввиду их бесконечных словопрений, Кантову “Критику чистого разума”1*, а в пропаганде среди гимназистов использует книги Д. Штрауса “Жизнь Иисуса” и Л. Фейербаха “Сущность христианства”161. Само знакомство героев началось, как известно, с упоминания Волоховым знаменитого труда Прудона “Что такое собственность?”.
В таком изменении книжных интересов Волохова была, разумеется, объективная правда времени. Но сказались здесь и расхожие представления о находящемся в повседневном обиходе нигилистов обязательном наборе произведений запрещенной в России или полулегальной литературы.
Точнее были представления романиста о демократической эстетике 1860-х годов, непременной принадлежностью которой, по Гончарову, было нигилистическое отношение к Пушкину и его предшественникам. При этом
- 129 -
он неизменно опирался на хорошо знакомые ему работы Писарева. “И оттого, — возмущенно писал он Е. П. Майковой в 1866 г., — я краснею не только, когда говорит это Хлестаков-Писарев в своих рецензиях, но меня коробило, когда (конечно, не так глупо) и Белинский резко говорил о Державиных и Дмитриевых, упуская историческую точку из-под ног”162.
Подобные воззрения были, по мнению автора “Обрыва”, одним из родовых признаков нигилизма. Их он приписал Волохову, они положены в основу его пропаганды. Отсюда реплика Марка о “плесени” в гимназии, где “осел, словесник, угощает то Карамзиным, то Пушкиным” (VI, 70).
Пристального внимания заслуживает тот факт, что некоторые положения писаревских работ, особенно статьи “Новый тип”, Гончаров тенденциозно интерпретирует в рукописи 1-й и 12-й глав IV части и 17-й главы V части романа. Умело препарированные романистом, они с иронией и негодованием обращены против Волохова. Тщательно расставленные автором “Обрыва” кавычки в покаянном монологе Марка Волохова, как и все его содержание, обращают нас к источнику рассуждений героя1*. Последний раз предоставляя Волохову слово на страницах романа, Гончаров вступает в резкую полемику с позицией Чернышевского, воспринятой им, вероятнее всего, через посредство Писарева2*.
В полемическом задоре автор “Обрыва” приписал шестидесятникам совершенно не свойственный им цинизм в решении “женского вопроса”. Достаточно сравнить выдержку из статьи Г. Е. Благосветлова “На что нам нужны женщины?”, опубликованной в июле 1869 г., т. е. чуть позже “Обрыва”, с высказываниями Волохова, правда, не попавшими в окончательный текст романа. С присущей ему определенностью выражений Благосветлов пишет: “...кто, кроме идиота, решится в наше время утверждать, что все земное назначение женщины в том, чтобы родить детей и быть в вечном и безусловном повиновении у своего деспота”164. Волохов же в споре с Верой иронически отзывается о “седом мечтателе” Райском, думающем, что «женщины созданы для какой-то “высшей цели”, а не для... деторождения»165 (ср.: VI, 255. Последние слова Волохов договаривает шепотом и “в сторону”). На полях 3-й главы V части Гончаров записал для памяти еще одно близкое по смыслу замечание Волохова, не использованное в тексте: “Какой непочатый угол романтиков, — говорит Марк: симпатия, душа, бессрочная любовь”166.
Тем не менее и в этих остро полемических главах Гончаров во многом сохраняет объективность. В рукописи романа именно Волохов произносит злой приговор человеку “40-х годов” Райскому: “Разве это страсть сильной, здоровой натуры, которая готова изломать всю свою жизнь для чужой? Он шагу не сделает, не встанет часом раньше из своих пуховиков. О жертвах говорить нечего”. И далее: “Какая встреча удовлетворит его: он идеалист, пожалуй, и художник — только делать ничего не умеет! И любовь у него — вовсе не цель, а только средство фантазировать, выражаться, как говорят эти господа”167.
Произнесенный в том духе “метанья камнями в своих предшественников”, о котором говорил Герцен168, монолог Волохова вполне соответствует
- 130 -
атмосфере идейно-нравственных споров эпохи. Исключив эту характеристику из текста, Гончаров впоследствии использует ее в этюде «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”» для определения Райского уже от своего собственного имени (VI, 459—460).
Не утратив в пылу полемики объективность и трезвость взгляда на действительность, Гончаров, несмотря на раздражение, которое он испытывал при мысли о претензиях Волоховых на ведущую роль в общественном процессе, не счел возможным отказать герою в исторически достоверных чертах. Впрочем, снова приходится подчеркнуть, что многие соответствующие реальности детали характера и образа мыслей героя не стали достоянием печатного текста.
В рукописной редакции автор заметил, что Волохов “не был разбойником” — “и по природе, и по убеждениям”169. Эта формулировка, разумеется, слишком прямолинейна, носит черновой, предварительный характер, но появление ее не случайно. Увереннее прослеживается в рукописи серьезность жизненных планов Волохова, ощущение общественной значимости его идеалов. В прощальной записке Марка после слов о любви, которая пересиливает и его самого, и его планы, в рукописи романа зачеркнуто: “может быть, все мое будущее, к которому я шел”170. Там же глубокая оценка Волоховым своего положения: “Своей будущностью я тебя не соблазняю — у меня нет никакой, т. е. определенной. Ни угла, ни очага, ни имущества — я пожинаю, где не сеял, и не сею ни с кем, чтоб пожинать. — Я не знаю, где буду жить, но знаю, что нигде не пущу корней. — А ты мечтаешь о гнезде”171. В этом признании Марка находим не вульгарную проповедь “встречи на срок”172, которая, будучи, как казалось Гончарову, главным постулатом этики шестидесятников, вызывала его решительное противодействие, но трезвую оценку своих возможностей, определяемую сознанием общественного долга.
В первоначальной редакции романа существовала, как известно, глава, посвященная прощальной встрече Волохова и Райского173. В споре героев, имеющем, в отличие от большей части их кратких разговоров в окончательном тексте романа, сугубо идеологический характер, за спиной Райского стоит Гончаров с его излюбленной идеей о бесперспективности насилия над естественным ходом истории. Тем не менее победа объективно оказывается на стороне Волохова, уверенно заявляющего Райскому: “Народ умнее господ: он поймет меня лучше, нежели вы, мертвецы...”174 Без этой главы общественная программа Волохова оказалась обедненной. К тому же в написанном заново (в связи с исключением этой главы) финале романа — объяснении Волохова с Тушиным — появилась неожиданная развязка: предполагаемый отъезд Волохова “в юнкера” на Кавказ, что в условиях конца 1860-х годов выглядело нелепым анахронизмом. На это незамедлительно обратила внимание критика в лице А. М. Скабичевского1*.
Значительно сократив центральные эпизоды, более полно раскрывающие кредо Волохова, изъяв из его диалогов с Верой существенно важные для определения личности и позиции героя фрагменты, Гончаров посвящает изложению нравственно-философских и политических взглядов Волохова 6-ю главу V части — огромное отступление, поданное как размышления главной героини (“Все это пробежало в уме Веры...” — VI, 313).
- 131 -
С несвойственным его дарованию публицистическим пафосом принимается Гончаров обличать “новую силу”. И здесь постигает его явная творческая неудача, причины которой точно и убедительно были определены Салтыковым-Щедриным.
Заметив, что “до сих пор” романист “воздерживался от ясного заявления каких-либо политических или социальных взглядов на современность”, в чем виделся “признак того такта, который всегда отличал этого писателя”, Салтыков переходит к анализу первой попытки такого рода, предпринятой в “Обрыве”. Оценивает он ее очень резко, считая, что в лучшем случае это “добросовестное злоупотребление”, поскольку “недобросовестное” делается “сознательно и преднамеренно”176.
Обязательное условие при анализе сферы человеческих убеждений заключается, по Салтыкову, в том, чтобы “наблюдатель стоял на одном уровне с наблюдаемым”. В рассматриваемом случае этого нет. Гончаров, «разоблачая внутреннюю жизнь своего героя <...> поступил слишком уже просто, а именно: ограничился одним сухим перечнем его “новых” мыслей и затем вменил их ему в вину, не воплотив их в жизнь, то есть не дав практического исхода ни его дерзости, ни его отрицанию, ни его презрению “ко всему тому, что не носит на себе печать реальности”»177.
В словах о “практическом исходе”, пожалуй, ключ к гончаровской неудаче.
Среди множества объяснений Гончарова в ответ на упреки критики в необъективном подходе к “новым людям” одно представляется психологически близким к истине: “...мы, старики, не можем ни знать хорошо, ни быть их адвокатами и певцами, по свойственному человеку влечению любить свое время, быть верными своим взглядам, убеждениям и принципам, по которым жилось так долго”178. Оставалось, правда, неясным, почему в таком случае автор “Обрыва” избрал себе роль прокурора. От такого художника, как Гончаров, можно было ждать большего, чем попытки претворения в поведении и политической программе героя нехитрого набора расхожих истин нигилизма в его “уличном”, по преимуществу, понимании.
В статье “Лучше поздно, чем никогда”, опубликованной через десять лет после выхода в свет “Обрыва”, Гончаров заметил, что Волохов в принципе готов «с почвы праздной теории безусловного отрицания <...> перейти к действию...» (VIII, 128). Таким образом, предполагать политическую недальновидность Гончарова было бы весьма неточным. Другое дело, что в своем романе он категорически отказался от конкретизации политических деяний Волохова. Его герой как протестующая натура, в сущности, такая же абстракция, как герой-прагматик типа Штольца или Тушина. Но если во втором случае “наблюдатель стоял на одном уровне с наблюдаемым”, то в первом, намереваясь создать характер героя, деятельность которого должна развертываться в сфере общественно-политической, Гончаров не сумел подняться на должную высоту. И в плане художественном тоже. Как зло, но глубоко отметил Салтыков, “немного красок потратил г. Гончаров, чтобы нарисовать этого грубого мужчину, и мы имеем право думать, что это сделано не без умысла, потому что на палитре этого автора обыкновенно имеется большое обилие и разнообразие красок” 179. Заметим, однако, что Волохов как личность все же значительно ярче “положительных” героев гончаровских романов. И. Ф. Анненский справедливо заметил: “Тушин сочинен и Штольц придуман. Но ведь эти фигуры и не просятся в художественные перлы: на лайке своих кукол поэт не рисует ни синих жилок, ни характерных морщинок”180. Не то Волохов. Критические и читательские копья не ломаются ради безжизненных выдуманных фигур.
В своей статье Салтыков специально напомнил читателю о том, что «г. Гончаров называет Волохова “новым апостолом” и что, следовательно, он придает его мыслям и взглядам значение далеко не шуточное»181. С тех пор,
- 132 -
однако, ни один из исследователей романа не обратил на этот факт должного внимания182.
Саркастически, но очень точно перечисляет Салтыков те девять “пунктов”, к которым “может быть приурочено” все сказанное по этому случаю Гончаровым, характеризуя их «не более как детские разглагольствования, в основании которых положено бессодержательное и давно уже всем приевшееся слово “отрицание”»183.
Изучение рукописи 6-й главы V части в сопоставлении с печатным текстом обнаруживает замечательное, на наш взгляд, обстоятельство. Дело в том, что практически все “пункты”, вызвавшие резкий протест Салтыкова, вписаны на полях, подвергнуты серьезной правке в сторону максимально возможного “обличения” волоховской доктрины или, наконец, появились только в печатном тексте.
Гончаров работал над этой главой серьезно и целеустремленно, так что никаких скидок на торопливость, непродуманность и т. п. здесь быть не может и “снисхождения” автор “Обрыва” в этом плане не заслуживает. Рукопись хранит следы обширной и тщательной правки, в том числе — вставки на полях, сделанные и одновременно с написанием основного текста, и, судя по почерку, позднее. В печатный текст включены существенно важные тезисы, отсутствующие в рукописи. В своем большинстве они способствуют критике политической и философской доктрины Волохова.
8
Известны попытки Гончарова противостоять обвинениям и упрекам демократических журналов: “Меня крайне удивляло, как молодое поколение могло принять Волохова на свой счет, кроме разве самих Волоховых! <...> Волохов — будто бы новое поколение! То поколение, которое бросилось навстречу реформ — и туда уложило все силы!” (VIII, 127).
Все это, пользуясь любимым выражением автора “Обломова”, не более, чем “жалкие слова”. В своем “Обрыве” Гончаров пошел на открытую конфронтацию с революционной демократией, принципиально не принимая прежде всего ее этическую программу. Это было великолепно понято, в частности, Салтыковым, и нашло резкий отпор в его статье, посвященной, как специально оговаривалось, именно “философии почтенного автора”184.
«Бросать камень в людей за то только, что они ищут, за то, что они хотят стать на дороге познания, за то, что они учатся, и бросать этот камень, не дав себе даже предварительного отчета, в чем заключается сущность стремлений этих людей, — вот подвиг, которого неловкость и несвоевременность, по нашему мнению, не может подлежать спору. К сожалению, подобного рода неловкий и несвоевременный подвиг совершил г. Гончаров своим романом “Обрыв”», — такой отповедью завершалась салтыковская статья185.
Разоблачительный пафос 6-й главы V части никого не убедил. Не всегда удачны и пафосные страницы, так сказать, утверждающего характера. Речь идет, в частности, о “странствиях” Татьяны Марковны Бережковой с “ношей беды”: их художественности вредит избыточная аллегоричность. Но вот “видение” бабушки — своеобразный реквием старым “дворянским гнездам” кажется нам превосходным. “Безотрадное сознание” героини, обращенное в будущее, рисует картины, точный и глубокий смысл которых суждено было оценить лишь потомкам гончаровских героев. Никакому Тушину не дано было приостановить этот процесс материального и духовного оскудения русского дворянства, и никакой Волохов не нарисовал бы картины трагичнее и правдивее, чем это сделал Гончаров.
В связи с историей Веры и бабушки в V части романа писатель привлекает многочисленные примеры самоотверженности и верности долгу, которые должны свидетельствовать о величии души человеческой вообще и женской в особенности.
- 133 -
Из них обратим внимание лишь на одну: упоминание женщин-декабристок, последовавших за своими опальными мужьями в Сибирь. Вспомним в этой связи реакцию романиста на присылку ему Некрасовым поэмы “Княгиня М. Н. Волконская”: “Это самый благодарный предмет для искусства, а теперь, пока близко, нужно, к сожалению, соблюдать осторожность” (VIII, 399).
Не руководствовался ли тем же правилом Гончаров в своем последнем романе?
Если позволить себе довольно смелую гипотезу, то Гончарова, рисующего героическую, деятельную личность, можно себе представить скорее как романиста исторического. Иными словами, роман о декабристах мог ему удаться более, чем роман о нигилисте.
На такую мысль наводит известная из “Необыкновенной истории” генеалогия рода Райских, задуманная Гончаровым до 1855 г., т. е. более чем за десятилетие до появления “Войны и мира”. Начиналась она от елизаветинских времен, а завершали ее «продукт начала XIX века — мистик, масон, потом герой-патриот 12—13—14 годов, потом декабрист и т. д. до Райского, героя “Обрыва”»186. Историческая ретроспектива, нарисованная Гончаровым, — это ведь путь Пьера Безухова. Крайне любопытным в гончаровском замысле представляется то, что герой будущего романа — потомок декабристов, но не идущий по пути борьбы, а ушедший в искусство. Такие наблюдения и выводы в середине 1850-х годов были вполне оригинальными и смелыми. Сопоставление протестующей личности, предавшейся “искусствам творческим, высоким и прекрасным”, с характером, рожденным пореформенной эпохой, могло оказаться весьма продуктивным. Однако и эта идея не была реализована в окончательном тексте романа.
———
Изучение черновой рукописи романа “Обрыв” показывает, каким долгим и трудным путем шел Гончаров к итоговым оценкам “нового героя” в его взаимоотношениях с жизнью и с окружающими. Путь этот чреват ошибками и противоречиями, взаимоисключающими решениями, психологическими и творческими просчетами. И тем не менее писателю удалось показать, как столкновение двух личностей, Веры и Марка, за каждой из которых стоит своя “правда”, становится явлением не только духовно-эмоциональной, но и социальной жизни, создать достоверные и глубокие характеры.
Следует, видимо, согласиться с одной из поздних оценок Гончаровым своего отношения к Волохову: “Я его не оскорбляю, он у меня честен и только верен себе до конца”187.
III. В ПОИСКАХ ИДЕАЛА
При всей остроте проблем, занимавших Гончарова в связи с оценкой Волохова и окончательной прорисовкой его характера, летом и осенью 1868 г. в творческом воображении автора теснились иные темы и герои, временами отодвигая Марка на периферию повествования, а в конечном итоге вытеснив его из круга первостепенных интересов писателя.
“Урок” обществу, который романист намерен был дать, изображая “крайности” (VI, 425) молодого поколения, показался автору на завершающем этапе работы над “Обрывом” менее значительным и актуальным, нежели воссоздание на его страницах процесса “разнообразного проявления страсти, то есть любви”, который, “что бы ни говорили, имеет громадное влияние на судьбу — и людей, и людских дел” (VI, 453). Акценты из области социально-политических отношений перемещались в сферу нравственных поисков и общечеловеческих идеалов, из области сиюминутного в область непреходящего, вечного.
- 134 -
Такой поворот замысла, да еще и с явно полемическим оттенком, означал новое обращение писателя к женским образам романа и тем самым — к судьбе русской женщины вообще. Это стало еще одним проявлением «теснейшей органической связи между всеми тремя книгами: “Обыкновенной историей”, “Обломовым” и “Обрывом”!» ( VI, 446).
1
Еще в первом гончаровском романе обнаружилось, какое важное значение придавал писатель женской интуиции, особенностям женского мировосприятия, считая его высоким эталоном в оценке не только людей, но и нравственных проблем века. Та же мысль прозвучала в “Обломове”. Но наиболее полное и неожиданное решение получила эта тема в “Обрыве”, где право суда над временем и над героями, воплощающими в себе его достоинства и пороки, принадлежит двум женщинам: Вере и Татьяне Марковне Бережковой.
Резкое своеобразие ситуации “Обрыва” состоит в том, что суд вершат не безупречно чистые героини, какой была Ольга Ильинская, или, например, “тургеневские девушки”, а оступившиеся, “павшие”, как тогда выражались, женщины. Уникальная для творчества Гончарова напряженность конфликтных ситуаций, разрешающихся лишь в заключительных главах “Обрыва”, определяется не только остротой поднятых там общественных вопросов, но и своеобразием характера главной героини романа.
Гордый, непреодолимый порыв к свободе и правде, страстная и своевольная натура, живущая по своим законам добра и справедливости, — такою была задумана Вера в ранних творческих планах романиста. Но осуществление гончаровского замысла пошло по несколько иному пути.
“Программа” “ранней” Веры формировалась в то же время, когда задумывался и “ранний” Марк. Вслед за 14-й и 15-й главами II части, посвященными первой встрече Райского с Волоховым и “автобиографии” Марка, были созданы 16-я и 17-я главы, где закладывались основы нравственно-психологической характеристики Веры.
Уже внешний облик кузины поражает Райского резкими контрастами. Во “взгляде ее”, который “глядел так же глубоко, как эта пропасть над Волгой, как сама далекая Волга”, появляется временами “какой-то желтый отблеск, [как у пантеры]”188. Он “наблюдал, отчего вдруг, с ее приходом, падал другой свет на предметы, отчего такая невзрачная комната, как кабинет Татьяны Марковны, вдруг обливался поэзией...”, замечая, как “тут же, рядом, в одну и ту же минуту, взгляд ее блеснет зло, как сталь, или поглядит так холодно и небрежно, вырвется резкое слово, иногда и вся мина злая — точно сердце ее способно ненавидеть, как будто не жди от нее жалости, мягкости, стыда, пощады — ничего женского”189.
Столь же своеобразен и противоречив ее характер, ее отношение к людям, самостоятельность суждений и глубина эмоций, неожиданные для ее возраста и среды. Озадачивает Райского и замкнутость, погруженность героини в неведомые ему, но несомненно серьезные размышления, “какая-то прячущаяся внутри жизнь” и почти не скрываемая Верой отчужденность от самых близких людей: “она <...> не любила, чтоб обращали на нее внимание”190.
Отдаляясь от родных, Вера как будто готовит себя к жизненным испытаниям, к нелегкой судьбе. Уверенно говорит она сестре, что та “не вытерпела бы” ее, Вериного, счастья, и продолжает: “Зато, если буду несчастлива, то уж так, что никто, кроме меня, не вытерпит”191.
Эпизоды и оценки, подчеркивающие внутреннюю независимость Веры, постепенно нагнетаются. Так, в главе, посвященной знакомству Веры с Марком, говорится о том, что героиня освободилась от “системы бабушки” (в зачеркнутом варианте — перед ней “оказалась несостоятельною древневековая, так долго с успехом царствовавшая система бабушки”192). В ответ на беспокойство Татьяны
- 135 -
Марковны, заметившей волнение внучки, Вера умоляет: “...у меня другое счастье и другое несчастье, нежели у Марфиньки. Не требуйте от меня того, что вы требуете от нее — ради Бога! — Забудьте меня, оставьте меня самой — или я умру с отчаяния. [Меня убьет неволя!]”193.
Потрясенный своеобразием духовного мира Веры: “Все было так прихотливо, противоречиво, противоположно и своенравно в ней, что он угорал”, — Райский “втайне трепетал от мысли, как он сначала смутит, потом покорит ее еще, вероятно, неведомой ей свободой ума, глубиной взгляда на жизнь, смелостью новых понятий. Он верил, что принесет ей в себе целый, новый, ослепительный мир, увлечет ее в океан этого развития и... будет ее героем”194. Но очень скоро ему пришлось убедиться в том, что традиционная для него, “человека 40-х годов”, роль в данном случае не осуществима.
“Дух Божий веет не на одних финских болотах: повеял и на наш уголок”, — иронически замечает Вера в ответ на попытки Райского определить, откуда у нее “эта мудрость” (V, 356). Веяние свободы, коснувшись Веры, пробудило в ней интерес, а потом и любовь к человеку иного душевного склада и иных жизненных принципов, нежели те, какими руководствуется ее так называемый “кузен”.
2
В процессе развития авторского замысла центральные женские образы романа, в первую очередь Вера, подверглись резкой ломке.
На первый план выдвигается тема борьбы со страстью, противоречащей убеждениям и долгу, тема победы долга над чувством, сознательной, но трагической. Может показаться, что один из основных конфликтов романа из сферы идеологической переводится в сферу нравственно-психологическую, в область интимных чувств героев. На самом же деле по внутреннему своему содержанию он остается напряженно идеологическим.
В окончательной редакции романа величие души и цельность характера Веры проявляются уже не в том, что она, разделяя убеждения, готова разделить и превратности судьбы политического изгнанника. Жизнь героини пошла по иному, чем было намечено ранее, пути. Принципиальное изменение ситуации прекрасно формулируется в последней записке к Вере Марка Волохова: “Уехать тебе со мной, вероятно, не дадут, да и нельзя! Безумная страсть одна могла бы увлечь тебя к этому, но я на это не рассчитываю: ты не безголовая самка, а я не мальчишка. Или для того, чтобы решиться уехать, нужно, чтобы у тебя были другие, одинакие со мной убеждения и, следовательно, другая будущность в виду, нежели какую ты и близкие твои желают тебе <...> Соглашаюсь, что отъезд невозможен”. Готовясь “принести жертву”, хотя и уточняя в соответствии с принципами “разумного эгоизма”: “...то есть мне хочется теперь принести ее, и я приношу”, — Волохов намерен остаться рядом с Верой “до тех пор пока... словом, на бессрочное время” (VI, 353). Обозначенная в цитированном тексте отточием пауза весьма многозначительна. Покорившись страсти, Волохов не смеет повторить привычный тезис о “срочной любви”. Но ему еще не ведомо, что, осознав непреодолимую разность отношений к жизни: “(дело не в венчанье, а в вечном разладе — вот где пропасть)”195, — Вера возвращается к “старой правде”.
Отказавшись и от первоначальной мысли сделать героиню верной последовательницей политических воззрений Марка, и от намерения подробно проследить ее попытки обратить Волохова к “старой правде”, Гончаров считал необходимым, как об этом свидетельствует рукопись, показать тот путь, который привел Веру к идейному разрыву с ее избранником.
Твердо и решительно заявляла она Марку: “Я хочу подойти к опытам сама <...> я не хочу быть вашей ученицей, а если и буду, так возьму от вас то, что мне укажет мой ум, сердце и убеждения...”196 Отвечая на вопрос Волохова: “Отчего ты не доверяешь мне?” — Вера говорит: “Оттого, что я не слепая и чужого влияния слепо принять не могу... Я должна убедиться”197.
- 136 -
МАРФИНЬКА
Рисунок К. А. Трутовского (сепия). 1869.
Слева внизу подпись: “К. Трутовский”Институт русской литературы, С.-Петербург
Две иллюстрации к “Обрыву”
(“Марфинька”, “Марк Волохов и Вера”)
автор подарил Гончарову в год выхода романа (1870).
Оба рисунка висели в кабинете писателяВ рукописи подробнее и достовернее показаны эпизоды напряженной борьбы героев, каждый из которых владеет своей долей правды. Но соединить их, найти общую правду они не могут, поскольку эти правды разные. Выразительно звучит одна из реплик Марка: “Надеялась переделать меня, заразить своими убеждениями, бедная Вера!”198 И она сама постоянно ощущает недостаточность своих доводов: “Нет, я не слажу с ним — все погибло: нет у меня силы... — думала она. — Мы будем всю жизнь идти рядом и не сойдемся никогда...”199.
Сосредоточенный в основном на теме любви и долга спор героев иногда выходит за эти пределы. Тогда вырисовываются причины, побудившие Веру сойтись с Марком, подчеркивается, насколько чужда была ей при всех колебаниях и сомнениях в правоте Волохова “старая правда” ее среды. Обращаясь к Марку, Вера с болью говорила: “Все, что мне случилось заметить, услышать, наблюсти до сих пор в нашем кругу, очень грустно или грубо, жалко: я знаю, что это не жизнь или дрянная жизнь. Я хочу чего-то лучше, вернее, прочнее... и останавливаюсь, не верю <...> Нет, я не не верю тебе, я только не знаю тебя и боюсь опытов...200
Постепенно эта тема уходит, все основательнее прорабатывается мысль о неизбежности возвращения Веры к тому здоровому, что есть в “старой правде”. Именно так эта мысль формулируется в черновых набросках к заключительным частям романа, завершающихся словами: “Я люблю тебя, но притворяться, что верю тебе, не могу, не хочу!”201 И в набросках на отдельных листах, и на полях рукописи IV и V частей Гончаров пытается найти те основания для разрыва героев, которые обнаружили бы его правомерность. Появляется мотив препятствий (“бездны”), но рядом оказывается авторский вопрос — свидетельство неуверенности Гончарова в правильности выбранного решения202. На полях 11-й главы V части новая формулировка — “программа”: “Страсть Веры требовала полного удовлетворения: Марк был — если не мелок, то односторонен для нее. И вот причина разлада и того, что Вера охладела”203. Наконец, сама героиня делает попытки самооправдания и самообъяснения: “Я свободна! У него нет прав на меня, — говорила гордость и досада в ней. — Я обманулась, а не обманута, упала от собственного бессилия, а не от его силы, увлеклась, а не увлечена, не побеждена... Он знает это и сам говорит, что мы — противники1*, — я отстояла свой идеал человеческого счастья и не променяла его на волчий идеал, отстояла свою свободу”205.
- 137 -
МАРК ВОЛОХОВ И ВЕРА
Рисунок К. А. Трутовского (сепия). 1869.
Внизу справа подпись: “К. Трутовский. 1869”С дарственной надписью автора:
«Ивану Александровичу Гончарову слабое выражение
высокого наслаждения, испытанного мною при чтении
“Обрыва”. К. Трутовский. 1870»Институт русской литературы, С.-Петербург
3
В одном из вариантов 12-й главы V части Гончаров замечает: “Не боязнь искушения мешала ей открыть теперь оба письма. Она сожгла за собой мост, и возврата не было, хотя, может быть, как не ошибочно догадывался Райский, удаляющаяся, но еще неумолкнувшая страсть вспыхивала в ее душе живыми воспоминаниями недавнего прошлого, манила картинами соблазнительного счастья в будущем, но не надолго. Моральный разлад между нею и Марком был, в ее убеждениях, непроходимой бездной, в которую она <могла> упасть и упала на мин<уту> от ослеп<ившей> ее страсти”206.
Так Гончаров обращает нас к проблеме, определяющей внутренний конфликт романа, — проблеме не единственной, но важной. На это указывает и авторская ремарка в сцене Веры и Райского у часовни. Говоря о “глубоком, разумном и прочном счастье”, Райский «не подозревал, что вложил палец в рану, коснувшись главного пункта ее разлада с Марком, основной преграды к “лучшей доле”!» (VI, 183).
“Моральный разлад” — основа разрыва героев — включает в себя и разлад религиозный. В авторских пометах, относящихся к IV части, дважды (с небольшими изменениями) находим запись: “Религия Веры — не религия, а жизнь, точно так же и любовь ее к добру — тоже жизнь”207.
Этот мотив, сопутствуя нагнетанию конфликта, последовательно раскрывается в заключительных частях романа с тем, чтобы символически разрешиться только после признания Татьяны Марковны Бережковой в “грехе” ее молодости и обретения Верой надежды на будущее искупление ее собственного “греха”. Возможно, что отчасти с этим именно связано утверждение Гончарова в его “критических заметках”: «весь “смысл” романа, вся его “причина” и “суть” только и объясняются и доказываются двумя последними частями, в которых, между прочим, окончательно разыгрывается и драма Веры» (VIII, 146).
Нечто вроде комментария к постановке темы религии Гончаровым находим в его письмах 1870—1880-х годов и в набросках незавершенной статьи, посвященной картине И. Крамского “Христос в пустыне”.
В письме к великому князю Константину Романову (К. Р.) от 3 ноября 1886 г. Гончаров обращает внимание адресата на строки из “Пролога в театре” (первая часть “Фауста” Гете), начинающиеся словами: “Greift nur hinein in’s volle Menschenleben...”1*, — и замечает по этому поводу: «Брать из жизни: религия и вся жизнь, на ней основанная, — есть по преимуществу — высокая, духовно-нравственная, человеческая жизнь — следовательно — “greift hinein”
- 138 -
скажу вместе с Гете. Сам я, лично, побоялся бы религиозного сюжета, но кого сильно влечет в эту бездонную глубину — тому надо писать»208.
Думается, что в таком именно смысле и следует прежде всего рассматривать религиозные мотивы в последнем романе Гончарова.
Сопоставляя в 1870-х годах “Обрыв” с романом Ауэрбаха “Дача на Рейне”, Гончаров сделал несколько заметок, которые важны как ретроспективная оценка поставленной в его романе проблемы. Среди них такие: “Манна религиозна, любит неверующего (как Вера Марка), борется, мучается, тут и священник на сцене, она молится” и другая: “Но задача <у двух романов> одна — борьба с страстью, препятствие, религиозный разлад <...>»”209
Здесь очевидно безусловное преувеличение, поскольку многоконфликтное содержание романа таким авторским резюме отчасти обедняется, отчасти сужается. Однако проблема обнажена, выявлена острее, чем в самом “Обрыве”, и существование ее отрицать невозможно.
В узком смысле слова для религиозного конфликта основы как будто и нет. Безрелигиозность Марка не заявлена принципиально, не обсуждается в спорах между ним и Верой. Фраза о том, что Марк терпеть не может попов и не верит в обряд (см.: VI, 259), конечно, значительна, но вряд ли дает основания для общих выводов. Нежелание Волохова венчаться объясняется в первую очередь теорией “срочной любви”, а уж затем его сопротивлением обряду, как таковому.
Существенно важный смысл этот вопрос приобретает в 6-й главе V части, постановка его там — одно из средств авторского разоблачения “отрицательных доктрин”. Но это особая тема, с сюжетом романа, с развитием героев связанная лишь условно, скорее как теоретическое решение. А практическое, психологическое, действительно связанное с драмой героев, определяется нравственными метаниями Веры, ощущающей приближение развязки, и сумеречным состоянием ее души после “падения”.
Так в системе символов и аллегорий появляется в романе и выдвигается на первый план противопоставленная “обрыву” “уединенная деревянная часовня”, где Вера сначала пытается найти ту “истину”, которая не дается ей в свиданиях с Волоховым, а после “падения” — ответ на вопрос, как жить дальше и можно ли вообще жить.
Эта тема развивается по нарастающей и в сугубо трагическом плане. “Почерневшая и полуразвалившаяся” часовня, икона, которая тоже “почернела от времени”, образ Спасителя “византийской”, т. е. строго канонической, живописи, — все безотрадно. Облик молящейся Веры приобретает черты безнадежности; несколько раз возникает тема “сна”, как полной отрешенности героини от жизни (см.: VI, 112, 180).
В часовне Вера пытается найти ответ на вопрос, где “правда”, мучительно размышляет, “ужели он <...>; не воротится ни сюда... к этой вечной правде... ни ко мне, к правде моей любви?” (VI, 179). Но мольбы ее о помощи безответны. Глаза Христа “смотрели задумчиво, бесстрастно. Ни одного луча не светилось в них, ни призыва, ни надежды, ни опоры” (VI, 183). И при новом обращении к Богу Вера “во взгляде Христа искала силы, участия, опоры, опять призыва. Но взгляд этот, как всегда, задумчиво-покойно, как будто безучастно смотрел на ее борьбу, не помогая ей, не удерживая ее” (VI, 245—246). Райскому она признается, что “допрашивалась искры, чтоб осветить мой путь — и не допросилась” (VI, 251).
Не найдя в часовне поддержки в борьбе со страстью, героиня не находит ее там и после “катастрофы”. “Глядя сухими глазами на небо”, она вновь (на сей раз Тушину) говорит, что “ни молитвы, ни слез” у нее нет, “ниоткуда облегчения и помощи никакой!” (VI, 299). Все глубже осознавая трагизм происшедшего, “в ужасе” (ср.: VI, 183) смотрит она на образ, “стоя на коленях. Только вздохи боли показывали, что это стоит не статуя, а живая женщина.
- 139 -
Образ глядел на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но как будто не видел ее, персты были сложены в благословение, но не благословляли ее. Она жадно смотрела в эти глаза, ждала какого-то знамения — знамения не было. Она уходила, как убитая, в отчаянии” (VI, 314).
Несколько раз пытается Вера молиться, но не может. “О чем? чтоб умереть скорей?” — скажет она однажды бабушке (VI, 336). Да и у самой бабушки, которая, странствуя с “ношей беды”, случайно оказывается у часовни и взглядывает на образ, он вызывает “новый ужас, больше прежнего...” (VI, 321).
Религиозные искания и размышления Гончарова современное литературоведение практически не рассматривает. Глубоко укоренилась мысль, высказанная почти четыре десятилетия назад А. Г. Цейтлиным: “Нет в творчестве Гончарова и того религиозного пафоса, без которого нельзя себе представить Достоевского и Льва Толстого последнего периода его жизни. Внешнюю набожность, присущую Гончарову, никак нельзя смешивать с религиозным чувством в подлинном смысле”210. Между тем, и гончаровские письма, и его последний роман свидетельствуют о глубоком интересе писателя к религиозным проблемам. При этом в первую очередь его волнует их преломление в нравственной жизни личности. На разных этапах духовного и творческого развития романиста его привлекали различные аспекты религиозного сознания, в том числе и те, о которых он говорил еще в период работы над II частью “Обрыва” в письме 1860 г. к сестрам Никитенко (в упрощенной форме эти размышления, по свидетельству самого романиста211, нашли отражение в 10-й главе II части). Вот начало этого письма:
“Судьба — или я не знаю — кто и что в природе — но право кто-то ставит себе в какой-то постоянный закон шутить над нами <...> Ужели это та могучая, безошибочная, безупречная Сила, Кого мы нарицаем Бог? Ужели то другая сила, которую мыслители именуют Разумом? Ужели то отрицательное начало, которое софисты, атеисты и проч. исты зовут Случаем? Нелепо бы было предположить в Распорядителе человеческих и всяких судеб и сил вселенной какую-то шутливую, веселую личность, смеющуюся человеческим смехом и забавляющуюся мелкими шутками — и для чего? От Разума еще меньше можно ожидать этого — ибо шутка есть противоречие разума и смех рождается и истекает из этого противоречия, оттого, когда что-нибудь расходится с правдой, следоват<ельно>, с разумом. Случай? Пожалуй, иногда может случайно явление разойтись с правдой и с разумом и оттого быть смешным, но тогда от сотворения мира до нашей поездки за границу случилось бы не более трех или четырех шуток. — А кто же это постоянно шутит над нами, кто перечит или заставляет нас самих поминутно перечить тому, что здраво, прямо, истинно и должно?”212
Как выяснится позже, последние слова определят общефилософскую и творческую программу “Обрыва” задолго до того, как выявится и утвердится его окончательный замысел. А вот письмо, начатое через много лет после завершения последнего гончаровского романа (но не законченное и не отправленное). Его адресат — Вл. С. Соловьев, предмет обсуждения — труд Соловьева “Чтения о богочеловечестве”213. Письмо содержит принципиальную постановку вопроса о соотношении разума и веры, науки и религии — вопроса актуального для 1860-х годов и бесспорно затронутого в романе “Обрыв”.
Можно было бы предположить, что сформулированная в этом письме проблема противостояния “совокупной силы чувства и философского мышления” — “мнимому знанию, подверженному непрестанным, как будто барометрическим колебаниям”, не вышла за пределы гончаровского эпистолярия. Но это не так.
- 140 -
Что касается “Обрыва”, то не учтенная и не выявленная сегодня, она была не только вскрыта проницательными современниками Гончарова, но и широко использована, во всяком случае одним из них, при создании общей концепции гончаровского творчества.
Речь идет о Д. С. Мережковском. Еще при жизни писателя, в 1890 г., он опубликовал “критический этюд”, где писал: «Термин “обломовщина” — популярен; но всем ли ясно, что под ним кроется? Ведь “Обломов” только часть великой художественной системы, созданной Гончаровым. Часть непонятна без целого. Предлагаемый беглый очерк — первая слабая попытка определить характерные черты одного из самых оригинальных и могучих русских талантов»214.
К сожалению, мы не располагаем сведениями, имел ли угасающий писатель возможность ознакомиться с этой работой215. Она могла бы поддержать его, поскольку обобщающая оценка его творчества, о которой романист так мечтал, была осуществлена при его жизни, хотя, можно предположить, в несколько неожиданном для Гончарова ракурсе.
Ответ Мережковского на поставленный им вопрос прозвучал уже в другой статье. Он гласил: Гончаров — один “из величайших в современной европейской литературе творцов человеческих душ, художников-символистов”116. Синтезирующие мотивы, которые Мережковский постепенно, причем опираясь именно на текст “Обрыва”, возводил к идее символизма — это мотивы религиозно-философские.
Вера, писал он, “пожертвует счастием, любовью, жизнью, но не отступит ни на йоту от заветной веры, потому что эта вера — вся ее душа. Она верит в божественное начало человеческой совести — Марк не верит в него или старается не верить. И они должны разойтись не вследствие случайного падения Веры, а потому что в самой основе их жизни нет ничего общего <...> Трагизм положения заключается в том, что она не принадлежит всецело ни прошлому, ни настоящему, стоит между ними и хочет примирить их и жаждет еще несозданного будущего. Перед бабушкой она искренно готова защищать Волохова, перед Волоховым — бабушку. Если бы Вера могла соединить новую правду Марка с тем вечным, чем она дорожит в прошлом человечества!.. Но ни бабушка, ни Волохов не понимают ее, и она знает, что они никогда не поймут, и страшно одинока. Вот почему Вера такая скрытная и нелюдимая, несмотря на всю бездну любви, заключенную в ее бедном, измученном сердце”217. Близость суждений Мережковского к тем размышлениям, каким на пути освоения религиозно-философской темы предавался Гончаров, особенно хорошо видна, если иметь в виду не только окончательный текст “Обрыва”, но и его рукопись.
С одним из ее фрагментов сравним начало весьма важного в данном контексте суждения Мережковского.
Мережковский пишет: «Может быть, в современной демократии люди с твердой и непреклонной волей, с рабочей энергией, с трезвым и практическим умом одержат победу и оттеснят на второй план людей с тонкой художественной организацией, мечтательных и гордых своим бескорыстным взглядом на жизнь. Но как бы ни были велики шансы на победу и права на превосходство деятельного типа, есть у него один важный недостаток <...> Вот непоправимая слабость этих гордых людей, именующих себя “грядущей новой силой”. У них нет любви»218.
Прервем цитату и послушаем Веру, задумавшуюся над письмом Марка, полученным ею после душевного переворота, с нею происшедшего. Спрашивая себя: “Где же силы, где гордость у него? Соблазняет обжигами страсти, как будто они, эти обжиги, — и есть счастье”, — Вера обращается к доктрине Волохова: «Мелкий, жалкий, односторонний, слепой, без чутья и слуха — не прозрел на истину и не дорос до великой, всюду разлитой силы — любви. Это непризнавание любви — эти спесь и ломанье перед
- 141 -
нею — самолюбие мальчиков, притворяющихся взрослыми! Ужели это “грядущая сила” и подвиги ее лишены любви. Стало быть, изгнана жизнь оттуда — о пустые болтуны. И зовет венчаться: как будто счастье в венчанье!»219.
Мережковский, разумеется, не читал рукописи романа “Обрыв”. Бросающееся в глаза сходство идей объясняется чуткостью критика, уловившего социально-философский пафос последних частей романа, но в еще большей степени — их общим источником. И Гончаров, и Мережковский опираются в своих нравственных оценках на Священное Писание.
Свое обращение к Евангелию и автор “Обрыва”, и его критик могли бы, вероятно, объяснить толстовскими словами о том “высшем”, что открывается людям не “в этой обычной жизни”, а в экстремальных нравственно-психологических ситуациях, на грани инобытия220.
4
Речь, таким образом, идет о религиозно-нравственных исканиях и философских обобщениях, которые давно уже обнаружены исследователями в творчестве Достоевского и Л. Толстого 1870-х годов, но до сих пор остаются не выявленными в романах Гончарова. Здесь, однако, следует учитывать два момента, осложняющих сопоставительное исследование. Во-первых, наметившаяся близость осталась недовоплощенной и отчетливее прослеживается в рукописи, чем в окончательном тексте “Обрыва”. И, во-вторых, нужно иметь в виду разный масштаб изучаемых явлений. Тогда понятнее станет замечание Л. Толстого о Достоевском, приведенное В. Ф. Булгаковым: “...это настоящий писатель, с истинно религиозным исканием, не какой-нибудь Гончаров”221.
4 ноября 1888 г. Гончаров писал А. Ф. Кони: «Но всем кажется — и мне тоже, что истин так много, что они слагаются в какую-то роковую совокупность, называемую “силой вещей” и силой громадной, стихийной, против которой действительно “человеческая помощь невозможна” <...>»222.
Это не единственное письмо, где обнаруживается давняя, с годами не ослабевшая, а, напротив, все углубляющаяся потребность осмысления сложнейших проблем человеческого бытия. Она назревала уже в период завершения “Обрыва”.
Вспомним в этой связи краткий диалог героев романа. Имея в виду беседы Веры с заволжским священником, Райский говорит:
« — А где “истина”? — он не отвечал на этот Пилатов вопрос?
— Вон там, — сказала она, указывая назад на церковь, — где мы сейчас были!.. Я это до него знала...
— Ты думаешь, что он прав?.. — спросил он, стараясь хоть мельком заглянуть ей в душу.
— Я не думаю, а верю, что он прав. А вы? — повернувшись к нему, спросила она с живостью.
Он утвердительно наклонил голову» (VI, 242).
Вера в Бога для героини романа нечто совершенно естественное, органичное, идущее не от разума, а от сердца. Противопоставление “умных” и “разумных” простым, “младенчески верующим” душам характерно для размышлений писателя последних лет его жизни. 20 июля 1887 г. Гончаров пишет К. Р. по поводу его стихотворения “На Страстной неделе”: “Ум часто руководит, и должен руководить чувством, но в этом, и в подобных случаях, наоборот, чувство освещает путь уму. Порождает мысль, обыкновенно, ум, но он родит и ее близнеца: сомнение. Завязывается борьба между ними <...> Стало быть в молитвенном экстазе чувство умнее ума, который тут служит ему покорным слугою”223. Здесь прослеживается та же мысль, что в упомянутом выше письме Гончарова к В. С. Соловьеву: «Вера — не смущаясь никакими
- 142 -
“не знаю” — добывает себе в безбрежном океане все, чего ей нужно. У ней есть единственное и всесильное для верующего орудие — чувство»
Именно руководствуясь чувством, героиня “Обрыва” обращается за поддержкой в борьбе со страстью к Богу — как привычному воплощению мудрости и любви.
“Точно так же доверчиво и просто, как и во времена детства и первой молодости”, обращается к Богу Константин Левин, ожидая рождения своего ребенка. “Теперь, в эту минуту, он знал, что все не только сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к Богу. Все это теперь, как прах, слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к Тому, в Чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь?”224
В романе “Обрыв” Бог долгое время выступает как равнодушная или даже карающая сила. Только после “взаимной исповеди”, когда Вера узнает тайну бабушки и понимает, что́ спасло Татьяну Марковну Бережкову от безнадежного отчаяния, она обретает смысл жизни. «Стало быть, ей, Вере, надо быть бабушкой в свою очередь, отдать всю жизнь другим, и путем долга, нескончаемых жертв и труда, начать “новую” жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва <...> любить людей, правду, добро» (VI, 339). Представляется бесспорной связь такого разрешения одного из основных конфликтов романа с эпохой конца 1860—1870-х годов (вспомним романы Достоевского и Толстого). Выразительным кажется сопоставление этих строк с заключительными строками романа “Анна Каренина”:
«Да, одно очевидное, несомненное проявление Божества — это законы добра, которые явлены миру Откровением и которые я чувствую в себе <...> жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!”»225
Разумеется, сопоставлять высказывания умного и глубокого мыслителя Константина Левина и провинциальной барышни Веры можно лишь в самом общем виде. Но основание для такой попытки все же имеется: общий источник медитации обоих литературных героев.
В романе “Обрыв” тема “падения” тесно связана с другой темой — искупления “греха” страданием и возрождения души. Тесно переплетаясь, они становятся лейтмотивом “взаимной исповеди” двух героинь, особенно в той ее части, которая не вошла в окончательный текст “Обрыва”, но сохранилась в рукописи. Во всех ее вариантах настойчиво подчеркивается, что суд исходит от Бога и право на приговор принадлежит только ему. “Я скажу тебе о пощечине, не обесчестившей чистого человека, — и о падении, не помешавшем девушке остаться честной женщиной на всю жизнь. Люди злы и слепы, Бог мудр и милосерд — они не разбирают, а Он знает и строго весит наши дела и судит своим судом. Где люди засудили бы, там Бог освобождает”226.
Эти полные собственного достоинства афористически звучащие слова бабушки резко контрастируют с тем покаянным тоном отчаянного сознания своей преступности, который так характерен для ее высказываний в окончательной редакции романа. В печатном тексте “Обрыва”, уже после своей исповеди, Татьяна Марковна «старалась угадывать будущее Веры, боялась, вынесет ли она крест покорного смирения, какой судьба, по ее мнению, налагала, как искупление за “грех”» (VI, 342). Это замечание вписано на полях рукописи. Первоначально же бабушка с презрением отзывалась о тех людях, которые считали, «если девушка... поскользнется... так ей жить нельзя — “честь потеряна! погибла! топись или забейся в темный угол — свет Божий закрыт для нее!” На нее указывали пальцем, отворачивались, гнали со света глупым смехом. И все покорялись этим заповедям — не из страха Божия, а из страха людского»227. Именно поэтому, начиная свой рассказ, она считает возможным умолять Бога о снисхождении:
- 143 -
“Милосердуй над нами, над нашей слабостью... мы не <1 нрзб.> лгали, мы любили... грешные создания... и обе смиряемся под Твоим гневом... Пощади это дитя, милосердуй... она очищенная, раскаявшаяся, по слову Твоему, лучше многих праведниц теперь... милее Тебе своей безгрешной сестры, Твоей чистой лампады... Милосердуй... и если не исполнилась мера гнева Твоего... отведи его от нее, от ее детей, внуков — и если, если... надо... ударь в мою седую голову...”228
Путь к прощению лежит для героинь Гончарова через обязательную исповедь или даже публичное покаяние.
Неодолимую потребность в исповеди близким людям испытывает Вера. Сообщив Райскому о твердом намерении рассказать о своем “падении” бабушке, она говорит:
“— Скажу еще Тушину — а до других дела нет!
— Тушину: зачем? — вдруг подходя к ней, спросил он с изумлением.
— Затем же, зачем сказала бы тебе, брат, если бы ты... не поторопился. Я очень дружна с ним, как теперь с тобой — а он думает, что я совершенство и верит в меня, как в святую. Я иногда была счастлива этим — опиралась на это, а теперь... это тоже удар... Пусть он узнает, что я такое: и если у него останется участие ко мне, мне иногда будет как будто отраднее. А если отвернется, я перенесу — но я не хочу, чтоб он считал меня не тем, что я есть: я задохнусь...”229
Бабушка приходит к решению о необходимости для спасения Веры признаться ей в своем “грехе”: “Бог велит казнить себя, чтоб успокоить ее...” (VI, 334). “На площади, перед собором, в толпе народа” (VI, 338) готова была бы она покаяться, если бы только могла предположить, что ее “грех” отзовется в “падении” внучки.
“— Я не хочу, не должна, не смею! — защищалась Вера, зажимая уши. — Мне не нужно ничего.
— Я хочу, — сказала бабушка решительно”.
Так начинается в одном из вариантов черновой рукописи рассказ Татьяны Марковны Бережковой о “грехе” ее молодости. Продолжается ее повествование так:
« — Я скажу тебе, Борису и [Ивану Ивановичу].
— Зачем, зачем? — умирала Вера в страхе.
— Молчи, — за то, чтоб вытерпеть тот стыд, который должна была вытерпеть сорок пять лет назад. Пусть посмеются над моими сединами... Я вытерплю то же, что ты терпишь теперь, и тогда только буду прощена.
Бабушка прошла раза два по комнате, тряся с фанатической решительностью головой.
Лицо ее стало неузнаваемо. Она опять походила на старый, женский фамильный портрет в галерее с суровой важностью в глазах, с величием и уверенностью в своем достоинстве, покоившемся в глазах, в свободной и гордой осанке. Вера чувствовала себя жалкой девочкой перед ней и робко глядела ей в глаза, мысленно меряя свою молодую, только вызванную на борьбу силу, с этой старой, но искушенной в долгой жизненной борьбе, но еще крепкой, по-видимому, несокрушимой силой.
«И я не знала всего — где были мои глаза и моя “хваленая мудрость!” перед этой бездной... — думала она. — Могу ли я быть такою: сравняться с ней, чтоб загладить... Могу, буду», — сказала потом.
— Пусть будет по-твоему, бабушка, но пойдем вон отсюда, туда, к тебе — сию минуту...»230
Высшим судией во всех черновых вариантах исповеди бабушки неизменно выступает Бог. “... Бог требует возмездия! Он покарал меня твоим грехом”231 — таков лейтмотив признаний Татьяны Марковны Бережковой.
Нельзя не вспомнить здесь об эпиграфе, выбранном Толстым для романа “Анна Каренина”. Как писал Б. М. Эйхенбаум, «мысль Толстого, выраженная
- 144 -
в этом эпиграфе, заключается именно и только в том, что неизбежные последствия “дурного” — это не месть людей, а собственные страдания, которые “идут не от людей” <...> с точки зрения Толстого <...> Анна и Вронский все-таки виноваты — не перед обществом или общественным мнением <...> а перед жизнью, перед “вечным правосудием”»232.
Примерно так же расставляет этические акценты Гончаров в черновой рукописи романа. Не то в его окончательном тексте.
Здесь бабушка готова примириться с тем, что “сплетня” о ее прошлом, пущенная пошлыми и недостойными людьми, Тычковым и Крицкой, ходит по городу: “Может быть, так и надо...”. Готова в этом увидеть “возмездие” (см.: VI, 394—395). И “сплетню” о Вере она воспринимает здесь как проявление гнева Божьего: “Бог судит людей через людей — и пренебрегать их судом нельзя! Надо смириться! Видно, мера еще не исполнилась...” (VI, 391—392). У Веры «пропало и пренебрежение к чужому мнению. Ей стало больно упасть в глазах даже и “глупцов”, как выражался Марк. Она вздыхала по удивлению их к себе, ей стало жаль общего поклонения, теперь утраченного!» (VI, 331). Опирающиеся на библейский рассказ о праотце Ное, скорбно звучат слова не то героини, не то автора романа: «Она — нищая в родном кругу. Ближние видели ее падшую, пришли и, отворачиваясь, накрыли одеждой из жалости, гордо думая про себя: “Ты не встанешь никогда, бедная, и не станешь с нами рядом, прими Христа ради наше прощение!”» (VI, 331).
Такова несомненная уступка Гончарова предрассудкам “старого века”, как определяет свое время бабушка233.
5
Без обращения к “старому веку”, представленному в романе небольшими, но очень важными сюжетами, трудно судить о концепции “Обрыва”, об истоках “старой правды”, вступающей в борьбу с “новой ложью”.
Тема XVIII в. и в “Обрыве”, и в других романах Гончарова ждет еще своего исследователя. Здесь нет возможности углубляться в нее, поэтому наметим лишь некоторые вехи ее движения и попробуем понять, какова была основная задача автора, затронувшего эту тему в романе, столь тесно связанном с актуальными проблемами социальной, политической и нравственной жизни второй половины XIX в.
Картина XVIII в. собрана, как мозаика, из разнохарактерных, разножанровых, относительно крупных и совсем мелких фрагментов. Автору романа, откликающемуся на многие “злобы дня”, необходима была историческая ретроспектива, временная дистанция, позволяющая отделить преходящее, сиюминутное от непреходящего и вечного, установить правильные пропорции в оценках и суждениях. С другой стороны, нужно было определить истоки многих сегодняшних проблем, что позволило бы выявить и перспективы их будущего разрешения. Наконец, рисуя характеры центральных героев, следовало обнаружить их исторический генезис, сродство или противоборство с устоявшимися традициями и новыми веяниями. В окончательном тексте “Обрыва” сохранились, однако, только фрагменты задуманной Гончаровым картины, лишь осколки скульптурной группы XVIII в.
Ушла из романа “огромная глава о предках Райского”: лишь по авторскому пересказу в “Необыкновенной истории” мы можем судить о масштабности охваченных ею явлений. Не включена в “Обрыв” одна из двух глав, посвященных “взаимным признаниям” Веры и бабушки, где набросан сжатый, но колоритный очерк жизни на рубеже веков234. А с ним ушел и важный для романа мотив грани, перелома, рубежа между старой и новой жизнью, пройденного старшим поколением, — Татьяной Марковной Бережковой и Титом Никонычем Ватутиным. Здесь завязывался узел проблем, в частности, мысль о повторяемости исторических циклов: смена старого новым, или, пользуясь
- 145 -
словами самого Гончарова, “всходы новой жизни на развалинах старой” (VIII, 297). Но многие нити, связывавшие в романе прошлое с настоящим, оказались оборванными.
ДОМ КИНДЯКОВЫХ. КИНДЯКОВО, ВБЛИЗИ СИМБИРСКА
Фотография Каганина. Симбирск. <1912>. На паспарту надпись рукою А. Ф. Кони:
“Дом Александра Львовича Киндякова. (1780—85 приблизит<ельно>. Старый
разрушенный дом был XVII века)”Гос. архив Российской Федерации, Москва
Согласно преданию, описан в романе “Обрыв” как дом Татьяны Марковны Бережковой
И тем не менее картина прошлого состоялась. У нее есть свой интерьер. Это скульптуры в графском доме, те самые, которые приснились Марфиньке. Это фамильные портреты в доме Татьяны Марковны Бережковой, на которые иногда, в минуты волнений, она очень походит. Это библиотека со множеством старинных фолиантов, подаренная Райским Леонтию Козлову и изрядно испорченная Марком Волоховым. Там представлены и античность, и труды французских энциклопедистов. Есть и свои аксессуары, свой быт: “старинное богатое белье, полотна, пожелтевшие драгоценные кружева, брильянты, назначавшиеся внучкам в приданое...” (V, 69); “роскошный дамский туалет, обшитый розовой кисеей и кружевами, с зеркалом, увитым фарфоровой гирляндой из амуров и цветов, артистической, тонкой работы, с Севрской фабрики” (VI, 246), который дарит Тит Никоныч Марфиньке; “массивный серебряный столовый сервиз на двенадцать человек, старой и тоже артистической отделки” (VI, 247), предназначенный Ватутиным Вере в качестве свадебного подарка; “старинная шаль”, привезенная “с Востока” (V, 63), которую в торжественных случаях величественно набрасывает на плечи бабушка. Есть и “жанр” — мелкий чиновник Аким Акимыч Опенкин с его стилизованной то ли под старого книжника, то ли, скорее, под повытчика казенной палаты XVIII в. речью: “Да прильпнет язык твой к гортани, зане ложь изрыгает! <...> пождем дондеже из весей и пастбищ, и из вертограда в храмину паки вступит” (V, 323). Представлен даже круг чтения, типичный для XVIII столетия, — роман о “прекрасной Кунигунде”, который бабушка “сама в молодости читывала и даже плакала над ним” (VI, 115). Написанная Гончаровым блестящая пародия свидетельствует о великолепном его художественном чутье, превосходном ощущении жанра и стиля. Чтобы убедиться
- 146 -
в этом, достаточно прочитать посвященные несчастной Кунигунде страницы “Обрыва”, обратив внимание и на гончаровское определение: “Вся эта история была безукоризненно нравственна, чиста и до нестерпимости скучна” (VI, 117). Но воспользуемся все же и сегодняшними оценками специалистов филологов. Вот что пишет Б. Г. Реизов, прослеживая эволюцию темы “страсти” в западноевропейской и русской литературах XVIII—XIX вв.: “Во Франции во второй половине XVIII столетия культ чувства получил свое выражение в художественных произведениях, в большинстве случаев кончающихся трагически. Родители препятствуют браку влюбленного юноши, так как предмет его любви принадлежит к низшему сословию. Из-за каких-то социальных предрассудков или денежных интересов разбиваются сердца добродетельных девиц, и пылкая любовь заканчивается безумием и смертью. Надгробные памятники, отчаянные лица, заломленные руки и взоры, обращенные к небу, украшают фронтисписы романов, где речь идет о “буре страстей” и “ударах судьбы”1*. Здесь страсти всегда почти добродетельные: верная любовь, которая должна выбирать между сыновним или дочерним долгом и личным счастьем; разлука, на которую обрекает влюбленных власть бесчувственных родителей с их сословной спесью и материальными расчетами; внешние препятствия, в основе которых — нелепый общественный строй, предрассудок, законы, произвол власть имущих, религия. Родоначальником такого рода романов во Франции считается Жан-Жак Руссо”236
Идея Татьяны Марковны использовать “печатное слово”, тем более, когда оно было “назидательно” (VI, 115), для внушения внучке должных правил, была, конечно, достаточно архаичной в условиях середины XIX в. Вполне естественна реакция Веры: “Бабушка! за что вы мучили меня целую неделю, заставивши слушать такую глупую книгу?” — спрашивает она (VI, 119). Еще выразительнее реагировала Вера на это семейное чтение в рукописи романа237.
Но попытка представить за таким чтением и бабушку, и тем более чету Молочковых вовсе не покажется невероятной. Жизнь этой супружеской пары: “Оба такие чистенькие, так свежо одеты; он выбрит, она в седых буклях, так тихо говорят, так любовно смотрят друг на друга, и так им хорошо в темных, прохладных комнатах с опущенными шторами. И в жизни, должно быть, хорошо!” (V, 86) — еще одна превосходная жанровая картинка ушедшего столетия в романе Гончарова. Заметим, кстати, что и она, по сравнению с первоначальной редакцией238, в окончательном тексте романа несколько поблекла, уступив место новому жанру. В структуре романа она, видимо, должна была иметь тот же смысл, что значительно позже в тургеневской “Нови” имел визит Нежданова к старичкам Субочевым, а именно: и противостояние, и связь времен239.
Наконец, была в этой картине и центральная фигура — “джентльмен по своей природе” (V, 70) Тит Никоныч Ватутин или “сахарный маркиз” (V, 266), как, конечно неспроста, прозвал его Марк Волохов. Гончаров, рисуя эту фигуру, безусловно, припомнил своего опекуна и наставника Н. Н. Трегубова, которого под именем Петра Андреича Якубова охарактеризовал в своих воспоминаниях, используя почти то же определение, какое дал герою “Обрыва”. “Это был чистый самородок честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притом с добрым, теплым сердцем. Все это хорошо выражается английским словом “джентльмен”, которого тогда еще не было в русском словаре. В обращении он был необыкновенно приветлив, а с дамами до чопорности вежлив и любезен” (VII, 271)2*. В тех же воспоминаниях найдем и
- 147 -
краткий очерк нравов переходного от XVIII к XIX в. времени, мелкие, но выразительные детали быта тех “осколков” прошлого, которые еще сохранились на родине писателя в его молодые годы. Среди них портреты двух друзей Якубова: Козырева и Гастурина, первый из которых был “поклонник Вольтера и всей школы энциклопедистов и сам смотрел маленьким Вольтером, острым, саркастическим, как многие тогда поклонники Вольтера”, а другой — “простой, неученый, но добрый, всеми любимый деревенский житель...” (VII, 275). Кстати, не эти ли друзья вспоминались Гончарову при начале его работы над упомянутым выше романом “Старики”?
Рассмотрение темы XVIII в. в контексте всего творчества романиста обнаруживает всегдашнее тяготение его к этому периоду русской жизни и позволяет многое понять в “Обрыве”.
Завершая этот очень краткий и схематичный, по необходимости, обзор, следует в нескольких словах остановиться на философско-этических воззрениях XVIII столетия в той мере, в какой они затронуты в “Обрыве”. Если говорить о нравственных проблемах, то здесь в первую очередь следует иметь в виду остро поставленные в “Обрыве” вопросы о достоинстве личности, о чести и долге. В области эмоциональной — о соотношении “чувствительности” и справедливости, о страстях “разнузданных”, “природных” и преодолении их во имя исполнения нравственного долга. Совершенно очевиден интерес Гончарова к просветительской философии XVIII в., когда “корнем социального зла казались не исторические условия, поставившие людей в отношение борьбы и угнетения, а вечная природа человека, его страсти”241. Вспомним часто повторяемую Гончаровым цитату из пушкинских “Цыган” (см. ниже, с. 165) в свете определения, данного поэме современным исследователем: “Противоречие страстей — вот узел трагедии, и в этом безысходность положения <...> героя”242. Вспомним еще раз цитированное выше письмо Гончарова к С. А. Никитенко, начинающееся словами: “Судьба — или я не знаю — кто́ или что́ в природе...”, где рассматриваются такие значимые для философских исканий XVIII в. категории, как Разум, Случай и др. А в романах Гончарова? “Случай свел и сблизил” Ольгу и Обломова (IV, 252), “случайно” (VI, 167) познакомились Вера и Марк. Ограничимся пока только констатацией данного факта, поскольку проблема в целом заслуживает специальной разработки.
Итак, мысль о необходимости “посравнить да посмотреть // Век нынешний и век минувший” несомненно присутствует в гончаровском романе. В первоначальном его замысле охват явлений, особенно нравственной жизни, предполагался более обширным, глубже должны были быть представлены и события исторические в их динамике, в их отражении в характерах и судьбах героев. Движение авторского замысла, а также и некоторые внешние воздействия определили значительный отсев как уже заготовленного, так и только планируемого материала. Поэтому общую идею Гончарова приходится рассматривать, имея в виду не только окончательный текст “Обрыва”, но и рукопись романа, свидетельства писателя о неосуществленных замыслах, все творчество его в целом. В напряженном идейно-психологическом диалоге, ведущемся на страницах “Обрыва”, во всем многоголосии творчества Гончарова отчетливо слышны и голоса веков. Так поддерживается заявленная в статьях писателя мысль об отражении в его произведениях целых эпох русской жизни.
6
Вместе с преодолеваемым только в последние годы представлением об “отчужденности” Гончарова от так называемых “вечных вопросов”, об отсутствии в его творчестве “религиозного пафоса” в науке о Гончарове долгое время существовало мнение о том, что в его романах “почти никак не нашли себе развития фантастические мотивы, столь частые в повестях Гоголя, Тургенева, Достоевского и даже Льва Толстого...”243 Между тем, последний гончаровский
- 148 -
роман не дает оснований для столь безапелляционных оценок. Автору “Обрыва” отнюдь не чужд был охвативший его современников интерес к таинственным процессам человеческой психики, в которых находят отражение какие-то, пока неведомые, “законы бытия”.
Обратимся к тексту. Наблюдая тяжкую внутреннюю борьбу Веры со страстью, Райский «про себя роптал на суровые, никого не щадящие законы бытия, налагающие тяжесть креста и на плечи злодея и на эту слабую, едва распустившуюся лилию.
“Хоть бы красоты ее пожалел... пожалела... пожалело... кто? зачем? за что?” — думал он и невольно поддавался мистическому влечению верить каким-то таинственным, подготовляемым в человеческой судьбе минутам, сближениям, встречам, наводящим человека на роковую идею, на мучительное чувство, на преступное желание, нужное зачем-то, для цели, неведомой до поры до времени самому человеку, от которого только непреклонно требуется борьба. В другие, напротив, минуты — казалось ему — являются также невидимо кем-то подготовляемые случаи, будто нечаянно отводящие от какого-нибудь рокового события, шага или увлечения, перешагнув чрез которые, человек перешагнул глубокую пропасть, замечая ее уже тогда, когда она осталась позади» (VI, 237).
У Тургенева эта тема проходит через все творчество. В 1856 г. он пишет о героине повести “Фауст”: “...она <...> боялась тех тайных сил, на которых построена жизнь и которые изредка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, над кем они разыграются!”244 В 1883 г. в повести «Клара Милич. (“После смерти”)», характеризуя Аратова, автор замечает: “Очень он был впечатлителен, нервен, мнителен <...> верил, что существуют в природе и в душе человеческой тайны, которые можно иногда прозревать, но постигнуть — невозможно; верил в присутствие некоторых сил и веяний, иногда благосклонных, но чаще — враждебных...”245
Общность мотивов и близость стилистики цитированных медитаций представляется безусловной. Заметим также, что оба автора говорят о натурах неординарных, по складу своему художнических. Стоит подчеркнуть, что “Фауст” был высоко оценен Гончаровым в 1850-х годах (см.: VIII, 260), а “Клару Милич” и “Стихотворения в прозе” он “очень хвалил” в 1883 г.246
“Сны всех трех” (видимо, Райского, бабушки, Веры) — так еще в 1865 г. определил Гончаров тему 21-й главы III части “Обрыва”, надолго прерывая работу над романом247. Так был найден один из путей, которым писатель шел к исследованию проблем, сформулированных им только через несколько лет в цитированных выше размышлениях Райского.
Возможность использования в художественном произведении сна “как средства раскрытия самых глубоких, сокровенных, неосознанных глубин, основ душевного склада героя”248 была известна задолго до Гончарова и блистательно использована Пушкиным. По этому поводу А. Ремизов заметил: «Сон, как литературный прием — без него по-русски не пишется: Гоголь, Погорельский, Вельтман, Одоевский, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Мельников-Печерский, Лесков. В снах не имеет значения, выдуманные они или приснившиеся, лишь бы имели сонное правдоподобие — “смысл” второй “бессмысленной” реальности, когда “существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония”. С Пушкина начинаются правдашние сны: сон Татьяны, с которым перекликается Гоголь в “Пропавшей грамоте” и “Страшной мести”, сон гробовщика Адриана Прохорова, сон Самозванца, сон Германна — на него отзовется Достоевский в “Преступлении и наказании”, сон Гринева — на него отзовется Лев Толстой в “Анне Карениной”»249
Сам Гончаров вслед за Пушкиным пошел только в последнем своем романе. В романе “Обломов” он, как пишет акад. Д. С. Лихачев, “и не пытается придать сну Обломова характер сна. Он описывает тот мир, в который переносит
- 149 -
нас сон Обломова, но не самый сон. Сон — символ сонного царства Обломовки <...> Сон — метод типизации...”250
Нечто подобное находим мы и в “Обрыве”. Это второй сон Райского, чисто характеристический, с четким “социально-структурным” заданием и даже с несколько морализаторским оттенком. Его смысл — напомнить герою о пустоте петербургской жизни, когда-то казавшейся ему такой наполненной по сравнению с ожидавшей его деревенской “идиллией”. Это сон-пауза, позволяющий Райскому перевести дух после “катастрофы” в обрыве и “злобно-торжественной” (VI, 275) попытки мщения Вере и до предстоящего ему объяснения с обеими героинями романа, принесшего Райскому нравственное очищение. Не надеявшийся, покидая столицу, найти в провинции “роман у живых людей, с огнем, движением, страстью!” (V, 152), он после пережитого в Малиновке приходит к трагически-мудрому открытию: “Думал ли я, что в этом углу вдруг попаду на такие драмы, на такие личности? Как громадна и страшна простая жизнь в наготе ее правды <...> А мы там, в куче, стряпаем свою жизнь и страсти, как повара — тонкие блюда!..” (VI, 325). С тем, чтобы усилить эффект такого контраста между призрачной столичной и реально-драматической провинциальной жизнью, Гончаров в дополнение к письму Райскому от Аянова включил в начало V части сон Райского. Вот и весь его смысл.
Функции других “снов” в романе значительно богаче.
Открытия позднего романтизма с его пристальным вниманием к личности, к загадочным обстоятельствам, порой определяющим человеческую судьбу, к снам — воспользуемся здесь строкой Тютчева — “пророчески-неясным, как откровения духов”, — оказали несомненное воздействие и на Гончарова. Одна из вех его творческого пути, его нравственно-психологических исканий — использование “сна” в совершенно необычной для раннего романного творчества писателя “провидческой” функции.
Сон каждого из героев резко индивидуален, соответствует уже созданному к этому времени его психологическому портрету и по-разному отзывается в его дальнейшей жизни. Другое дело, что “шаги Судьбы”, прозвучавшие в этих снах, никем не были услышаны.
21-я глава III части романа “Обрыв” начинается описанием подчеркнуто будничной обстановки раннего утра в доме Бережковой. “Шел мелкий непрерывный дождь. Небо покрыто было не тучами, а каким-то паром. На окрестности лежал туман <...> Все трое сидели молча, зевали или перекидывались изредка вопросом и ответом” (VI, 156). Появляется испуганная Марфинька, которой приснился “страшный” сон, и от нечего делать все решают послушать рассказы о том, что приснилось каждому из присутствовавших, к которым вскоре присоединяется Викентьев.
Марфиньке приснилось, будто ожили античные статуи в галерее графского дома, задвигались, зашевелились, и вдруг, увидев ее, спрятавшуюся в темном углу, “на минуту остолбенели, потом все кучей бросились прямо” к ней (VI, 159). По композиции этот сон несомненно напоминает сон Татьяны Лариной. Как и другие, его трудно объяснить вне контекста романа. Да и попытка связать его с событиями “Обрыва” дает только гадательные толкования. Может быть, это аллегория неизбежного крушения той высокой гармонии, которая в нашем сознании ассоциируется с пластическими искусствами античного мира? Почему ожившие статуи угрожают именно Марфиньке? Может быть, потому, что она единственная в этом хаосе, в этом столкновении людей и судеб гармоническая личность и потому обречена? Данный сон контекстом романа не поддерживается и вариантов его понимания бесконечно много. “Разгадывание” других снов проще, но и значительнее.
Следующим после Марфиньки вступает в разговор ее жених. Его сон поражает явным, подчеркнутым неприличием. Рассказать его, не рискуя быть изгнанным бабушкой из общества, мог только Викентьев, в устах которого сон прозвучал достаточно невинно и в то же время живо и непринужденно. И все-таки
- 150 -
Татьяна Марковна однажды прерывает его: “— Полно тебе, что это, сударь, при невесте!..” (VI, 160). Понять смысл этого сна можно только заглянув в будущее героев. Тычков и Крицкая не случайно оказались здесь вместе и в столь неподобающем виде. Именно при их непосредственном участии была пущена по городу “сплетня” о прошлом Татьяны Марковны и о Вере (собор тоже не случаен: на его паперти сидела нищенка, у которой Тычков выпытал “бабушкину тайну”). Предвестником этого торжества пошлости и был сон Викентьева. Понятно, что и Марк с ружьем был там на месте (в одном из вариантов рукописи251 он тоже принимал участие в распространении “сплетни”). Что же касается Опенкина со свечой и музыки, то эти атрибуты не то свадебного, не то похоронного обряда отнюдь не нарушали общую картину, если проецировать ее на будущее.
Вслед за Викентьевым говорит Вера. Но о ней позже. Послушаем сначала Райского.
В его сне все очень выразительно. И состояние полета (куда только не залетал он в своих мечтах)1*, и Яков с половой щеткой, по поручению бабушки атаковавший его, и, наконец, Марк, который прицеливается в Райского, когда тот “однажды поднялся очень высоко” (VI, 161). Сон Райского в основном характеристический, как и сон Марфеньки, но и с элементами предвидения будущего. Слушая его, бабушка замечает: “Это бывает к росту...” (VI, 161), как будто предугадывая духовное мужание героя, связанное с трагедией Веры.
Но самыми глубокими и многозначительными оказываются сны Татьяны Марковны Бережковой и Веры.
Сон бабушки краток и как будто невыразителен. Кажется, прав был Викентьев, предлагавший ей различные варианты “домашних” кошмаров: мужики пропили деньги, другие сделали пожар, бабы съели все варенье. Что еще может сниться хозяйственной бабушке? А приснилось ей вот что: “...поле видела, на нем будто лежит... снег... <...> а на снегу щепка...
— И все?
— Что же еще? И слава Богу, кричать и метаться не нужно!” (VI, 162).
Прежде всего следует отметить, что сон этот до бабушки приснился самому Гончарову. 6 сентября 1855 г., в разгар своего увлечения Е. В. Толстой, он писал ей: “...вчера спал лучше, нежели третьего дня, виноват, сегодня лучше, нежели вчера: бред и горячешные сны не мучили меня: видел сегодня просто снег во сне, а на снегу щепочку, потом скалу, а на скале букашку. Видите, какие мирные сны, а вчера, ах, Творец!”253.
Вот пример трансформации, которой подвергается жизненный материал, включаемый в художественную систему романа. Простенький сон писателя, “подаренный” им героине, оказывается глубоко символичным, если сравнить его с размышлениями Веры и Райского о бессмысленности жизни без любви. После ухода Веры Райский “был в оцепенении. Для него пуст был целый мир, кроме этого угла, а она посылает его из него туда, в бесконечную пустыню! Невозможно заживо лечь в могилу!” (VI, 187). Аналогично состояние Веры после “падения”: “Жизнь кончена, — шептала она с отчаянием и видела впереди одну голую степь, без привязанностей, без семьи, без всего того, из чего соткана жизнь женщины” (VI, 291). В рукописи — аналогичный мотив: “Сожаление ли о погибшем счастье, безотрадность ли пустого бесцветного будущего или ужас ошибки терзали ее — никто не знал да и не догадывался”254.
Исходя из всего этого, можно с уверенностью сказать, что сон Татьяны Марковны Бережковой символизировал жизнь, на которую она, отказавшись от женского счастья, обрекла себя во искупление “греха” молодости, сон, подводивший итоги. Утешение, найденное ею в заботах об осиротевших двоюродных
- 151 -
внучках, безусловно, спасло бабушку, но не могло компенсировать утрату надежд на счастье с любимым человеком. Вспомним, что она говорит Вере в одном из вариантов исключенной из текста “взаимной исповеди”: “Ватутин приехал лет через пятнадцать — и вот мы — и близки — а между тем чужие друг другу. И оба без семьи, оба не смеем вслух сказать слова от сердца, любовно взглянуть один на другого — и несли покорно эту тяжесть всю жизнь...”255
И для Райского, и для Веры такая жизнь лишена смысла, она отождествляется для них с забытьем, забвением и, наконец, со смертью.
По Райскому, “казни... и муки” страсти — “тоже жизнь!” (VI, 188), хуже, когда их нет. Вера после “падения”, хотя и отказывается, получив прощение бабушки и встретив сочувствие других близких ей людей, от навязчивой мысли о смерти, остается в том же сумеречном состоянии духа. Ее не покидает ощущение бессмысленности жизни, лишенной отныне любви. Особенно отчетливо звучит это в рукописи романа, в сцене раздумий героини над письмом Марка. Внутри нее было “пусто, тихо, как в могиле. Нет желаний, надежд, никакого позыва к счастью... Одна тихая горечь и следы будто отравы от выпитого яда”256.
Бабушка, узнав от Райского о том, что произошло на дне обрыва, “машинально опустилась опять в кресло и как будто заснула в бессознательной мертвой дремоте...” (VI, 317). В ответ на мольбу Райского помочь Вере, спасти ее, она упорно повторяет: “Бабушки нет больше! <...> Бабушки нет у вас больше... <...> бабушка не может, бабушки нет!” (VI, 316, 317). За этим признанием бессилия бабушки, ее духовной смерти следуют ее странствия с “ношей беды” и ее видения. Мистическое звучание этого фрагмента, построенного на евангельском образе “мерзость запустения”, подчеркивается в завершающем его зловещем пророчестве: “...не слышно живых шагов, только тень ее... кого уж нет, кто умрет тогда, ее Веры — скользит по тусклым, треснувшим паркетам, мешая свой стон с воем ветра, и вслед за ним мчится по саду с обрыва в беседку...” (VI, 324)1*.
Трагическое звучание темы Веры и бабушки было предопределено еще в III части романа, в главе о снах.
Однако ни Вера, ни бабушка, в отличие от Марфиньки, Райского и Викентьева, взволнованных или хотя бы удивленных своими снами, не придают увиденному никакого значения.
“— Я не вижу обыкновенно снов или забываю их <...> а сегодня у меня был озноб: вот вам и поэзия!” — говорит Вера (VI, 160). Замечательна ответная реплика Райского: “— Да ведь все дело в ознобе и жаре; худо, когда ни того, ни другого нет” (VI, 161).
Лишь подчиняясь общим просьбам, Вера с трудом вспоминает свой сон:
“— Что такое я видела? <...> — да, молнию, гром гремел — и кажется, всякий удар падал в одно место...2* <...>
— Я была где-то на берегу, — продолжала Вера, — у моря, передо мной какой-то мост, в море. Я побежала по мосту, — добежала до половины; смотрю, другой половины нет, ее унесла буря...
— Все? — спросил Райский.
— Все” (VI, 160).
Интересен прежде всего конец сна. Все герои проснулись, не успев досмотреть сон, их сны прерваны искусственно. И только сны Веры и бабушки завершены. Сюжет бабушкиного сна исчерпан, как исчерпана ее жизнь; финал сна Веры неясен, как неясна будет ее дальнейшая судьба.
Основные мотивы сна Веры еще неоднократно вспомнятся в романе. Та же символика бурь, волнующих человеческую душу, характерна для творчества
- 152 -
Тургенева259 и Л. Толстого (“Анна Каренина”)260. Но обратим внимание на еще одну деталь сна Веры: мост, разрушенный бурей. “Переправа через реку — устойчивый символ женитьбы” в народных свадебных песнях; мост “из прутиков”, который кладут под подушку, входит в ритуал святочных гаданий: “Кто мой суженой, кто мой ряженой, тот переведет меня через мост”261. Но переход через реку в фольклоре еще и символ смерти. Так сон Веры (как и пушкинской Татьяны) обогащается народными мотивами и вмещает в себя значительный пласт дополнительных значений, которые затем обыгрываются в романе.
М. М. СТАСЮЛЕВИЧ
Фотография А. И. Деньера. Петербург, <1880-е годы>
Литературный музей, Москва
Райский “чувствовал, что на нем одном лежал долг стать подле нее <...> помочь <...> перешагнуть пропасть...” (VI, 238). “А кроме честности или нечестности, другого разлада, других пропастей <...> не бывает?” — спрашивает Вера у Райского (VI, 228). В последнем свидании с Марком она чувствует, что его согласие остаться с ней навсегда сделало бы из этого “навсегда” — “только мостик на минуту, чтоб перебежать пропасть, и затем он рухнул бы сам в ту же пропасть” (VI, 263). Развиваясь, этот ряд ассоциаций, включая сюда, разумеется, и оппозицию “гора — обрыв”, заканчивается несколькими настойчивыми напоминаниями о сне Веры. В частности, ей становится “душно” от последнего письма Марка, “вдруг перенесшего ее на другую сторону бездны, когда она уже оторвалась навсегда <...> и сожгла за собой мост” (VI, 351).
Наконец, этот удивительный по разнообразию, по количеству оттенков ассоциативный ряд завершается итоговым символом, имеющим принципиальное значение для выяснения концепции романа в целом. Мы говорим о взволнованном монологе Тушина, в котором, помимо прочего, звучит замечательная уверенность в себе, свойственная всем гончаровским героям новой формации: “Ведь если лес мешает идти вперед, его вырубают, море переплывают, а теперь вон прорывают и горы насквозь, и все идут смелые люди вперед! А здесь ни леса, ни моря, ни гор — ничего нет: были стены и упали, был обрыв и нет его! Я бросаю мост чрез него и иду, ноги у меня не трясутся... Дайте же мне Веру Васильевну, дайте мне ее! — почти кричал он, — я перенесу ее через этот обрыв и мост — и никакой черт не помешает моему счастью и ее покою — хоть живи она сто лет! Она будет моей царицей и укроется в моих лесах, под моей защитой, от всяких гроз и забудет всякие обрывы, хоть бы их были тысячи!!” (VI, 397). Заметим, что оппозицией “мост — пучина — пропасть” воспользовался и Л. Толстой. Так, когда Алексей Александрович Каренин осознает, что Анна уходит от него, он испытывает чувство, “подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот
- 153 -
мост разобран и что там пучина. Пучина эта была — сама жизнь, мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович”262.
В заключительной функции генерального обобщения выступает сон в предпоследней главе романа. Собственно, это не сон, а метафора сна, обнимающая собою все, что произошло с центральными героями “Обрыва”. Истоки ее, возможно, в древнейших мифологических представлениях человечества о кратковременности пребывания на земле тела и вечной жизни духа за ее пределами: “...вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий” — сказано в Соборном послании апостола Иакова (IV, 13—14). Как считает акад. А. М. Панченко, это изречение один из русских книжников первой половины XVII в. положил в основание своей формулы: “...земное житие пара есть и сон”263.
Итак, “в последнее мгновение, когда Райский готовился сесть, он оборотился, взглянул еще раз на провожавшую его группу. Он, Татьяна Марковна, Вера и Тушин обменялись взглядом — и в этом взгляде, в одном мгновении, вдруг промелькнул как будто всем им приснившийся, тяжелый полугодовой сон, все вытерпенные ими муки... Никто не сказал ни слова <...> С этим взглядом и с этим сном в голове скрылся Райский у них из вида” (VI, 419).
Нельзя, читая эти строки, не вспомнить маленький шедевр Тютчева — стихотворение, написанное им в 1851 г.:
В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек...Гончаров не мог его знать: стихотворение помещено в письме поэта к жене и впервые опубликовано в 1914 г. Речь идет о другом. О той питаемой всей мировой культурой насыщенности духовной жизни, которая создавала подобные сближения, выводящие индивидуальное существование на уровень общечеловеческого бытия.
Только поддержанный столь мощными обобщениями мог родиться тот финал романа, на правомерности которого автор твердо и непреклонно настаивал.
В снежных вершинах Альп виделась Райскому “седая голова бабушки”, “на дне швейцарских обрывов мелькал образ Веры”, в Италии “перед ним встали другие три величавые фигуры: природа, искусство, история...” И везде «за ним всё стояли и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Марфинька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая, исполинская фигура, другая великая “бабушка” — Россия» (VI, 422)1*
———
Приближаясь к завершению “Обрыва”, Гончаров выражал в исповедальном письме к Стасюлевичу серьезное опасение: “Я боюсь, боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов — и художественно-религиозных настроений...” (VIII, 338).
Действительно, не все удалось осуществить, многое осталось скорее угадываемым, отчасти — подсказывается рукописью, отчасти — письмами Гончарова. Но и в том, что сделано, видится не только оригинальный мастер, но и личность, чьи искания вливаются в поток напряженных поисков истины и идеала, осуществляемых русской литературой второй половины XIX в.
- 154 -
IV. “ХУДОЖНИК ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ”
Создание “романа в романе” — именно так можно определить место в структуре “Обрыва” двух его последних частей — потребовало новых художественных решений. Писатель осознавал это, приступая к работе над заключительными частями романа (“такая смелость может оправдаться только под пером первоклассного писателя” — VIII, 338). Через десять лет после завершения “Обрыва”, отвечая на критику, он избегает, разумеется, прямой оценки достигнутого, но все же решается подчеркнуть:
«...последние две части бесспорно лучше первых трех <...> они сжатее, определительнее и яснее первых <...> Без этих двух частей была бы треть романа, разрубленное тело без смысла, без значения, словом — урод <...> завершение этого огромного полотна <...> отнюдь не слабее и хуже, а напротив, положительно лучше всего, написанного мною прежде. За это “лучше” я только и вправе стоять и стою на своем» (VIII, 145, 146).
Поэтика Гончарова претерпевала серьезные изменения, обогащалась достижениями его современников и предшественников. 1860-й и 1868-й годы — не только рубежи в эволюции замысла романа, они знаменуют этапы на пути формального решения этого замысла.
Абсолютное большинство рассматриваемых ниже фрагментов романа вписано на полях, внесено в текст уже на этапе корректуры или, по крайней мере, кардинально изменено в процессе окончательной отделки “Обрыва”. Таким образом, есть все основания включить изучение этих фрагментов в целостный анализ творческой истории романа.
В первую очередь серьезная переработка вчерне написанного текста связана с воплощением тех “образов страстей”, которым, по собственному его признанию, был увлечен автор, завершая роман, поскольку “игра страстей, — писал он, — дает художнику богатый материал живых эффектов, драматических положений, и сообщает больше жизни его созданиям” (VI, 454).
1
Значительным достижением Гончарова является создание такого эмоционального контекста происходящих событий, в котором “сцепление” деталей, игра значений и оттенков обретают лирико-философское, часто символическое звучание. Естественно, что в таком ключе решалась прежде всего тема главной героини романа.
В 16-й и 17-й главах II части впервые появляются те определения красоты Веры, которые в дальнейшем станут ее лейтмотивом. “Что за бездонная пропасть, где же почва, основание — что она?” — думал Райский “в отчаянии. — Туманна и таинственна, и неразгадана, как ночь!”265 “Ночь! Ночь! А как она хороша, Боже мой! И какая язвительная красота! [какое могущество, сила...] Чего она не может, если захочет!”266 Вспомним одну из ведущих тем романа Достоевского “Идиот” — безграничной власти “ослепляющей”, “невыносимой”1*, “фантастической, демонической” красоты Настасьи Филипповны, о которой Аделаида Епанчина говорит: “Такая красота — сила <...> с этакою красотой можно мир перевернуть!”267 — или высказывание князя Мышкина: “Красоту трудно судить; я еще не приготовился. Красота — загадка”268.
В романе Вера окружена тайной. Загадочен источник ее обаяния. Строгая гамма красок, характерная для облика Веры, наводит на мысль о чем-то таинственном, непонятном, может быть, даже чуть жутковатом. Настойчивое сравнение Веры с лилией, которой грозит “не ветерок, а ураган” (VI, 185, ср.: VI, 362), подчеркивает чрезмерное совершенство ее красоты, обреченной на гибель. С этой темой связан ряд более сложных ассоциаций, временами приобретающих
- 155 -
аллегорический оттенок: “...раз в жизни девушки расцветает весна — и эта весна — любовь. И вдруг не дать свободы ей расцвесть <...> оборвать цветы...”, — говорит Райский, убеждая бабушку не вмешиваться в жизнь Веры (VI, 77). Но это его суждение, как и многие другие, слишком абстрактно, чтобы быть верным. “Вечные цветы под ногами” (VI, 67) обернулись оскорбительным букетом fleur d’orange1* а перед домом Веры и бабушки после “катастрофы” “вместо цветника, лежали черные круги взрытой земли, с каймой бледного дерна, да полосы пустых гряд” (VI, 347).
Рисуя свою героиню в строгих черно-белых тонах, Гончаров часто освещает ее таинственным лунным светом. “Белое, даже бледное, лицо, темные волосы, бархатный черный взгляд” (V, 288). Такой предстает впервые Вера перед Райским. А вот что предваряет последнее свидание Веры: “Луна освещала новый дом, а старый прятался в тени” (VI, 248); “с ожесточенным нетерпением взяла она мантилью на белом пуху, еще другую, черную...” (VI, 249); “вошла в темную аллею <...> едва мелькал темный ее силуэт, где нужно было перебежать светлое пространство, так что луна будто не успевала осветить ее” (VI, 250). Возвращаясь, Вера “шла, наклонив голову, совсем закрытую черною мантильей. Видны были только две бледные руки, державшие мантилью на груди” (VI, 276).
С этого момента в сочетании черного и белого (в прямом и ассоциативном смысле) настойчиво начинает преобладать черный цвет. “Мертвая улыбка” (VI, 295) Веры, ее “какой-то зловещий”269 взгляд, “почти неподвижный <...> без лучей, как у мертвой, которой не успели закрыть глаз” (VI, 283) — все это указывает на зыбкую границу, отделяющую состояние Веры после “падения” от постепенного умирания.
Неясное стремление забыться с течением времени определяется: “Если б умереть! — внезапно просияв от этой мысли, с улыбкой, с наслаждением шепнула она...” (VI, 291). То же, хотя иначе мотивированное желание возникает как итог мучительных раздумий о своей судьбе у героини романа “Анна Каренина”: «В душе ее была какая-то неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла ее сознать <...> И она вдруг поняла то, что было в ее душе. Да, это была та мысль, которая одна разрешала все. “Да, умереть!.. <...> И стыд, и позор Алексея Александровича, и Сережи, и мой ужасный стыд — все спасается смертью”»270.
Трагическое решение проблемы будущего, казавшееся героиням Гончарова и Толстого единственно возможным, но осуществленное лишь одной из них, вызвало удивительное совпадение авторских описаний обстановки, в которой развертывается эта кризисная психологическая ситуация.
«“Куда уйти? где спрятаться от целого мира?” — думала она <...> Настал вечер, ночь. Вера легла и загасила свечу, глядя открытыми глазами в темноту2*. Ей хотелось забыться, уснуть, но сон не приходил.
В темноте рисовались ей какие-то пятна, чернее самой темноты. Пробегали, волнуясь, какие-то тени по слабому свету окон. Но она не пугалась: нервы были убиты и <...> она не смутилась бы, если б ей сказали, что она не встанет более.
И она продолжала глядеть в темноту, на проносившиеся волнистые тени, на черные пятна, сгущавшиеся в темноте, на какие-то вертящиеся, как в калейдоскопе, кружки...» (VI, 335).
Анна «лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоравшей свечи на лепной карниз потолка и на захватываюшую часть его тень от ширмы, и живо представляла себе, что он будет чувствовать, когда ее уже не будет и она будет для него только одно воспоминание <...>
Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу; на мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно3*. “Смерть!” — подумала она»273.
- 156 -
Далее в романе Гончарова следует признание бабушки, вернувшее Веру к жизни, а в романе Толстого — отъезд Вронского, предрешивший гибель Анны.
В обоих романах ночные сцены имеют не только сюжетное, но и символическое значение. При этом у Гончарова победой черного цвета завершается борьба черного и белого, тени и света в цветовой характеристике Веры и лишь после “взаимной исповеди” душа Веры оживает так, будто “душу эту, как темный, запущенный храм, осветили огнями...” (VI, 339)1*
По мере углубления в текст романа и сопоставления его с рукописью, хранящей свидетельства напряженной авторской работы, выявляется впечатляющая многоплановость образа Веры. Цветовые контрасты — далеко не единственный и наименее сложный способ создания тонко нюансированного психологического рисунка.
В таинственной красоте Веры есть нечто колдовское. Так возникает образ русалки, “с светлыми, прозрачными глазами, с печатью непроницаемости и обмана на лице <...> чуть не в венке из водяных порослей на голове <...>” (VI, 75). Этому сопоставлению Гончаров придавал, вероятно, принципиальное значение. В упомянутых заметках к роману “Дача на Рейне” в его сравнении с “Обрывом” читаем: “Русалочные глаза, которые видит Райский во взгляде лукавых страстных женщин — а тут голова Медузы”215.
Зловещие предчувствия Райского, потрясенного красотой Веры, нагнетаются; нарастает ощущение ее опасности, жестокости. “Пощади меня, смотри, я убит твоей ядовитой красотой”, — молит Райский Веру. “Какая красота, какая гармония — во всей этой фигуре! Она страшна, гибельна мне!” (VI, 225). “Язвительная, опасная, безотрадная” — так определяется в романе красота героини. “Он чувствовал эту красоту нервами, ему было больно от нее” (VI, 225), — пишет Гончаров о Райском2*.
В романе развертывается ряд ассоциаций, смысловое наполнение которых делается все более угрожающим, постепенно возникает ощущение того, что герои романа отданы во власть высших сил зла, всегда присутствующих там, где человеком владеет красота и тайна.
- 157 -
Вера принимает в “воображении” Райского “образ какого-то таинственного, могучего, облеченного в красоту зла, и тем еще сильнее и язвительнее казалась эта красота” (VI, 47). Здесь обращает на себя внимание “зло”, присвоившее себе, так сказать, “чужие одежды”, поскольку субботняя вечерняя молитва гласит: “Господь воцарися, в лепоту облечеся...”. Так иносказательно раскрывается в романе источник обаяния героини и сила, которая покорила ее саму. В таком контексте представляются уместными и библейские оттенки в стилистике образа: “Ты — красота красот, всяческая красота” (VI, 150), и философская афористичность определений: “Ты и идея красоты, и воплощение идеи <...>” (VI, 153).
К евангельскому прообразу обращает читателя неоднократное упоминание “бесов” как аллегории злого начала. Оно присутствует и в речи самого Райского, и в его характеристике от автора, а также в письмах самого Гончарова277. “Вот почти и нет никаких бесов!” — говорит себе Райский, решившись расстаться с Верой (VI, 202). Это ответная реплика героя на собственные размышления в не вошедшем в окончательный текст романа “дневнике”: «Что же я такое? [Кто я такой сам?] Такое ли человеческое существо, как другие? Не знаю, не знаю — сам не знаю! А как “они” поймут, как я растолкую “им”, отчего сегодня я счастлив, пою и ликую, [а завтра вселится в меня семь бесов <...>]»278. Все это — несомненные аллюзии на евангельский текст с его многочисленными эпизодами изгнания бесов Иисусом Христом. К последнему фрагменту ближе всего, пожалуй, повествование Евангелия от Матфея (XII, 44—45) о “нечистом духе”, вышедшем из человека, а затем вернувшемся. Найдя свое место “незанятым, выметенным и убранным”, “тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого”. Евангельские ассоциации нагнетаются. Проходит время, совершается “катастрофа” в обрыве и в тот момент, когда Райский решается послать Вере издевательский букет померанцевых цветов, «обида и долго переносимая пытка заглушали все человеческое в нем. Он злобно душил голос жалости и “добрый дух” печально молчал в нем. Не слышно его голоса; тихая работа его остановилась. Бесы вторглись и рвали его внутренность» (VI, 276). Наутро, проснувшись, он “сел на постели, как будто не сам, а подняла его посторонняя сила <...>1* и вдруг вскочил на ноги, уже с другим лицом, какого не было у него даже вчера, в самую страшную минуту. Другая мука, не вчерашняя, какой-то новый бес бросился в него <...> (VI, 286).
Подготовка к такому осмыслению велась издалека. Еще в одной из первых встреч Вера говорит Райскому: дружба прежде всего заключается в том, чтобы “уважать свободу друг друга, не стеснять взаимно один другого: только это редко, я думаю, можно исполнить. С чьей-нибудь стороны замешается корысть... кто-нибудь да покажет когти...” (V, 356). Отчаянно борясь с собой, она спрашивает Райского, приметил ли тот гравюру “в кабинете старого дома: тигр скалит зубы на сидящего на нем амура. — Я не понимала, что это значит <...> а теперь понимаю. Да — страсть, как тигр, сначала даст сесть на себя, а потом рычит и скалит зубы...” (VI, 226). В надежде на помощь Райского, она признается ему: “...я люблю, меня любят: никто не обманывает. А страсть рвет меня...” (VI, 228).
Наконец, пройдя через уже известную аллегорию, ассоциации ведут ко все обнажающему финалу. Волохов, анализируя в “покаянной” 17-й главе V части историю своих отношений с Верой, говорит “почти вслух”: «“Это логично!” <...> и вдруг будто около него поднялся из земли
- 158 -
смрад и чад» (VI, 380). Таков почти лубочный заключительный образ-ассоциация, возводящий страсть и ложь, ею рожденную, к бесовскому наваждению.
В рукописи романа этот и сопутствующие ему мотивы звучат чаще, чем в окончательном тексте.
Неоднократно возникающая тема “гордости”, как одного из определяющих характер Веры качеств, выступает только в отрицательном смысле. В какой-то степени она сродни “необъятной”, “невыносимой, бесовской” гордости Настасьи Филипповны, “почти беспредельной” гордости Аглаи Епанчиной в романе Достоевского279.
Задолго до “катастрофы”, предчувствуя беду, бабушка говорит: “Ты горда, Вера! Не Бог вложил в тебя эту гордость!” (VI, 142), а в ответ на обещание внучки прибегнуть, если не справится сама, к бабушке “и ни к кому больше, да к Богу!” — шепчет: “Не поздно ли будет тогда, когда горе придет?..” (VI, 142). После “падения” Вере “остается смиренно склонить голову перед громом и нести его” (VI, 331) и, раскаиваясь, говорить себе: “Зачем, зачем все это? Зачем я так — горда, глупа, слаба... — я — не устояла!”280
В сцене “взаимной исповеди” бабушка на вопрос Веры: “Где я была? Как мы не знали с тобой друг друга? Кто нам застилал глаза?” — уверенно отвечает: “Лукавый! <...> мне мешал угадать твое горе, отвести тебя. А тебя ослеплял гордостью! И кому попалась ты, бедная!.. Взял свое враг рода человеческого! <...>”281
Наконец, сама Вера, отказываясь еще от одной черты прошлой своей жизни — склонности к уединению, умоляет бабушку: “Пойдем прежде в часовню, туда, где я напрасно молилась, потому что... молилась и идолу вместе. Пойдем, пойдем! Я могу теперь плакать и молиться!”282
Трудно, завершая рассмотрение данного ассоциативного ряда, не вспомнить знаменитые слова Дмитрия Карамазова: “Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей”283. Характерно в том же аспекте и замечание Н. Н. Страхова об “Анне Карениной”: “Отдавшись всею душою одному желанию — она отдалась дьяволу, и выхода ей нет”284. Это замечание перекликается с ранними редакциями романа Толстого1*.
Такой поток мифологических ассоциаций примерно одного плана в романах трех крупнейших реалистов XIX в., разумеется, не может быть случайным. “Обрыв” Гончарова до сих пор был искусственно изъят из этого ряда. Настало, видимо, время рассмотреть его оригинальный вклад в эволюцию русского романа второй половины XIX в.
Гончаров, как и его современники, не только задает вопросы, но ищет новые возможности в решении сложных проблем психологии поведения незаурядной личности в экстремальных ситуациях.
В черновом тексте романа он пробовал предоставить героине свободу выбора в ее борьбе со страстью, но тут же отказался от этой попытки, даже не завершив начатую фразу. В сцене молитвы Веры после слов: “ни призыва к себе, ни обещания, ни надежды...” было: “как будто говорили: перед тобой свободные пути — избери любой”288. Слова эти зачеркнуты: авторская мысль пошла по другому пути.
- 159 -
Борьба Веры обречена на поражение: поддавшись искушению, она лишила себя поддержки Бога.
3
Мотив “искушения” возникает, как уже говорилось, при первой встрече Веры с Волоховым. Дальнейшее развитие происходит сразу в нескольких направлениях.
Необходимо отметить, что особенностью ассоциативных рядов в романе является их структура: они постоянно пересекаются, частично перекрывая отведенное каждому метафорическое пространство. Поэтому трудно бывает выделить какой-нибудь один, не задевая других.
Реализуется идея “искушения”, естественно, в совокупности с идеей “страсти”, воплощение которой, в свою очередь, осуществляется во множестве ассоциативных цепочек, в ряду которых и придется ее рассматривать.
Ожесточая человека, страсть лишает его жалости и сострадания. “Все вы звери”, — говорит Вера Райскому (VI, 226), и издевательский поступок, совершенный “более исступленным и диким, чем раненый зверь” (VI, 271) Райским, доказывает впоследствии ее правоту. В порыве страсти — влекущей, неразгаданной, оскорбленной — в каждом герое романа пробуждается зверь.
“Вы лиса, мягкая, хитрая; заманить в западню... тихо, умно, изящно...” — определяет Вера поведение Райского (VI, 227). Настойчивое сравнение (сначала авторское) Марка с собакой (V, 264) подхватывается затем Верой (но собака превращается в волка — VI, 226) и далее “волк” становится на протяжении всего романа устойчивым обозначением Волохова. И лишь однажды, как уже отмечалось, в воображении Райского встает величественный образ “отдыхающего льва” VI, 273). Завершается этот ассоциативный ряд словами приговора, вынесенного себе самому Марком Волоховым: «“Волком” звала она тебя в глаза, “шутя” <...> теперь, не шутя, заочно, к хищничеству волка — в памяти у ней останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, и не останется никакого следа — о человеке!» (VI, 381)
Власть страсти настолько велика, что даже Тушин, “русский, честный, смышленый медведь...” (VI, 227), узнав о “падении” Веры и подозревая злостный обман со стороны Марка, на какое-то мгновение теряет контроль над собой. “То же будет и с ним! — прорычал он <...> трясясь и ощетинясь, как зверь, готовый скакнуть на врага” (VI, 301). Раздумывая о предстоящем свидании Тушина с Волоховым, Вера замечает: “Какой силой воли и самообладания надо обязать его, чтобы встреча их на дне обрыва не была встречей волка с медведем!” (VI, 355)
Сама Вера не составляет исключения в этом, несколько неожиданном ряду (причем автор находит для нее сопоставление, привлекая разряд пресмыкающихся. Но говорил же герой Достоевского, вторя Шиллеру, о «“насекомых”, <...> которых Бог одарил сладострастьем <...>»289).
Походка Веры, ее движения уже при первых встречах производили на Райского какое-то странное впечатление: “...она неслышными шагами неслась по траве, почти не касаясь ее, только линия плеч и стана, с каждым шагом ее, делала волнующееся движение; локти плотно прижаты к талии, голова мелькала между цветов <...>” (V, 351). Впоследствии это впечатление определилось, вызывая ощущение змеиной грации, вкрадчивой легкости. Постепенно чисто внешнее сходство углубляется и сравнение Веры со змеей все чаще и чаще реализуется (VI, 48, 225). Как естественное завершение звучит проклятие Райского, в котором — на фоне всего предшествующего — избитое клише оказывается вполне уместным и едва ли не материализуется: “Вот змея, которую вы двадцать три года грели на груди!..” (VI, 272). Столь же естественным кажется и то обстоятельство, что после пережитой героиней
- 160 -
трагедии изменилась не только красота Веры, но и ее походка: “Она подошла к нему, не прежним ползучим шагом, не с волнующимся при походке станом, а тихой, ровной поступью. Шаги издавали легкий, сухой стук” (VI, 362).
Сравнение Веры со змеей имеет интересную параллель — описание “дворовой Мессалины-Марины” (VIII, 137) с ее грацией ящерицы. Стоило бы проследить за развитием “драмы” Райский — Вера, Савелий — Марина. Здесь обнаружились бы сходные эпизоды, близость которых в рукописи романа особенно заметна. Между прочим, то же наблюдается и в рукописи “Обломова”: параллели Обломов — Ольга, Захар — Анисья. Это своеобразные “парные двойники” — любопытная особенность творческой манеры Гончарова290. При окончательной обработке текста “Обломова” они практически ушли, в “Обрыве” же некие намеки сохранились. В рукописи “Обрыва” есть весьма характерная в этом плане сцена, “программа” которой записана на полях291, а самый эпизод вписан также на полях поздним почерком и отчеркнут карандашом1*. Очевидно, при подготовке V части романа к печати автор или читатели его рукописи обратили внимание на то, что сцена с Мариной явно пародирует драму Веры (клятва Марины Савелию — обещание, данное Верой Райскому; условный свист — условный выстрел; вмешательство “лукавого”, так интерпретирует Марина нарушение клятвы, — то же, грубо говоря, у Веры; наконец, прощение, полученное Мариной у Савелия и Верой у Райского). Таковы весьма специфические грани проработки Гончаровым сложных ситуаций. Это очень черновой, почти подсознательный процесс, явно заслуживающий особого внимания психолога, занимающегося проблемами творческой деятельности.
Вернемся, однако, к основной теме, проследим за развитием другой цепочки ассоциаций. Сначала упоминается “мягкий, неслышимый, будто кошачий шаг” Веры (V, 289), затем Райский с раздражением говорит ей: “Ты, как кошка с мышью, играешь со мной” (VI, 233) и, наконец, — филиппика Райского после увиденного им в обрыве: “Вера — кошка! Вера-тряпка... слабонервная, слабосильная... из <...> падших, жалких натур...” (VI, 271). Тогда же, готовясь нанести жестокое оскорбление Вере, хладнокровно продумывая детали, причем лицо его озаряется “какою-то злобно-торжественной радостью, мыслью или намерением” (VI, 275), — Райский, «как святыню, обеими руками, держал букет померанцевых цветов, глядя на него с наслаждением <...> “Не послать ли им два зонтика?” — думал он с безотрадной улыбкой, лаская букет и нюхая его» (VI, 276).
И снова общая психологическая ситуация рождает принципиальное сходство в описании (те же “ключевые слова”) поведения героев Гончарова и Достоевского. Оскорбленная страсть Райского подсказала ему недостойный порядочного человека способ мщения (VI, 287). Так же недостойно ведет себя (см. реакцию князя Мышкина на ее слова) Аглая Епанчина, которая, объясняясь с Настасьей Филипповной, “решительно была увлечена порывом в
- 161 -
одну минуту, точно падала с горы, и не могла удержаться пред ужасным наслаждением мщения”293.
Раздумывая об отношении к себе Веры, Райский говорит: “И не верит страсти! Посмотрела бы она, как этот удав тянется передо мной, сверкая изумрудами и золотом, когда его греет и освещает солнце, и как бледнеет, ползя во мраке, шипя и грозя острыми зубами!” (VI, 197). Сравнение много позже подхватывает Вера. Получив письмо от Марка, «она глядела на этот синий пакет, с знакомым почерком, не торопясь сорвать печать — не от страха оглядки, не от ужаса зубов “тигра”. Она как будто со стороны смотрела, как ползет теперь мимо ее этот “удав”, по выражению Райского, еще недавно душивший ее страшными кольцами, и сверканье чешуи не ослепляет ее больше. Она отворачивается, вздрагивая от другого, не прежнего чувства» (VI, 351)294. В это “кольцо” замкнуты другие — сравнение реализуется, и происходит подмена двух образов. Воспоминания Райского о том, как Вера “вчера <...> скользила, может быть, как змея, с обрыва вниз, сверкая красотой...” (VI, 221—222), готовят к пониманию того, что имеет в виду герой в дальнейшем, рассуждая: “Страсть прекрасна, когда обе стороны прекрасны, честны <...> Если одна сторона не отвечает на страсть, она не будет напрасно увлекать другую, или когда наступит охлаждение, она не поползет в темноте, отравляя изменой жизнь другому <...>” (VI, 228). Вера не названа, но понятно, что речь идет именно о ней.
“Никого не боюсь <...> и этого вашего волка — страсти, тоже!” (VI, 62), — утверждает еще не ослепленная страстью Вера. Райский вспоминает, “как он хотел усмирить страсть постепенно <...> гладя ее по шерсти, как гладят злую собаку, готовую броситься, чтоб задобрить ее...” (VI, 191). Затем происходит уже известная читателю подмена, и собака заменяется волком. Правда, Вера пытается ввести новое понятие, намекая на аллегорическую гравюру в кабинете старого дома, но Райский переводит разговор в более привычную область ассоциаций: “У нас на севере нет тигров, Вера, и сравнение твое неверно <...> Мое вернее: твой идол — волк!” — “Браво, да, да! — перебивает она. — Настоящий волк! как ни корми, все к лесу глядит!” (VI, 226).
Так скрещиваются ассоциативные ряды: Вера — змея, страсть — змея; Марк — волк, страсть — волк. Нет сомнений в том, что появляющийся в этом ряду блистающий чешуею удав — его ведь тоже нет “у нас на севере”, — это богато раскрашенный романтическим воображением Райского библейский змий-искуситель, или Сатана.
4
Автору данной статьи уже приходилось говорить о том, что концепция страсти как разрушительного начала и художественное преломление этой концепции в последнем романе Гончарова ближайшим образом связаны с ее постановкой и решением в романтической поэзии предшественников и современников романиста, прежде всего Ап. Григорьева, Тютчева и А. К. Толстого295. Поэтому имеет смысл остановиться на невыявленных аспектах этой связи, на специфическом характере освоения лирической темы в прозаическом тексте.
В середине 1866 г. Гончаров, основываясь на собственном опыте и подводя итоги многолетних размышлений, противопоставит “страсть, то есть борьбу, драму” “лирическому настроению” и уверенно заметит, что “без борьбы — страсти нет” (VIII, 314, 315).
Личные переживания романиста не нашли бы, по всей вероятности, отражения на страницах “Обрыва”, если бы автор продолжал думать, как это было в середине 1850-х годов, что подобные “безобразные проявления страсти” кончились “на современном мне поколении и воспитании, и что при анализе она невозможна” (VIII, 233).
- 162 -
“Морфология страсти” именно потому заняла столь значительное место в “Обрыве”, что могучую силу чувства испытывают на себе не только романтик и “человек 40-х годов” Райский, но и поколение Волохова и Веры.
Более того, борьба со страстью, высвобождение из “любовного рабства” (Тургенев), хотя бы и ценой трагических потерь и даже самой жизни, становится одним из основных конфликтов русской литературы 1860—1870-х годов.
В середине 1850-х годов Ап. Григорьев признается:
Мне раз изменила лишь нервная дрожь,
Когда я в ответ на холодный вопрос,
На взгляд, где сверкал мне крещенский мороз, —
Борьба, так борьба! — думал грустно, — ну что ж!В начале 1860-х Гончаров напишет о Вере и Райском: “Между ними установилась как будто искусственная игра, род безмолвной борьбы, они вдруг стали в противоположность и благодаря этому отчуждению друг от друга, ему не удалось составить себе никакого очерка о ее нраве, уме, понятиях”296.
И, наконец, в середине 1870-х Толстой скажет об Анне и Вронском: “Он был к ней холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился <...> А она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца”297.
Отдавая, разумеется, себе отчет в разнице эпох, “спровоцировавших” эти строки, в различии сюжетных конфликтов, наконец, резкой индивидуальности каждого из цитированных авторов, нельзя не обратить внимания на объединяющее их ощущение драматизма человеческого бытия, на столкновение в их произведениях сильных характеров, за каждым из которых стоит своя правда.
Одолев “воображение, пожалуй — так называемое сердце Веры”, пишет Гончаров, Марк “не одолел ее ума и воли. В этой области она обнаружила непреклонность, равную его настойчивости” (VI, 266). Отсюда — трагический исход.
Парадоксальным может показаться на первый взгляд тот факт, что трезвый реалист Волохов защищает чувство (“Любовь — счастье, данное человеку природой... Это мое мнение...” — VI, 256), а сотканная из противоречий и страстно влюбленная Вера противопоставляет ему разум (“Счастье это ведет за собой долг <...> это мое мнение...” — VI, 257). Объяснение — не только в том, что уже говорилось об этической программе нигилизма. Дело еще и в том, что, как и показано в романе, Марк знает жизнь лучше Веры и хорошо понимает, насколько бессильным может оказаться разум перед чувством. Хорошо понимает это и создатель “Обрыва”. Отсюда — его знаменитая фраза, заключающая главу, предшествующую “катастрофе”: “Боже, прости ее, что она обернулась!..” (VI, 267).
Характерные для структуры “Обрыва”, особенно его заключительных частей, ритмизованные фрагменты текста, глубинные сближения то с древними мифами, то с лирической поэзией не являются его исключительным достоянием.
Столь велико было в те годы “воздействие поэзии на прозу”, которое “приготовляет будущий ход от реализма к символизму”, что его испытал на себе и такой мастер эпического повествования, как Гончаров. “Обрыв” включается, таким образом, в ряд произведений конца 1860—1870-х годов, когда “Толстой, ища выхода из своего прежнего метода <...> ориентируется <...> на метод философской лирики, усваивая ее импрессионизм и символику”, а Тургенев «пишет свои “Senilia”». Б. М. Эйхенбаум, которому принадлежат цитированные обобщения, поставил также вопрос об особенностях структуры и творческого исполнения “Анны Карениной”, определив «принцип художественной символики, отличающий “Анну Каренину” от “Войны
- 163 -
и мира”», и показал, как он “сказывается и в общем построении романа, и в деталях”298. Такой подход вполне применим и к последнему роману Гончарова.
ГОНЧАРОВ
Фотография К. И. Бергамаско. Петербург, 1873
С дарственной надписью: “Михайлу Матвеевичу Стасюлевичу
душевно благодарный оригинал. 31 Декабря 1882 года”На обороте фографии рукою М. М. Стасюлевича:
«И. А. Гончаров разослал всем принимавшим участие в подарке ему кабинетных часов с бюстом
“Марфиньки”, 31 дек<абря> 1882 г., в день его 50-летнего юбилея литер<атурной> деятельности»Институт русской литературы, С.-Петербург
Вслед за романтиками Гончаров рассматривает страсть как стихийную силу, не подвластную человеческой воле. Так в поэтике любовных сцен “Обрыва” определяющими становятся аналогии разрушительных процессов, происходящих в природе и в душе героев, охваченных страстью. По мере развития основного конфликта романа разбушевавшаяся стихия становится символом бурь, потрясающих человеческую душу, символом страсти. В рукописи это сопоставление декларируется открыто. После “падения” Вера “окружала себя близкими, любимыми лицами, чтобы заставить ими себя, как стеной, — сначала от бури, от волн, от грома и молнии, [т. е.] от страсти, потом от отчаяния,
- 164 -
наконец, от той могильной пустоты, темноты и холода, которые наступили после бури, после треска и пламени страсти”299.
Мотив грозы появляется в рукописи романа еще во II части (Марфинька сообщает Райскому, что Вера не боится ни темноты, ни обрыва, с которым связаны мрачные легенды, ни грозы). В центре лирического сюжета мотив этот оказывается в III части, когда во время грозы, застигшей Веру по пути домой, происходит знакомство Райского с Тушиным. Как никем не замеченное предостережение судьбы звучит полушутливое предложение Тушина Вере обратиться к нему за помощью, если в ее жизни вдруг “загремит гроза”, — “спасайтесь за Волгу, в лес: там живет медведь, который вам послужит... как в сказках сказывают” (VI, 101).
Как гроза в природе, так и “гроза” в человеческой жизни сопровождаются “тучей страсти”, “жаркой атмосферой”, из которой, по словам Райского, «счастливо спасаются только сильные и в самом деле “гордые” характеры» (VI, 57). “Навсегда вашей?” — спрашивает Вера Марка, — и сама пугается “повисшей над ней тучи” (VI, 263). “Со дна этого проклятого обрыва поднялась туча и покрыла всех нас... и вас тоже”, — говорит Татьяна Марковна Бережкова Тушину (VI, 395). “Нависшая туча горя и ужаса” (VI, 291) — это еще и те муки, которые испытывает Вера, и страшное состояние всего дома после “грозы”, “катастрофы”, “бури”, “землетрясения”, постигших всех.
Еще один ассоциативный ряд: страсть — поток, разрушительный и беспощадный, захватывающий все на своем пути. “Я бы с наслаждением бросился в пучину страсти и отдался бы потоку...” (VI, 61), — уверяет Райский героиню романа. Он готов “упиться и захлебнуться” страстью (VI, 58). “Что за омут у них!” (VI, 307), — восклицает бабушка, заметившая странное настроение и Веры, и Райского в день, когда ей предстоит услышать о “падении” внучки. В свою очередь Вера говорит Райскому: “Страсти без бурь нет или это не страсть!” (VI, 228), а Волохов заявляет Тушину: “Страсть — это море. Сегодня буря, завтра штиль...” (VI, 378).
Как гроза в природе сопровождается молнией, так развитию грозы-страсти сопутствуют сверкание молнии и раскаты грома. “Не влюблена ли?” — спрашивает Райский бабушку о Вере. “Господи спаси и помилуй! — произнесла она, перекрестившись, точно молния блеснула перед ней...” (VI, 80, 81). Несчастье поразило Веру “так быстро и неожиданно, как молния” (VI, 295).
Вторжение страсти в жизнь человека, как и вторжение грозы в природу, изменяет привычное течение жизни, заставляет совершать невозможные в обычном, нормальном состоянии поступки, искажает ритм и разрушает гармонию.
В 1860 г. Гончаров полушутливо замечает: «Нет, не верю я охотникам до грозы и прочих подобных беспорядков природы. Все эти “трусы, потопы и глады”, особенно глады — не по натуре человеку»300. В 1866 г. он вполне серьезно утверждает: “Вы говорите, что я только знаю безобразие страсти, а не красоту ее: это не совсем так. Страсть всегда безобразна, красоты в ней быть не может, — или она — не страсть” (VIII, 314). Наконец, в 1869 г. замечает: “...мне нужны волны (только не политические и народные — я их терпеть не могу)”301.
Между приведенными высказываниями не столь большое смысловое расстояние, как это может показаться. Везде — несогласие с отступлением от “нормы”, везде — признание этого отступления противоречащим естественному “порядку вещей” и антиэстетичным.
Но все это теоретически. Практически же, как известно из писем Гончарова и воспоминаний о нем А. Ф. Кони, романист «называл не раз жизнь тяжелым испытанием и часто цитировал по этому поводу слова Пушкина о “мучительных снах”, повторяя: “И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет”»302.
- 165 -
Признание обреченности перед страстью естественно вытекало из присущего Гончарову ощущения человеческого бессилия перед всевластной судьбой. Все, что не поддается человеческим убеждениям и верованиям, писал он в 1860 г., “что противится и идет иначе, сочтем аберрациями, которым подлежат и звезды, не только мы и жизнь наша, с ее падениями, торжествами, с ее печальным весельем и невеселыми печалями”303.
Обращая внимание на эту сторону гончаровской концепции жизни, нельзя не вспомнить также о поэзии Тютчева. Мироощущение поэта с его трагическим противопоставлением космоса и хаоса, безусловным тяготением к хаосу и одновременно — ужасом перед ним, несомненно оказало некоторое воздействие на Гончарова.
В черновых набросках к последним частям романа автор сделал запись, использованную затем в 9-й главе IV части (с небольшими разночтениями): “Страсть жестока и самовластна. Она не покоряется человеческим соображениям и уставам, а покоряет людей своим неизведанным капризам!” (VI, 235).
Не только Райский, в чьи уста вложена эта сентенция, все герои романа, охваченные страстью, могли бы подтвердить ее справедливость. Страсть равно поражает всех, а обреченность перед нею вызывает, даже у сильных натур, разочарование в себе и озлобление, доходящее до болезненной ненависти к предмету страсти.
Нет сомнений в том, что, рисуя это состояние, Гончаров ориентировался и на историческое содержание, заложенное в данное понятие еще с евангельских времен. В. И. Даль так определяет его: “страданье, муки, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска”304. В “Обрыве” страсть — это “болезнь”, “горячка”, “лихорадка”. Райский признается Вере: “Я чувствую, что не только при взгляде твоем, но лишь — кто-нибудь случайно назовет тебя — меня бросает в жар и холод...” (VI, 65). Козлов после ухода жены шепчет в отчаянии: “Ее нет — вот моя болезнь! Я не болен, я умер: и настоящее мое, и будущее — все умерло, потому что ее нет! Поди, вороти ее, приведи сюда — и я воскресну!..” (VI, 211). У его постели встречаются Райский и Волохов. Марк — “нечесаный, с невыспавшимся лицом, бледный, худой, с злыми глазами, как будто его всего передернуло <...>
— Вы похудели — и как будто нездоровы! — заметил Райский, — глаза у вас...
Марк вдруг нахмурился, и лицо у него сделалось еще злее прежнего.
— А вы, на мой взгляд, еще нездоровее! — сказал он. — Посмотритесь в зеркало: желтые пятна, глаза ввалились совсем...
— У меня разные беспокойства...
— И у меня тоже, — сухо заметил Волохов. — Прощайте” (VI, 207, 209).
Те же “беспокойства” отразились и на внешности Веры. “Лицо бледное, исхудалое, глаза блуждали, сверкая злым блеском, губы сжаты” (VI, 228). После “падения” Веры Марк на свидании с Тушиным убеждает его: “Вы могли бы избавить ее от этой пытки, от нездоровья, от упадка сил... <...> Старуха сломала беседку, но не страсть: страсть сломает Веру...” (VI, 376).
Райский, пишет Гончаров, “не хотел любить Веру, да и нельзя, если б хотел: у него отняты все права, все надежды”. Но и отказаться от этой любви он не мог. “Даже красота ее, кажется, потеряла свою силу над ним; его влекла к ней какая-то другая сила. Он чувствовал, что связан с ней не теплыми и многообещающими надеждами, не трепетом нерв, а какою-то враждебною, разжигающею мозг болью, какими-то посторонними, даже противоречащими любви связями” (VI, 74).
На таком фоне естественно возникает мысль о поглощенности страстью до такого состояния, когда даже гибель кажется желанным исходом. Пушкинское: “Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца смертного таит // Неизъяснимы наслажденья...” — приобретает в литературе середины века новые оттенки, соответствующие духу времени, все усиливающемуся трагизму мироощущения
- 166 -
личности. Так, Тютчев на рубеже 1850-х годов пишет об “ужасном обаянье” двух “близнецов” (в другой редакции они трактуются как “демонские власти”):
И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!Вне зависимости от Тютчева (стихотворение “Близнецы” опубликовано только в 1886 г.) Гончаров приписывает Райскому такие слова, обращенные к Вере: “Ты — бездна, в которую меня влечет невольно, голова кружится, сердце замирает — хочется счастья — пожалуй, вместе с гибелью. И в гибели есть какое-то обаяние...” (VI, 150).
В этой связи необходимо обратить внимание еще на некоторые особенности развития темы страсти в художественной ткани романа “Обрыв”.
5
С развитием страсти и постепенным осознанием бессмысленности борьбы с ней нарастает и становится все напряженнее и острее внутренняя озлобленность Веры, Райского и Волохова.
Жестокость и губительность страсти подчеркнута в теме казни, пытки. Возникнув впервые в разговоре Райского с Верой, когда он признается в том, что страсть поработила его, эта тема проходит через весь роман. Казнит себя Райский за оскорбление, нанесенное Вере (VI, 287); “одну казнь, одно неизлечимое терзание на всю жизнь” выносит из “обрыва” сама Вера (VI, 381, см. также: VI, 322); истерзана пыткой бабушка (VI, 334). Неоднократно приравнивается к пытке сама неудовлетворенная страсть. “Ты не видишь, что я на колесе, в пытке, в огне этой страсти и ты, женщина, хохочешь, играешь ею и <...> подгребаешь горячих углей” — почти с ненавистью пишет Райский Вере305; “Надо же кончить как-нибудь эту томительную пытку и сойти с горячих угольев!” — настаивает Волохов (VI, 255); наконец, Вера, умоляя Райского отпустить ее на последнее свидание, говорит ему: “Брат! <...> если когда-нибудь вы горели, как на угольях, умирали сто раз в одну минуту от страха, от нетерпения... когда счастье просится в руки и ускользает <...> Припомните такую минуту...” (VI, 251).
Орудием казни оказывается “нож”1*. “Воткнула нож, смотрит, как течет кровь, как бьется жертва!” — говорит Райский о Вере (VI, 225). Здесь “нож” — жестокость Веры, вызванная непониманием всевластия страсти. Но и Райский в свою очередь “в горячке страсти” (VI, 290) ударяет “ножом” Веру — имеется в виду букет померанцевых цветов (VI, 288). Ему предстоит “вонзить глубже нож в сердце” бабушки, “этой — своей матери” (VI, 296), посвятив ее в тайну Веры. Сама Вера с ужасом ждет “удара ножа” (VI, 297) от Тушина как возмездие за свое “падение”. Она же вонзает “нож” в сердце Марка, посылая Тушина (VI, 380) объясняться с ним. Наконец, Волохов, анализируя свое отношение к Вере, чувствует, как “нож” — совесть — “делал свое дело и вонзался все глубже и глубже” (VI, 380).
Страсть не только ожесточает. Она посягает на личность как таковую, лишая самолюбия, гордости, достоинства. Умоляя Веру о разрешении остаться в Малиновке, Райский признается: “...нет желания, нет каприза, нет унижения, которого бы я не принял и не выпил до капли <...>” (VI, 108). “Дай этот грош нищему... Христа ради! — шептал он страстно, держа ладонь перед ней <...>” (VI, 187). Ни содержание, ни формулировку таких просьб нельзя
- 167 -
отнести за счет экзальтированности Райского, ибо позже, в “чаду страсти”, в которую прежде не верила, Вера теми же словами заклинает Райского не удерживать ее: «“Христа ради!” — шептала она, протягивая руку, — вы тоже просили меня, Христа ради, не удалять вас... я не отказала... помните? Подайте и мне эту милостыню!..» (VI, 253).
Этот процесс обезличивания не может не вызывать попыток внутреннего сопротивления. Райский «пробовал было мужать духом, поднимал бодро голову, выпрямлялся, возвышал голос и только хотел “гордо и небрежно” обратиться к Вере, а колена гнулись, голова склонялась и страстный голос шептал: “Я люблю тебя, Вера, до безумия, я готов пресмыкаться у ног твоих, позориться <...>”»307
Нельзя не вспомнить здесь тургеневские повести “о трагическом значении любви”308, эпиграфом к которым можно было бы поставить слова героя “Переписки”: “...в любви одно лицо — раб, а другое — властелин, и недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь — цепь, и самая тяжелая”309. В конце 1860-х — начале 1870-х годов эта тема вновь возникает в рассказах Тургенева, где “любовь трактуется как случай подчинения воли, подчинения насильственного, даже злобного, как злая страсть”310.
В романе Гончарова зло красоты и зло страсти сливаются в воображении Райского и достигают кульминации. Так рождается сугубо романтический итоговый образ: “Ему припомнились все жестокие, исторические женские личности, жрицы кровавых культов, женщины революции, купавшиеся в крови, и все жестокое, что совершено женскими руками, с Юдифи до леди Макбет включительно” (VI, 225).
6
Возникает естественный вопрос: обнаружил ли Гончаров, на протяжении многих лет изучавший “морфологию страсти”, нечто, способное противостоять этому разрушительному чувству, или обреченность человека перед страстью была для автора “Обрыва”, как и для Тургенева, аксиомой?
Противоречивость, часто неопределенность позиции Гончарова, нашедшая отражение в его письмах, в полной мере сказалась при постановке и решении и этой проблемы в романе “Обрыв”.
Выше было показано, что бессмысленно, по Гончарову, искать в разгаре страсти прибежища в религии. В принципе это верно, но верно с известными ограничениями.
Важнейшее значение приобретает в этом смысле тезис романиста, провозглашенный им в письме к С. А. Никитенко от 21 августа/2 сентября 1866 г., которое можно рассматривать как своего рода философско-эстетический трактат. “... Вы правы, — пишет Гончаров, — подозревая меня тоже в вере в всеобщую, всеобъемлющую любовь и в то, что только эта сила может двигать миром, управлять волей людской и направлять ее к деятельности и прочее <...> Ведь каждая страсть есть только неумеренное влечение к тому идеалу любви — и если это стремление не удовлетворяется, так это от ошибок и уродливостей и с той и с другой стороны” (VIII, 314).
Нельзя не увидеть в этих словах определенного влияния романтической философии в том ее ракурсе, который характерен для поэзии А. К. Толстого. Любовь, утверждается в его поэме “Дон Жуан”, —
... Законами живыми
Во всем, что движется, живет.
Всегда различна от вселенной,
Но вечно с ней съединена,
Она для сердца несомненна,
Она для разума темна.- 168 -
Нетрудно, однако, обнаружить истоки и этой концепции. “Божественную Комедию” Данте заключает строка: “Любовь, что движет солнце и светила”. Речь, следовательно, идет о концепции мироздания. Уходит она еще в мифологические времена и может быть определена словами Иоанна-Богослова: “Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь”311. Именно в этом смысле следует, вероятно, понимать слова Гончарова в цитированном письме. Здесь мы находим тот оттенок, который не позволяет безоговорочно отринуть понимание религиозного чувства как воплощения высшей любви и, следовательно, вечной надежды на прощение.
Однако будучи реалистом, а потому обращая свои размышления в сферу земной жизни, Гончаров выражает в своем письме серьезное сомнение, “можно ли любить одну внутреннюю красоту, одну идею ее?” Но это, — продолжает он, — “уже любовь нечеловеческая, это — благоговение, — и такою любовью христианину только и позволительно любить одного Бога <...> А затем уже — извините — следует наша земная, все-таки прекрасная, честная любовь, где взаимная симпатия дает жизни свет и тепло. Ее надо и понимать проще, органически, по-земному: иначе впадешь в романтизм” (VIII, 317).
В чистейший романтизм и впадает герой “Обрыва” в своем восторженном монологе, посвященном Дон Жуану. Явственно слышатся в нем отголоски драматической поэмы А. К. Толстого. Дон Жуан, утверждает Райский, “чист и прекрасен; он гуманный, тонкий, артист, тип chef d’oeuvre1* между человеками. Таких, конечно, немного. Я уверен, что в байроновском Дон Жуане пропадал художник. Это влечение к всякой видимой красоте, всего более к красоте женщины, как лучшего создания природы, обличает высшие человеческие инстинкты, влечение и к другой красоте, невидимой, к идеалам добра, изящества души, к красоте жизни! Наконец, под этими нежными инстинктами у тонких натур кроется потребность всеобъемлющей любви!” (VI, 151).
После завершения “Обрыва” писатель отказывается от возможности художественного претворения своих идей. Остаются письма, в которых он то вступает в полемику со своими героями, то присоединяется к их мнению. Характерно его письмо к С. А. Никитенко от 25 июля/6 августа 1869 г.: “Влюбляются воображением действительно Бог знает во что: это неуловимо — во что, в красоту, грацию, вообще в наружные признаки красоты <...> И это вовсе не дурно, а когда <...> это более или менее оправдается некоторыми и нравств<енными> качествами, тогда это и прекрасно, и свято, и возвышенно и т. д. Словом, тогда это и полная и гармоническая любовь <...> Ведь и глубокая оценка нравств<енных> качеств есть тоже влюбленность и ведет к тем же результатам, т. е. влечет, сближает, ищет всяческого соединения. Не признавать этого <...> значит хотеть отрешиться от человеческой природы”312. Здесь автор явно возвращается к “Обрыву” и практически цитирует своего героя, утверждавшего: «Да, эта “святая, глубокая, возвышенная любовь” — ложь! Это сочиненный, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти <...> Природа вложила только страсть в живые организмы, другого она ничего не дает. Любовь — одна, нет других любвей!» (VI, 66). Еще через несколько лет, в письме 1885 г. к К. К. Романову (К. Р.), твердо и уверенно, без обычных оговорок Гончаров заявляет: “...в земной любви к женщине, даже так назыв<аемой> возвышенной любви, глубоко скрыты и замаскированы чувственные радости”313.
Итак, в общефилософском плане предпочтение решительно отдается “всеобъемлющей любви”. В обыкновенной жизни обыкновенных, пусть даже и тонко чувствующих людей — любви земной, ибо в ином случае, повторим слова писателя, — это было бы противно “человеческой природе”.
- 169 -
ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГОНЧАРОВА НА ОТТИСКЕ ОЧЕРКА “ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР”
(Русская речь, 1880, № 1):“Софье Александровне Никитенко от друга и автора. 1 января 1880”
Литературный музей, Москва
7
В своем “Обрыве”, однако, Гончаров попытался найти некий компромисс. Воплощен он в “простой русской практической натуре” (VI, 389) Ивана Ивановича Тушина, аллегорически определяемого в романе как “честный, смышленый медведь” или “усталый конь” (VI, 227, 373). Именно над этой менее всего, казалось бы, поддающейся всякого рода абстрактным теоретизированиям натурой было совершено автором явное насилие. Кроме прочих своих достоинств, Тушин оказался еще и единственным героем романа, способным на “чистую, глубоко нравственную страсть”, свободную от “животного эгоизма” (VI, 366). Автор “Обрыва” не мог не сознавать, что все движение романа шло к тому, чтобы показать, что такой страсти не существует. Поэтому возникает еще одно определение: “не исключительное, не узкое пристрастие, а <...> общечеловеческое чувство” (VI, 383). В рукописи романист попытался раскрыть его содержание. Оказывается, что героиня полюбила Тушина “не как любовника, даже не как мужа, даже не как друга”314. Из всех возможных вариантов этой странной любви, лишенной определенности и избирательности, оставался только один: как Бога. Поскольку такая возможность исключена, фраза вычеркивается и на ее месте как раз и появляется “общечеловеческое чувство”. Чувство это должно быть также совершенно бескорыстным, т. е. не должно искать удовлетворения. Ведь не случайно Гончаров подчеркивал, что Райского до его отрезвления “тянула в себя
- 170 -
бездна корыстной животной страсти”315, что Вера отвергала “корыстную дружбу”, а “свое влечение к Тушину” объяснила Райскому «как к “человеку” вообще» (VI, 383).
Продолжая идти по пути крайней идеализации, Гончаров вступает в противоречие со всем, сказанным ранее, и приписывает Райскому совершенно невозможные для него вульгарные рассуждения о том, что “физическая” любовь “зависит не от сознания, не от воли, а от какого-то нерва (должно быть, самого глупого <...> отправляющего какую-то низкую функцию, между прочим влюблять) <...>” (VI, 383).
Ощущая недостаточность и неубедительность такого художественного решения, Гончаров возвращается к его толкованию в критическом этюде «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”», где пишет: “У Тушина <...> страсть к Вере сильна, разумна и сознательна, потому что, кроме красоты, она основана на убеждении в ее нравственных совершенствах. Он, вероятно, любил бы ее и не красавицей. От этого и страдания его по ней не вознаградимы, зато и счастье, если б она отвечала ему, было бы полное, совершенное и прочное на всю жизнь” (VI, 459).
В принципе, для решения этой темы художественными средствами не может быть особых затруднений. И тем не менее в романе это сделано неудовлетворительно. Гончаров вступил здесь в противоречие с очевидным законом эстетики, определить который можно, пользуясь высказыванием самого романиста: “Света без теней изобразить нельзя. Мрак без света изобразить легко, и искусство давно уже стало на отрицательный путь, то есть перестало льстить людям, отыскивая в них одни хорошие стороны и забывая мрачные” (VI, 457).
Объяснить, почему это произошло, кажется несложным. Гончаров в данном случае выполнял определенный “социальный заказ”, отыскивая “новую правду”, которая может противостоять и “старой” и “новой” лжи. Так появилось, если говорить о социально-политическом направлении этих поисков, определение Тушина как “заволжского” Роберта Оуэна (VI, 389). Если же рассматривать нравственно-психологическую сторону проблемы, то следствием этих поисков стал во всех возможных отношениях идеализированный портрет Тушина — “человека”, созданный в поисках антитезы нигилизму и нигилистам. В длинном отступлении Гончаров попытался оправдать даже очевидную интеллектуальную ограниченность своего героя, утверждая, что она мнима и “есть не что иное, как равновесие силы ума с суммою тех качеств, которые составляют силу души и воли...” (VI, 384). При этом его герой оказался лишенным и тех свойств, что привлекали читателя в Петре Адуеве и Штольце, предшественниках Тушина: художественный вкус, эстетическое чутье, разносторонняя образованность. Зачем, с какой целью добивался Гончаров такого эффекта, понять трудно. В любом случае просчет очевиден. Впрочем, все это Гончаров и сам понимал, подчеркнув в письме к Стасюлевичу от 5 ноября 1869 г., что это лицо действительно придуманное, “pium desiderium”1*, и то неудачный!” (VIII, 375).
Итак, попытка Гончарова выдвинуть в качестве альтернативы страсти любовь к “человеку вообще” (воплощенному в образе Тушина) — как высшую форму любви и как единственную опору героини романа в ее неопределенном будущем — художественно не состоялась.
Авторская ли тенденция погубила глубоко задуманный и тонко проведенный анализ страсти, творческой ли смелости не хватило Гончарову, но итоговое решение любовной темы в “Обрыве” не сопоставимо с завершением таких, например, романов, как “Идиот” или “Анна Каренина”. Против него восстали и многие критики “Обрыва”: “Если б Вера ушла за Марком к его телеге, если бы она убила себя, пошла в монастырь, или затворилась в себе,
- 171 -
терпя в гордом одиночестве свое тайное горе, все это можно было бы понять, но Веры плачущей, молящейся, кающейся чуть ли не перед всеми, раскаивающейся в своем грехе, просящей прощения и обещающей исправиться, мы понять отказываемся...”316
Такое завершение “Обрыва” правильнее будет рассматривать не только как свидетельство эстетического просчета автора, но, в первую очередь, как его сознательный вызов “новой лжи”, поскольку покаяние и смирение Веры есть признание ею “старой правды” и возвращение в ее лоно. Вместе с тем необходимо отдать должное гуманизму Гончарова, безусловно оправдавшему героиню в самом факте ее “падения”. По тем временам это был смелый поступок, бросающий вызов традиционному общественному мнению, представленному не только “фарисеями морали”317.
8
Приведенные сопоставления прозы Гончарова и поэзии его времени обнаруживают важную закономерность. Выступивший в начале своей творческой деятельности в качестве активного противника романтизма как философии жизни, Гончаров в своем последнем романе так же, как Тургенев, Л. Толстой и Достоевский, обращается к опыту русской романтической поэзии. Именно здесь были поставлены проблемы страсти как “поединка рокового” (Тютчев), уделялось значительное внимание судьбе художника и искусства.
Так возникла беспрецедентная насыщенность романа “Обрыв” (особенно его черновой редакции) реминисценциями любовной и философской лирики. Изменения, наметившиеся в поэтике гончаровского романа, показали, сколь ответственным был выбор темы, буквально навязавшей автору совершенно неожиданный для него способ ее творческого решения. Поэтические вкрапления в художественной ткани “Обрыва” явились своеобразными сигналами иной мировоззренческой системы, системы русского философского романтизма.
9
А. И. Белецкий заметил однажды, что “в той или иной метафоре” раскрывается “порой целая страница истории литературного искусства, а за нею и страница истории поэтического мироощущения, в свою очередь <...> обусловленного мироощущением внепоэтическим, и, следовательно, фактами внешнего бытия”318.
Развертывание следующего ассоциативного ряда, во многом определяющего связь стилистики “Обрыва” с концепцией романа, убедительно свидетельствует о том, что в цитированном высказывании точно подмечен один из законов художественного творчества.
Все пропадает из глаз и воображения Райского, пытающегося понять, от кого получила письмо Вера. Одна она стояла в его мечтах “на пьедестале, освещаемая блеском солнца и сияющая в мраморном равнодушии, повелительным жестом запрещающая ему приближаться <...> То являлась она в полумраке, как настоящая Ночь, с звездным блеском, с злой улыбкой, с таинственным, нежным шепотом к кому-то и с насмешливой угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая, то смелая и злая!” (VI, 48).
Наблюдая за Верой, Райский замечает, как “на лице у ней, в этом бездонном взгляде — проходят такие глубокие тени чего-то: мысли ли несутся тучами, чувства ли проносятся из души...”, но вдруг, внезапно — “и следов мысли и чувства нет, все будто стерлось и лицо как будто безжизненно как у мраморной статуи, бледно, неподвижно и обаятельно прекрасно”319.
- 172 -
Объединение в системе романа двух образов: Веры-Ночи и Веры-статуи — в один заставляет обратить пристальное внимание еще на один фрагмент черновой рукописи романа.
“Фантазия и страсть на двух своих крыльях умчали Райского в чудный мир. Там <...> на пьедестале из цветов, среди зеленых листьев винограда и плющей стояло бледное изваяние его таинственной трепетно мерцающей Ночи, его обожаемой Веры, страстной, причудливой, с всепобедной красотой лица, с красотой ума, с красотой непреклонной воли!”320
Принимая в августе 1869 г. с благодарностью одобрительный отзыв Фета о своем романе, Гончаров имел все основания заметить, “nous nous entendons et nous nous sympathisons”1*. Ведь именно в стихотворении Фета “Венера Милосская”, которое, как заметил Гончаров в том же письме, он “силился припомнить” в Лувре, и в котором, по его словам, “сжалось и спряталось то, что каждый должен чувствовать перед этой статуей, перед ее всепобедной красотой, смотрящей вдаль” (VIII, 372), был почерпнут его образ (ср. у Фета: “И всепобедной вея властью, // Ты смотришь в вечность пред собой”).
Настолько существенным представлялось Гончарову выявленное сопоставление, что он оценил его в заметках, сравнивающих тексты “Обрыва” и “Дачи на Рейне”, как определяющее структуру и внутренний смысл своего романа: “У Райского статуя одухотворенной Венеры, а у этого <Ауэрбаха> статуя Победы Рауха”321. Правда, в окончательный текст романа аллюзионно-фетовский фрагмент не попал. Там оказался только намек на него (в письме Райского художнику Кирилову, где, сообщая о своем намерении стать скульптором, он иронически отзывается о прежних своих замыслах: «Выдумал какую-то “осмысленную и одухотворенную Венеру”!» — VI, 415). Свои признания Райский продолжает так:
«Мое ли дело чертить картины нравов, быта, осмысливать и освещать основы жизни. Психология, анализ!
Мое дело — формы, внешняя, ударяющая на нервы красота! <...>
Творчество мое не ладит с пером. Не по натуре вдумываться мне в сложный механизм жизни! Я пластик, повторяю: мое дело только видеть красоту — и простодушно, “не мудрствуя лукаво”, отражать ее в создании...» (VI, 415).
Помимо темы дилетантизма, здесь звучит важный для поэтики и философской концепции “Обрыва” мотив. Надежда Райского найти призвание в сфере пластических искусств вполне соответствует его самооценке, если исходить из общепринятого положения, что произведения этих искусств “существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени”. В этом плане они действительно противостоят словесному творчеству с его движением характеров, “диалектикой души” и т. п. Такое именно сопоставление находим и в стихотворении Евг. Баратынского:
Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.Есть в признаниях Райского еще один слой ассоциаций, довольно полно представленный в романе, начиная уже с первой его части в ее окончательной редакции.
- 173 -
БЕСЕДКА — ПАМЯТНИК ГОНЧАРОВУ В КИНДЯКОВО, ПОСТАВЛЕННЫЙ В 1912 г.
МЕСТНОЙ ПОМЕЩИЦЕЙ Е. М. ПЕРСИ-ФРЕНЧФотография Каганина. Симбирск. <1912>. На паспарту надпись рукою А. Ф. Кони:
«Памятник Гончарова в старом саду над “обрывом”»Гос. архив Российской Федерации, Москва
Последняя глава I части завершается странным видением героя. Ему рисуется “женская фигура, с лицом Софьи <...> белой, холодной статуей, где-то в пустыне, под ясным, будто лунным небом, но без луны; в свете, но не солнечном, среди сухих нагих скал...” Далее (в основном записано на полях рукописи) следует эпизод чудесного ее оживления. Пустынный пейзаж преображается: на “мертвых деревьях” вдруг “задрожали листы”, “нетекущие воды” “тихо зажурчали”. “Кто-то встрепенулся в ветвях, кто-то пробежал по лесу; кто-то вздохнул в воздухе...” На фоне одухотворенной природы “статуя ожила, повела радостный взгляд вокруг...” (V, 151—152).
Следующий эпизод — цитированное выше видение “трепетно мерцающей ночи” на фоне явно не среднерусского пейзажа, “среди зеленых листьев винограда и плющей”.
Далее — сцена “падения” Веры, ужас оскорбленного Райского, когда внезапно, “против его воли, вопреки ярости, презрения, в воображении — тихо поднимался со дна пропасти и вставал перед ним образ Веры, в такой обольстительной красоте, в какой он не видал ее никогда! <...> Она стояла на своем пьедестале, но не белой, мраморной статуей, а живою, неотразимо пленительной женщиной, как то поэтическое видение, которое снилось ему однажды...” (VI, 272).
Как в архитектуре “замковым камнем”, скрепляются в романе Гончарова своды художественных образов-символов.
Но и этим не исчерпывается его глубина. Вступают в действие подтекстовые связи, частично обнаруживаемые в окончательной редакции “Обрыва”, частично намеченные лишь в его рукописи.
- 174 -
На полях рукописи после слов, определяющих концепцию “будущей” Веры, которой предстоит “быть бабушкой в свою очередь <...> любить людей, правду, добро...” (VI, 339), читается: “...сделать из себя и внутреннюю статую, по словам Райского”.
В окончательном тексте романа мы этих слов не найдем, как не найдем там и реализации авторской пометы, внесенной на поля 9-й главы IV части и явно относящейся к Райскому: “...статуя ли я сам <...>”323. Здесь перед нами не только обнажение приема, но и обстоятельство более существенное.
Две эти записи помогают понять движение авторской мысли в направлении, уже не раз отмеченном: предельной символизации центральных образов романа, т. е. движение к финалу “Обрыва”. Суть этой пометы, по-видимому, такова: Райский раздумывает о том, может ли он встать в один ряд с героинями “Обрыва”, за которыми автору романа видится сама Россия. Достоин ли он, выдержит ли такое сопоставление. Раздумья эти тесно связаны с мыслью автора о месте художника в обществе, о проблемах художественного сознания, отражающего жизнь, и многих других вопросах, внедренных в общую концепцию романа.
Прямого ответа на эти вопросы в последнем романе Гончарова мы не найдем. Ответ должна была дать история, читательское восприятие всего, что создано автором “Обыкновенной истории”, “Обломова” и “Обрыва”.
———
Оценивая свой творческий путь, Гончаров предлагал читателю самому “рассудить и решить о том невидимом, но громадном труде, какого требует построение целого здания романа!” (VIII, 146).
Здание “Обрыва” возводилось двадцать лет. Даже в многостраничной работе нет возможности не только подробно, в деталях, рассмотреть все это грандиозное сооружение, но хотя бы окинуть взором каждый из его интерьеров. Тем более не представляется возможным изучить каждый из камней, положенных в разное время и разным способом кладки в его основу. Задача автора данной работы значительно скромнее. Представлялось необходимым, располагая общим проектом и многочисленными эскизами, попытаться показать, как проходил самый процесс строительства, оценить материалы, которые избирались зодчим (это определение своего труда Гончаров любил) на разных этапах осуществления общего замысла. И еще хотелось показать, сколь ответственно подходил автор “Обрыва” к осуществлению своей задачи и каким неровным и мучительным был его путь, приоткрыть завесу над той “невидимой читателю” (VIII, 174) работой, которой, жертвуя всем другим, отдавал свою жизнь Гончаров. В этом подвиге романиста видится большой нравственный урок, завещанный им будущим поколениям.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ляцкий Е. А. Бабушкина тайна. (Одна из женских проблем в романе Гончарова “Обрыв”) // Современный мир. 1916. № 12. Отд. II. С. 1—15. См. также: Батюшков Ф. Д. Гончаров как один из главарей русского романа (Andre Mazon. Un maître du roman russe Ivan Gontcharov. Paris, 1914) // Журнал Мин-ва нар. просвещения. 1914. № 9. Отд. II. С. 208—219; Евгеньев-Максимов В. Е. И. А. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. М., 1925. С. 113—138; Цейтлин А. Г. Почему не печатались эти главы // Гончаров И. А. Неизвестные главы “Обрыва”. М., 1926. С. 5—13; Евгеньев-Максимов В. Е. Работа над “Обрывом”. (Гончаров как художник) // И. А. Гончаров. <Сб. статей>. М., 1928. С. 223—298; <Томашевский Б. В.> Юров Б. Как работал Гончаров // Лит. учеба. 1931. № 9. С. 108—119; Злобин В. Н. Как создавался “Обрыв” // Лит. учеба. 1937. № 7. С. 30—47; Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М., 1950. С. 216—281; Груздев А. И., Добровольский Л. М. Набросок неосуществленного продолжения романа “Обрыв” // Лит. архив. Т. 3. М.; Л., 1951. С. 85—89; Пиксанов Н. К. Роман И. А. Гончарова “Обрыв” // Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та, № 173. 1954. С. 186—257; Рыбасов А. М. Примечания // Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1954. Т. 6. С. 431—448; Чемена О. М. И. А. Гончаров и семейная драма Майковых // Вопросы изучения рус. лит-ры XI—XX вв. М.; Л., 1958. С. 185—195; Бейсов П. С. Гончаров и родной край. Куйбышев. 1960. С. 5—87;
- 175 -
Чемена О. Этапы творческой истории романа И. Гончарова “Обрыв” // Рус. литература. 1961. № 4. С. 195—208; Политыко Д. А. Роман И. А. Гончарова “Обрыв”. Минск, 1962. С. 42—69; Чемена О. М. Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. М., 1966; Пиксанов Н. К. Роман Гончарова “Обрыв” в свете социальной истории. Л., 1968; Гейро Л. С. Из истории создания романа И. А. Гончарова “Обрыв”: (К эволюции образов Веры и Марка Волохова) // Ежегодник ПД на 1973 г. С. 51—73; Она же. Из истории создания романа “Обрыв”: Эволюция образа Райского-художника // И. А. Гончаров. Новые материалы о жизни и творчестве писателя. Ульяновск, 1976. С. 61—84; Она же. Предисловие к публикации “И. А. Гончаров. Письма к С. А. Никитенко” // Ежегодник ПД на 1976 г. С. 183—221; Она же. О романе “Обрыв”. Статья // Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1980. Т. VI. С. 467—493; Примечания // Там же. Т. V. С. 367—381. Т. VI. С. 495—499; Старосельская Н. Роман И. А. Гончарова “Обрыв”. М., 1990. Проблемы творческой истории “Обрыва” затрагиваются также в двух работах, посвященных конфликту Гончарова и Тургенева: Суханек Л. (Польша). И. Тургенев и И. Гончаров, или О плагиате; Недзвецкий В. Конфликт И. С. Тургенева и И. А. Гончарова как историко-литературная проблема (обе напечатаны в изд.: Slavica. Debrecen. XXIII. 1986. С. 305—313, 315—332).
2 Пиксанов Н. К. Роман Гончарова “Обрыв” в свете социальной истории. Л., 1968. С. 157.
3 Политыко Д. А. Роман И. А. Гончарова “Обрыв”. Минск, 1962. С. 127.
4 Цейтлин. С. 264—265.
5 История русского романа: В 2-х т. М.; Л., 1964. Т. II. С. 191.
6 Лощиц Ю. Гончаров. М., 1977. 2-е, испр. и доп. изд. М., 1986; Кулешов В. И. Этюды о русских писателях: (Исследования и характеристики). М., 1982. С. 171—219; Мельник В. И. Реализм И. А. Гончарова. Владивосток, 1985.
7 Мережковский Д. С. И. А. Гончаров: Критический этюд // Труд. 1890. № 24. С. 596. Полемическую реакцию современников на высказывания Мережковского см.: Волынский А. Литературные заметки // Сев. вестник. 1893. № 3. Отд. II. С. 133—134; Спасович В. Д. С. Мережковский и его “Вечные спутники” // ВЕ. 1897. № 6. С. 561.
8 “Обрыв”. Часть I, главы 17 и 18. Автограф (ПДН, л. 42 арх. паг.). Опубликовано по другой редакции (копия С. А. Никитенко с авторской правкой Гончарова // РЯБ. Ф. 209, № 7): Неизвестные главы “Обрыва”. С. 36.
9 Назовем несколько монографий и сборников, вышедших в 1991—1995 гг. По материалам первой Международной конференции, состоявшейся 8—10 октября 1991 г. в Бамбергском университете им. Отто Фридриха (Германия), издан сборник: “Ivan A. Gončarov: Leben, Werk und Wirkung. Beiträge der 1. Internationalen Gončarov-Konferenz. Bamberg, 8—10 Oktober 1991”. Hrsg. von Peter Thiergen (Köln-Weimar-Wien. 1994). Итогам двух конференций, проходивших в Ульяновске (1987 и 1992), посвящены сборники: “Материалы Юбилейной гончаровской конференции 1987 года” (Ульяновск, 1992) и “Материалы Международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова” (Ульяновск, 1994). Непосредственное отношение к интересующей нас теме имеет несколько монографических трудов: Rothe Hans. Die Schlucht: Ivan Gontscharov und der “Realismus” nach Turgenev und vor Dostoevskij (1849—1869). Opladen, 1991 (Abhandlungen der Rheinisch-Westfalischen Academie der Wissenschaften. Bd. 86. Рец.: Данилевский Р. Ю. Монография о романе Гончарова “Обрыв” // Рус. литература. 1993. № 1. С. 242—244); Мельник В. И. Этический идеал И. А. Гончарова (Киев, 1991); Тихомиров В. Н. И. А. Гончаров: Литературный портрет (Киев, 1991); Недзвецкий В. А. И. А. Гончаров — романист и художник (М., 1992); Котельников В. А. И. А. Гончаров (СПб., 1994. Серия “Биография писателя”); Отрадин М. В. Проза И. А. Гончарова в литературном контексте (СПб., 1994).
10 Стасюлевич. Т. IV. С. 17.
11 Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg. 1965. Bd. 32. H. 1. S. 99—100 (публ. и вступ. ст. Г. Флоровского).
12 Материалы международной конференции 1994. С. 343—351 (предисл. и публ. В. И. Мельника).
13 Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1948. Т. XVII. С. 109.
14 Летопись. С. 22.
15 См. об этом: Обломов. С. 554. (Приложения).
16 Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина? // Добролюбов. Т. IV. С. 314.
17 Письмо Гончарова к кн. Д. Н. Цертелеву от 16 сентября 1885 г. // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 486.
18 Письмо Гончарова к А. А. Толстой от 14 апреля 1874 г. — см. наст. том: Гончаров — А. А. Толстой, п. 6.
19 “Обрыв”. Черновой автограф // ЦДЛ. Ч. V. Л. 30 арх. паг.
20 Там же. Л. 13 арх. паг.
21 “Обрыв”. Часть I. Копия В. М. Кирмалова с правкой и дополнениями Гончарова, <1858> (далее: Копия В. М. Кирмалова) // РНБ. Ф. 209, № 7. Л. 10 об. арх. паг.
22 Писарев Д. И. Сочинения в 4 тт. М., 1955. Т. I. С. 304.
- 176 -
23 Достоевский. Т. 20. С. 136.
24 “Обрыв”. Часть 1. < Первоначальная редакция главы 15> // РНБ. Ф. 209, № 7. Л. 77 арх. паг.
25 “Обрыв”. Часть I. Копия В. М. Кирмалова // РНБ. Ф. 209, № 7. Л. 61 арх. паг.
26 Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Семидесятые годы. Л., 1960. С. 213.
27 Письмо к В. П. Боткину от 9/21 июля 1857 г. // Толстой. Т. LX. с. 217.
28 “Обрыв”. Часть I. Копия В. М. Кирмалова // РНБ. Ф. 209, № 7. Л. 2.
29 Григорьев Ап. А. Гейнрих Гейне // Рус. слово. 1859, № 5. Отд. “Смесь”. С. 17, 23, 24.
30 Перевод Ап. Григорьева был впервые напечатан в его статье “Русская изящная литература в 1852 году” (Москвитянин. 1853, Отд. V. С. 49). См. об этом: Федоров А. В. Русский Гейне: (40—60-е годы) // Русская поэзия XIX века. Л., 1929. С. 262—264.
31 Перевод Ап. Майкова впервые опубликован в “Библиотеке для чтения (1857, № 4. С. 133) рядом с очерком Гончарова “Аян”. Затем он вошел в двухтомное собрание стихотворений поэта (СПб., 1858), цензором которого был Гончаров.
32 Об этом А. К. Толстой писал Б. М. Маркевичу 6 декабря 1868 г. (Толстой А. К. Полн. собр. соч. Т. IV. СПб., 1908. С. 198). См. также: «Предисловие к роману “Обрыв”» (VI, 452).
33 Страхов Н. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве // Эпоха. 1864. № 9. С. 19.
34 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 1. Л. 43—43 об. арх. паг.
35 Достоевский. Т. 20. С. 136.
36 Наст. том, с. 231.
37 Мюир К. Гамлет // Вильям Шекспир: К четырехсотлетию со дня рождения. 1564—1964. Исследования и материалы. М., 1964. С. 160.
38 Войтоловский Л. И. А. Гончаров // Киевская мысль. 1912. 6 июня. С. 2.
39 Москвитянин. 1855. № 15/16. С. 191.
40 Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 327. Здесь, однако, гончаровский анализ оценивается уже как “очень дешевый и поверхностный”.
41 ПДЛ. Ч. III. Л. 7 арх. паг.
42 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 39 арх. паг.
43 См.: Гейро Л. С. Из истории создания романа “Обрыв”: Эволюция образа Райского-художника // Новые материалы. 1976. С. 61—84.
44 Ежегодник ПД на 1976 г. С. 206.
45 ПДЛ. Ч. IV. Л. 11 об. арх. паг.
46 Там же. Л. 12 арх. паг.
47 ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 11. Письмо без даты (“суббота”). Датируется по содержанию (речь идет об издании “Обрыва”, вышедшем 19 февраля 1870 г.).
48 Письмо Гончарова к С. А. Никитенко от 3/15 июля 1869 г. // ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8, № 11. — Частично опубл.: Ежегодник ПД на 1976 г. С. 187.
49 Боткин и Тургенев. С. 102, 109.
50 Тургенев. Письма. Т. III. С. 45.
51 Сразу по выходе “Дворянского гнезда” в свет Гончаров свидетельствует в письме к В. П. Боткину: “Тургеневская повесть делает фурор, начиная от дворцов до чиновничьих углов включительно” (VIII, 257) и повторяет эту оценку через много лет в “Необыкновенной истории”: «“Дворянское гнездо” <...> сделало огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал» (наст. том, с. 205).
52 Так оценил Тургенев свои отношения с Некрасовым, Панаевым, Дружининым, Анненковым, Гончаровым в письме к Фету от 8/20 февраля — 6/18 апреля 1855 г. // Тургенев. Письма. Т. II. С. 268.
53 Можно указать еще на запись А. В. Дружинина от <13 февраля> 1856 г.: «“Рудин” Тургенева понравился мне, но менее, чем я ждал. Точно, как говорит Писемский, объективности дара в Тург<еневе> нет, но сам субъект прекрасен, симпатичен и поэтичен» (Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 374). Ср. свидетельство Гончарова в “Необыкновенной истории” о том, как в это же, видимо, время Тургенев “грустно сознался” ему и Писемскому: “У меня нет того, что у вас есть обоих: типов, характеров, то есть плоти и крови!” (наст. том., с. 202). См. также: Батюто А. Тургенев-романист. Л., 1972. С. 326—348; Он же. Творчество И. С. Тургенева и критико-эстетическая мысль его времени. Л., 1990. С. 220—293.
54 См., напр., два письма Тургенева к Анненкову от 1873—1874 гг. В одном он замечает: “С тех пор, как я узнал, что две сестры и один брат Гончарова подвергались припадкам умопомешательства, я многое стал понимать в нашем Иване Александровиче. Он чаще достоин сожаленья, чем осуждения”. В другом, раздраженный “фантастической встречей с Гончаровым на улице в Петербурге” и очередными упреками, утверждает: “Бедный Гончаров кончит сумасшедшим домом” (Тургенев. Письма. Т. X. С. 134, 250).
- 177 -
55 Тургенев. Письма. Т. III. С. 46 (на нем. яз.); 469 (перевод).
56 Письмо Тургенева к Л. Ф. Нелидовой от 14/26 мая 1880 г. // Тургенев. Письма. Т. XII, кн. 2. С. 254.
57 Наст. том, с. 206.
58 Письмо к А. Ф. Кони от 20 июля 1882 г. — см. наст. том: Гончаров — А. Ф. Кони, п. 33.
59 Письмо Гончарова к С. А. Никитенко от 19/31 июля 1868 г. // Ежегодник ПД на 1976 год. С. 201.
60 29 мая/10 июня 1868 г. Гончаров в письме к С. А. Никитенко говорит об Агр. Ник.: “... Это была моя не Вера, а модель моей Веры” (Ежегодник ПД на 1973 г. С. 59). А через несколько месяцев, 4/16 июля 1868 г., в письме к ней же утверждает иное: “Вон А. Н. и покровители ее думали же, что я с нее пишу, а о ней я даже и не вспоминаю никогда, когда пишу свои тетради, а вспоминаю только впечатления, ощущения и страстишки, которые в разные времена жизни посещали меня самого, и вспоминаю это затем, чтоб вложить в разных героев и героинь, никогда ни с кого не срисованных” (VIII, 341).
61 Ежегодник ПД на 1976 г. С. 206.
62 Ляцкий Е. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество. Критико-биографические очерки. СПб., 1912. С. 208.
63 Сакулин П. Н. Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах // ГМ. 1913. № 11. С. 58.
64 Письмо к С. А. Никитенко от 19/31 августа 1869 г. // ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8, № 11.
65 Евгеньев-Максимов В. Е. И. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество. М., 1925. С. 149.
66 Стасюлевич. Т. IV. С. 20.
67 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 1 об. — 2 арх. паг.
68 Письмо к А. В. Никитенко от 20 июня/2 июля 1860 г. // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 327.
69 Письмо к С. А. и Е. А. Никитенко от 23 июня/4 июля 1860 г. // Там же. С. 293.
70 Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 487.
71 “Обрыв”. Часть I. Копия В. М. Кирмалова // РНЕ. Ф. 209, № 7. Л. 36 арх. паг.
72 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 37 арх. паг.
73 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 1. Л. 43 арх. паг.
74 Наст. том, с. 199.
75 <Ларош Г. А.> (Нелюбов Л.) Новый роман Гончарова // РВ. 1869. № 7. С. 343—344. См. также замечание Л. Н. Антропова в статье об “Обрыве”: “Райский <...> часто служит для Гончарова теми очками, сквозь которые последний смотрит на прочих действующих лиц и самое действие романа. Его пером г. Гончаров пишет и рисует очень многое” (Заря. 1869. № 11. С. 123; подп.: А-в Л. Н.).
76 О том, как соотносятся эстетические взгляды героя и автора в окончательном тексте “Обрыва”, см.: Энгельгардт Б. М. Путешествие вокруг света И. Обломова (наст. том, с. 59—60).
77 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 37 арх. паг.
78 Стасюлевич. Т. IV. С. 56.
79 Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 486.
80 Гончаров и Тургенев. С. 45.
81 Достоевский. Т. 29, кн. 2. С. 78.
82 Там же.
83 Наст. том, с. 262.
84 Письмо от 19 августа 1880 г. — см. наст. том: Гончаров — А. Ф. Кони, п. 15
85 Толстой Л. Н. Т. XVII. С. 346.
86 Достоевский. Т. 13. С. 455.
87 Письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина к Е. И. Утину от 2 января 1881 г. // Салтыков-Щедрин. Т. XIX, кн. I. С. 194.
88 Достоевский. Т. 25. С. 35.
89 Достоевский. Т. 13. С. 455.
90 Письмо Гончарова к А. В. Никитенко от 28 июня/10 июля 1860 г. // РС. 1914. № 2. С. 415.
91 Наст. том, с. 206.
92 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 13 об. арх. паг.
93 Никитенко. Т. 2. С. 151.
94 “Автобиография” Волохова (ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 18—19 об. арх. паг.). Опубл. в кн.: Цейтлин. С. 473—476.
95 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 16 об. арх. паг.
96 Революционная ситуация в России в середине XIX века: Деятели и историки. М., 1986. С. 26—29. См. также статью П. Тиргена “Обломов как человек-обломок (к постановке проблемы
- 178 -
“Гончаров и Шиллер)”, не касающуюся романа “Обрыв”, но интересную впервые заявленной проблематикой (Рус. литература. 1990. № 3).
97 Наст. том, с. 201.
98 “Обрыв”. Часть V. Глава, не вошедшая в окончательный текст романа. Копия С. А. Никитенко // РНБ. Ф. 209. № 7. Л. 91—92. арх. паг.
99 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2, Л. 10 об. арх. паг.
100 См.: Христианство: Энциклопедический словарь. В 3-х томах. М., 1995, Т. II. С. 86—87.
101 Ежегодник ПД на 1973 г. С. 66.
102 Там же. С. 62. Здесь и далее Гончаров воспользовался образами евангельской притчи об исцелении бесноватого: “Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много <...> И нечистые духи, выйдя, вошли в стадо свиней, и устремилось стадо с крутизны в море <...>” (Мк. V, 8, 9, 13).
103 См., напр.: Никольский В. А. Природа и человек в русской литературе XIX века: (50—60-е годы). Калинин, 1973. С. 81.
104 Евгеньев В. И. А. Гончаров как член Совета Главного управления по делам печати // ГМ, № 12. С. 174.
105 ВЕ. 1869. № 7. С. 234, 236, 235.
106 ПДЛ. Ч. IV. Л. 42 арх. паг.
107 ВЕ. 1869. № 7. С. 229.
108 ПДЛ. Ч. IV. Л. 47 арх. паг. Ср.: VI, 272.
109 “Обрыв”. Ч. V. Глава, не вошедшая в окончательный текст романа. Копия С. А. Никитенко. Запись Гончарова на полях копии // РНБ. Ф. 209, № 7. Л. 102 об. арх. паг. Другие варианты опубл.: Неизвестные главы “Обрыва”. С. 37, 39. Еще один вариант — ПДН, л. 42—44 арх. паг. Сопоставление Тушина с Робертом Оуэном вводило характеристику гончаровского героя в контекст остро современных социально-политических дискуссий. Достаточно назвать очерк Герцена “Роберт Оуэн” (Полярная звезда. 1861. Кн. VI; вошел в “Былое и думы”, ч. VI, гл. IX) и статью Добролюбова “Роберт Овэн и его попытки общественных реформ” (Современник. 1859. № 1, Подп.: Н. Т-нов) — в них осмыслялась теория и практика недавно умершего социалиста-утописта. Заметим, что страницы, посвященные деятельности Тушина (VI, 387—388), сопоставимы с оценкой взаимоотношений “хозяина” и “работников”, данной Добролюбовым Оуэну в указанной статье (Добролюбов. Т. IV. С. 9—10).
110 О популярности и актуальности книги Руффини в России и претензиях к ней русской цензуры см.: Евгеньев-Максимов В. Е. “Современник” при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936. С. 484, 497—498, 505—506.
111 Протопопов М. Гончаров // Рус. мысль. 1891. № 11. С. 127—128 (паг. 2-я).
112 См.: Политыко Д. А. Указ соч. С. 99. Чемена. С. 73, 134 (примеч.).
113 “Обрыв”. Часть 1. <Дополнение к главе 18>. Черновой автограф (РНБ. Ф. 209. № 7. Л. 73—75 об. арх. паг.) частично опубл. в примеч. ко II части “Обрыва” (см.: V, 369—370).
114 См. помету Гончарова на полях автографа 17-й главы I части: “Перед этой главой надо поместить приглашение в деревню, письма” (ПДН. Л. 3 арх. паг.) и позднюю его помету на полях <Дополнения к главе 16>: “Оба следующие письма сократить и переделать” (РНБ. Ф. 209, № 7. Л. 71 арх. паг.).
115 Никитенко. Т. 2. С. 230, 221.
116 Новое время: Илл. прил. 1912, 16 июня. С. 10.
117 Там же. С. 10—11.
118 Текст письма см.: Ежегодник ПД на 1973 год. С. 53.
119 Груздев А. И. К хронологии произведений Гончарова: (О датировке очерка “В университете”) // Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1949. Т. 87. С. 78.
120 Цит. по: Революционная ситуация в России в сер. XIX в. <...>. М., 1986. С. 23.
121 “Обрыв”. Часть 1. <Дополнение к главе 16>. Черновой автограф (РНБ. Ф. 209. № 7. Л. 74 арх. паг. Опубл.: V, 370).
122 Писарев Д. И. Сочинения. М., 1955. Т. II. С. 192, 373. Свой спор с позитивистами (см.: Мельник В. И. И. А. Гончаров в полемике с этикой позитивизма: (к постановке вопроса) // Рус. литература. 1990. № 1. С. 34—45) Гончаров продолжал многие годы после публикации “Обрыва”, настаивая на том, что на пути нравственного прогресса общества и человека “заповеди и Евангелие будут <...> единственными руководителями!” Так, в письме к А. Ф. Кони от 19 августа 1880 г. он заметил: “Эпохи — переходя от язычества к христианству, от темноты варварства к Возрождению — (когда казалось, все потухало и погибало) — представляют некоторую аналогию с современным. И кончилось тем, что христианство возобладало над язычеством и осенило (и будет осенять не во гнев позитивистам) весь мир” (см. наст. том: Гончаров — А. Ф. Кони, п. 14).
- 179 -
123 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 18 об. арх. паг.
124 “Обрыв”. Часть I. <Дополнение к главе 16>. Черновой автограф (РНБ. Ф. 209, № 7. Л. 74 арх. паг. Опубл.: V, 370).
125 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 17 об. арх. паг.
126 Там же. Л. 9—9 об. арх. паг.
127 Наст. том: Гончаров — Ек. П. Майковой, п. 8.
128 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 10 арх. паг.
129 Там же.
130 Там же. Л. 16 арх. паг.
131 Там же. Л. 10 арх. паг.
132 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 1. Л. 19 об. арх. паг. Опубл.: V, 374. (Примечание).
133 Письмо Гончарова к А. В. Никитенко от 17 июня 1862 г. // РС. 1914. № 2. С. 432.
134 Рус. литература. 1958. № 2. С. 139 (Публ. И. Ф. Ковалева).
135 Письмо Гончарова к С. А. Никитенко от 1/13 июля 1865 г. // ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 11.
136 В конце этой главы — авторская “программа” на будущее и дата: “Булонь. 4-го августа 1865” (ПДЛ. Ч. III. Л. 42 арх. паг.).
137 Письмо И. С. Тургенева к К. К. Случевскому от 14/26 апреля 1862 г. // Тургенев. Письма. Т. IV. С. 380.
138 ИРЛИ. Ф. 293 (М. М. Стасюлевича). Оп. 1, № 453.
139 ГМ. 1916. № 11. С. 150.
140 См. наст. том: Гончаров — Ек. П. Майковой, п. 7.
141 Письмо к А. Г. Тройницкому от 25 июня / 7 июля 1867 г. // ВЕ. 1912. № 8. С. 450.
142 Письмо к А. В. Никитенко от 15/27 июня 1867 г. // РС. 1914. № 4. С. 50.
143 ПДЛ. Ч. IV. Л. 39 об. арх. паг.
144 См. наст. том: Гончаров — Ек. П. Майковой, п. 8.
145 Там же, п. 7.
146 Пиксанов Н. К. Указ. соч. С. 71.
147 См. наст. том: Гончаров — Ек. П. Майковой, п. 9.
148 См.: Салтыков-Щедрин. Т. IX. С. 219.
149 Цит. по: Стасюлевич. Т. IV. С. 109. — Примеч. М. К. Лемке к письму Гончарова к Стасюлевичу от 19/31 июля 1871 г.
150 Благодаря Стасюлевича за информацию, Гончаров замечает: “Я очень рад благоприятному о себе отзыву Спасовича (он очень умный и тонкий ценитель) в его речи...” // Стасюлевич. Т. IV. С. 109.
151 Ежегодник ПД на 1973 г. С. 62.
152 Там же. С. 64.
153 Там же. С. 66.
154 Революционная ситуация в России в сер. XIX в. <...>. М., 1986. С. 29, 30.
155 Никитенко. Т. 2. С. 417. Запись от 5 марта 1864 г.
156 ПДЛ. Ч. V. Л. 16 об. — 17 арх. паг.
157 Салтыков-Щедрин М. Е. Уличная философия // Салтыков-Щедрин. Т. IX. С. 94.
158 Наст. том: Гончаров — Ек. П. Майковой, п. 9.
159 Наст. том, с. 212.
160 Салтыков-Щедрин. Т. IX. С. 526.
161 ПДЛ. Ч. III. Л. 24 об. арх. паг. и Ч. IV. Л. 4 арх. паг. См. также: Ежегодник ПД на 1973 г. (текст — с. 65, примеч. 11 на с. 71) и Неизвестные главы “Обрыва”. С. 35.
162 Наст. том: Гончаров — Ек. П. Майковой, п. 7.
163 Писарев Д. И. Сочинения. Т. IV. С. 36—37. См. также С. 34.
164 Благосветлов Г. Е. На что нам нужны женщины? // Дело. 1869. № 7. С. 3 (паг. 2-я).
165 ПДЛ. Ч. IV. Л. 39 об. арх. паг.
166 ПДЛ. Ч. V. Л. 11 арх. паг.
167 Ежегодник ПД на 1973 г. С. 63.
168 Герцен. Т. XX. Кн. 1. С. 340.
169 ПДЛ. Ч. IV. Л. 43 об. арх. паг. Ср.: VI, 265.
170 ПДЛ. Ч. V. Л. 47 арх. паг.
171 Там же. Ср.: VI, 353.
172 ПДЛ. Ч. IV. Л. 39 об. арх. паг.
173 Неизвестные главы “Обрыва”. С. 19—40.
174 “Обрыв” Ч. V. РНБ. Ф. 209. № 7. Л. 102 арх. паг. Опубл.: Неизвестные главы “Обрыва”. С. 36.
- 180 -
175 ОЗ. 1869. № 10. Отд. II. С. 218—219. Первоначальную редакцию финала см.: Ежегодник ПД на 1973 г. С. 70—71.
176 Салтыков-Щедрин. Т. IX. С. 69, 87.
177 Там же. С. 81—82.
178 Наст. том: Гончаров — Ек. П. Майковой, п. 9.
179 Салтыков-Щедрин. Т. IX. С. 69.
180 Анненский И. Гончаров и его Обломов // Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 255.
181 Салтыков-Щедрин. Т. IX. С. 84.
182 Определение, данное Гончаровым Марку Волохову, а также реакция на него Салтыкова-Щедрина заслуживают специального рассмотрения в контексте эпохи, как это сделано в отношении современников романиста. Так, например, Н. К. Пиксанов (Указ. соч. С. 88—89) обращает внимание на то, что в “Анне Карениной” «о нигилистах Николай думает, что они “апостолы. Они то самое, что были первые христиане”». Л. М. Лотман в книге “Реализм русской литературы 60-х годов XIX века” (Л., 1974) напоминает, что, «характеризуя историческое и нравственное значение людей типа Рахметова, Чернышевский применил к ним слова, которые в Нагорной проповеди относились к апостолам, — “соль соли земли”», и далее пишет: «Этот намек на возможность сравнения их с апостолами мог быть связан с тем, что в революционной организации 60-х годов “Земля и воля” руководителей принято было называть, очевидно из конспиративных соображений, а, может быть, отчасти и по традиции, идущей от французских утопических социалистов-сенсимонистов, “апостолами”» (с. 255). Ср. там же указание на то, что Анфантен, “противопоставляя созидательное начало духу критики и мятежа”, «обличал “апостолов свободы”, считающих мятеж святой обязанностью человечества <...>» (с. 325—326). Герцен называл Роберта Оуэна в числе “апостолов социализма” (Герцен. Т. X. С. 321).
183 Салтыков-Щедрин. Т. IX. С. 84.
184 Там же. С. 69.
185 Там же. С. 95.
186 Наст. том, с. 201.
187 Наст. том: Гончаров — Ек. П. Майковой, п. 8.
188 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 25 об. арх. паг.
189 Там же. Л. 38 об. и 42 арх. паг.
190 Там же. Л. 25 и 37 арх. паг.
191 Ежегодник ПД на 1973 г. С. 61.
192 ПДЛ. Ч. III. Л. 18 об. арх. паг.
193 ПДЛ. Ч. III. Л. 7 арх. паг. Ср.: VI, 142.
194 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 40 и 35 арх. паг.
195 ПДЛ. Ч. V. Л. 11 арх. паг.
196 Ежегодник ПД на 1973 г. С. 64.
197 ПДЛ. Ч. IV. Л. 4 об. арх. паг.
198 Ежегодник ПД на 1973 г. С. 66.
199 ПДЛ. Ч. IV, Л. 42 об. арх. паг. Ср.: VI, 263.
200 Ежегодник ПД на 1973 г. С. 64.
201 “Обрыв”. Отдельный лист с черновыми набросками к IV и V частям романа. Автограф // ПДН, без арх. пагинации.
202 Там же.
203 ПДЛ. Ч. V. Л. 40 арх. паг.
204 ПДЛ. Ч. IV. Л. 42 об. арх. паг. Ср.: VI, 262.
205 Ежегодник на 1973 г. С. 68.
206 ПДЛ. Ч. V. Л. 45 об. арх. паг. — Лист оборван.
207 ЦДЛ. Ч. V. Л. 1 арх. паг. Почти то же: ПДЛ. Ч. IV. Л. 32 арх. паг.
208 Российский архив. Т. V. М., 1994. С. 191 (публ. Е. К. Демиховской и О. А. Демиховской).
209 Утевский. С. 758, 760.
210 Цейтлин. С. 325.
211 Лит. архив. Т. IV. М.; Л., 1953. С. 138.
212 Там же. С. 127—128.
213 О публикациях этого письма см. примеч. 12. “Чтения о богочеловечестве” впервые были опубликованы в журнале “Православное обозрение”: чтения 1—6-е в 1877 г., 7—8-е — в 1879, 9-е — в 1880, 10—12-е — в 1881. Надо полагать, Гончарову был известен отзыв В. С. Соловьева о его творчестве, прозвучавший в “первой речи в память Достоевского” (1881), впервые опубликованной (вместе с двумя другими, напечатанными ранее) в 1883 г. “Кроме Достоевского, — говорил Соловьев, — все наши лучшие романисты берут окружающую их жизнь так, как они ее
- 181 -
застали, как она сложилась и выразилась, — в ее готовых, твердых и ясных формах. Таковы в особенности романы Гончарова и гр. Льва Толстого. Оба они воспроизводят русское общество, выработанное веками (помещиков, чиновников, иногда крестьян) в его бытовых давно существующих, а частью отживших или отживающих формах. Романы этих писателей решительно однородны по своему художественному предмету, при всей особенности их талантов. Отличительная особенность Гончарова — это сила художественного обобщения, благодаря которой он мог создать такой всероссийский тип, как Обломова, равного которому по широте мы не находим ни у одного из русских писателей”. Дополняя эту характеристику, философ и критик заметил: “В сравнении с Обломовым и Фамусовы и Молчалины, Онегины и Печорины, Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о героях Островского, все имеют лишь специальное значение” // Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10-ти тт. СПб., 1912. Т. III. С. 191.
214 Труд. 1890. № 24. С. 588.
215 Гончаров был знаком с Мережковским, который свидетельствует об этом в автобиографической заметке: “А. Н. Плещеев ввел меня в дом А. А. Давыдовой, жены известного музыканта, директора петербургской консерватории. Здесь встречался я с Гончаровым, тогда уже слепым стариком...” // Мережковский Д. С. Полн. собр. соч.: В 24-х тт. М., 1914. Т. XXIV. С. 112. Вероятно, это случилось не ранее 1883 г., когда зрение Гончарова резко ухудшилось. О Гончарове и А. А. Давыдовой сведения см.: Летопись. С. 229 и 268.
216 Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893. С. 48.
217 Труд. 1890. № 24. С. 611.
218 Там же. С. 601—602.
219 Ежегодник ПД на 1973 г. С. 68.
220 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. XIX. С. 291.
221 Булгаков В. Ф. Лев Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого В. Ф. Булгакова. 3-е изд. М., 1920. С. 5.
222 Наст. том: Гончаров — А. Ф. Кони, п. 74.
223 Российский архив. Т. V. М., 1994. С. 205—206 (публ. Е. К. Демиховский и О. А. Демиховской).
224 Толстой. Т. XIX. С. 291, 286.
225 Там же. С. 398, 399.
226 ПДЛ. Ч. V. Л. 34 арх. паг.
227 Там же.
228 Там же. Л. 32 об. арх. паг. Ср.: VI, 341.
229 Там же. Л. 10 арх. паг.
230 Там же. Л. 33 об. арх. паг. Ср.: VI, 340—343.
231 Там же. Л. 32 об. арх. паг.
232 Эйхенбаум Б. М. Указ. соч. С. 199, 202—203.
233 ПДЛ. Ч. V. Л. 34 арх. паг.
234 Там же. Л. 33 об. — 39 об. арх. паг. Другой вариант — ПДН. Л. 1—12 арх. паг. По тексту неполной копии (рукой С. А. Никитенко — РИБ. Ф. 209, № 7) и неточно опубл.: Неизвестные главы “Обрыва”. С. 46—64.
235 ПДЛ. Ч. V. Л. 35 об. арх. паг.
236 Реизов Б. Г. “Униженные и оскорбленные” Ф. М. Достоевского и проблемы зарубежной литературы // Рус. литература., 1972. № 2. С. 64—65.
237 ПДН. Ч. III. (глава 15). Л. 3 авт. паг. — Не совсем точно данный фрагмент рукописи опубл.: Собр. соч. 1952—1955. Т. 6. С. 437—438. Много позже, во “взаимной исповеди”, Татьяна Марковна Бережкова скажет: “Кляни меня, Вера, за гордость и ложный стыд: мне тогда, вместо Кунигунды, надо бы было вставить Татьяна Марковна, — тогда ты не смеялась бы над книгой и, может быть, не сошла бы накануне марфинькиного рождения с обрыва...” (ПДЛ. Ч. V. Л. 34 об. арх. паг.).
238 Гончаров И. А. Бабушка (Из романа “Эпизоды из жизни Райского”) // ОЗ. 1861. № 1. С. 36—37.
239 Ср. у Тургенева: “Домик какой-то пузатенький, каких теперь и не видать нигде; запах в нем — антик; люди — антик; воздух — антик... за что ни возьмись — антик, Екатерина Вторая, пудра, фижмы, XVIII век!” и “Были в XVIII веке — валяй теперь прямо в ХХ-й” // Тургенев. Соч. Т. XII. С. 123, 140.
240 ПДЛ. Ч. IV. Л. 45 об. арх. паг.
241 Томашевский Б. В. Пушкин. Книга первая (1813—1824). М.; Л., 1956. С. 622.
242 Там же. С. 632.
243 Цейтлин. С. 324—325.
244 Тургенев. Соч. Т. VII. С. 16.
- 182 -
245 Там же. Т. XIII. С. 78.
246 Об этом писал М. М. Стасюлевич жене 12/24 сентября 1883 г. // Стасюлевич. Т. III. С. 235.
247 ПДЛ. Ч. III. Л. 42 арх. паг. Дата: “Булонь, 4-го августа 1865”.
248 Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 214.
249 Ремизов А. Дар Пушкина // Ремизов А. Огонь вещей. М., 1989. С. 144; Машинопись (с разночтениями; дата: “1937”) // ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 1. № 179.
250 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 315.
251 Неизвестные главы “Обрыва”. С. 26—30.
252 ПДЛ. Ч. IV. Л. 14 арх. паг.
253 ГМ. 1913. № 11. С. 217.
254 ПДЛ. Ч. V. Л. 40 об. арх. паг.
255 Там же. Л. 39 арх. паг.
256 Там же. Л. 46—46 об. арх. паг.
257 Отдельный лист с черновыми набросками к IV и V частям романа. Автограф // ПДН, без арх. пагинации.
258 ПДЛ. Ч. III. Л. 16 арх. паг.
259 О параллельном развитии темы страсти и темы грозы в творчестве Тургенева см., в частности: Самарин М. Тема страсти у Тургенева // Творческий путь Тургенева: Сб. статей под ред. Н. Л. Бродского. Пг., 1923. С. 132—133.
260 См.: Эйхенбаум Б. М. Указ соч. С. 221—222.
261 О “сне” Татьяны Лариной в его связи с фольклором см.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”: Комментарий / Пособие для учителя. Л., 1980. С. 265—274.
262 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. XVIII. С. 151.
263 Речь идет о “Послании” князя С. И. Шаховского князю Д. М. Пожарскому. См.: Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Л., 1970. — Текст — с. 52, примеч. А. М. Панченко — с. 363.
264 ПДЛ. Ч. V. Л. 25 арх. паг. См.: VI, 320.
265 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 42 об. арх. паг.
266 Там же. Л. 34 об. арх. паг.
267 Достоевский. Т. 8. С. 68, 482, 69.
268 Там же. С. 66.
269 ПДЛ. Ч. V. Л. 3 об. арх. паг. Зачеркнуто.
270 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. XIX. С. 324.
271 Там же. Т. XX. С. 516.
272 Там же. Т. XIX. С. 466.
273 Там же. С. 331.
274 Достоевский. Т. 25. С. 198—199.
275 Утевский. С. 758.
276 Толстой. Т. XII. С. 26.
277 См., например, письмо Гончарова к С. А. Никитенко от 28 июня/10 июля 1860 г., где двукратно упоминание “чертей” как аллегории душевной неустроенности явно ориентировано на евангельские притчи и прямо связывается с героем романа: “Опять черти Райского!” (VIII, 297).
278 ПДЛ. Ч. IV. Л. 9 об. арх. паг.
279 Достоевский. Т. 8. С. 68, 482, 472.
280 ПДЛ. Ч. V. Л. 29 об. арх. паг.
281 Там же. Л. 33 об. арх. паг.
282 “Обрыв”. Часть V. <Главы 17—18>. Копия С. А. Никитенко // РНБ. Ф. 209. № 7. Л. 110 об.
283 Достоевский. Т. 14. С. 100.
284 Толстовский музей. Т. 2. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым: 1870—1894. СПб., 1914. С. 57.
285 Толстой. Т. XX. С. 194.
286 Там же. С. 202.
287 Там же. С. 519.
288 ПДЛ. Ч. IV. Л. 1 арх. паг. Ср.: VI, 183.
289 Достоевский. Т. 14. С. 99, 100. “Я, брат, <замечает Дмитрий Карамазов,> это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано”.
290 Обломов. С. 563 (Примечания).
291 Авторская помета перед началом 6-й главы: “свисти не свисти” (ПДЛ. Ч. V. Л. 17 об. арх. паг.).
- 183 -
292 ПДЛ. Ч. V. Л. 28 об. арх. паг.
293 Достоевский. Т. 8. С. 472.
294 Ср. стихотворение А. К. Толстого “Змея, что по скалам влечешь свои извивы...” (впервые опубликовано: Рус. вестник. 1858. Июнь. Кн. I. С. 452).
295 Гейро Л. С. Роман Гончарова “Обрыв” и русская поэзия его времени // Рус. литература. 1974. № 1. С. 62—73.
296 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 39 об. арх. паг.
297 Толстой. Т. XIX. С. 284 (см. также с. 331).
298 Эйхенбаум Б. М. Указ соч. С. 218.
299 ПДЛ. Ч. V. Л. 50 об. арх. паг.
300 Письмо к А. В. Никитенко от 17/29 июня 1860 г. // РС. 1914. № 2. С. 410.
301 Письмо к С. А. Никитенко от 19/31 августа 1869 г. // ИРЛН Ф. 134. Оп. 8. № 11.
302 Кони А. Ф. Иван Александрович Гончаров // Гончаров в воспоминаниях современников. С. 258. — Неточная цитата из “Цыган” (у Пушкина: “...защиты нет”).
303 Письмо к А. В. Никитенко от 28 июня/10 июля 1860 г. // РС. 1912. № 2. С. 416.
304 Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х тт. М., 1955. Т. IV. С. 336.
305 ПДЛ. Ч. IV. Л. 10 об. арх. паг. Ср.: VI, 181.
306 Зунделович Я. О. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971. С. 133.
307 ПДЛ. Ч. III. Л. 19 об. арх. паг.
308 Бялый Р. А. И. С. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962. С. 98—101.
309 Тургенев. Соч. Т. VI. С. 190.
310 Бялый Р. А. Указ. соч. С. 219.
311 Первое соборное послание св. апостола Иоанна Богослова (IV, 8).
312 ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 11. Опубл.: Рус. литература, 1974. № 1. С. 72—73.
313 Гончаров И. А. Литературно-критические статьи и письма. Л., 1938. С. 340. См. также: Российский архив. Т. V. М., 1994. С. 186 (публ. Е. К. Демиховской и О. А. Демиховской).
314 ПДН. Ч. V. Л. 3 арх. паг. Гл. 18-я. Ср.: VI, 383.
315 ПДЛ. Ч. IV. Л. 9 об. арх. паг.
316 <Антропов Л. Н>. А-ов Л. Н. “Обрыв”, роман И. А. Гончарова // Заря. 1869. № 11. С. 119.
317 Так назвал критиков Гончарова, выражавших глубокое сожаление о том, что писатель “не пощадил святые седины бабушки” (Рус. обозрение. 1895. № 1. С. 5), Е. М. Гаршин в статье “Неразгаданная книга” (ИВ. 1895. № 3. С. 886). Не только “Русский вестник” (1869. № 7. С. 347) недоумевал, “зачем же было нужно осквернять эту милую, добрую, чистую бабушку проступком, учиненным ею в молодости...”. И давний друг Гончарова А. В. Никитенко, имея в виду Татьяну Марковну Бережкову, записал 7 мая 1871 г.: “Да простит нам высокодаровитый писатель, но этот характер <...> в заключении является психологической фальшью и клеветою на русскую женщину” // Никитенко. Т. 3. С. 207. Он же, выступая на страницах “Журнала Министерства народного просвещения” (1872. № 1. С. 54), утверждал, что увлечение Веры Марком Волоховым, ее “падение” “есть ужасная психологическая ошибка и ничем не оправдываемая вина против женщины вообще, и в особенности против женщины русской”, а история обеих героинь — “просто натяжка в пользу реализма или в пользу неизвестно чего, и натяжка, похожая на шутку”. Ср. ответ Гончарова на такого рода замечания в эссе «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”» (VI, 464) и статье “Лучше поздно, чем никогда” (VIII, 134). При жизни писателя только известный тогда педагог и критик В. П. Острогорский по достоинству оценил высокий этический пафос Гончарова (Женское образование. 1887. № 4. С. 233).
318 Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М., 1964. С. 75.
319 ПДЛ. Ч. II, тетрадь 2. Л. 42—42 об. арх. паг.
320 ПДЛ. Ч. IV. Л. 4 арх. паг.
321 Утевский. С. 758.
323 ПДЛ. Ч. IV. Л. 31 арх. паг. Ср. в рукописи IV части обращение Райского к Вере после ее падения: “Я, требуя от тебя красоты внутренней, правды — вижу, что ты одна можешь сказать мне: возвысься сам до меня, работай статую из своей души, из себя самого как человек, как художник. А я стою высоко, мне нечего прибавлять” (ПДЛ. Ч. IV. Л. 6 об. арх. паг.).
СноскиСноски к стр. 83
1* Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 тт. М., 1977—1980. Т. VII. С. 393. Далее ссылки на это издание даются в тексте: римская цифра — том, арабская — страница.
Сноски к стр. 84
1* Автором настоящего исследования составлен полный свод черновых вариантов “Обрыва”, который положен в основу этой работы.
2* Этот ряд документов объединен в составленной автором настоящего исследования «Хронике создания романа “Обрыв”». “Хроника” передана в Институт русской литературы РАН для использования в издании “Труды и дни И. А. Гончарова”, которое готовится к печати в ИРЛИ.
Сноски к стр. 87
1* Два характерных примера. При цитации письма Гончарова М. М. Стасюлевичу от 7 (19) июля 1868 г. (“Я боюсь, боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов — и художественно-религиозных настроений”10) предлагалось изымать подчеркнутые нами слова. Незавершенное письмо Гончарова к Вл. Соловьеву с отзывом о “Чтениях о богочеловечестве” нельзя было напечатать на родине писателя и философа; оно впервые (при содействии П. Н. Беркова) появилось в 1965 г. в Германии11 и только совсем недавно напечатано в России12.
Сноски к стр. 91
1* Ф. М. Достоевский писал о нем: “Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура (не говорю — как идеал: это разумеется)” (Эпоха. 1864. № 9. С. 54)23.
Сноски к стр. 92
1* “Довольно! Пора мне забыть этот вздор!..” (нем.) — пер. А. К. Толстого. Буквальный перевод первого четверостишия: “Теперь пора мне стать благоразумным и избавиться от давней нелепости. Я уже давно, словно актер, разыгрывал с тобою комедию”.
Сноски к стр. 103
1* Письма Гончарова к С. А. Никитенко, посвященные этой драматической истории, опубликованы автором данной статьи в двух выпусках “Ежегодника Рукописного отдела Пушкинского дома” (на 1973 и 1976 гг.). Там же использованы и систематизированы другие архивные материалы, позволяющие восстановить, хотя и со значительными пока лакунами, тщательно скрываемую Гончаровым страницу его жизни.
Сноски к стр. 110
1* воздействовать (фр.).
Сноски к стр. 115
1* “новый человек” (лат.).
2* Далее зачеркнуто: бью по горбам, а они кричат: мы прямы, а ты горбат! Мы зрячи, а ты слеп. Не знаю, что делать!
3* Возможно, впрочем, и более яркое сопоставление — с “Посланием к евреям св. апостола Павла” (XI, 32—40): “Недостанет мне времени, чтобы повествовать о <...> пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих <...> иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке; умирали от меча; скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного: потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства”.
4* Евангельские ассоциации подтверждаются еще одной весьма выразительной деталью. Известно, что символ Марка-евангелиста — лев. Именно этот образ возникает как видение Райского, потрясенного “падением” Веры, заслоняя все прежние: “У ног ее, как отдыхающий лев, лежал, безмолвно торжествуя, Марк...” (VI, 273).
Сноски к стр. 116
1* Этой фразы в рукописи нет; она появилась только в печатном тексте. Вся сцена здесь имеет нейтральный, внеаллюзионный характер. Цитируемый далее фрагмент явно позднего происхождения, что и позволяет сделать следующие ниже сопоставления.
Сноски к стр. 117
1* Еще одно, исполненное злой иронии, “возвеличивание” Марка: Моисей — освободитель и законодатель еврейского народа; ему приписываются пять книг Библии. По преданию, Моисей умер на границе “земли обетованной”, в которую ему не суждено было войти.
Сноски к стр. 118
1* Далее зачеркнуто: да [он] Мадзини-мерзавец:
2* Далее зачеркнуто: [да через запрещенные кн<иги>] Фейербах[а]ом и через химию.
3* На английском, немецком, французском языках выходят издания, посвященные деятельности Дж. Мадзини. В 1861 г. в приложении к журналу “Современник” печатается под заглавием “Записки Лоренцо Бенони” русский перевод (с английского) книги пьемонтского политического деятеля Джованни Доменико Руффини “Passages in the life of an Italian by Lorenzo Benoni”. В 1830-х годах Руффини был членом тайного мадзиниевского общества “Молодая Италия”. В его книге Мадзини выведен под именем Фантазио110.
Сноски к стр. 120
1* Об интересе Гончарова к студенческой молодежи и ее проблемам свидетельствует тот факт, что именно в этот период он начинает свои воспоминания из университетской жизни, завершенные только в 1880-х годах119.
Сноски к стр. 123
1* По мнению А. Н. Гончарова, племянника романиста, прототипом Марка Волохова был другой его племянник — В. М. Кирмалов. В своем письме к Стасюлевичу от 26 октября — 4 ноября 1891 г. А. Н. Гончаров подробно рассказал о симбирских (лето 1862 г.) разговорах дяди и племянника, в которых ощущалась “та пропасть, которая разделяла в то время старое и молодое поколение”, замечая далее: «Те чувства, которые питал И. А. к Кирмалову, напоминает мне те чувства, которые питал Коломейцев, в романе “Новь” Тургенева, к Соломину и Нежданову». Между тем, как сообщал редактору “Вестника Европы” А. Н. Гончаров, “Кирмалов не был ни Собакевич, ни Ноздрев — нигилизма; это был просто пустой малый, добрый болтун и вместе с тем сердечный человек”138.
Сноски к стр. 127
1* Заметим, что заимствованный у Рабле образ-символ “Панургова стада” стал расхожим штампом “антинигилистической” литературы. Его вынес в название своего романа Вс. Крестовский, им же широко пользовались в печати в связи с процессом по “нечаевскому делу” (июль-август 1871 г.). Так, М. Е. Салтыков-Щедрин в своей статье «Так называемое “нечаевское дело” и отношение к нему русской журналистики» (1871) цитирует “фельетон” газеты “Голос”: “Этот политический процесс представляет очень много поучительного... Кажется, чего-чего не говорили и не писали о панурговом стаде, а оно все еще живо и поражает грациозностью своих прыжков и красотою рогов”148. Кстати, тот же В. Д. Спасович, выступление которого на суде имеет в виду “Голос”, говоря о нечаевце А. К. Кузнецове (Спасович на суде защищал его, П. Н. Ткачева и Е. Х. Томилову) заметил: “Вообще можно сказать, если Нечаев выкроен по типу одного из героев романа Гончарова “Обрыв” — Марка Волохова, то, кроме того, в нем есть еще много хлестаковского. Марк Волохов был правдив, а Нечаев не был правдив и врал немилосердно” 149. Гончаров, как видно из его письма Стасюлевичу, обратил на этот факт пристальное внимание150.
Сноски к стр. 128
1* Заметим характерный факт: на нечаевском процессе «Прыжов рассказал на суде, что Нечаев цитировал наизусть целые страницы из “Критики чистого разума”»160.
Сноски к стр. 129
1* «Из логики и честности, — говорило ему отрезвившееся от пьяного самолюбия сознание, — ты сделал две ширмы, чтоб укрыться за них с своей “новой силой”, оставив бессильную женщину разделываться за свое и за твое увлечение, обещав ей только одно: «Уйти, не унося за собой никаких “долгов”, “правил” и “обязанностей”... оставляя ее нести их одну...»; «Ты не пощадил ее “честно”, когда она падала в бессилии, не сладил потом “логично” с страстью, а пошел искать удовлетворения ей, поддаваясь “нечестно” отвергаемому твоим “разумом” обряду, и впереди заботливо сулил — одну разлуку!» (VI, 381).
2* В статье “Новый тип” Писарев, в частности, утверждал: “...в образе действий Лопухова не было таких проявлений героизма, которые возвышались бы над уровнем простой честности, обязательной для каждого порядочного человека. Лопухов только развил в своих поступках тот ряд последствий, который совершенно логично и неизбежно вытекает из его первого решения, а логичность и последовательность поступков составляет, конечно, прямую и неотразимую обязанность каждого человека, способного распоряжаться своим головным мозгом” 163.
Сноски к стр. 130
1* “Вспомним, — писал Скабичевский, — что в заключение г. Гончаров посылает Марка Волохова в юнкера на Кавказ. — Как вам это нравится! В этом открываются перед вами два факта: во-первых, вы видите, как отлично понимает г. Гончаров дух нашего времени, заставляя своего юного героя искать забвения на гибельном Кавказе, а, во-вторых, как преследует г. Гончарова седая старина, как тесно сжился он с нею и как ему трудно отделаться от тех представлений, которые он вынес из своей молодости. Одного исхода на гибельный Кавказ совершенно достаточно, чтобы перед вами предстал во всей своей красоте тот тип, из которого г. Гончаров переделал своего Волохова, а вместе с ним и самый роман открылся бы перед нами в своей первобытной чистоте”175.
Сноски к стр. 136
1* Имеются в виду слова Волохова в одном из фрагментов рукописной редакции 12-й главы IV части: “Мы не друзья, а противники — и боремся — силы наши равны и нам надо разойтись, не решая боя”204.
Сноски к стр. 137
1* “Смелей лишь черпай же из жизни всех людей...” (нем.). — Пер. Н. Холодковского.
Сноски к стр. 146
1* Ср. яркий штрих в рассказе Татьяны Марковны об истории ее любви к Ватутину (действие происходит до 1806 г.): “Мы расстались, давши клятву (тогда все клятвы давали — на стенах, на деревьях вырезывали имена, даже кровью писали) принадлежать друг другу или никому”235.
2* Ср. в рукописи романа о Тите Никоныче Ватутине: “Он всегда вставал, когда к нему женщина обращалась с вопросом, становился в третью позицию и наклонял голову вперед, готовый ей служить, и непременно улыбался”240.
Сноски к стр. 150
1* В рукописи, говоря о страсти, Райский замечает: “...это сила, которая делает чудеса, она уносит человека под облака, делает его орлом и если стрела страсти поразит его, то уже насмерть”252.
Сноски к стр. 151
1* В текст 7-й главы V части этот фрагмент включен, вероятно, уже на стадии корректуры. Первоначальная его редакция — на листе набросков к заключительным частям “Обрыва”25.
2* В рукописи: вместо “падал в одно место” — “падал на меня”; далее вместо “буря” — “гроза”258.
Сноски к стр. 153
1* Ср. в рукописи 7-й главы V части фрагмент, заключающий видения “беспощадной фантазии” Райского (VI, 320): “Так могущественно выносит великие удары и сама Россия <...> как эти великие женщины закаляет себя в огне страданий, покупая себе великое, никому, кроме нее, не дарованное, может быть, нескончаемое будущее”264.
Сноски к стр. 154
1* О противоречивом наполнении понятия “красота” в творчестве Достоевского см.: Арденс Н. Н. Достоевский и Толстой (М., 1970. С. 141—142). Здесь имеется в виду лишь один его аспект: красота и страсть.
Сноски к стр. 155
1* померанцевых цветов (фр.) — символа невинности.
2* Ср. в рукописном варианте “Анны Карениной”: “Анна с открытыми глазами лежала в темноте...”271
3* В журнальной редакции: “поколебались и слились в один черный непроницаемый мрак”272.
Сноски к стр. 156
1* Сопоставление романов Гончарова и Толстого здесь требует объяснений. Думается, что между ними существует до сих пор почти не замеченная внутренняя связь.
Известно, что Толстой высоко оценил и “Обыкновенную историю”, и “Обломова”. Сведений о его реакции на “Обрыв” нет. Но в годы, последовавшие за публикацией “Обрыва”, Толстой не только не забывал об его авторе, но и в одном из писем заметил, что Гончаров «мог “иметь большое влияние”» на его “писательскую деятельность” (VIII, 480). Со своей стороны, автор “Обрыва” постоянно следил за творческой деятельностью Толстого. В данном случае нам особенно важны его отзывы об “Анне Карениной” (см.: VIII, 427, 433). Примечателен рассказ Достоевского в “Дневнике писателя” (июль-август 1877 г.) о его разговоре с Гончаровым (имя романиста не названо, но легко угадывается:
«Собеседник мой на вид человек не восторженный. На этот раз, однако, он поразил меня твердостью и горячею настойчивостью своего мнения об “Анне Карениной”.
— Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?»274
В аспекте биографическом (формирование личности Гончарова, сопровождающееся поисками “идеала”): “...в те еще дни, — писал Гончаров, — когда я был моложе, а Вы были просто молоды, и когда Вы появились в Петербурге, в литературном кругу, я видел и признавал в Вас человека, каких мало знал там, почти никого, и каким хотел быть всегда сам” (VIII, 477), — и в аспекте творческого взаимодействия проблема “Гончаров и Толстой” ждет еще своего исследователя.
2* Много позже в письме к А. А. Фету от 11 мая 1873 г. Л. Толстой отметит “новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты” в стихотворении Фета “В дымке-невидимке выплыл месяц вешний...”276
Сноски к стр. 157
1* Та же, вероятно, что овладела позже бабушкой: “Она будто не сама ходит, а носит ее посторонняя сила” (VI, 318).
Сноски к стр. 158
1* “Дьявол” — так названа первая глава раннего черновика второй части толстовского романа285. “Один только Алексей Александрович <...> глядя на светлое выражение лица своей жены, знал значение этого выражения <...> это был дьявол, который овладевал ею душою. И никакие средства не могли разбить этого настроения”286. Ср. там же: “Уже тон ее голоса говорил, что это не она говорит, а злая сила, овладевшая ею, но Вронский не заметил”287. Замысел Толстого подвергся изменению, но отголоски темы “дьявола” сохранились и в окончательном тексте. Ср. также поздний (1889—1909?) рассказ Толстого “Дьявол”.
Сноски к стр. 160
1* В начале 9-й главы, после слов: “...опять напились пьяны” (VI, 328) в рукописи читается: «Да Марина отпраздновала по-своему. Она помнила клятву, данную Савелию, уже несколько дней и когда являлись со стороны слободки претенденты на ее внимание, она им грубо махала рукой, чтоб шли прочь, и даже на двоих указала Савелью. Но в сумерки в именины Веры, когда все кругом были пьяны и даже Савелий выпил пива и спал у себя — она подошла в огороде к плетню и рассеянно смотрела в слободу и в поле. Вдруг раздался знакомый свист и показался рослый силуэт садовника по ту сторону канавы. “Свисти, подлец, хоть рассвистись — не пойду — вот те Христос!” — Она даже болтнула несколько раз рукой, влезая на плетень. — “Вот не пойду, не пойду... побожилась” — говорила она, сидя на плетне и болтая ногами, и вдруг сползла в канаву. “И сама не знаю — как, — говорила она потом: — [лукавый] столкнул не хотела, вот разнеси меня Господь, да “он” сам ручищей спихнул!”. Савелий узнал это, но ни вожжи ни полено не взял, только плюнул и, вздохнув тяжело, сидел часа два, уткнув глаза в пол и сильно работая складками на лбу»292.
Сноски к стр. 166
1* Я. О. Зунделович отметил тот же мотив в стихотворении Тютчева “Не говори: меня он, как и прежде, любит...”: “О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит, // Хоть, вижу, нож в руке его дрожит...” (опубликовано в 1854 г.)306. С романом Достоевского “Идиот” связь очевидна.
Сноски к стр. 168
1* совершенства (фр.).
Сноски к стр. 170
1* благое, благочестивое пожелание (лат.).
Сноски к стр. 172
1* “мы друг друга понимаем и друг другу сочувствуем” (фр.).