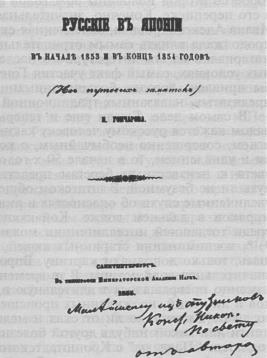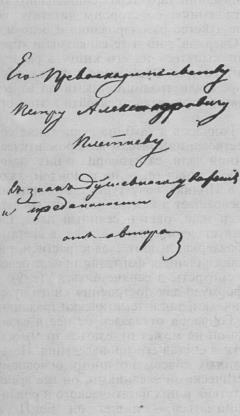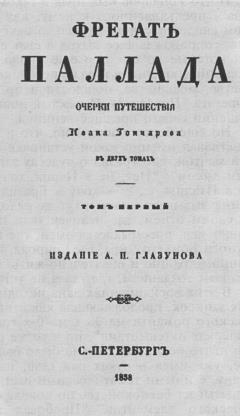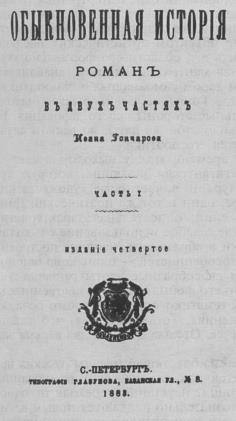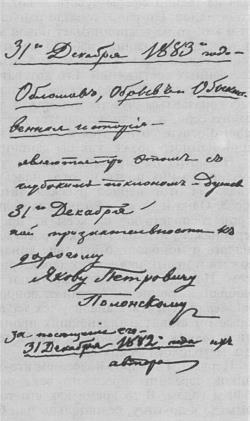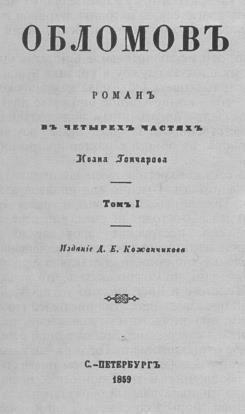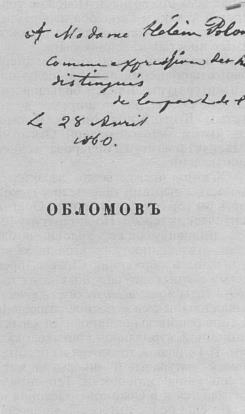- 15 -
“ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА И. ОБЛОМОВА”
Главы из неизданной монографии Б. М. Энгельгардта
Вступительная статья и публикация Т. И. Орнатской
Комментарии Б. М. Энгельгардта и Т. И. ОрнатскойВ феврале 1942 г. в блокадном Ленинграде умер от голода Борис Михайлович Энгельгардт — известный литературовед, автор трудов, посвященных методологии литературоведения, исследователь творчества Пушкина, Достоевского, Гончарова1*.
В 1969 г. архив Энгельгардта, до той поры считавшийся утраченным, поступил в Институт русской литературы АН СССР (ИРЛИ) и был зарегистрирован как фонд № 7001. Он состоит из 50 папок, в которых содержатся творческие рукописи ученого, его переписка и биографические материалы. Архив этот поступил в ИРЛИ в крайне хаотичном состоянии, большая часть рукописей рассыпана на отдельные листы, перемешанные между собой и разбросанные по разным папкам. Это одна из причин, по которым он до сих пор не разобран и не описан2*.
Среди этих разрозненных материалов находится автограф девяти начальных глав обширного исследования под заглавием: «Путешествие вокруг света Ильи Обломова (“Фрегат Паллада” по новым материалам)» (165 л. авторской пагинации). Первая глава этой рукописи посвящена анализу тех особенностей характера Гончарова, которые, в сочетании с рядом жизненных обстоятельств, побудили его отправиться в кругосветное плавание. Содержание следующих трех глав — история русско-японских отношений с начала их возникновения до отправления экспедиции А. Е. Путятина в 1852 г.; история подготовки этой экспедиции; характеристика всех членов кают-компании фрегата. В остальных пяти главах излагается история плавания “Паллады”, восстановленная по архивным источникам, мемуарам, письмам и другим документам2.
Из предваряющего рукопись “Предисловия” явствует, что в 1924 г. Энгельгардт завершил свой труд, однако опубликовать его не смог, поскольку “работа достигала почти 30-ти печатных листов”, что “послужило препятствием к ее изданию”. Описанные выше главы представляют собой своего рода экспозицию всего исследования: строго документированная история плавания фрегата должна была стать отправным пунктом всестороннего анализа книги Гончарова как художественного произведения. Однако именно эта основная, аналитическая часть исследования Энгельгардта пока не обнаружена и сохранилась ли она, нам неизвестно3*.
В 1986 г. фонд Б. М. Энгельгардта пополнился новым поступлением: москвич М. В. Веселитский передал в ИРЛИ полный текст второй редакции исследования о «Фрегате “Паллада”» под несколько сокращенным заглавием: “Путешествие вокруг света И. Обломова” (без подзаголовка; беловой автограф с незначительной авторской правкой; 152 л. авторской пагинации)3.
- 16 -
Эта вторая редакция — результат серьезной переработки, которой автор подверг свой “тридцатилистный” труд после неудачной попытки опубликовать его. Перед нами полностью завершенная, подготовленная для представления в издательство рукопись. Однако и эта редакция не увидела света. В итоге монографическое исследование Энгельгардта свелось к вступительной статье, предваряющей подготовленную им в 1935 г. для “Литературного наследства” публикацию писем Гончарова из кругосветного плавания4.
При том, что жанр вступительной статьи налагает на автора жесткие ограничения, в значительной мере сужающие рамки его исследования, эта работа Энгельгардта содержала ряд важнейших наблюдений и выводов, имеющих принципиальное значение для изучения творчества Гончарова, в общем контексте которого рассматривается «Фрегат “Паллада”». Тем не менее его статья фактически прошла мимо внимания исследователей, и выводы автора о том, что “очерки” Гончарова отнюдь не “бесхитростный” рассказ о путевых впечатлениях автора, но литературное произведение с определенным художественным замыслом, что в этом произведении проявляются художественные принципы, характерные для всего творчества Гончарова, — эти выводы до сих пор почти не учитываются в литературе о Гончарове5.
В силу этих причин редколлегия “Литературного наследства” сочла целесообразным вернуться к труду Энгельгардта и опубликовать недавно обнаруженную редакцию монографии, сокращенным вариантом которой стала в свое время вступительная статья к письмам Гончарова.
Задачу предпринятого им исследования и результаты, к которым оно привело, Энгельгардт кратко сформулировал в проекте заявки на издание своего труда6:
«Сущность предлагаемой работы сводится к следующему. Как известно, до сих пор очерки плавания на фрегате “Паллада” рассматривались как правдивый, скучный, бедный впечатлениями и интересными, глубокими точками зрения отчет о плавании. Гончарова упрекали в скудости воображения, в ограниченности, тупости, мещанстве и пр., но никогда не сомневались в его правдивости.
В своих изучениях Гончарова, подойдя к этому произведению, я первым делом поставил вопрос о соответствии его описания действительной истории плавания. Мною были проработаны очень многие относящиеся сюда материалы: офиц<иальные> докум<енты> Арх<ива> Морск<ого> М<инистерст>ва, воспоминания и письма участников похода и пр. Обнаружилась поразительная вещь: описание Гончарова вполне расходится с действительной картиной плавания — одного из самых тяжелых, опасных и “героических”, какие только имели место в истории русского флота. Гончаров оказался не ограниченным и плоским, не добросовестным историографом экспедиции, а ловким и тонким мистификатором.
Дальнейшая работа вскрыла сущность этой мистификации: еще не выезжая из Петербурга, Гончаров знал, что и как он напишет. Очерки путешествия были задуманы им как продолжение “Обломова”. В одном из частных писем из Англии (неиздан<ном>) он так и говорит о своей будущей книге: “Путешествие вокруг света <...> И. Обломова”7.
Литературный смысл этой мистификации выражался в борьбе с романтизмом. Книга нередко дает образцы тонкой насмешки и иронии над традициями Карамзина и Марлинского, господствовавшими тогда в жанре путешествий. В этом отношении «Фрег<ат> “Паллада”» тесно связан по своим темам и стилю с трилогией.
Но если Гончарову во «Фрегате “Паллада”» удалось так хитро и тонко провести критику и читателя, дав им условный литературный образ вместо себя и “фальшивку” вместо правдивого описания путешествия, — тогда возникает вопрос о достоверности традиционного образа писателя — уж не мистификация ли и это?
Ответ не подлежит никакому сомнению. Анализ опубликованного за последнее время материала приводит к следующему выводу. Образ Гончарова как спокойного, уравновешенного бюрократа, представителя умеренности и аккуратности, разрушается до основания. Вместо него встает образ полубезумного, мятущегося, тоскующего, глубоко чуждого окружающему романтика, всю свою жизнь мечтавшего о “таинственных далях”. Мнительный и болезненно чувствительный, он прятал этот свой лик от всех окружающих под маской иронии и флегмы, обманывая даже близких людей. Но когда это ему удалось, он начал задыхаться под добровольно надетой личиной. Последние десятилетия его жизни полны трагических попыток разбить эту маску.
Такова центральная тема предлагаемой работы»8.
Не будет преувеличением, если мы скажем, что в литературном наследии Гончарова книга «Фрегат “Паллада”» занимает место столь же исключительное, столь же особое, как и само описанное в ней путешествие — в биографии ее автора. Вероятно, по этой причине и в исследовательской
- 17 -
литературе она рассматривается обычно вне каких-либо связей с другими произведениями писателя. Биографическая ценность его “Очерков”, их исключительные художественные достоинства и, наконец, то огромное влияние, которое они оказали на развитие жанра “путевых записок”, — вот все, или почти все проблемы, на которых сосредотачивалось внимание исследователей.
ГОНЧАРОВ
Фотография. Начало 1850-х годов
Литературный музей, МоскваПринципиально иной подход к “Очеркам” Гончарова отличает монографию Энгельгардта: «Фрегат “Паллада”», — утверждает он, — «уже в самом начале был задуман Гончаровым как прямое продолжение романа “Обломов”». В подтверждение этой гипотезы приведена весьма сложная и стройная система доказательств, которая (даже если основная мысль остается все же не вполне доказанной) имеет уже тот интерес, что содержит массу глубоких и тонких наблюдений, интерпретаций, обобщений. И они должны быть учтены и оценены современной наукой.
Первое, на что обратил внимание Энгельгардт, это резкое несоответствие гончаровского описания путешествия тому, как оно происходило в действительности. Он сравнил “очерки путешествия” с многочисленными документальными свидетельствами, относящимися к экспедиции Путятина и, убедившись, что гончаровское описание в корне расходится с тем, что было
- 18 -
на самом деле, пришел к выводу, что «Фрегат “Паллада”» представляет собой не “правдивое до добродушия” повествование, как это представлялось современникам, а собственно литературное произведение, в котором все — и отбор фактов, и их интерпретация, и стиль — все подчинено определенному художественному замыслу. Уяснить замысел можно лишь включив “Фрегат <...>” в контекст всего творчества писателя и прежде всего — его романной трилогии. Причем речь идет не о тех специфических особенностях “Фрегата <...>”, которые выделяют его из ряда других произведений Гончарова, а именно о том, что делает его органической частью этого ряда, точнее — четвертой частью своеобразной тетралогии: “Обыкновенная история” — “Обломов” — “Обрыв” — «Фрегат “Паллада”».
Поставив “Очерки путешествия” на завершающее место в этой “тетралогии”, Энгельгардт, казалось бы, вступил в противоречие с общепринятой периодизацией творчества Гончарова. Однако это лишь кажущееся противоречие, поскольку исследователя занимает не время завершения того или иного романа, а время формирования его основных замыслов: «Конец 30-х и начало 40-х годов, — утверждает Энгельгардт, — следует признать “ученическими годами” Гончарова, когда формировалось его дарование и складывалась его своеобразная литературная манера <...> его первому дебюту предшествует без малого 10 лет упорной и скромной работы “для себя”», а уже к 1855 г. были продуманы программы “Обломова” и “Обрыва”; таким образом,” к середине 50-х годов все главнейшие произведения Гончарова были в общих чертах набросаны, и с тех пор мы уже не встречаем у него каких-либо крупных замыслов”.
Итак, конец 30-х — начало 50-х годов, по мнению исследователя, — период наиболее напряженной деятельности Гончарова. За это время оформляются и наполовину реализуются замыслы его романов, определяется его художественная манера. Параллельно с этим создается «Фрегат “Паллада”».
Энгельгардт ищет тот “общий знаменатель”, который позволит рассматривать “тетралогию” как последовательную реализацию некоей единой идеи, некоего единого “тематико-стилистического задания”, которым, по мнению ученого, определяется все творчество Гончарова в целом.
“Знаменатель” этот видится ему в том, что в каждом из романов, так же как и во “Фрегате <...>”, отразилась борьба Гончарова с романтизмом, причем под романтизмом, как считает исследователь, Гончаров понимал не столько известное литературное направление, сколько определенный тип сознания, мировосприятия, тип, который Энгельгардт определяет как “романтическое сознание” (или “романтическое миропереживание”). Носителями этого сознания в различных проявлениях, по мнению Энгельгардта, являются Александр Адуев, Обломов, Райский и герой «Фрегата “Паллада”» в той мере, в какой его можно считать преемником Обломова.
Философско-психологическую сущность русского варианта “романтического сознания” Энгельгардт видит в том, что, в отличие от “подлинного” (т. е. европейского) романтизма, известная антиномия “идеал — реальная действительность” воспринималась им не как антиномия трансцендентного и материально сущего, а как противостояние двух реальностей, двух эмпирических данностей, из которых одна — это явления, воплощающие “поэзию” жизни, а другая — все, относящееся к будничной ее “прозе”. Для русского романтика, — утверждает Энгельгардт, — “в качестве основного фона объединялось все то, что он называл <...> презренной прозой жизни, — мелкие нужды, заботы и треволнения повседневного обихода, на другие же стороны в качестве поэзии жизни отходило все яркое, красочное, необычное, все выходящее из рамок обыденности, все эстетически привлекательное <...> Так распадался для него надвое тот если не единственный, то основной круг бытия, который знало его переживание, к которому постоянно обращалась его мысль; проза и поэзия жизни, но жизни одной и той же, — этим упрощенным противопоставлением он заменил антиномию идеала и действительности, данную в подлинном романтизме”. Таких химически чистых воплощений идеального и ищет в жизни “романтическое сознание”, отвергая все, что ему не соответствует. Ищет и, естественно, не находит, в лучшем случае принимает за идеал определенные его подобия, обманчивые миражи, способные захватить его лишь на какой-то краткий миг. Пути и исходы этих поисков, по мнению Энгельгардта, и отразились в судьбах героев “тетралогии” Гончарова.
С этой точки зрения романтизм Александра Адуева — это всего лишь “спутник молодости”, некая литературная поза, маска, от которой, на миг увлекшись ею, герой освобождается вполне безболезненно, покорно уступая традиции, общественной жизненной норме.
Не представляет особой сложности и романтизм Райского. Диапазон его поисков тоже ограничен, тоже эмпирически обусловлен. Но Райский — художник. И потому ко всем обычным для романтика жизненным разочарованиям у него прибавляется еще одна проблема — творческий дилетантизм и связанные с ним творческие неудачи. Ища идеала в действительности, он, в сущности,
- 19 -
занят поисками идеального предмета своего искусства, и его, таким образом, постигает двойное разочарование: «С одной стороны, он ищет прекрасного в жизни, ибо жизнь есть поэзия, с другой стороны — это же прекрасное должно подходить под идеальные образцы его романтического воображения. Если этого нет, то наступает разочарование в жизни, а в то же время и в художественном замысле в смысле расхождения между эмпирически данным и эмпирически заданным, ибо прекрасное в жизни и идеально прекрасное даны в одинаковом эмпирическом оформлении. В итоге и увлечение новым “идолом”, и новым замыслом и т. д. и т. д.»
«Иное дело Обломов, — продолжает Энгельгардт. — Это в полном смысле слова “обреченный”, и его нехитрая, внешне тоже “обыкновенная” история — подлинная трагедия. В его духовном облике нет ничего случайного и внешнего — все изначально и необходимо, все насквозь органично, — и потому так внутренне необходима, так неотвратима его печальная судьба. Как ни странно это звучит, но Обломов, быть может, самая “роковая личность” в русской литературе по особенной непреложности всего сбывающегося над ним, по совершенной невозможности изменить его участь, по той глубокой сознательности, с которой он принимает свой жребий».
В этой связи нельзя не вспомнить ту узко-социологическую трактовку, которую дал Обломову Добролюбов в статье “Что такое обломовщина?”. Эта трактовка продолжает существовать в нашей науке и практике. Она позволяет довольно точно определить социальное поведение Обломова в условиях тогдашней рутинной российской действительности (сам Гончаров назвал эту действительность “всероссийским застоем”9). Несомненно, Добролюбов был во многом прав. Социальное положение Обломова, его “триста Захаров” безусловно благоприятствуют развитию таких его свойств, как “лень”, “пассивность”, “созерцательность” и т. п. Однако как характер Обломов не может быть сведен к этим свойствам (“лени” и “пассивности”). Натура его гораздо шире, богаче, противоречивее. Да, некоторые свойства Обломова стали нарицательными: лень, созерцательность, апатия и т. д. Но, во-первых, это далеко не единственные и не главные его качества. Во-вторых, — и это, пожалуй, самое главное — все эти свойства есть лишь следствие, уродливые проявления совсем других его свойств, или, лучше сказать, сложной и противоречивой жизни его духа. Вот этого-то диапазона обломовского характера социологический подход и не улавливает. Более того, принятый Добролюбовым по отношению к Обломову гончаровский термин “обломовщина” сослужил герою впоследствии плохую службу: в литературоведении стал складываться социологический портрет Обломова, попавший под возвратное влияние термина “обломовщина”, со смыслом, который вложил в него Добролюбов.
Социологический подход (т. е. принцип исторического детерминизма) для характеристики и интерпретации Обломова важен, но недостаточен.
Не менее важен и вопрос о личности, подвергающейся влиянию этих исторических условий. Ведь именно ее характер “регулирует”, “дозирует” влияние условий. Вот потому-то добролюбовская интерпретация Обломова и является недостаточной; перечисляя все то, что в окружающей действительности поддерживает некоторые обломовские свойства — лень, пассивность, вялость, апатию и т. д., — критик игнорирует то, что создало Обломова и каким он был создан.
Этот пробел и восполняет в своей работе Б. М. Энгельгардт. Добролюбову же он не противоречит, поскольку исследует нравственно-психологические истоки Обломова, а Добролюбов — их, так сказать, социологическую судьбу.
Энгельгардт поставил своей задачей точнее определить диапазон характера Обломова, выяснить его противоречивость, доказать, что и “лень”, и “пассивность” и т. д. есть, в сущности, лишь обратная сторона добрых начал его натуры.
Обломов по складу своего восприятия, или, пользуясь определением Энгельгардта, “миропереживания” — романтик. И в этом все дело. Ибо он в условиях, скажем, кругосветного путешествия будет совсем не тем, чем он был в условиях “всероссийского застоя”. Для того, чтобы выявить все многообразие возможностей, заложенных в Обломове, Энгельгардт рассматривает его в контексте всего гончаровского творчества, вскрывая особую форму “романтического миропереживания”, свойственную Обломову, в сравнении с Адуевым, Райским и — героем «Фрегата “Паллада”».
Проследив, таким образом, наиболее характерные проявления “романтического сознания” в основных типах романной трилогии Гончарова, Энгельгардт приходит к выводу, что “содержание трех его романов можно рассматривать как постепенное развитие, усложнение и углубление одной и той же основной темы. Важно не то, что Адуев, Обломов и Райский обнаруживают сходные черты характера <...> а что они символизируют единый смысловой ряд в его движении
- 20 -
от периферии к центру проблемы романтического миропереживания, — от вопроса о бытовой маске к философии художественного творчества. Именно это постепенное нарастание и углубление основной темы и позволяет говорить о трех романах Гончарова как о внутренне единой трилогии: если здесь нет развертывания единого действия, то есть единство смыслового ряда в динамике его непрестанного становления”.
Но история “романтического сознания”, как считает Энгельгардт, на этом не заканчивается. Последним звеном в цепи этих его проявлений стал «Фрегат “Паллада”».
Если в трилогии выяснены нравственно-философские основы романтического сознания, и литературного романтизма в том числе, то во “Фрегате <...>” продемонстрированы конкретные пути преодоления его принципов и представлена, провозглашена новая эстетическая программа. Путешественнику здесь удается то, чего безуспешно пытался достичь Райский.
Он, путешественник, не только открыл для себя красоты, совпадающие с его идеалом или этому идеалу созвучные, но уловил и их общность с тем, что окружало его в прошлом. Внутренняя их форма (индивидуальность) оказалась равной по своему поэтическому значению внутренней форме любого другого явления, поскольку в обоих случаях эстетическое переживание определялось не степенью их внешней “красивости”, а открытием и выражением их “внутренней формы”, т. е. в акте художественного творчества.
Привлечь “трилогию” к рассмотрению нужно было, таким образом, для того, чтобы понять, от чего отказался путешественник (т. е. Гончаров), что преодолел и — отсюда — что именно приобрел. Преодолевая предрассудки литературного романтизма (эта задача — на поверхности), он, по сути, преодолевал, разрушал целую нравственно-философскую систему, на которой литературный романтизм покоился. История Адуева, Обломова, Райского — это история кризиса романтического сознания; в итоге такой эволюции стало возможно и преодоление литературного романтизма.
Выше уже отмечалось, что одним из главных оснований для объединения «Фрегата “Паллада”» с трилогией для Энгельгардта было то, что поскольку “Фрегат <...>” — художественное произведение, постольку вполне допустимо искать в нем определенных “тематико-стилистических заданий”, в равной степени присутствующих во всем, что написал Гончаров. И если “Фрегат <...>” — не документальный отчет об экспедиции, то, стало быть, и автор “Очерков”, нашедший необходимым отступить от документальной правды в интересах определенного (художественного) замысла, — это не И. А. Гончаров, а собственно лицо, более всего отвечающее характеру этого замысла.
Что же это за лицо?
К ответу на этот вопрос исследователь подходит с разных точек зрения.
Прежде всего лицо это является неким своего рода производным от характера общего замысла, от ее центральной идеи. Суть ее видится Энгельгардту в том, что “сводя счеты со своим старым, и внешним и внутренним врагом — русским романтическим мировоззрением, Гончаров противопоставляет ему своеобразную идеологию творческого труда” (курсив наш. — Т. О.). «Описание путешествия дано в преломлении того колоссального труда, той борьбы и творчества, которые положил человек на завоевание земного шара, на преодоление пространства и времени <...> на покорение дикой, чужой и враждебной природы, на создание сносных условий жизни во всех углах света. Здесь “дальний вояж” показан в очерках с точки зрения тех достижений, которых успел уже добиться человек путем величайших жертв и трудов, а не с точки зрения тех тягостей, опасностей и страданий, которые выпадают еще на долю странника». «Тема “колоссальной задачи”, на которую робко намекает Адуев в “Обыкновенной истории” и которая неудачно символизировалась позднее в Штольце, развертывается здесь (во «Фрегате “Паллада”». — Т. О.) на широких просторах кругосветного путешествия с исключительным блеском, остроумием и убедительностью. Иные страницы «Фрегата <...>» звучат прямым гимном гению человека, его упорному, неустанному труду, его силе и мужеству. То, что ни разу не удалось Гончарову в его русском герое, нашло себе здесь свободное и полное выражение: “образ лавочника” действительно стал “идеально величавым”, каким он и дан в символике английского романа».
Чтобы в полной мере оценить этот великий прогресс, герой “Фрегата <...>”, по мнению Энгельгардта, должен был обладать повышенной чувствительностью к материальной стороне жизни (где прогресс особенно очевиден) — вообще ко всем тем житейским мелочам, которые освобождают человека от повседневных забот и тягот. Словом, это должен быть человек, во многом похожий на Обломова.
В подтверждение того, что именно Обломова имел в виду Гончаров, Энгельгардт приводит два его письма, написанных в самом начале путешествия.
- 21 -
20 ноября/2 декабря 1852 г. Гончаров, среди прочего, сообщал Е. П. и Н. А. Майковым, что намерен написать о предстоящем плавании книгу под названием: “Путешествие вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании. И. Обломова”10. Общий тон письма, а также пародийная стилизованность (в духе старинной литературы о путешествиях) “титульного листа” будущей книги не оставляют сомнения в том, что и предполагаемое авторство “И. Обломова” тоже не более чем шутка. Однако для Энгельгардта здесь заключен и гораздо более серьезный смысл. Для него это если и шутка, то шутка достаточно знаменательная: она позволяет предположить, что в раздумьях о будущей книге “обломовская тема” в каком-то качестве все же присутствовала. О том же свидетельствует и письмо к М. А. Языкову от 3/15 ноября 1852 г.: “Я бы написал о миллионе тех мелких неудобств, которыми сопровождается вступление мое на чужие берега, но я не отчаиваюсь написать когда-нибудь главу под названием Путешествие Обломова: там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, о Филиппе и т. п. Все это происходит со мною и со всеми, я думаю, кто хоть немножко не в черном теле вырос”11.
Конечно, “обломовское” восприятие повседневных “мелочей жизни” со стороны автора «Фрегата “Паллада”» этим удостоверяется. Однако главное, что имеет в виду Энгельгардт, сближая героя Гончарова с Обломовым, — романтическое его мировосприятие — ни в коей мере. Ибо речь здесь идет не о мировоззрении, а о тех чертах, которые присущи всякому русскому, причем, точнее говоря, даже не “всякому”, а лишь тому, “кто хоть немножко не в черном теле вырос”. Другими словами, “обломовские” черты автора “Фрегата <...>” (неприспособленность к жизни, болезненная чувствительность ко всякого рода бытовым неудобствам, барство и т. п.) представляют собой свойства не столько философско-мировоззренческого характера, сколько социального, а следовательно, носителем их мог быть и романтик, и сентименталист, и даже реалист, лишь бы он принадлежал к определенному социальному слою, к людям, “испорченным” не столько максимализмом “романтического сознания”, сколько издержками и предрассудками известного рода воспитания.
Таким образом, мы как будто имеем дело с определенным противоречием: сущность “обломовщины”, по Энгельгардту, заключается не в лени, не в неприспособленности к жизни, но тем не менее, стремясь представить автора “Фрегата <...>” Обломовым, исследователь ссылается как раз на эти “внешние” его свойства. В чем же, в таком случае, проявляется “обломовский” романтизм автора “Фрегата <...>”, который позволил бы сблизить его с Обломовым? Ведь то, что предполагаемый Обломов (он же автор) по десять раз в час приходит в отчаяние, вздыхая по матушке России, и впадает в уныние при мысли о необходимости самому лазить в чемодан, заботиться о багаже и т. п., — ведь все это, согласимся, весьма далеко от романтического миропереживания.
На долю автора «Фрегата “Паллада”» остается, по-видимому, лишь одна форма романтизма — то, в чем Энгельгардт полагал главную идею книги, — гимн человеческому прогрессу, успехам цивилизации. Однако, чтобы соответствовать этой идее, Обломов должен был стать (хотя бы на время) активным, жадным до впечатлений, деятельным путешественником (а отнюдь не пассивным, рефлектирующим созерцателем). Он должен был выйти из обычного для него состояния сна, апатии и т. п. Возможно ли это для него?
Возможно. Но только в одном-единственном случае — если путешествие на “Палладе” совпадет для него с периодом одного из тех романтических озарений, когда путешествие вокруг света может представиться ему реальным (“эмпирическим”) воплощением идеала.
Вот в этом-то состоянии (веры в то, что в путешествии его ожидает “идеальная деятельность”) автор “Фрегата <...>” (предполагаемый Обломов) и пускается в плавание.
Экзотика плавания в его представлении — абсолютная антитеза серой и убогой петербургской жизни (традиционное для романтического сознания противопоставление “прозы жизни” и “поэзии жизни”): “Он (Гончаров. — Т. О.) и обновился при одной мысли идти вокруг света”, “все мысли и надежды юности, сама юность воскресла в нем”. «Есть великая освобождающая сила в путешествии, и именно в ней скрывается одно из главных очарований туризма, — пишет Энгельгардт. — Путешествие радует человека не только новыми впечатлениями и встречами, но и тем, что отрывает его от мелких и надоевших явлений жизни на родине, нарушает опостылевший ритм его обычного существования и, ставя его лицом к лицу с новой жизнью и новым бытом, показывает их с праздничной стороны. Путешественнику очень трудно бывает постичь реальный, практический смысл развертывающихся перед ним панорам чужой жизни. Ее “проза”, ее повседневные заботы и нужда, ее волнения и дрязги, словом, ее субъективно-прагматический
- 22 -
строй всегда остается для него полускрытым <...> В этом смысле он свободнее всех, и его отношение к предстоящему всегда празднично: для него более чем для кого другого жизнь с ее прозой становится поэзией <...> именно этой стороной путешествия особенно дорожил Гончаров. Свобода, беззаботность и праздничность — вот что тянуло его за границу <...>»
Сложную и ответственную задачу развенчания эстетических принципов романтизма Гончаров, конечно, не мог возложить только на Обломова. Истинный автор «Фрегата “Паллада”» должен был быть похож на Илью Ильича в своих взглядах на жизнь, в философии отношения к ней, в своих бытовых привычках наконец. Но задача последовательного развенчания литературного романтизма могла быть решена уже не столько Обломовым (вернее, совсем не им), а самим Гончаровым. Другими словами, автор “Фрегата <...>” должен был соединять в себе, с одной стороны, черты Обломова, а с другой — самого Гончарова.
Именно по этой причине и сближает Энгельгардт Обломова с Гончаровым.
Учитывая изначальную предрасположенность романтического сознания к условно-патетическому способу выражения, к “повышенной прозе”, можно было бы ожидать, что и повествователь во “Фрегате <...>” будет обречен на эту манеру, на эту изобразительно-стилистическую неумеренность (тем более, что и установка на “воспевание” как будто благоприятствовала этому).
Однако вместо этой ожидаемой декоративности и романтической риторики мы видим великолепную реалистическую палитру и, более того, акцентированную полемику с эстетическими канонами романтизма.
Нет ли здесь противоречия?
Нет. Ибо захваченный впечатлениями жизни, открывшейся в плавании, автор понимает, что истинная красота окружающего, тех или иных явлений может быть передана лишь в том случае, если он откажется от готовых, традиционных средств их отражения, освоенных и заштампованных в поэтике романтизма.
Нельзя, как пишет о том Энгельгардт, “подводить к эффектному, праздничному, экзотическому именно в плане его эффектности и красивости, т. е. воспринимать его в оценках традиционно-эстетического опыта, ибо эти оценки должны быть признаны условными и внешними по отношению к самой сущности созерцаемого явления. В самом деле: навязывая объекту уже на первых ступенях художественного созерцания признаки поразительного, необыкновенного, красивого, художник уже тем самым налагает на это явление некую готовую форму, т. е. вкладывает в него известное содержание, подсказанное традиционным эстетическим каноном. Но тем самым индивидуальная, внутренняя форма, которая потенциально задана в созерцаемом явлении, не может свободно раскрыться и принять ясные и отчетливые очертания; ее подавляет и заслоняет привнесенная условная форма <...> Искусство должно уметь освобождать объект творчества от всех эстетических оценок, чтобы проникнуть к заложенной в нем действительно своеобразной и поразительной индивидуальной форме”. Гончаров отчетливо сознавал этот, быть может, основной закон художественного творчества и тщательно избегал трактовать “праздничные и поразительные явления” именно в экзотике. “Он непременно стремился постичь формы их как бы прозаического, будничного бытия для себя, а не того условного великолепия, в котором они предстояли сознанию, воспитанному в определенных эстетических традициях”.
Между прочим, трагедия художника Райского в том и состояла, что он не смог понять необходимость этого проникновения во внутреннюю “имманентную” форму явления и всегда останавливался в своих поисках там, где для настоящего художника они должны были только начинаться. Недаром же сам Гончаров назвал его прямым “сыном Обломова”, который “если не спит по-обломовски, то едва лишь проснулся — и пока знает, что делать, но не делает”12. Он так и остается во власти романтического сознания, продолжая в своем эстетическом восприятии явлений считаться лишь с их внешней формой, не угадывая, не прозревая в них формы внутренней и потому не находит адекватных, действительно художественных средств их отражения.
Вот этот-то последний шаг, по мнению Энгельгардта, и совершает автор “Фрегата <...>”, шаг, знаменующий преодоление тяжкой инерции романтического сознания.
Итак, следует признать, что опыт сопоставления “Фрегата <...>” с романной трилогией Гончарова, предпринятый Энгельгардтом, несомненно оправдан и по-своему поучителен. Поучителен, собственно, уже сам путь, каким он пришел к необходимости такого сопоставления и даже очевидные ошибки, которые он на этом пути допустил. Убедившись, к примеру, в том, что гончаровское описание путешествия резко расходится с многочисленными документами и придя на этом основании к выводу о художественной природе “Фрегата <...>”, он не принял во внимание того факта, что художественность романов и художественность путевых записок —
- 23 -
явления далеко не тождественные. А потому и сам “Фрегат <...>” он счел за своего рода литературную мистификацию, за художественную (“беллетристическую”) выдумку, которую в таком случае вполне естественно сопоставить с романами Гончарова. Дальнейшее понятно. Допустив, что между художественными произведениями одного и того же автора непременно должна существовать определенная общность (да к тому же помня о том, что сам Гончаров не раз называл себя Обломовым), он увидел эту общность в романтическом сознании, в том или ином отношении к которому стоят главные гончаровские герои (Адуев, Обломов, Райский). Анализ этого феномена (“романтическое сознание”) проведен Энгельгардтом настолько ярко и убедительно, что высвечиваются многие и многие проблемы гончаровского творчества, изучение которых без учета сделанного Энгельгардтом просто невозможно. Благодарнейшая в этом отношении тема — “Сон Обломова”, который важно понять не с точки зрения формирования психики будущего хозяина трехсот Захаров, а с точки зрения становления той самой “особой оформленности практического сознания”, о которой говорил Энгельгардт.
В свете “романтического сознания” многое проясняется и во “Фрегате <...>”. Если воспринимать его не как своего рода “преодоленное прошлое” самого автора очерков, а как объект полемики, то можно с большей уверенностью говорить о жанровой природе “Фрегата <...>”, о той палитре, которую создавал и которой пользовался его автор. Единство творческих принципов — вот о чем свидетельствует итог сопоставления “Фрегата <...>” с романами Гончарова. Нужно лишь конкретизировать эти принципы, показать, как они действуют в зависимости от конкретной писательской задачи.
Монография была написана семь десятилетий назад и потому естественно, что отдельные ее положения могут показаться не вполне бесспорными. Так, например, вряд ли можно согласиться с той трактовкой, которую получил в ней образ повествователя. Увлеченный стремлением (в основе своей оправданным) доказать типологическое родство “Фрегата <...>” с романной трилогией Гончарова, Энгельгардт, на наш взгляд, излишне прямолинейно экстраполирует на “Фрегат <...>” и всю проблематику трилогии. В идейно-тематической основе путевых заметок ему видятся те же самые конфликты, те же самые нравственно-социальные антитезы, которые характеризуют и трилогию. «И здесь и там, — утверждает исследователь, — одно и то же противопоставление: трезвой, деловой идеологии лавочника — “обломовщине” <...> Только взаимоотношение между обоими членами противопоставления различно. В романе весь передний план занят великолепно осуществленным образом барина, а лавочнику отведено место на втором плане <...> В очерках путешествия напротив: образ лавочника вырастает до идеально величавых размеров, а путешественник показан очень скромно».
Эта аналогия и сама по себе является очевидным преувеличением. Но дело не столько в ней, сколько в том, что в прямой зависимости от нее оказывается, в трактовке Энгельгардта, и сам образ повествователя. Ибо если проблематика “Фрегата <...>” типологически воспроизводит проблематику романов, то и повествователь во “Фрегате <...>” — это не И. А. Гончаров, а некая “литературная маска”, полностью приспособленная к нуждам этой абстрагированной от самого путешествия проблематики. Индивидуально-биографические черты повествователя оказываются, таким образом, в значительной мере игнорированными, и на месте одной крайности, против которой справедливо возражает Энгельгардт (понимание «Фрегата “Паллада”» как “отчета о кругосветном плавании”), возникает другая — стремление представить фигуру повествователя как некий условный образ, по существу не соотносящийся с личностью писателя.
Художественным или нехудожественным произведение делает отнюдь не то, в какой степени присутствует в нем личность автора и насколько он, автор, следует в своем повествовании действительным фактам. В любом случае основу художественного произведения составляет система образов, в которых реализуются впечатления писателя от реальной действительности, его отношение к ней. Формируя эту систему, автор совершенно свободен в отборе фактов, ибо важны они для него не сами по себе, а лишь в той мере, в какой они способны выразить его конкретную мысль.
Ниже печатаются I, IV—VIII главы монографии Б. М. Энгельгардта (вторая редакция). Опущены главы II и III (документальное описание плавания “Паллады”), поскольку они почти полностью вошли в его вступительную статью к письмам Гончарова из кругосветного путешествия (ЛН. Т. 22/24. С. 309—342; Фрегат “Паллада”. С. 722—760; Энгельгардт Б. М. Избранные труды. СПб., 1995. С. 236—250).
В “Приложении” печатается III глава из первой редакции монографии под условным названием «Кают-компания фрегата “Паллада”», заимствованным нами из авторских помет в автографе13.
- 24 -
1 Поступил в ИРЛИ через посредство Комиссии по истории филологических наук при От делении языка и литературы АН СССР.
2 Папка, в которую вложены эти материалы, озаглавлена (рукой архивиста): «Б. М. Энгельгардт. Материалы к работе о «Фрегате “Паллада”» Гончарова». Ее открывает “Предисловие” автора. Первая глава обернута в бумажную “рубашку” с пометой автора: “I”; следующие три главы — в “рубашку” с его же пометой: “II. Ист<орический> очерк и кают-комп<ания>”; остальные пять глав — в “рубашку” с его же пометой: “III. Плавание”. Затем следуют архивные выписки, использованные в перечисленных главах (л. 166—269; обернуты в “рубашку” с авторской пометой: “IV. Офиц<иальные> документы”); далее (л. 270—297) — отрывки из перечисленных выше глав и некоторые биографические документы.
3 Папка, в которую вложена эта рукопись, озаглавлена (рукой архивиста): “Поступление 1986 г. № 19-а”. Текст исследования предваряют: проект заявки на издание книги “Путешествие И. Обломова вокруг света” и “Предисловие” (идентично “Предисловию” к первой редакции). После текста следуют разрозненные машинописные выдержки из него (л. 153—239).
4 ЛН. Т. 22/24. С. 309—342. Перепечатано в кн.: Фрегат “Паллада”. С. 722—760; Энгельгардт Б. М. Избр. труды. СПб., 1995. С. 225—269.
5 С некоторыми положениями статьи Энгельгардта в известной мере перекликается статья В. А. Недзвецкого «Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова как “географический роман”» // Материалы международной конференции. 1994. С. 146—155.
6 См. примеч. 3.
7 Подразумевается письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым. 20 ноября/2 декабря 1852 г., ныне опубликованное: ЛН. Т. 22/24. С. 349—358; Фрегат “Паллада”. С. 620—628.
8 Далее следуют предложения по поводу композиции книги, ее объема и оформления: «К ней приложены письма Гончарова из плавания, неизданные отрывки из его произведений и пр. Весь материал только отчасти использован Ляцким в работах, опубликованных за границей и имеющихся в случайных экземплярах в библиотеках Университета и Публичной. Материал же — особенно письма из плавания — имеют огромный биографический интерес. Книга может быть иллюстрирована русскими и японскими рисунками того времени, фотографиями фрегата “Паллады” и пр. Общий размер книги 15—16 лл.»
9 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 73.
10 ЛН. Т. 22/24. С. 356; Фрегат “Паллада”. С. 628.
11 ЛН. Т. 22/24. С. 348; Фрегат “Паллада”. С. 620.
12 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 85.
13 См. примеч. 3.
НАТАЛИИ ЕВГЕНИЕВНЕ ГАРШИНОЙ-ЭНГЕЛЬГАРДТ
“Coelum non animum mutant, qui trans mare currunt”1*
<Гораций>
[”Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt”Eichendorff]2*
I
В 1874 г. Гончаров писал гр. А. А. Толстой: «...я сказал также, что ничего не напишу больше: это очень вероятно, как бы ни обливалось у меня сердце кровью от этого. “Лета охлаждают всякие надежды и желания”, — сказал я печатно (в “Складчине”) — говоря о морских путешествиях. То же самое могу сказать и о пере. Ни в море идти, ни писать — у меня надежды нет»1.
“Ни в море идти, ни писать...” — это сопоставление чрезвычайно знаменательно. Оно показывает, какое место в своей жизни отводил сам Гончаров своему “дальнему вояжу” на “Палладе”, ставя его рядом с писательством.
- 25 -
И что здесь мы имеем дело не с случайным совпадением, не с простой фразой — об этом неопровержимо свидетельствуют неоднократные попытки Гончарова снова уйти в долгое и дальнее плавание. Так, в 1866 г. он писал Тургеневу по поводу своих планов насчет поездки за границу: “...у меня была более широкая затея: это пуститься опять в море, на военном фрегате, хотя не так далеко как прежде, а объехать Средиземное море (с Италией, Испанией и Грецией) по случаю поездки одного из великих князей. Я стороной осведомился, не будет ли мне опять счастья (в роли учителя или чтеца) поплавать, как я плавал бывало, по таким водам и в таком воздухе, которых о сю пору забыть не могу. Но мечта эта оказалась мечтою: фрегат идет не в Средиземное море, а просто в океан на морскую практику”2.
ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ОЧЕРКА “РУССКИЕ В
ЯПОНИИ В НАЧАЛЕ 1853 И В КОНЦЕ 1854 ГОДОВ”“Морской сборник”. 1855. № 9—11. Оттиск
Титульный лист с дарственной надписью:
“Милейшему из спутников Конст<антину>
Никол<аевичу> Посьету от автора”Российская государственная библиотека, Москва
В 1870 г. он возобновляет эти попытки, обращаясь к К. Н. Посьету, своему старому знакомцу по японской экспедиции, с просьбой “взять его с собою в Америку” и дальше кругом света на фрегате “Светлана”3. Несколько озадаченный этой просьбой Посьет ответил сначала “энергическим отказом”; когда же, месяца через два, он переменил мнение и выразил свое согласие, — было уже поздно: под влиянием колебаний приятеля мнительный Гончаров отрезвился и сам испугался своей смелости и отказался от своих мечтаний4. В эту пору было ему пятьдесят восемь лет.
Здесь мы встречаемся с одним из самых интересных и загадочных центральных фактов его биографии. В самом деле: эти вечные порывы в даль, эти грезы о невиданных землях, эта непрестанная тоска по океанским просторам и тропическом небе, эти попытки снова и снова “уйти” в дальний вояж в шестидесятилетнем старике, почтенном действительном статском советнике, тридцать лет тянувшем чиновничью лямку, — производят чрезвычайно своеобразное впечатление и бросают совсем особенный свет на всю историю его жизни. А между тем до сих пор еще эти факты не были оценены по достоинству. Большинство исследователей — назовем только важнейших среди них: пр<офессоров> С. А. Венгерова, А. Мазона и Е. Ляцкого, — ограничивались лишь простым указанием, что вот, мол, Гончарову удалось привести в исполнение детские мечтания о далеких путешествиях, и, использовав материал «Фрегата “Паллады”» для характеристики узости и мещанства гончаровского мировоззрения, переходили затем к подробному разбору и оценке его цензорской деятельности, точно здесь они могли найти ключ к истолкованию этой необычайно сложной натуры5. В этом сказалось то самое непонимание Гончарова и как человека, и еще более как художника, жалобы на которое
- 26 -
со второй половины 60-х годов все чаще и чаще начинают попадаться в его переписке. Конечно, значительная доля вины за это ложится на самого Ивана Александровича, болезненная скрытность которого и после его смерти продолжала влиять самым отрицательным образом на опубликование новых материалов из его литературного наследства. Но и при таких неблагоприятных условиях, самый факт участия Гончарова в японском походе должен был бы привлечь гораздо больше внимания со стороны всякого свободного от предвзятых, навязанных традиционной журнальной критикой исследователя.
В самом деле. Ежели еще и теперь кругосветное путешествие сплошь и рядом кажется русскому человеку каким-то из ряду вон выходящим предприятием, совершенно необычайным, о котором говорится с большим почтением и удивлением, то в начале 50-х годов плавание на парусном судне кругом света к неизвестным берегам представлялось затеей крайне рискованной, чуть ли не безумной. В штатском обществе того времени ходили самые преувеличенные слухи об опасностях и лишениях такого похода, о быте и нравах моряков в дальнем вояже. Кой-какие указания на подобные настроения среди тогдашней интеллигенции можно найти и у самого Гончарова (с. 7—9)1*, воспоминания старинных людей, которые нам лично доводилось слышать, только дополняют картину. Впрочем, во всех этих россказнях крылась значительная доля истины. В те времена дальнее плавание действительно неизменно превращалось в длительную и тяжелую “экспедицию”, полную трудов и лишений, неожиданных происшествий и постоянного риска погибнуть то ли от шторма, то ли от скал и мелей, не нанесенных на карту, то ли от цинги или какой-нибудь другой болезни. Судьба вышедшего менее чем через год после “Паллады” с Кронштадтского рейда к берегам Сибири отряда судов красноречиво свидетельствует об этом: из трех судов, составлявших этот отряд, транспорт “Неман”, управляемый таким опытным моряком, как П. Я. Шкот, 23 сентября 1853 г. разбился о скалы у шведского берега, а фрегат “Аврора” прибыл в Петропавловск-на-Камчатке, имея на борту почти 90% команды и офицерского состава, в том числе и самого капитана, И. Н. Шереметьева, в острой цинге6. Каждая тысяча пройденных миль завоевывалась парусным судном в ожесточенной и изнурительной борьбе с океаном, среди множества тревог и непредвиденных случайностей, державших моряков в постоянном напряжении и заставлявших их выкинуть из своего лексикона слово “непременно” (с. 54, 639).
При таких обстоятельствах нужна была большая сила характера, чтобы, преодолев натиск боязливых друзей и, главное, внутреннее сопротивление в самом себе, вызваться охотником в экспедицию, подобную путятинской. Откуда ж она взялась у Гончарова, сорокалетнего чиновника и бестемпераментного бытописателя, к тому же “избалованнейшего из всех”, столь взыскательного к мелочным удобствам повседневной жизни? Как решился он, идеолог мещанства, певец комфорта и спокойствия, — “из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением”, перейти вдруг “на зыбкое лоно морей”, “в один день, в один час <...> ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка?” (с. 7). А кроме того, чем и как объяснить и позднейшие его попытки снова попасть в кругосветное плавание, ту тоску и мечты об океане и тропиках, о которой говорилось выше?
Гончаров сам ставит эти вопросы на первых же страницах своих путевых очерков, но удовлетворительного ответа на них не дает. Только в интимных письмах к друзьям проскальзывают указания на подлинные мотивы его внезапного бегства из Петербурга. И вскрыть эти мотивы является основной задачей
- 27 -
всякого исследования, не только биографического, но, как будет видно ниже, и чисто историко-литературного характера.
Конечно, та “страсть к воде”, на которую он ссылается, сыграла известную роль в его решении. «Поддаваясь мистицизму, — вспоминает он позднее, — можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника — для будущего моего дальнего странствия. Впрочем, помимо этого, меня нередко манили куда-то вдаль широкие разливы Волги, со множеством плавающих, как лебеди, белых парусов. Я целые часы мечтательно, еще ребенком, вглядывался в эту широкую пелену вод. И по приезде в Петербург во мне уживалась страсть к воде. Рассказы ли “крестного”, вместе с “прочитанными путешествиями, или широкое раздолье волжских вод, не знаю что, но только страстишка к морю жила у меня в душе. Гуляя по Васильевскому острову, я с наслаждением заглядывался на иностранные суда и нюхал запах смолы и пеньковых канатов. Я прежде всего поспешил, по приезде в Петербург, посетить Кронштадт и осмотреть там море и все морское»7.
Но само собой разумеется, что под влиянием охлаждающей прозы петербургской чиновничьей жизни эти юношеские мечтания довольно быстро улеглись “в воображении вслед многим другим” (с. 9). И нужны были какие-то особенные внутренние причины, чтобы снова разбудить их и заставить Гончарова уже в зрелых годах, с начинающими давать о себе знать недугами, из размеренного уклада служебных будней перешагнуть на корабль, уходивший в “загадочную даль”8.
Искать этих причин следует прежде всего в том болезненном разладе в жизни Гончарова, который обозначился, как только для него стало ясным его истинное призвание. Писатель, художник, “артист”, по его любимому выражению, не мог помириться в нем с навязываемыми суровой житейской необходимостью условиями существования. Отсюда та постоянная неудовлетворенность и какая-то внутренняя тревога, которые, усиленные и поддержанные начинающимся психическим расстройством, так ярко отразились в его переписке.
«“Ну, так вы — Обломов”, — замечают мне обыкновенно, — пишет он гр. А. А. Толстой. — Eh bien, après?1* — Правда, — Обломов, только не такой, как все другие Обломовы. Не одна лень, не одна дикость — от непривычки — и тому подобные внешние грубые причины держали меня всегда поодаль от света и его приманок, для моей натуры незаманчивых. А артистическое строение духа, а поэзия и т. д. и т. д., — все то, что чуждается всякой официальности, жена (gêne2*), что требует разных маленьких свобод и т. д. — словом, внутренние причины. — А сколько теснот пришлось переживать: хотелось мне всегда и призван я был писать, а между тем должен был служить. Мне, нервозному, впечатлительно-раздражительному организму, нужен воздух ясный и сухой, солнце, некоторое спокойствие, а я сорок лет живу под свинцовым небом, в туманах — и не наберу месяца в году, чтобы заняться, чем хотелось и чем следовало, и всегда делал то, чего не умел или не хотел делать»9.
В этих словах нашла яркое выражение горькая правда его жизни. Гончаров действительно почти не имел возможности делать то, что хотел и умел делать, к чему был призван. Легенду о его преданности службе, об его бюрократических способностях и склонностях давно пора оставить. Достаточно заглянуть в его формуляр, чтобы убедиться в этом. При связях Гончарова, при его умеренном либерализме и относительно широких возможностях 60-х годов он должен был бы сделать какую-нибудь блестящую карьеру, которой, конечно, никак нельзя назвать чин действительного статского советника и звание члена Главного упр<авления> по делам печати как итог почти сорокалетней непорочной службы. Более того: судя по скупости,
- 28 -
с какой давались Гончарову награды и повышения, можно думать, что он был далеко не на блестящем счету у начальства и что забавные промахи, которыми началось его служебное поприще, повторялись не раз и впоследствии10.
Впрочем, “карьеры и фортуны” Гончаров никогда и не добивался и служебного честолюбия никогда не имел. Служба была для него только источником существования, неизбежным и необходимым злом, тем более горшим, что, с одной стороны, он видел в ней нечто такое, что роняло его престиж литератора, а с другой стороны, вообще резко отрицательно относился к бюрократической деятельности.
Дело в том, что в этой области у Гончарова очень рано сложились вполне определенные, чрезвычайно своеобразные взгляды. Ежели радикал того времени в своих нападках на правительство останавливался прежде всего на взяточничестве, кумовстве, разнообразных “протекциях” и т. п. уродливых явлениях служебного уклада, а главное, на чудовищных реальностях бессмысленной запретительной системы и общем реакционном направлении внутренней политики, то Гончаров к оценке нашей бюрократической системы подходил совсем с другой стороны. Конечно, и его возмущали все эти малые и большие недостатки механизма, но гораздо более претили ему самые формы канцелярского управления. Менялись взгляды правительства, возникали новые веяния, — и тот же радикал с наслаждением садился за канцелярский стол и начинал сочинять бесконечные докладные записки, особые мнения, циркуляры и т. п., настойчиво пытаясь подобно же своему предшественнику уложить конкретную жизнь на тесное ложе бумажного “исполнения”. Не то Гончаров: как ни парадоксально это звучит, но он чувствовал отвращение именно к бюрократизму, как таковому, и в подмене делопроизводством настоящего дела, в поголовном стремлении русского культурного общества на “государственную службу” видел одну из главных причин “всероссийского застоя”11.
Недаром уже в глубокой старости, незадолго до смерти, он писал в своей последней статье: «“Grattez un Russe, — говорит старый Наполеон, — et vous trouverez un Tartare”; он прибавил бы: “ou un tschinovnik”1*, — если бы знал нас покороче»12.
Этого чиновника — а тогда почти все были чиновниками “от головы до пят, как Лир был король от головы до пят” (с. 597), — Гончаров и изображает не как плута, притеснителя, взяточника, изверга и т. д., а прежде всего как лощеное ничтожество, подчеркивая пустоту и формализм всей его жизни и деятельности. Таковы все бюрократические типы его романов: в них нет ничего отталкивающего, возбуждающего враждебное чувство, напротив, все они довольно приятны в общежитии, но в то же время какое-то убожество и пустота. И этим жалким “продуктам петербургской болотной почвы”13 он упорно стремится противопоставить человека “настоящего, живого, не рутинного труда”, широкой личной инициативы, несокрушимой энергии и предприимчивости, неустанно созидающего в борьбе с бесчисленными препятствиями новые формы жизни: экономической, бытовой, духовной — безразлично. Прямым славословием такому “человеку-творцу” звучат многие страницы «Фрегата “Паллада”», повествующие о завоевании земли человеком; но и в своих романах Гончаров настойчиво пытался наметить этот характер на русской почве — между “татарином” и “чиновником”, рядом с безвольным, но благородным Обломовым. Здесь не место гадать, почему эти попытки, в которых, конечно, было много наивного, не увенчались успехом. Нам достаточно указать, что сознание внутренней пустоты и “мнимости” бюрократической деятельности сопровождало Гончарова в течение всей его долгой жизни, находя яркое отражение во всех его произведениях — от грандиозных
- 29 -
романов до случайной статьи включительно14. Равным образом мы не можем пускаться и в исследование генезиса этих настроений. По-видимому, здесь отчасти сказалась принадлежность Гончарова к не служилому, — вернее, не служащему сословию: в гончаровской семье традиция службы почти отсутствовала15, и, вступая в чиновничью среду, ему приходилось приспособляться к ее бытовому укладу как свежему человеку со стороны. Но еще большее влияние на выработку гончаровского миросозерцания оказало несомненно его глубокое увлечение английской литературой. Изучив английский язык, как кажется, главным образом из практических соображений, он затем основательно ознакомился с главнейшими представителями английского романа, из которых — Диккенс оказал существенное воздействие не только на формы его художественного творчества, но и на многие из его общих точек зрения. “В нашем веке, — говорит Гончаров, подводя итоги своей литературной деятельности, — нам дал образец художественного романа общий учитель романистов — это Диккенс”16. И если в бледных очерках Штольца или Тушина вполне возможно усматривать попытку переложения на российские нравы положительного героя английской семейной эпопеи, то, с другой стороны, у того же Диккенса мы встречаем резкую сатиру на чиновничество, отражающую настроения, близкие к настроениям Гончарова.
Как бы то ни было, но при подобных воззрениях на канцелярскую работу и карьеру служба не могла иметь ничего привлекательного для Гончарова. В Департаменте он задыхался; в Гл<авном> управлении изнемогал от царившей там бестолковщины и разноголосицы; о своем цензорстве никогда не любил вспоминать позднее. Служба была вечной язвой, разъедавшей его существование, и, не успев еще вернуться в Петербург после двухлетних скитаний по свету, он уже начинает тосковать “при мысли, что надо опять приниматься за ежедневное хождение в службу”.
Почему же в таком случае он не бросал ее? Но куда же ему было деваться? Медлительность и неровность творчества не позволяли ему надеяться на относительно прочный литературный заработок. Частной службы в том виде, как мы ее теперь понимаем, тогда еще не было, и всякая попытка устроиться вне “казенного довольствия”, не говоря уже о том, что накладывала на человека оттенок неблагонадежности, имела все основания окончиться такой же неудачей, как попытка изобразить в русской обстановке “самодеятельного” героя английского стиля. А в то же время никаких личных средств у Гончарова не было.
“К несчастию, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни дворянского, ни птичьего, и я сам не знаю, куда я денусь”, — писал Гончаров М. М. Стасюлевичу, горько жалуясь на свое положение17. И, действительно, положение было незавидным. Н. Н. Трегубов жестоко ошибался, когда думал, что сделал все для своего крестника, дав ему “в приданое” образование и позаботившись о его карьере с тем, чтобы все остальное “добывал” он сам18. Именно в этом “остальном” Гончаров нуждался гораздо больше, нежели в протекции и других средствах движения по службе.
Дело в том, что Гончаров был человеком крайне своеобразной волевой организации. Его прославленная “обломовская лень”, о которой так много говорилось среди современников и позднее у историков литературы, представляла чрезвычайно сложное и до сих пор еще не вполне разгаданное явление. Ведь если, с одной стороны, различные анекдоты по этому поводу и по сию пору сохраняются в общественной памяти, то, с другой стороны, зная о Гончарове все, что мы знаем, нельзя не признать в нем одного из самых неутомимых тружеников среди русских писателей. Колоссальный труд, вложенный в “трилогию” со всеми ее бесчисленными вариантами; работа, проделанная Гончаровым в качестве цензора19; та деятельность, которую он развил в экспедиции, составляя свои записки, ведя общий судовой журнал и неся всю тяжесть секретарства при переговорах в Нагасаки20; и, наконец,
- 30 -
систематические и упорные занятия по самообразованию21, сделавшие из него человека обширных и разносторонних знаний, — все это неопровержимо свидетельствует о его незаурядной трудоспособности22. Но рядом с этой волей к труду и рабочей выдержкой в нем уживалась странная нерешительность в вопросах обыденной жизни. Мелочные затруднения повседневного быта принимали в его воображении размеры непреодолимых препятствий. Какие-нибудь пустяки, которые обычно изживаются незаметно, приводили его в состояние полной растерянности и надолго лишали покоя. Перед мелкими заботами и тревогами дня — Гончаров беспомощно пасовал, и ему, пожалуй, было гораздо легче отправиться в кругосветное путешествие, нежели переехать с квартиры на квартиру или переменить слугу. “Вы правы, — писал он Тургеневу из Мариенбада во время австро-прусской войны: все военные проделки не по натуре мне, не трусости, конечно, ради, нет: если мне скажут, что какая-нибудь шальная бомба упадет ко мне в комнату и разорвет меня, — я ничего: может быть, закричу, если успею, а то так и молча умру. Но если скажут, что мне понадобится ехать тысячу верст не по железной дороге, а в экипаже, или прожить лишнюю неделю там, где я не хочу, или я не буду знать, можно ли мне вернуться в срок и обыкновенным путем в Россию, — все это повергает меня в уныние и раздражение”23.
Само собой понятно, что поводов для такого унижения и раздражения в повседневном обиходе необеспеченного чиновника набиралось более чем достаточно, и мы легко могли бы составить себе представление о том, во что превращалась временами жизнь Гончарова, если бы даже не имели многочисленных свидетельств этому в его переписке.
Нет никакого сомнения, что многое в этой чрезмерной чувствительности к житейским мелочам следует отнести непосредственно на счет жизненной неуравновешенности. Такие эпизоды, как история с фраком или бесконечные разговоры об упаковке чемодана, о железнодорожном билете, о которых лучше кого-либо могли бы рассказать Л. И. и М. М. Стасюлевичи да А. Ф. Кони, пестовавшие стареющего Гончарова, — никак не укладываются в рамки нормальной душевной конституции. Правда, большинство известных нам эпизодов этого рода относится к поздним годам жизни писателя, но все же имеется достаточно указаний на то, что уже в конце 40-х годов он отличался этими странностями.
По-видимому, они являются отражением слабых форм того самого недуга, который был наследственным в семье Гончаровых24. Характеризуясь в своих депрессивных формах крайне подавленным настроением, глубокой апатией и затрудненностью волевых импульсов, недуг этот объясняет многое, казавшееся смешным и странным в гончаровской “манере жить”, и проливает яркий свет на его воистину печальную судьбу. Ибо человек, пораженный подобными настроениями, более, чем кто-либо другой, нуждается в достатке, в сердечной заботе, в покое и независимости, в известной свободе от бытовых треволнений. Различные перипетии борьбы за существование, обязательный и неинтересный, выполняемый по необходимости ежедневный труд — служба, мелкие нужды домашности и прочее, что вполне нормальная психика переносит сравнительно легко, без особых страданий и уныния, — все это нередко доводит такого человека до изнеможения, до потери самообладания, в корне отравляя ему жизнь и мешая отдаться своему призванию.
Здесь, конечно, и следует искать объяснение тому значению, которое Гончаров всегда придавал внешним условиям существования. Большая наивность усматривать в знаменитой похвале комфорту, вставленной в VI главу «Фрегата “Паллада”», где он противопоставляется бессмысленной роскоши, — выражение идеологического мещанства. Правда, комфортабельность являлась необходимым условием жизни “джентльмена” — светски-благородного человека, образ которого Гончаров составил себе под прямым влиянием английской литературы. Но никогда, конечно, он не видел в комфортабельности
- 31 -
жизни, как таковой, жизненного идеала. Она нужна была ему прежде всего как субъективно необходимая предпосылка “покоя и воли”25, для беспрепятственного выполнения иных, более высоких целей человеческого бытия. Роскошь, крепко-накрепко привязывая человека к мертвым вещам, приучая его жить чувственными впечатлениями и влечениями, делает из него раба внешнего мира; не то — комфорт: с точки зрения Гончарова, он обеспечивает личности ту сумму “маленьких свобод”, при которых только и становится возможным полное осуществление <ее> высшего назначения.
Что же делать? Для каждого существует свой собственный индивидуальный минимум необходимого, без чего он утрачивает способность быть самим собою, т. е. реализовать заложенные в нем одном творческие способности. Для Гончарова, в силу его болезненности, этот минимум был сравнительно очень высок. Но мотивировался он не барством, не тщеславными претензиями, а прежде всего и больше всего требованиями его творческой натуры. Именно для того, чтобы писать, т. е. выполнять свое призвание, и нуждался Гончаров в покое, комфорте и обеспеченности, быть может, гораздо более других русских писателей.
Здесь мы подходим к самому больному вопросу его существования. То творчество, в итоге которого возникли такие спокойные и ясные, исполненные мягкого юмора и благожелательности ко всем и ко вся произведения, — это творчество было тревожно и бурно. Чувство меры, разлитое в его художественных творениях, было чуждо как всей его внутренней жизни, полной глубоких противоречий, беспорядочной смены настроений, внезапных решений и колебаний, так и непосредственно самому процессу творчества. Гончаров принадлежал к тому типу художников, которые страдают от “напора фантазии”26, т. е. воображение которых в процессе развертывания художественного произведения к прямой теме непременно присоединяет много лишнего мечтательного, которым приходится с трудом отыскивать свою “вещь” в бесконечном круговороте видений и форм, порожденных болезненно взвинченной, безудержной фантазией. “Я писал медленно, — вспоминает уже в старости Гончаров, — потому что у меня никогда не являлось в фантазии одно лицо, одно действие, а вдруг открывался перед глазами, точно с горы, целый край, с городами, селами, лесами и с толпой лиц, словом, большая область какой-то полной, цельной жизни. Тяжело и медленно было спускаться с этой горы, входить в частности, смотреть отдельно все явления и связывать их между собой!”27. Но само собой разумеется, пребывание на этих горных высотах требовало нервного возбуждения, точнее говоря, им-то и вызывалось.
Неуравновешенный, легко возбудимый, крайне впечатлительный, Гончаров в процессе работы очень быстро приходил в состояние такого волнения, которое граничило с какой-то одержимостью и при котором воображение его не знало уже никаких границ. «Во мне теперь кипит будто в бутылке шампанского, — пишет он Стасюлевичу, приступая к окончанию “Обрыва”, — все развивается, яснеет во мне, все легче, дальше, и я почти не выдерживаю, — один, — рыдаю, как ребенок, и измученной рукой спешу отмечать кое-как, в беспорядке. Я все забыл другое, все — даже графа и графиню, даже Вас иногда забываю — во мне просыпается все прежнее, что я считал умершим»28. “Что это за мечты лезут, — да, лезут: фантазия — это своего рода такой паровик, что дай Бог только, чтоб котел не лопнул! <...> я своею рассеянностью (т. е. сосредоточенностью) похожу немного на сумасшедшего — и на меня глядя — улыбаются, а я просто поглощен теперь вполне передо мной развившейся задачей до самого конца: перспектива вся открылась передо мной до самой будущей могилы Райского, с железным крестом, обвитым тернием”29.
Отсюда та медленность “сочинения”, которую он и сам связывает с этими особенностями своей фантазии, ибо трудно спускаться с высоты безудержной
- 32 -
мечты к трезвому ограничению — огранению произведения; отсюда полная неуверенность в своем труде, ибо эта мечта и законченная вещь являлись величинами почти несоизмеримыми, отсюда бесконечные сомнения, разочарования, страхи, до полной неспособности оценить свои достижения, что очень тонко подметил чуткий Стасюлевич30.
Но отсюда же и страшное общее напряжение нервов, граничившее почти с острым расстройством, которым сопровождалось его творчество. В этой неуравновешенной, чрезвычайно возбудимой натуре субъективная сторона вдохновения выдвигалась на передний план. Художнику приходилось не только преодолевать трудности поэтического оформления основного замысла как такового, но и вести упорную и изнурительную борьбу с наплывающими со всех сторон и затемняющими этот замысел иными, только субъективно значимыми видениями и эмоциональными схемами растревоженной фантазии. И чтобы разобраться в этой массе беспорядочно теснящихся образов, чувств и переживаний, чтобы обеспечить устойчивость и постоянство центральной фабулы и действующих лиц, т. е. до конца выдержать единство смыслового и эмоционального плана произведения, требовалась огромная сосредоточенность творческой воли и внимания. А в то же время и человек, болезненно взвинченный и раздраженный, изнемогающий под “напором фантазии”, всецело поглощенный своим тяжелым и мучительным трудом, особенно остро реагировал на всякое вторжение внешней действительности в круг его творческих забот и треволнений. Конечно, эти явления наблюдаются в творчестве любого писателя. Каждый писатель нуждается в свободе и покое для своего труда. Но для Гончарова, с его дурной психической наследственностью, исключительной возбудимостью нервной системы, всеми особенностями его личного характера и творчества,”несносная тирания внешних обстоятельств” была совершенно невыносима, ибо горькая ирония судьбы предназначила его быть “избалованнейшим из смертных”, т. е. более других нуждаться в благоприятной житейской обстановке. А между тем жизнь далеко не баловала его. Обязательное “хождение в службу”, внутреннюю пустоту и ничтожность которой он ощущал, быть может, гораздо острее многих своих современников; мелкие невзгоды и тревоги жизни “скромного столоначальника” — та житейская проза, на которую как-то особенно болезненно реагировала его перешедшая границы нормального чувствительность и робость в практических делах, и, наконец, упорный литературный труд — единственное убежище от жизненных неудач и в то же время источник мучительного беспокойства и сомнений, вечно приподнятых нервов и острых переживаний — вот три основных момента тех “неподвижных форм, в которые была заключена его жизнь”1*.
Я откровенно люблю литературу, — пишет он Тургеневу, — и если бывал чем счастлив в жизни, так это своим призванием, — и говорю это также откровенно”31. Но это “условное” счастье покупалось дорогой ценой непрерывных тревог и терзаний, мучительных подозрений, постоянной настороженности, вечно приподнятых нервов. И среди этих сомнений и страхов боязнь за свое дарование, за его гибель под влиянием неблагоприятных обстоятельств, в бессмысленной и нудной петербургской чиновничьей жизни едва
- 33 -
ли не была главной: по крайней мере, она красной нитью проходит через все интимные признания его писем к друзьям.
Боязнь эта родилась в нем вместе с осознанием своего призвания под влиянием шумного успеха “Обыкновенной истории”32. Ее первые приступы он почувствовал, принявшись вскоре за “Обломова”33. Набросав первую часть романа и отделав окончательно “Сон Обломова”, помещенный как “эпизод из неоконченного романа” в “Литературном сборнике” (изд. “Современника” на 1849 г.; ценз. помета 8.II.1849), Гончаров с беспокойством начал замечать, что дальнейшая работа над любимым произведением как-то не клеится. Взявши в июле того же года трехмесячный отпуск, он уезжает на родину, в Симбирск, надеясь найти там более благоприятную обстановку для занятий. Надежды эти оправдались только отчасти. Правда, под влиянием охвативших Гончарова в родном углу старых воспоминаний, причудливо мешавшихся с новыми наблюдениями, в его уме сложился замысел нового романа34, но зато с “Обломовым” дело нисколько не подвинулось вперед.
Извиняясь за неисполнение обязательства представить в редакцию “Отеч<ественных> зап<исок>” хотя бы первую часть романа, он пишет Краевскому: “Чувствую, как я виноват перед вами, тем более что причины, которые могу привести в свое оправдание, всякому другому, кроме меня, покажутся, пожалуй, неуважительными. Кому нужда знать, что я не могу воспользоваться всяким свободным днем и часом, что у меня вещь вырабатывается в голове медленно и тяжело, что, наконец, особенно с летами, реже и реже приходит охота писать и что без этой охоты никогда ничего не напишешь? Едучи сюда, я думал, что тишина и свободное время дадут мне возможность продолжать начатый и известный Вам труд. Оно бы, вероятно, так и было, если б можно было продолжать. Но прочитавши внимательно написанное, я увидал, что все это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить, что, словом, работа эта никуда почти не годится <...> Вот в каком печальном положении нахожусь я теперь. Я бы давно написал Вам об этом, но все надеялся, что успею что-нибудь сделать. Я запирался в своей комнате, садился каждое утро за работу, но все выходило длинно, тяжело, необработанно, все в виде материала. А дни все шли да шли и, наконец, пришли к тому, что послезавтра я еду в Петербург и не везу с собой ничего, кроме сомнительной надежды на будущие труды, сомнительной потому, что в Петербурге опять не буду свободен по утрам и что, наконец, боюсь, не потерял ли я в самом деле от старости всякую способность писать”35.
Сомнения Гончарова оказались, по-видимому, не совсем безосновательны. По крайней мере, ближайшие годы петербургского сидения не дали никаких осязательных результатов: оба романа продолжали оставаться в виде программ и набросков. Обычная городская сутолока по-прежнему не давала ему сосредоточиться и собраться с силами для труда, несравненно более сложного, чем его первый опыт. А между тем “дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями” (с. 9). “Умственная деятельность вся опять сосредоточится в департаменте, физическая — в хождении по Невскому проспекту, а нравственная — в строгой честности, и то отрицательной, то есть не будешь брать взяток, надувать извозчиков, хозяина квартиры”36. А в то же время энтузиазм, вызванный “Обыкновенной историей” и “Сном Обломова”, постепенно остывал; публика начинала забывать своего любимца; появилась враждебная критика; что булгаринская “Пчела” подсвистнула “Обыкновенной истории”, было еще пустяками; гораздо неприятнее была довольно резкая статья в “Москвитянине”37. Для Гончарова наступили трудные времена. Опостылевший департамент, заботы и дрязги повседневного обихода, незаметно и бледно протекшая молодость и на этом тусклом и душном фоне какие-то непонятные перебои творчества, какая-то странная безуспешность мучительных попыток закончить задуманные произведения.
- 34 -
ведения. Казалось, талант, вспыхнувший на мгновение ярким светом, уже готов был медленно погаснуть на сырой и ржавой “петербургской болотной почве”. А сюда присоединились еще первые проявления подходившей болезни. “Я очень разнообразно провожу время, — иронизирует он в письме к Е. А. Языковой, — то убиваюсь хандрой и желчью, то на пять минут развеселюсь так, что святых вон понеси... А основанием глубокой тоски и внезапному веселью служат мои больные нервы, так что и надежды нет, чтобы я когда-нибудь окончательно придержался чего-нибудь одного, т. е. чтобы захандрил или развеселился раз навсегда. И ведь это с детства так: я помню, мне было лет десять, а я уж тосковал часто или веселился без причины...”38
Было от чего придти в отчаяние и захандрить. “Местная хандра <...> погнала когда-то меня далеко, чуть не на луну”, — вспоминал он много позднее в письме к М. М. Стасюлевичу39. И действительно, именно в острой “местной хандре”, в “глубокой тоске”, а не в рассказах Н. Н. Трегубова или детских мечтаниях над волжскими просторами надо искать объяснения, почему сорокалетний Гончаров с такой внезапной решимостью согласился переменить место столоначальника на должность адмиральского секретаря и из покоя обыденности ринуться в беспорядок жизни моряка. Он испугался “заживо умереть дома от праздности, скуки, тяжести запустения в голове”. И бежал на “Палладе” от департаментов, чиновников, приятелей-чернокнижников; от “умственной жизни в канцелярии” и “физической на Невском”; от “отрицательной честности” и от зевоты за книгой, в спектаклях, в собраниях и на вечерах; бежал от утр, занятых службой, от жизни, ставшей “праздным отражением мелких надоевших явлений”, от напрасных усилий сосредоточиться и свободно отдаться творчеству среди бессмысленной суеты городских будней, в промозглом тумане, под низким свинцовым небом. Бежал от “гибели медленной и скучной” в удушливой русской действительности, бежал в “прекрасное далеко”, унося с собою все свои замыслы и литературные планы. Он “обновился” при одной мысли идти кругом света — “все мечты и надежды юности, сама юность воскресли в нем...”
Есть великая освобождающая сила в путешествии, и именно в ней скрывается одно из главных очарований туризма. Путешествие радует человека не только новыми впечатлениями и встречами, но и тем прежде всего, что отрывает его от мелких надоевших явлений жизни на родине, нарушает опостылевший ритм его обычного существования и, ставя его лицом к лицу с новой жизнью и новым бытом, показывает их с праздничной стороны. Путешественнику бывает очень трудно постичь реальный, практический смысл развертывающейся перед ним панорамы чужой и чуждой жизни. Ее “проза”, ее повседневные заботы и нужды, ее волнения и дрязги, — словом, ее субъективно-прагматический строй всегда остается для него полускрытым. Она предстоит ему вне круга тех будничных целей, в которых она раскрывается местному жителю, и неизбежная для путешественника личная незаинтересованность в ее практически-бытовом содержании придает его переживанию окружающего почти эстетический тон. Вырвавшись из оков житейского обихода у себя на родине, путешественник почти не вступает в новый обиход и не подчиняется его ритму и круговороту. В этом смысле он свободнее всех, и его отношение к предстоящему всегда празднично: для него, более чем для кого другого, жизнь с ее прозой становится поэзией.
Нет никакого сомнения, что именно этой стороной путешествия особенно дорожил Гончаров. Свобода, беззаботность и праздничность — вот что тянуло его за границу позднее, что мерещилось ему, уже старику, в мечтах о новом кругосветном плавании40. Для его легко возбуждающейся, болезненно чувствительной ко всем житейским передрягам артистической натуры путешествие было и освобождением, и отдыхом, и — главное — единственной формой существования, когда он мог беспрепятственно отдаться поэтическим трудам.
- 35 -
И судьба оказала ему великую милость, послав в широкий свет с одной из самых замечательных русских морских экспедиций 19-го века — с японской экспедицией адмирала Путятина.
Далее в автографе следуют две главы (II и III), в которых излагается история плавания “Паллады”, основанная на тщательном изучении документальных источников. Ввиду того, что они почти без изменений вошли во вступительную статью Б. М. Энгельгардта к письмам Гончарова из плавания (ЛН. Т. 22/24. С. 309—344), а затем в книгу Фрегат “Паллада” (с. 722—760), а также в книгу: Энгельгардт Б. М. Избранные труды. СПб., 1995 ( с. 227—250), из нашей публикации они исключены. Напомним, что изложенная в этих главах история плавания неопровержимо свидетельствует об исключительных трудностях и опасностях, с которыми постоянно сталкивались участники экспедиции, однако в книге Гончарова эти стороны совершенного им кругосветного плавания почти не отразились. Это обстоятельство послужило отправным пунктом исследования Б. М. Энгельгардта. (Т. О.).
IV
Таким образом, подлинная история путятинской экспедиции, как ее можно восстановить по официальным документам и показаниям участников, и ее литературное “изображение” в гончаровских “очерках” резко расходятся между собой. “Правдивый до добродушия” рассказ оказывается на деле чрезвычайно лукавым, трактуя “героический” — по терминологии кронштадских моряков — поход “Паллады” как легкую прогулку по тропическим морям, не лишенную, конечно, своих терниев, но в общем вполне комфортабельную и приятную.
Совершенно ясно, что этот сдвиг, этот отрыв от действительности, нельзя объяснить ни ограниченностью идеологии Гончарова, ни его мещанскими вкусами и настроениями. Ведь мещанская идеология именно и потребовала бы патетизма, официальной выспренности и красноречия. Здесь же чувствуется — как мы увидим ниже — определенный вызов литературной традиции и общественному мнению, стремление к разрушению привычных представлений и форм. — Совершенно ясно, что здесь мы имеем дело с какой-то особой художественной установкой, с известным литературным приемом, обоснованным, с одной стороны, индивидуальны<ми> особенностя<ми> творчества Гончарова, а, с другой, каки<ми>-то требования<ми> литературного момента. Путевые записки, как особый литературный жанр, в своем развитии подчинен тем же стилистическим нормам, как и другие жанры, так что, например, романтика шатобриановских описаний звучала бы чрезвычайно странно в русской литературе конца 50-х годов.
В силу этого перед историком литературы по отношению к «Фрегату “Паллада”» стоят две задачи: первая — раскрыть внутреннюю связь тематики и стиля этого произведения с общими формами гончаровского творчества, и вторая — показать, какие чисто литературные задания в нем поставлены и какое место занимают они в литературе своего времени.
Несмотря на внешнюю твердость и быстроту, с какой Гончаров принял решение “бежать” из Петербурга в кругосветное плавание, внутренне он все время пребывал в мучительной растерянности и колебаниях. Более того: еще не взойдя на корабль, он уже подумывал о возвращении с пути и в своих прощальных письмах как бы подготовлял приятелей к такому несколько неожиданному финалу затеянного предприятия41. Его пугали предстоящие опасности и лишения; тревожило состояние собственного здоровья и долгий срок плавания (два-три года); смущали и новые обязанности и новая жизнь среди людей в военной форме, которую он “не любил”. “Умею ли я, выдержу ли, справлюсь ли”, — вот вопросы, которые он неустанно задавал как самому себе, так и своим друзьям. И вдобавок ко всем этим тревогам и сомнениям
- 36 -
его постоянно преследовала мысль о той ответственности, которую возлагало на него, как на литератора, участие в столь замечательной экспедиции.
Последнее обстоятельство следует особенно подчеркнуть. Сознание литературной ответственности ни на минуту не оставляло его ни в счастливые дни перед отплытием, ни позднее, в течение всего путешествия. Его частные письма друзьям полны различных замечаний по поводу работы над очерками, то бодрых и самонадеянных, то унылых и разочарованных. В этом отношении он остается верен самому себе и среди тревог и волнений тяжелого плавания так же сосредоточен на своих художественных замыслах, как в покойной петербургской квартире. “Видно, и впрямь людям при рождении назначены роли, — замечает он сам по этому поводу, — мне вот хлеба не надо, лишь бы писать, что бы ни было, все равно, повести ли, письма, но когда сижу в своей комнате за пером, так только тогда мне и хорошо”42. Кажется, что и само путешествие переживалось им по-разному, в зависимости от писательства; ладился его литературный труд, тогда и все представлялось в розовом свете; наступала какая-нибудь заминка, одолевали сомнения, и все окружающее окрашивалось в мрачный колорит.
Первоначально Гончаров с радостью ухватился за мысль написать книгу путевых заметок. Это соображение сыграло значительную роль в его решении принять участие в экспедиции. Отчаиваясь в успешном завершении “Обломова” и “Обрыва”, он надеялся создать здесь такое произведение, которое во всяком случае было бы занимательно, если бы он даже просто, без всяких претензий литературных, записывал бы только то, что увидит43.
Но постепенно и тут его стали одолевать привычные сомнения в своих силах, и соблазнительная сначала мысль о “путевых записках” превратилась в “грозное привидение”. Он снова начинает колебаться и трусить: “Экспедиция в Японию, — меланхолически размышляет он, — не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию, без ведома публики, тому, кто хоть раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какою физиономией явиться в общество?” (с. 12).
В самом деле, как и что рассказывать? Когда Гончаров, еще не покидая Петербурга, стал вдумываться в предстоящую ему задачу, она поразила его своею сложностью и громадностью. Путешествие обещало массу самых разнообразных впечатлений, переживаний, приключений. Как оформить литературно все это? Ведь он не просто путешественник, ведущий беспристрастную поденную запись пережитого; он литератор, художник — “артист”, с которого спросят не простой отчет об испытанном, но художественное произведение. Он обязан дать не беспорядочный дневник, но стройную картину с одним и тем же строго выдержанным стилем повествования, с гармоничным распределением частей и искусной выборкой материала. Задача сложная, не менее сложная, чем создание какой-нибудь повести или даже романа. Вот почему, еще ничего не повидав и не испытав, он уже спрашивает себя, что и как описывать. Ему надо заранее определить свое отношение к материалу — свой художественный подход к нему: для поэтического оформления этого материала ему нужна какая-то литературная установка, какой-то, если угодно, “формальный” замысел.
А между тем именно “жанр” путешествия не обладает твердыми, традиционными формулами. «Нет науки о путешествиях, — замечает Гончаров, — авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики <...> никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику. Говорить ли о теории ветров, о направлении и курсах корабля, о широтах и долготах, или докладывать, что такая-то страна была когда-то под водою, а вот это дно было наруже; этот остров произошел от огня, а тот — от сырости;
- 37 -
начало этой страны относится к такому времени, народ произошел оттуда, и при этом старательно выписать из ученых авторитетов, откуда, что и как. Но вы спрашиваете чего-нибудь позанимательнее <...> “Отошлите это в ученое общество, в академию, — говорите вы, — а беседуя с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес, поэзии, огня, жизни и красок!” Чудес, поэзии! Я сказал, что их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер» (с. 12—13).
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ «ФРЕГАТ “ПАЛЛАДА”» (Спб., 1858)
Обложка и форзац с дарственной надписью:
“Его Превосходительству Петру Александровичу Плетневу
в знак душевного уважения и преданности от автора”Институт русской литературы, С.-Петербург
“Чудес, поэзии, красок” — Гончаров отлично понимал, что именно этого ожидала от него публика в литературном отчете о странствии в “волшебной дали, загадочной и фантастически прекрасной” (с. 9). Эта “даль” и сейчас еще остается таинственной и чудесной, и патетические восторги писателя-художника кажутся здесь не только вполне естественными, но и существенно необходимыми для полноты картины; в конце же 40-х годов, когда в сознании широких кругов читателей, с одной стороны, были еще свежи традиции “морской” прозы Марлинского, а с другой — само кругосветное путешествие рисовалось каким-то фантастическим предприятием, поэтическое описание его не могло быть ни чем иным, как патетическим и красочным повествованием о героическом, исполненном невзгод и приключений “походе аргонавтов” к таинственно прекрасным берегам.
- 38 -
И что Гончаров был прав в таком понимании характера “социального заказа”, предъявленного к нему, как к художнику, со стороны читателя, об этом свидетельствует не только некоторое чувство разочарования и недоумения, сопровождавшее выход в свет его “Очерков”, но и те сарказмы и упреки, которые до сих пор еще продолжают сыпаться на его книгу в работах различных критиков и даже историков литературы. Обвинения в узости, убожестве, мещанстве, пошлости и пр. и пр. стали традиционными по адресу «Фрегата “Паллада”». И каждый новый автор стремится превзойти в этом отношении своего предшественника.
Но еще более любопытно, что и сам Гончаров в глубине души также сочувствовал именно такой установке повествования; он сам жил романтической мечтой, сам грезил о чудесах загадочной дали, сам говорил о них “хорошим слогом”. “Нет, не в Париж хочу, — восклицал он, — не в Лондон, даже не в Италию <...> — хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень все, чего коснется своим огнем; где человек, как праотец наш, рвет несеянный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето, — туда, в светлые чертоги Божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться” (с. 9).
В этих восклицаниях дана исходная формула для построения книги путевых записок, продолжающая как стилистически, так и тематически традицию русского романтизма 30-х и 40-х годов. Гончаров отказался от нее в своих “Очерках путешествия”, но в то же время он не может отделаться от мысли, что нечто подобное должно было бы войти в состав его произведения. Позднее, уже имея в руках ряд глав, написанных совсем по иному основному плану, с иными тематическими и стилистическими заданиями, он все время испытывает беспокойство по поводу отсутствия в них патетического и романтического элементов. “Пробовал я заниматься, — пишет он Евг. П. и Н. А. Майковым, подводя итоги плаванию, — и, к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова — все это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас; но эти труды спасли меня (от тоски. — Б. Э.) только на время. Вдруг показались они мне не стоящими печати, потому что нет в них фактов, а одни только впечатления и наблюдения, и то вялые и неверные, картины бледные и однообразные <...>”44. “Тетрадь действительно толстая, — замечает он в другом письме к ним, — но из нее наберется так немного путного, и то вяло, без огня, без фантазии, без поэзии. Не подумайте, чтоб скромничал. Это не моя добродетель”45.
Таких сетований немало в его письмах. Гончаров ясно сознавал, что в той “картине чудес”, которая перед ним развернулась, в той бездне величественных и ярких впечатлений, которые на него хлынули со всех сторон, многое заслуживало бы иной трактовки — в патетическом взволнованном тоне. И тем не менее он категорически отказался от всяких притязаний на патетический стиль и романтическую тематику в своем рассказе о плавании и, несмотря на боязнь не оправдать ожидания читателя, несмотря на свою собственную неудовлетворенность, предпочел совершенно иной тематико-стилистический план повествования.
Причин этого непонятного на первый взгляд явления следует искать прежде всего в отчетливом понимании им недостаточности своих сил в области “повышенной” прозы, и затем в особенном характере того литературного момента, когда создавался «Фрегат “Паллада”».
Уже с первых шагов путешествия он начинает изнемогать от массы новых ярких и сильных впечатлений и — именно как художник — испытывает острое чувство растерянности, не зная, справится ли он со всеми ими. “Не
- 39 -
знаю, — пишет он Евг. П и Н. А. Майковым из Портсмута, — смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так чтоб это хотя слабо отразилось и в Вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не люблю, я стараюсь прибирать ключ к ним, а если не нахожу, то освещать их светом своего воображения”46. “Материалов, то есть впечатлений, бездна, не знаю, как и справиться, — замечает он позднее, — времени недостанет; а если откладывать — пожалуй, выдохнется. Жалею, что писал Вам огромные письма из Англии: лучше бы с того времени начать вести записки — и потом все это прочесть Вам вместе, а теперь вышло ни то ни се. И охота простывает, и времени немного, да потом большую часть событий я обязан вносить в общий журнал — так и не знаю, выйдет ли что-нибудь. Впрочем, постараюсь: одна глава написана — это собственно о море и о качке (1-я часть II-й главы — Атлантический океан и остров Мадера. — Б. Э.). Читал — смеялись. До Мадеры, до Зеленого Мыса, до тропиков еще не дотрогивался. Мне как-то совестно и начинать говорить об этом. Я все воображаю на своем месте более тонкое и умное перо, например, Боткина, Анненкова и других, — и страшно делается. Зачем-де я поехал? Другой на моем месте сделал бы это гораздо лучше, а я люблю только рисовать и шутить. С этим хорошо где-нибудь в Европе, а вокруг света!” (курсив мой. — Б. Э.)47. “А тоска-то, тоска-то какая, Господи, Твоя воля, какая! Бог с ней, и с Африкой! А еще надо в Азию ехать (писано с м<ыса> Добр<ой> Надежды. — Б. Э.), потом заехать в Америку. Я все думаю: зачем это мне? Я и без Америки никуда не гожусь: из всего, что вижу, решительно не хочется делать никакого употребления; душа, наконец, и впечатлений не принимает. Как бы все это пригодилось другому!” (курсив мой. — Б. Э.)48.
Если оставить в стороне отзвуки ипохондрических настроений, прорывающихся в последних фразах, да преувеличенную высокую оценку “пера” Боткина и Анненкова, — смысл всех этих признаний совершенно ясен. Гончаров сам отлично учитывал сильные и слабые стороны своего литературного дарования. Он знал, что спокойное, слегка ироническое, шутливо-добродушное описание наиболее далось ему. Но точно так же он давал себе ясный отчет, что много и много впечатлений кругосветного плавания не может уложиться в рамки такого описания, что для них нужна и беспокойная героическая тематика и повышенный эмоционально-напряженный стиль. Поэтому-то он говорит, что с его преобладающей способностью “рисовать и шутить”, пожалуй, далеко не уедешь, что с этим хорошо где-нибудь в Европе, а не кругом света.
И снова Гончаров был совершенно прав. В силу особого характера его творческого сознания “патетическое” давалось ему чрезвычайно трудно. То страшное общее возбуждение, которым сопровождалось у него творчество, с особой силой проявлялось именно при создании патетических сцен, — там, где самый стиль должен был быть подчеркнуто — эмоционален, где сама словесная конструкция, как таковая, должна была быть эмоционально напряжена. Глубокое волнение, овладевавшее личностью художника в моменты вдохновения, достигало здесь высшей степени. Поэт переставал владеть собой; он как бы сливался с человеком в его субъективно-эмпирическом определении и утрачивал господство над материалом. Человек поглощал мастера, и — соответственно этому — места и действительность заступали место материала (трагедия Райского). И если, временно оставляя работу, чтобы “успокоиться” и “остудить воображение”, а затем снова и снова возвращаясь к ней, художнику удавалось, наконец, одолеть человека и овладеть материалом, то все же печать огромного напряжения и тяжких усилий оставалась на произведении, сообщая ему некоторый оттенок искусственности и связанности.
Для Гончарова это явление чрезвычайно характерно. Об этом свидетельствуют не только признания его интимных писем, не только его рукописи,
- 40 -
но и своеобразная трактовка проблемы творчества в третьей части его трилогии. Конечно, в тех затруднениях, которые он встречал на пути создания патетической прозы, повинны и объективные исторические особенности литературного момента, но нет никакого сомнения, что индивидуальные черты его дарования сыграли здесь не малую роль.
Как бы то ни было, но кругосветное путешествие поставило Гончарова перед такой отчетливо осознанной им антитезой: с одной стороны, дарование, выражающееся прежде всего в умении “рисовать и шутить”, с другой — героический поход, исполненный лишений и опасностей, изнурительных трудов и самоотверженной преданности долгу; суровая и тревожная жизнь на военном корабле, пробирающемся, под вечной угрозой развалиться от дряхлости, по трем океанам, сквозь штормы и туманы, иногда сквозь строй врагов, к таинственным берегам “тридесятого государства”; грандиозные картины тропической природы, стоянки в экзотических портах с экзотическим цветным населением, бесконечная смена климатов, стран, ландшафтов, народов и проч., и проч.
Казалось бы, что перед нами две величины почти несоизмеримые. И действительно: с теми литературными данными, которыми располагал Гончаров, он не мог отважиться на попытку оформить все это в естественно напрашивающемся лирико-патетическом плане, не мог создать той романтической эпопеи, которой от него требовали как современный ему читатель, так и позднейшие критики.
Ему приходилось, с риском заслужить неодобрение тех и других, искать какого-то иного плана, иной тематической и стилистической установки, которая более соответствовала бы его силам и более гармонировала с особенностями его таланта. Ему надо было так подойти к огромному наличному материалу, чтобы не изменяя жанру реального путешествия, по возможности уложить его в “шутливый рисунок”. И можно только удивляться той быстроте, с какой он ориентировался в стоящей перед ним чрезвычайно трудной и сложной задаче, и той оригинальности, остроумию и проницательности, с какими он разрешил ее.
Вы требуете “чудес, поэзии, огня, жизни и красок”, — обращается он к читателю. — Вы запаздываете со своим требованием — отстаете от века.
“Их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Все подходит под какой-то прозаический уровень. Колонисты не мучат невольников, покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками; в пустынях учреждаются станции, отели; через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан — на Мадере и островах Зеленого Мыса; голландцев, негров, готтентотов и опять англичан — на мысе Доброй Надежды; малайцев, индусов и... англичан — в Малайском архипелаге и Китае. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве <...> Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах <...> А море? И оно обыкновенно во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное <...> Все так обыкновенно, все это так должно быть” (курсив мой. — Б. Э.; с. 12—13).
Ну, а само путешествие? — спросите вы. “Не величавый образ Колумба и Васко да Гама гадательно смотрит с палубы вдаль, в неизвестное будущее: английский лоцман, в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом, да русский штурман, с знаком отличия беспорочной службы, указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит в “безбрежную даль” океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии? “Гостиницы отличные, — отвечают ему, — на Сандвичевых островах найдете все <...>
- 41 -
В Австралии есть кареты и коляски, китайцы начали носить ирландское полотно; в Ост-Индии говорят все по-английски; американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон, просятся в университет <...> Лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва <...> Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства <...> Части света быстро сближаются между собою: из Европы в Америку — рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов — пуф, шутка, конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания” (с. 11).
А вот тот центральный образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. “И какой это образ! Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями <...> Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!” (с. 14).
Здесь дана совершенно оригинальная исходная “установка” кругосветного путешествия. Оно берется не в плане героического похода или тяжелой экспедиции, а в плане “успехов мореплавания”. “Путевые записки” должны поведать читателю не об опасностях и приключениях долгого плавания, не о “чудесах и тайнах” волшебной дали, но прежде всего о распространении европейской цивилизации по всему миру, о разительных завоеваниях труда и техники, о постепенном превращении путешествий вокруг света в комфортабельно обставленную спокойную прогулку; они должны рассеять смутные представления широкой публики о какой-то недоступности, загадочности и таинственности тропических стран; показать, что уже не осталось ничего недоступного, ничего чудесного и таинственного, что, напротив, все становится обыденным, знакомым и привычно доступным, что все подходит под один и тот же общеевропейский “прозаический уровень”. В центре повествования оказывается уже не само путешествие с его невзгодами, лишениями и страхами, с “бездной” острых, необычайных впечатлений и переживаний, с его “поэзией” и “красками”, а упорный труд человека, его отвага и предприимчивость, покорившие ему весь мир, сделавшие этот мир его привычным достоянием. И с этой точки зрения совершается своеобразная переоценка всего наличного материала наблюдений и впечатлений. Опасные приключения, штормы, рифы, туманы, нехватка провизии, появление на судне болезней, военные опасности отходят назад, искусно затушевываются; вперед выдвигаются все достижения, настоящие и будущие, европейской цивилизации, техники и комфорта, на которые натыкаешься во всех углах мира; в этом плане, действительно, тихоокеанский тайфун имеет меньше значения, нежели вопрос об отелях на Капе, о колясках в Австралии, о прачках на Сандвичевых островах и т. п., и т. п. Именно из всей массы этих тонко подобранных и хитросплетенных мелочей и возникает тот основной бытовой фон картины, который придает ей в целом колорит безусловной и добродушной правдивости.
Но соответственно этому должно измениться и описание картин природы посещенных стран, самого океана, по которому проложен маршрут путешественников. Это уже не безбрежная таинственная даль, полная чудес и опасностей, а большая проезжая дорога; по ней спешат быстрые почтовые и пассажирские пароходы, тянутся обозы торговых кораблей, едут купцы, чиновники, военные — по своей и казенной надобности. Эта дорога хорошо изучена; тут штилевая полоса, там в такое-то время года такой-то ветер, еще дальше наткнешься на плавучие водоросли, а там увидишь сидящих на воде
- 42 -
птиц. Сама великолепная тропическая природа также должна быть схвачена художником по-особому. Прекрасно, что и говорить, но... “все это так и должно быть”, — удивление, наивные восторги, артистическая растерянность среди массы резких и новых впечатлений — здесь не уместны. Все это не ново, не загадочно; все это уже вошло в быт европейской и — следовательно — мировой культуры; этим можно любоваться и восхищаться, как восхищаешься видами Италии или Альп, но именно характерное для кругосветного путешественника того времени ощущение новизны, странности, чудесности всего окружающего должно быть осторожно устранено из его литературных записок. Как само путешествие, так и все впечатления от него должны трактоваться не в плане чего-то необыкновенного, исключительного, неожиданного, а как раз напротив, в плане чего-то привычного, всегдашнего, будничного — в безразличном “прозаическом уровне”.
Так решает Гончаров возникшую перед ним, как перед “певцом хотя бы ex officio1* похода”, литературную задачу. Мое умение “рисовать и шутить”, — думает он, — “хорошо где-нибудь в Европе”, — так превратим весь мир в такую “Европу”, — изобразим кругосветное путешествие словно какую-нибудь поездку из Москвы на Кавказ, из Парижа в Рим; в этом плане при тщательном отборе материала мне, быть может, и удастся уложить все в “шутливый рисунок”.
Однако такой переоценки и перемещения объективно данных впечатлений и фактов было еще недостаточно для построения книги путевых записок. В литературном описании путешествия огромную роль в качестве организующего фактора играет образ самого путешественника, около которого размещается вся система объективной тематики. И в соответствии с этим Гончарову пришлось искать и новую центральную фигуру для своего произведения.
Само собой разумеется, что, переводя свой “дневник” в чисто литературный, оторванный от действительности план, он не мог оставить себя самого в своем, так сказать, натуральном виде, в качестве главного действующего лица повествования.
Образ путешественника необходимо было подвергнуть той же условной стилизации, как и все остальное. По отношению к целому записок как чисто литературному произведению он должен был сыграть роль центрального персонажа; по отношению же к самому Гончарову, который ведь не сочинял и не фантазировал, сидя у себя в кабинете, но описывал в конце концов события, им пережитые, и впечатления, им испытанные, образ этот явился художнической маской.
Проблема маски составляет кардинальную проблему творчества Гончарова вообще, и ниже я подробно останавливаюсь на ней в связи с определением места «Фрегата “Паллада”» в системе его произведений. Здесь же необходимо только выяснить то направление, в котором она складывалась, — те тенденции, которые руководили автором при построении образа рассказчика.
Совершенно ясно, что если “успехи цивилизации” должны были составить главную тему путевых очерков, то и сам путешественник должен был уделять им очень много внимания. Не в теоретическом плане — тогда бы очерки сделались научным исследованием исторического характера; а именно в практически-бытовом — в своем личном экспедиционном обиходе он должен быть чувствителен к комфорту, непосредственно заинтересован в удобстве отеля и коляски, лично озабочен вопросами о прачке, о прислуге и проч., и проч. Необходимо, чтобы все путешествие как бы преломлялось для него сквозь призму повседневного быта, чтобы этот последний всегда служил для него основным фоном картины. Только тогда выступит на передний план тот общеевропейский “прозаический уровень”, в тематико-стилистических рамках которого строится весь рассказ, и в то же время окажется возможным
- 43 -
избежать введения в повествование дисгармонирующих патетических картин: отвести, например, описание шторма словами: “безобразие, беспорядок”.
А вместе с тем по вполне понятным причинам этому “герою” путешествия нельзя было придавать черт сухого практицизма и деловитости, представлять его равнодушным к “поэзии и красоте” дальних странствий. Мелкие заботы и тягости бытового характера должны были сыграть столь значительную роль в его страннической жизни не в силу прозаизма и практицизма его натуры, а по причинам как раз обратного порядка: в силу его непрактичности, его житейской беспомощности и избалованности.
Именно вокруг такой фигуры поэтически настроенного и исполненного добродушного юмора, но крайне избалованного, крайне чувствительного к мелким удобствам повседневного быта, в то же время беспомощного и вечно озабоченного разными житейскими мелочами человека и было легче всего ориентировать “прозаически” стилизованный рассказ о путешествии вокруг всесветной “Европы”. Отлично подходя друг к другу, оба эти образа, обе основные тематические линии, тесно сплетаясь друг с другом в сложной системе повествования, сообщали ему глубокое внутреннее единство и тон убедительнейшей правдивости.
Так, со страниц “путевых очерков” Гончарова встает излюбленный образ его романов, “...я не отчаиваюсь, — замечает он в письме к Е. А. и М. А. Языковым, — написать когда-нибудь главу под названием Путешествие Обломова: там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, о Филиппе и т. п.”49. Несколько позднее, отправляя Евг. П и Н. А. Майковым большое письмо, почти целиком вошедшее в печатный текст очерков, он так заканчивает его: “Вот письмо к концу, скажете вы, а ничего о Лондоне, о том, что вы видели, заметили. Ничего и не будет теперь. Да разве это письмо? Опять не поняли? Это вступление (даже не предисловие, то еще впереди) к
Путешествию вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании. И. Обломова” (курсив мой. — Б. Э.)50.
V
Так была найдена Гончаровым литературная форма для его путевых записок. А тем самым определяется и все направление дальнейшего исследования. «Фрегат “Паллада”» входит каким-то звеном в цепь гончаровских романов, и его литературное значение и внутренний смысл можно раскрыть только путем сравнительного анализа его тематики и стиля с тематикой и стилем трилогии. Вместо того, чтобы толковать это произведение на почве соотнесения к личности автора, т. е. в плане биографической характеристики, историк литературы должен прежде всего выяснить, как преломились здесь, на новом материале путешествия, те же тематико-стилистические задания, которые являются преобладающими в гончаровском творчестве вообще. Только на этом пути и можно надеяться определить место «Фрегата “Паллада”» как среди других произведений Гончарова, так и в современной ему русской литературе. Но для этого необходимо хотя бы в самых кратких чертах наметить тот круг основных тематических и стилистических проблем, которые по преимуществу привлекали внимание Гончарова в течение всей его литературной деятельности.
Обычным препятствием к правильной оценке этой деятельности служит датировка главнейших произведений Гончарова. В самом деле: ежели принять традиционную датировку по времени выхода романов в свет, то получится следующая картина. Начало литературной деятельности Гончарова окажется под датой 1846—1847 гг.; последний же свой роман он выпустил в 1869 г., т. е. после
- 44 -
лучших вещей Тургенева и Писемского, после “Войны и мира” Толстого и “Преступления и наказания” Достоевского. Этими хронологическими рамками Гончаров естественно включается в блестящую плеяду прозаиков 50-х и 60-х годов и должен рассматриваться вместе с ними и под одним и тем же углом зрения. Так это обычно и делается. Сопоставляя Гончарова с Тургеневым и Толстым или с Достоевским, говорят только о различии в степени одаренности, в особенностях таланта и характера, но не пытаются различить их в плане временной последовательности литературного развития, как представителей исторически разных моментов литературной жизни.
А между тем такая постановка вопроса чрезвычайно условна — чтоб не сказать больше. И прежде всего начальную дату необходимо отодвинуть значительно назад. А. Мазон по вполне основательным соображениям относит окончание “Обыкновенной истории” к 1844 г.51 Если же принять во внимание обычную медлительность Гончарова, с одной стороны, и то обстоятельство, что повесть “Счастливая ошибка”, которую с большим вероятием можно рассматривать как один из предварительных эскизов к “Обыкновенной истории”, датируется 1839 г.52, — то начало работы над “Обыкновенной историей” вполне возможно перенести на конец 30-х годов. К этому же (и даже более раннему) времени относится несколько имеющихся в нашем распоряжении неизданных отрывков полубеллетристического содержания53, а 1842 годом сам Гончаров пометил окончание повести “Иван Савич Поджабрин”54. Таким образом, именно конец 30-х и начало 40-х годов следует признать “ученическими годами”55 Гончарова, когда формировалось его дарование и складывалась его своеобразная литературная манера. В противоположность большинству своих товарищей по перу он выступает на литературную арену сравнительно поздно, уже сложившимся писателем, и его первому дебюту предшествует без малого 10 лет упорной и скромной работы “для себя”.
В дальнейшем мы наталкиваемся на еще более любопытные явления. Окрыленный успехом “Обыкновенной истории”, Гончаров немедля принимается за новый роман. В 1849 г. в литературном сборнике “Современника” он печатает центральный композиционно эпизод из этого романа — (“Сон Обломова”56), провозглашенный критикой “chef-d’oeuvre’ом1*, и в том же году перед отъездом в Симбирск сговаривается с Краевским насчет печатания “Обломова” в “Отечественных записках”, рассчитывая в течение отпуска окончательно его отделать. Очевидно, что к этому времени Гончаров располагал уже какой-то более или менее разработанной редакцией романа, позволявшей ему надеяться на скорое завершение всего труда57.
Как известно, надежды эти не осуществились, и роман около 10 лет пролежал в его портфеле, частью уже в отделанном виде, а частью в форме программ и набросков58. И замечательно, что, по собственному признанию Гончарова, одной из помех к окончанию “Обломова” во время пребывания в Симбирске послужило то обстоятельство, что под впечатлением старых воспоминаний и свежих впечатлений провинциальной жизни у него в голове начал складываться план нового романа, помешавший ему сосредоточиться над старым59. Судьба этого романа оказалась еще более плачевной, нежели “Обломова”: появиться в свет ему было суждено только через двадцать лет. Тем не менее уже в 1855 г., в скором времени по возвращении из кругосветного путешествия, Гончаров “пересказывал” Тургеневу “в несколько приемов все подробности, передавал сцены, характеры”60, что свидетельствует о наличии у него значительно развернутого наброска вещи.
Таким образом, можно с достоверностью утверждать, что к 1855 г. Гончаров обладал подробнейшими программами обоих романов, а для отдельных частей их имел в своих руках и разработанный текст. Конечно, это была первая редакция, подвергавшаяся позднее значительным переделкам, но это нисколько
- 45 -
“ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ”. ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. (Спб., 1883)
Титульный лист и вклеенный лист с дарственной надписью:
“31-го Декабря 1883-го года — Обломов, Обрыв и Обыкновенная история —
являются при этом с глубоким поклоном — душевной признательности
к дорогому Якову Петровичу Полонскому за посещение его —
31 Декабря 1882-го года их автора”31 декабря 1883 г. Гончаров послал каждому из тех, кто принял участие в его чествовании
по случаю 50-летия литературной деятельности, последние издания трех своих романов —
“Обыкновенная история”, “Обломов” и “Обрыв”Институт русской литературы, С.-Петербург
не меняет существа дела: к середине 50-х годов все главнейшие произведения Гончарова были в общих чертах набросаны, и с тех пор мы уже не встречаем у него каких-либо крупных замыслов. Так, рядом с традиционными хронологическими рамками: вторая половина 40-х — конец 70-х годов, отчетливо намечаются новые даты: конец 30-х — начало 50-х61, даты, в которые укладывается период наиболее напряженной литературной деятельности Гончарова. За это время не только окончательно определяется его литературная манера, не только оформляются и наполовину реализуются его основные художественные замыслы, но и накапливается масса “артистических впечатлений”, которою он живет всю остальную жизнь. В самом деле: подходя с исторической точки зрения к его романам, нельзя найти в них (за исключением неудачной подмалевки Волохова) почти никаких “отражений русской действительности” после Крымской войны. Цветущее крепостное право, мечтатели и артисты, чиновники и франты 40-х годов, женщины приблизительно той же поры, — без следа подлинной эмансипации, то есть выхода
- 46 -
из тесной сферы чувств, — вот исторический фон и портретная галерея его романов. Он рано, гораздо раньше других, начинает жить воспоминаниями и как-то не воспринимает новой жизни, даже сознательно отворачивается от нее как художник, избегая делать ее объектом артистических наблюдений62. Нечто аналогичное можно отметить и в области его формально художественных достижений. Его литературная манера, его стиль устанавливаются очень рано. Обладая исключительным даром самоанализа и самооценки и высокоразвитым чувством меры и такта, Гончаров очень быстро находит самого себя, и умело использует все сильные стороны своего дарования. Его “chef d’oeuvre” относится к 1848 г., и около этой же даты, во всяком случае лишь немного позже, как бы канонизуется его поэтика.
Несмотря на огромные промежутки времени между выходом в свет его романов, в них почти не отразилась та гигантская эволюция, которую проделала за этот период русская литература и в частности художественная проза. Одна и та же поэтическая палитра, один и тот же поэтический Домострой господствуют на всем их протяжении; описательная характеристика персонажей, психологическое рассуждение, слабое использование символики диалога и монолога, отсутствие динамики в образности, наивное построение сюжета и целый ряд других характерных особенностей — одинаково общи им всем. Но еще рельефнее выступают эти своеобразные черты гончаровского “собрания сочинений”, если от вопроса о его формально-художественных достижений перейти к анализу тех заданий тематико-стилистического рода, которые он ставит в главнейших произведениях. Тогда окажется, что задания эти остаются везде почти одними и теми же. Отсюда следуют два весьма важных методологических вывода.
Первый: Гончаров более чем кто-либо из блестящей плеяды русских прозаиков середины прошлого века остается как бы навсегда прикованным к 40-м годам. В то время как его товарищи, неустанно переходя от одного замысла к другому, сознательно или бессознательно поддаются новым веяниям литературного и иного движения и сами непрерывно эволюционируют — в форме своего творчества, — Гончаров большую часть своей творческой жизни упорно трудится над тщательнейшей отделкой произведений давно задуманных и в значительной мере разработанных, стремясь выявить все художественные возможности, потенциально в них заложенные и нисколько не думая о движении вперед.
Это не значит, конечно, что его творчество никогда не знало развития, что он явился в литературу готовым бойцом в полном вооружении, сложившимся и законченным писателем. За его мастерством также стояли долгие годы учения, но его дарование кульминировало в своем становлении гораздо раньше, чем у его более молодых собратий, и с тех пор он искал совершенства не на новых путях впереди, а в своем прошлом.
Кульминационным моментом его литературного развития была вторая половина 40-х, — время исключительного успеха “Обыкновенной истории” и создания первой части “Обломова”. К творчеству этой эпохи он и обращается позднее в поисках традиций и норм для дальнейшей работы, заботясь не столько о новых художественных открытиях, сколько о том, чтобы не опуститься ниже достигнутого уже уровня.
И нет ничего мудреного, если поколению 60-х годов его “Обрыв” показался каким-то литературным анахронизмом, как по содержанию, так и по форме. Роман этот действительно как бы отвернулся от буйного настоящего и глядится в “тихую старину 40-х годов”63.
Второй вывод таков: если фактически замыслы его произведений так недалеко отстоят друг от друга во времени, то неоднократные заявления Гончарова, что он видит в “Обыкновенной истории”, “Обломове” и “Обрыве” не три романа, а один, то есть что они только части единой трилогии64, — эти утверждения приобретают значительную долю вероятности. Но, конечно,
- 47 -
внутреннее единство его романов должно толковаться не в плане исторической эволюции каких-то характеров и типов, последовательно отражавшейся в различных частях трилогии, а в плане единства тематико-стилистических заданий, характерных именно для того времени, когда возникли и сложились основные замыслы отдельных романов.
Таким образом, первая задача исследователя по отношению к Гончарову заключается в выявлении внутренней связи его творчества с литературой конца 30-х — начала 40-х годов, когда формировалось и крепло его дарование; конкретно же это должно выразиться в попытке истолкования его романов как единой трилогии на почве тех острых тематических и стилистических проблем, которые особенно привлекали к себе внимание тогдашних литературных партий.
Быть может, наиболее характерной чертой русского романтизма конца 30-х — начала 40-х годов — а именно этот романтизм и был той почвой, на которой выросло и образовалось гончаровское дарование, — быть может, самой характерной его чертой является своеобразный перевод трансцендентных категорий и норм романтического сознания в эмпирические. Трансцендентная основа “идеального” только смутно ощущалась русским романтиком; строго говоря, он почти не ведал абсолютно “непостижимого” и “недостижимого”, а знал лишь относительно “невозможное”. Основное романтическое противопоставление мира идеального и мира действительного переживалось им не как вечная категориальная антиномичность двух планов бытия — абсолютного и относительного, но скорее как внутреннее распадение единой бытийной сферы, как некая раздвоенность одного и того же круга эмпирической жизни. При усвоении западноевропейского романтического мировоззрения и <при> собственной переработке его происходило своеобразное снижение философского “стиля”. Наивное, лишенное крепкой философской традиции сознание, перенимая формулы западной романтической культуры, не могло удержаться на уровне поставленных там проблем; оно незаметно для себя самого упрощало и снижало заложенные в этих проблемах понятия и нормы; не постигая смысловой и эмоциональной напряженности абстрактных схем, оно торопилось заполнить их мнимую пустоту привычным содержанием своего опыта, оперируя категориями эмпирически-возможного там, где речь должна была бы идти об абсолютном и трансцендентном.
В области более или менее отвлеченного философского мышления прекрасным примером такого “переложения на российские нравы” может служить “прямухинское фихтеанство”, где целый ряд прискорбных недоразумений зависел, по-видимому, от отсутствия соответствующих слов-понятий: подстановка русских слов в немецкую систему влекла за собой привнесение чуждого ее абстрактно утонченным схемам наивного энтузиазма65. Сюда же относится и знаменитая ошибка Белинского, отождествившего “разумную действительность” Гегеля с “конкретной действительностью” николаевской России. В области художественного или, как тогда любили говорить, “артистического” миропереживания аналогичную картину можно наблюдать у Гоголя, абсолютизировавшего в качестве “разумной действительности” откупщика Бернардаки и самым причудливым образом перемешавшего романтическую категорию идеального с категорией “положительного” казенного образца. Проходя красной нитью через крупнейшие его произведения (смешение “идеального” и “положительного” типов), эта путаница основных идей и переживаний с особенной силой вскрывается в беспомощном теоретизировании “Переписки с друзьями”, где наполнение религиозно-романтических форм сознания наивным и грубым эмпирическим материалом приобретает характер какой-то жуткой извращенности.
Расширяя круг наблюдений, подобные же явления можно найти и в молодом славянофильстве, и в торопливом творчестве Марлинского, и в литературных исканиях юного Герцена, и т. д. и т. д.
- 48 -
За весьма немногими исключениями (Лермонтов, Чаадаев), русский романтизм того времени, кем бы и где бы он ни выражался, — в области ли философской и социально-политической мысли, в сферах художественного творчества, в литературном и не литературном быту, — везде и всюду своей отличительной чертой имеет именно это своеобразное “снижение” стиля переживания и мысли, истолкование трансцендентного как эмпирического, бессознательную полемику пресловутого “там и тут”, одним только надвое расколотым “здесь”.
Этот момент оказался решающим в определении всей структуры русского романтического миропереживания.
Осознавая и оценивая содержание своего опыта, русский романтик не противопоставлял миру эмпирической данности какую-то иную “разумную действительность” как особую форму идеального бытия, но различал два ряда явлений в границах самого этого мира. С одной стороны, в качестве основного фона объединялось все то, что он называл жалкой существенностью, презренной прозой жизни, — мелкие нужды, заботы и треволнения повседневного обихода, на другие же стороны в качестве поэзии жизни отходило все яркое, красочное, необычное, все выходящее из рамок обыденности, все эстетически-привлекательное. Первое было дано как неизбежное и гнетущее ощущение и как удел банальной обывательской натуры, второе яркими отдельными эпизодами пронизывало тяжелую толщу “ничтожного существования”, мерещилось вдали как возможное светлое будущее, манило к себе в туманном прошлом.
Так распадался для него надвое тот если не единственный, то основной круг бытия, который знало его переживание, к которому постоянно обращалась его мысль; проза и поэзия жизни — но жизни одной и той же, этим упрощенным противопоставлением он заменил антиномию идеала и действительности, данную в подлинном романтизме. Герой измельчал, и боль и тоска утратили характер своей роковой безысходности, бунт и порыв — свою безнадежность, “мировая скорбь” обузилась, — западноевропейская трагедия обернулась для русского романтика драмой Островского (Ап. Григорьев).
Отсюда проистекал целый ряд чрезвычайно важных последствий для всего круга романтического мировосприятия. И прежде всего для бытовой стороны жизни романтика, для его повседневного обихода.
В своих бурных переживаниях, в своей вечной неудовлетворенности и “святом беспокойстве” романтическое сознание не отрывалось здесь от реальной жизни, не терялось в стремлениях к недостижимому, не забывало ради таинственного “там” земного “здесь”. Напротив, оно крепко-накрепко было привязано к этому “здесь” и напряженно разбиралось в бесчисленных его проявлениях, с презрением отбрасывая одно и жадно хватаясь за другое. Отвергая в качестве презренной прозы огромные полосы жизни, романтик старался из оставшихся обрывков “поэзии” по особому образцу перестроить свою личность и создать для себя особый мир.
Так возникла в быту довольно тщательно разработанная романтическая маска и условно-романтическое переживание жизни. При отталкивании от эмпирической действительности романтик естественно оставлял в пренебрежении эмпирическую форму своей личности, “отсутствовал” в жизни; напротив, там, где между идеалом и эмпирически данным бытием не было категориального различия, где они являлись только поэзией и прозой одного и того же круга жизни, — там эмпирическая форма личности, стиль ее конкретного переживания приобретали особое значение, и внимание романтика почти целиком <сосредоточивалось> на проблеме оформления себя самого как романтического героя и выработки соответствующего отношения к жизни, т. е. романтической “позы”.
Но само собой понятно, что эта романтическая “маска” и “поза” неизбежно терпели крушение в первых же столкновениях с действительностью; в
- 49 -
них недаром было так много заимствований из литературы: их условность вскрывалась чрезвычайно быстро, превращаясь в обстановке практической жизни из безобидной категории искусства в этическую категорию мнимости и фальши.
Так именно и переживало его романтическое сознание более углубленного типа. Ощущая эту условность при переходе из эстетического в практический план как внутреннюю ложь, оно безжалостно разрушало эту героическую маску и тогда оказывалась перед почти неразрешимым конфликтом.
Нет противоречия острее нежели между “мечтой”, замкнутой в круг реальной действительности, и самой этой действительностью. Противоречие между последней и идеалом, созданным sub specie aeternitatis1*, более глубоко, более резко, но переживается не так болезненно и не так разрушительно как этот конфликт inter pares2*. При отчетливом противопоставлении подлинного “там” и “здесь”, обе эти категории слишком несовместимы, слишком далеки друг от друга, чтобы вступить в непосредственное столкновение; с одной стороны романтическое “там” всегда таинственно и неопределенно, а “здесь” слегка завуалировано и смягчено, ибо ценность его стоит невысоко, тогда как уже в самом переживании неясного, но возвышенного “идеала” личность получает глубокое удовлетворение. Между тем в “мечте” все облечено в ясные эмпирические формы; она не выходит за пределы той самой “существенности”, которой она противостоит в качестве идеала; более того, эта житейская проза целиком включена в нее, только преобразованная и подчиненная. В силу этого мечта захватывает человеческую личность и приводит ее к конфликту с окружающим не только в ее высших духовных проявлениях, но и в плане тех простых и элементарных влечений и потребностей, которые неизбежно присущи каждому человеку.
У мечтателя, не выходящего за пределы мира явлений <реальной действительности>, подрезаны самые глубокие корни его органического существования и отнята возможность свободного творческого воздействия на мир. Строго говоря, в его “идеале” нет действенных норм для преобразования окружающей действительности, но дана сама эта действительность как бы уже в преобразованном виде, уже готовая. Он дилетант и в практической жизни, ибо знает прекрасные образцы и видит бесформенный материал, но не имеет той системы творческих норм, которые образуют мост между ними. Так что его идеалом является скорее пассивное сравнение двух рядов с безуспешными попытками найти в действительности то, что дано в мечте, нежели активное вмешательство в жизнь. Пораженный мечтой, связывающей его с головы до ног во всех проявлениях его повседневного существования, он легко уходит из мира действительности в царство призраков, а не противостоит этой действительности в качестве упорного бойца. Его разочарование в жизни носит глубоко пассивный характер, его мысль фантасмагорична и отвлеченна, а его воля обречена на беспомощную раздвоенность. Так разрушая маску, им самим созданную, и не выдерживая позы, добровольно на себя принятой, романтик приходит к полному крушению своих надежд и чаяний. Гордо отказываясь от творческого участия в жизни, он становится вялым и бездейственным созерцателем проходящих мимо событий и, сам того не замечая, постепенно опускается в самые низы обывательского существования. Романтик без маски оказывается в конце концов жалким дилетантом в практической жизни и безвольной игрушкой повседневной жизни.
Но если в быту романтизм эмпирического склада вызывает к жизни по преимуществу эти два типа: условного героя и безвольного мечтателя, то в области художественного творчества дело обстоит гораздо сложнее. Представляя собою явление общекультурного порядка, возникающее периодически
- 50 -
в жизни народов под влиянием целого ряда различных факторов, романтизм особенно тесно связан с искусством. Именно через романтическое миропереживание искусство с такой силой воздействует на культурный быт вообще, что целый ряд художественных терминов и формул становится бытовым явлением. И это совершенно понятно: в романтическом противопоставлении идеала и действительности проблема прекрасного играет совершенно исключительную роль. Там, где в романтизме речь идет о противопоставлении мира явлений — трансцендентному, прекрасное как единство конкретного образа и идеи выступает посредником между ними; где же распадение бытийной сферы протекает в одном и том же эмпирическом плане, там эстетическое служит едва ли не главным критерием при разграничении “поэзии” и “прозы” жизни. Но и здесь и там и повсюду прекрасное играет огромную роль в оформлении романтического миропереживания вообще.
Это обстоятельство налагает на творчество романтика совсем особую печать. Мир предстоит его творческому сознанию не как система эстетически нейтрального в себе самом материала, но уже в известной мере расщепленным и оформленным эстетически. Особенно резко проявляется это там, где линия романтического распада целиком проходит в эмпирическом плане. Здесь непосредственно в сферах самой жизни намечается целый круг поэтических ценностей.
А в связи с этим особый смысл получает и знаменитая формула “жизнь и поэзия — одно”66. Поэтическое не создается художником целиком, — очень многое подсказывается ему самой жизнью. Жизнь — “великая книга”, “таинственная сага”, “могучая эпопея”, откуда романтик должен черпать свою поэзию. Отсюда его страстная погоня за поэтическим <в> жизни; он упорно ищет его в “couleur locale”1*, в фольклоре, отправляясь за ним в экзотические страны, обращается к возвышенным преданиям старины, жадно хватается за общепризнанное “прекрасное” и “красивое” культурного быта и прежде всего за “красоту природы”.
Так, опираясь на “поэзию жизни”, романтик строит мост от искусства к “действительности”. Но отношение к этой действительности у художника романтической школы не вполне свободно: она дана ему уже в условном эстетическом оформлении и навязывает ему свой эстетический канон. Отсюда некоторая условность и самого творчества. Романтик творит как бы по чужим подмалевкам; между ним и его материалом стоит условная эстетическая схема общего романтического мировоззрения, что сообщает его рисунку известную отвлеченность и односторонность. Напрасно стремится он к живой символике конкретного; все усилия его разбиваются об эстетический схематизм исходного восприятия. Бессознательная тенденция к обобщению господствует над его творчеством, и не индивидуальное, а типическое является его достижением. Конечно, в области “пошлой прозы”, которая вслед за “поэзией жизни” неизбежно вовлекается в творческий оборот, прием типизации служит могучим средством художественного оформления. Но там, где речь идет о построении образа высокой положительной ценности, требующего по самой своей сущности индивидуальной формы, типичность оказывается условной абстракцией и мертвящим схематизмом. Именно в сферах построения так называемого “положительного типа” вскрывалась для русского романтика связанность и неполнота его творческого размаха и безжизненная неподвижность его творений.
Но само собой разумеется, что это трагическое сознание ограниченности своих художнических возможностей было уделом только немногих избранных. На периферии же и у эпигонов романтизма дело обстояло гораздо проще: здесь изначальная “артистическая” условность романтического миропереживания
- 51 -
приводила лишь к чрезвычайному усилению подражательности и к творческому дилетантизму.
Дилетантизм этот является прямым результатом склонности романтика “пониженного типа” искать в жизни уже готовых форм, соответствующих его представлению об идеале, вместо того, чтобы стремиться к творческому преобразованию жизни, какова бы она ни была. Подобно тому, как, надевая маску героя, он желает разыграть жизнь словно какую-нибудь художественную драму, точно так же и свой роман он мечтает найти в жизни. Происходит своеобразное смешение различных пластов: художественного и реально-практического; с одной стороны, он — “герой” жизни, с другой стороны, жизнь должна как бы заместить его в творчестве. Сюжет, основанный на сплетении “жизни в романе” и “романа в жизни” — один из популярных романтических сюжетов.
Но если в литературе этот сюжет оказывается чрезвычайно плодотворным и в смысле свободы тематического и композиционного развертывания произведения, и в смысле обогащения стиля, то, будучи “реализованным” в жизни, он приводит к гибельным последствиям.
Поиск готового прекрасного переводит сознание художника из творческого в созерцательный план. В итоге он оказывается в гораздо большей степени эстетически настроенным зрителем совершающегося, нежели автором — создателем новой художественной действительности. Его творчество приобретает глубоко пассивный характер и способно только орудовать с эстетическими “общими местами”, чрезвычайно быстро шаблонизируясь и замыкаясь в границах условной “красивости”. Подлинное же творческое преобразование нейтрального материала становится для него почти недоступным. Любопытно отметить, что здесь же, по-видимому, следует искать истоков той своеобразной распри, которая позднее разделила русскую литературу на два враждебных лагеря. Мы имеем в виду знаменитый спор об “искусстве для искусства”. Нет никакого сомнения, что, поскольку этот нелепый по самому своему существу спор сосредоточивался на вопросе о том, что воспевать: “красу долин” и пр. или же людское горе, — в основе его лежало общее сторонникам обеих партий представление о двух планах наличной действительности: “поэтическом” и “прозаическом”. Но само собой разумеется, что спор этот мог возникнуть только тогда, когда эти планы уже разъединились в сознании художника, когда так называемая “натуральная школа”, оставляя без внимания “поэтический план”, отдала все свои силы построению художественного произведения в одном “прозаическом”, “низменном” плане и, вводя новую идеологию, новую тематику и новые композиционно-стилистические приемы, постепенно разрушила условные эстетические схемы романтического миропереживания и приблизилась к реалистическим формам творчества.
Первоначально же оба плана нераздельно сосуществовали в творческом сознании художника, и произведение почти всегда стремилось охватить их обоих. А в связи с этим то, что позднее стало литературной распрей, разделив писателей на два враждебных лагеря, сначала проявлялось как внутренняя коллизия индивидуального сознания, как тягостный “спор” автора с самим собой. Ведь основное противопоставление двух кругов жизни осуществляется в романтизме не по каким-либо безразличным для художника нормам, а именно с “артистической” точки зрения. В силу этого оно не только не оставляет незатронутыми формы художественного созерцания и творчества, но напротив, бьет по ним с особенной силой. Именно как “артист” романтик исключительно остро переживает изначальный распад созерцаемого, и именно в художественном произведении сказывается он особенно резко. Трагедия Пискарева (в “Невском проспекте”) это не столько трагедия человека вообще, сколько трагедия художника, для которого безнадежно распался тот “строй образов”, который именно в художественном плане должен был бы
- 52 -
замыкаться в незыблемое и гармоническое единство. Этого единства и нельзя найти в наиболее “полных” (термин Пушкина) романтических произведениях. От Гоголя и Марлинского вплоть до последнего из эпигонов мы встречаем одно и то же: внутреннюю несведенность тематического ряда, переходящую подчас в трагический распад основной темы (“Мертвые души”).
Но с особенной резкостью эта внутренняя раздвоенность художественного произведения вскрывается в стилистическом плане. Здесь совершенно явственно намечаются две стилистические линии, соответствующие “прозе” и “поэзии” жизни тематического ряда. С одной стороны, повышенный стиль для явлений “поэтического порядка”, нередко переходящий в напыщенную декламацию, — стиль, исполненный архаистических оборотов и слов, нередко пестрящий “карамзинизмами”, широко пользующийся метафорическими формулами, закругляющийся в плавные периоды и не брезгующий чисто риторическими украшениями. С другой стороны, гораздо более скромный и бедный стиль “прозы”, где иронической и комической трактовке тематики, которая вместе с приемом обобщения — типизации служит для преодоления эстетической косности “обыденного”, — соответствует интенсивное использование комических элементов языка, каламбура, игры словами, непонимания, — причудливых диалектизмов и пр. и пр. Иногда, особенно у второстепенных авторов, оба эти стилистические напластования только механически связаны друг с другом. Однако в большинстве случаев романтик прилагал все усилия к тому, чтобы возможно тщательнее скрепить их друг с другом, и можно сказать, что стремление к внутреннему объединению разнородных стилистических планов очень часто являлось определяющим фактором стилистической структуры художественного произведения вообще. Пути, на которых он искал этого единства, были различны: то это было “взбивание языка”, общее повышение стиля произведения при помощи усиления метафоричности, афористической фразеологии, остроумных словечек (Марлинский), то “личность автора”, к лирической декламации которого сходились все стилистические линии (Гоголь), то — введение нового, фантастического плана, применение сказочных жанров (Гоголь, Вельтман, Одоевский), а то и просто какой-нибудь каламбур, наивная игра именем героя, на которой базировалось композиционно-стилистическое единство произведения (например, Вельтман) и пр. и пр. Но как бы то ни было, полного стилистического единообразия достичь никогда не удавалось, и стилистически произведение оставалось не собранным, что особенно резко проявлялось у второстепенных авторов, где и вся система литературных приемов давалась обычно в наивно-обнаженной форме.
Так преломлялось романтическое миропереживание в художественном творчестве. Замыкаясь в едином кругу жизни, но применяя к нему ряд норм и категорий, которые по самому своему существу требовали принципиального расширения внутреннего опыта, русский романтизм вносил глубокую условность в свое мировосприятие. И эта условность распространялась не только на сферы искусства, но и на все переживание действительности, и в том числе на переживание собственного “я” и его творческих обнаружений. В литературе же к ней присоединялась еще особого рода манерность, обусловленная своеобразным характером присущей романтизму этого типа метафоричности. Там, где мир эмпирически данного противопоставлялся романтиком миру трансцендентного духовного бытия, — там образование литературы шло в направлении от идеального к эмпирическому. Мир являющегося служил объектом метафорического истолкования при помощи духовного. В этом смысле метафора была могучим орудием одухотворения явления внешнего мира, утверждая хотя бы только эстетически значимую связь между ним и трансцендентным. Конечно, на этом пути художнику нередко угрожала опасность, с одной стороны, впасть в чрезмерный субъективизм и придать своему произведению характер призрачного видения, а с другой стороны — исказить
- 53 -
самую природу своего творчества, превратив его в орудие философствования особого рода (проблема “мифотворчества” в романтизме). Однако это неуклонное движение метафоры от “одушевленного” к “неодушевленному” обусловливало в общем высокую динамичность стиля и острую напряженность психологической тематики художественного произведения.
Но совершенно иначе обстояло дело там, где в романтическом переживании двоился самый мир действительности. Строго говоря, в противопоставлении “поэзии” и “прозы” жизни была уже задана определенная направленность стиля и, в частности, основные нормы развертывания метафорического ряда. “Красивое” и “поэтическое” внешнего мира легко становилось метафорическим эквивалентом внутренних переживаний, и если в первом случае духовный мир поэта в своем наступлении на внешнюю действительность нередко грозил разрушить ее устойчивые формы и превратить ее в какой-то покорный субъективной воле фантом, то здесь напротив: внешний мир как бы врывался в сферы духовного, стремясь хотя бы в метафорическом плане придать ему черты своей тяжелой явности и наглядности. Как правило, образование метафоры совершалось тут в обратном направлении нежели в первом случае: от внешнего к внутреннему, от неодушевленного к одушевленному. Так, если там алмаз блестел как глаз красавицы, а заря посылала девичьи улыбки, то здесь обратно: ее глаза приравнивались алмазам, ее чело белоснежным вершинам гор и пр. и пр. (Гоголь, Марлинский, Бенедиктов и пр.). И не нужно думать, что дело ограничивалось метафорой как тропом — в узком смысле этого слова; аналогичные тенденции господствовали над всей метафоричностью произведения в ее целом, налагался особый отпечаток даже на композиционные приемы. Так, например, в построении “образа” персонажа большую роль играло подробное и тщательное описание наружности, костюма, внешней манеры держаться, особенностей речи, вплоть до физических недостатков произношения (сюда же в известной мере нужно отнести и широкое использование диалектизмов) и т. п. и т. п. Все это должно было служить для метафорической обрисовки характера данного действующего лица. Точно так же в направлении от внешних факторов к внутренним мотивам трактовалось и любое описываемое событие, что в свою очередь требовало отчетливой и резкой сюжетной схемы. Произведение загромождалось массой характеристик различных вещей и явлений, и нужен был художественный гений Гоголя, чтобы упорядочить и символически оформить весь этот материал, заставив его знаменовать внутренний смысл целого. Обычно же эти тенденции приводили к своеобразному окаменению метафоры и к значительному ослаблению эмоциональной напряженности стилистических конструкций. В итоге получалось глубокое несоответствие между стилистическим заданием и реализованным построением: богатый метафорою стиль стремился, казалось, к напряженной эмоциональной экспрессивности, а в то же время самый характер метафоричности был таков, что фактически препятствовал развертыванию эмоционального ряда. Отсюда холодность стилистической системы произведения в целом, — холодность, переходящая именно благодаря обилию тропов в натянутую декламацию и риторизм. Напрасно русский романтик “взбивал в искрящуюся пену” литературный язык: та условность основного противопоставления двух кругов эмпирической жизни, которая создавала бытовую маску “героя” и артистическую художника, породила в конце концов такую же холодную и неподвижную маску и в области стиля.
VI
В кругу этих проблем, по мере развертывания романтического движения все острее и острее дававших о себе знать, и вращается все творчество Гончарова. Целиком захваченный в молодые годы романтическими веяниями, он
- 54 -
позднее настойчиво стремится освободиться от их крепких традиций, сосредоточивая на выполнении этой задачи все силы своего огромного дарования. К этой цели направлена вся тематика его трилогии, все стилистические задания, которые он себе ставит, так что именно в этом плане легче всего раскрывается внутреннее единство его произведений и та роль, которую играет каждое из них в общей системе его творчества. И можно заранее сказать, что место «Фрегата “Паллада”» будет здесь далеко не из последних. Но чтобы окончательно убедиться в этом, необходимо прежде всего произвести общий анализ его трилогии, который поможет нам понять внутренний смысл “очерков плавания” и ориентирует нас в тех стилистических проблемах, которые нашли там свое разрешение.
В литературе о Гончарове уже не раз указывалось на некоторое сходство между главными его героями. Взятый сам по себе, факт этот не имеет, однако, особого значения: объяснение ему можно было бы искать в личных вкусах автора, в скудости художественного воображения, в однообразии таланта и пр. и пр. С историко-литературной точки зрения гораздо более существенным представляется то обстоятельство, что содержание трех его романов можно рассматривать как постепенное развитие, усложнение и углубление одной и той же основной темы. Важно не то, что Адуев, Обломов и Райский обнаруживают “сходные черты характера”, как еще недавно писалось в гимназических сочинениях, а что они символизируют единый смысловой ряд в его движении от периферии к центру проблемы романтического миропереживания, — от вопроса о бытовой маске к философии художественного творчества. Именно это постепенное нарастание и углубление основной темы и позволяет говорить о трех романах Гончарова как о внутренне единой трилогии: если здесь нет развертывания единого действа, то есть единство смыслового ряда в динамике его непрестанного становления.
В самом деле, борьба с романтическим противопоставлением двух различных планов жизни, с исходной раздвоенностью миропереживания, вместе с попытками снять эту антитезу и найти целостное и гармоническое воззрение на жизнь красной нитью проходит через его романы, все время возобновляясь на новом и более сложном материале.
В самой простой и незамысловатой форме тема эта развернута в “Обыкновенной истории”. Здесь взят банальнейший тип романтического героя во всеоружии его громкой фразеологии, с нелепыми представлениями об идеальном мире любви и дружбы, с презрением к житейской прозе и неуважением к простому человеку, с ходульностью в чувствах и убеждениях, даже с плохими стихами и экзотическими повестями. Герой этот — согласно обычному композиционному приему Гончарова — показан в различных жизненных ситуациях, обнаруживающих его слабость, неприспособленность к борьбе за жизнь и внутреннюю неустойчивость. Дальнейшее развивается естественным порядком: жизнь берет свое, маска постепенно линяет, условная романтическая поза исчезает, и герой превращается в трезвого практического человека.
Внутренняя слабость и, главное, принципиальная неоправданность “романтической установки” с непременным распадением круга эмпирической жизни на “поэзию” и “прозу” вскрыты в романе с исключительной силой и тонкостью: герой изобличен до конца и без всякой пощады выведен на чистую воду, а между тем он почти до самого финала пользуется симпатиями читателя.
Гораздо сложнее поставлена та же тема в “Обломове”. История младшего Адуева действительно “обыкновенная история”, поскольку романтическое миропереживание не связано здесь органически с духовной конституцией личности, но выступает именно как маска, навязанная неглупому и добродушному молодому человеку культурными веяниями эпохи, литературными образцами и лекциями профессора эстетики и нашедшая благоприятную для
- 55 -
себя почву в наивной восторженности неиспорченной юности. Романтизм показан здесь как спутник молодости, а не как органическая форма мироотношения; поэтому так много банального в перипетиях романа и так прозаически благополучен конец. В романтических порывах Адуева нет подлинной внутренней необходимости, “романтическое проклятье” не тяготеет над ним, а потому нет ничего трагического в его судьбе: это обычная житейская мелодрама.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА “ОБЛОМОВ” (СПб., 1859)
Обложка и шмуцтитул с дарственной надписью Гончарова Е. В. Полонской: “А Madame Hélène Polon<sky>. Comme expression des ho<mmages> distingués de la part de l’<auteur>. Le 28 Avril 1860”
(“Госпоже Елене Полон<ской>. С глубоким поч<тением> от <автора>. 28 апреля 1860”)
Институт русской литературы, С.-ПетербургИное дело Обломов. Это в полном смысле слова “обреченный”, и его нехитрая, внешне тоже “обыкновенная” история — подлинная трагедия. В его духовном облике нет ничего случайного и внешнего, — все изначально и необходимо, все насквозь органично, и потому так внутренне необходима, так неотвратима его печальная судьба. Как ни странно это звучит, но Обломов, быть может, самая “роковая личность” в русской литературе по абсолютной непреложности всего сбывающегося над ним, по совершенной невозможности изменить его участь, по той глубокой сознательности, с которой он принимает свой жребий. Отсюда то чувство тревожного ожидания, которое проницает даже самые идиллические картины романа, внося какую-то жуткую призрачность в их безмятежное спокойствие. Ведь недаром слово “гибель” так часто раздается из уст его друзей: Обломов действительно гибнет, и сам
- 56 -
лучше всех это сознает. И можно только удивляться тому изумительному мастерству, с каким Гончаров изображает эту трагическую историю духовной гибели человека, не выходя из рамок спокойного эпического повествования о самых простых явлениях быта.
А между тем, именно это мастерство, это исключительное богатство бытового наполнения романа сослужили ему плохую службу в критике и истории литературы. Явился большой соблазн толковать Обломова как широкое бытовое обобщение, — широкое до того, что в конце концов оно стало почти пустым. В итоге подлинный Обломов оказался погребенным под созданной критиками бытовой маской. Отчасти ответственность за такую судьбу романа падает и на самого Гончарова, точнее говоря, на общий характер построения произведения.
Обломов прежде всего “характер”, то есть конкретная духовная индивидуальность с чертами общечеловеческой значимости. Именно как индивидуальность он гораздо крупнее всех Онегиных, Печориных, Бельтовых и других романтических героев. Но литература 40-х и даже 50-х годов не умела еще передавать индивидуальное. Условно-романтическое построение героя влекло за собой отвлеченность трактовки, за которой неминуемо следовало обобщение, типизация изображения. Правда, преодоление типичности составляло одну из весьма важных литературных задач того времени, но можно сказать, что только в 60-е годы в реалистическом творчестве Толстого и Достоевского эта проблема нашла наконец свое полное разрешение: в произведениях этих писателей герой из типа решительно становится характером, причиняя этим немало хлопот традиционной журнальной критике, оказавшейся совершенно беспомощной перед ним. И Гончаров, несмотря на решительное отталкивание от Гоголя и так называемой “натуральной” школы, не мог никогда освободиться в своем творчестве от соблазнов типичности. Тенденция к обобщению и типизации несомненно сказывается и в Обломове, заслоняя иногда индивидуальный образ героя.
Но еще более интересна та своеобразная “борьба со стилем”, которая неуклонно велась во время работы над романом. Изучение рукописи Обломова дает право утверждать, что герой романа был первоначально задуман в гораздо более ярких романтических тонах, нежели он дан в окончательной редакции. Речь шла тогда о “неистовых волнениях страсти”, о “волканическом огне”, “безумных грезах”, “пламенном воображении”, “слезах бессильного бешенства” и т. п. и т. п. Но постепенно, в процессе стилистической правки текста Гончаров смягчил эти традиционные формулы повышенной романтической прозы, по возможности устранив метафоризм в объективной характеристике героя и заменив подчеркнуто эмоциональные выражения иными, более нейтральными. Так, эпитет “глубокий” сменил эпитет “неистовый”, слово “чувство” заменило “страсть”, “волканический огонь” и “пламень” исчезли вовсе, вместо “бешенства” стала “тоска” и “раздражение” и т. д. и т. д. В этом, заметим между прочим, одна из самых главных тенденций стилистической правки Гончарова вообще. В итоге, быть может, незаметно для самого автора герой несколько облинял: его романтическая сущность перестала резко выделяться от бытового фона, “стушевалась”.
Таким образом две тенденции ослабили впечатление от героя романа как индивидуального характера: с одной стороны, традиционная романтическая тенденция к типизации, а с другой стороны, неуклонное снижение повышенного романтического стиля. Однако и того, что осталось в романе, совершенно достаточно, чтобы вскрыть подлинную сущность Обломова как индивидуального характера.
Тонкое критическое чутье не обмануло Добролюбова, когда он говорил о близком родстве Обломова с так называемыми “лишними людьми” (я говорю, конечно, только о литературных персонажах) 40-х годов и их родоначальниками, Онегиными и Печориными. К сожалению, публицистический задор и непременное желание посчитаться с недавним прошлым увели Добролюбова
- 57 -
далеко в сторону от поставленной было совершенно правильно проблемы: вместо того, чтобы вскрыть идеологический генезис Обломова по линии его родства с героями онегинского типа, он полемически использовал его бытовую характеристику и в особенности крылатое словечко “обломовщина”, которое можно было толковать как угодно для борьбы против “людей 40-х годов”, за что и получил довольно суровую отповедь от Герцена67. В итоге Добролюбов до того расширил понятие “обломовщины”, что оно утратило всякое содержание: в разряд “Обломовых” вошли не только романтики разного рода, но и любой “чиновник, жалующийся на запутанность и обременительность делопроизводства”, любой офицер, от которого услышишь “жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага”68, словом, вся Россия, все “россияне”, как позднее иронизировал Писарев69. Обобщение, действительно, нисколько не оправданное романом.
Как бы то ни было, но исходное положение Добролюбова представляется совершенно бесспорным: Обломов стоит в линии романтических героев 30—40-х годов и одной из первых задач изучения гончаровской тематики является истолкование его как особого типа романтического сознания.
И здесь прежде всего должно отметить внутреннее единство всего облика героя: романтизм перестает тут быть “маской и позой”, представляясь органическим отражением его духовной природы. Романтические умонастроения нашли для себя исключительно благоприятную почву в особенностях его душевного склада.
Вот что говорит о нем Штольц: “Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот — никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его сердца не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться” (Часть 4. Гл. VIII). И что всего замечательнее — именно таким и показан Обломов в романе: в нем чувствуется огромная моральная сила, невольно подчиняющая своему влиянию окружающих. И это очарование обусловлено, конечно, его “золотым” сердцем.
Но именно для этой “хрустальной прозрачной души” с ее “голубиной нежностью” и несколько тепличной “чистотой” романтическое учение о двух кругах жизни было наиболее подходящим, быть может, даже органически присущим ей исповеданием веры. В нем она находила как оправдание своему решительному отталкиванию от прозаической повседневности с ее неизбежными ложью, хитростью и интригою, так и положительный идеал жизни, данный при этом как реально существующий план действительности.
В том центральном диалоге романа, где Обломов излагает Штольцу свое жизненное credo, последний перебивает друга восклицанием: “Да ты поэт, Илья!” <...> “Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее!” — отвечает Обломов. (Часть 2. Гл. IV).
“Поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия”. Это, конечно, наиболее глубокое и точное определение Обломова как он дан в непосредственной тематике романа. Он “поэт в жизни” и жизнь для него “есть поэзия”, потому что этого требует его “кристально чистая душа”, неспособная ни переживать, ни понимать темные явления действительности. Но в то же время это и одно из самых общих определений романтического героя литературы 30—40-х годов. Все они, начиная с Печориных и Бельтовых и кончая разными dii minores1* второстепенных повестей, могут быть названы “поэтами в жизни” в
- 58 -
том смысле, что стремятся брать жизнь с красочной поэтической стороны и с презрением относятся к ее “исказителям”, презренным “существователям”. Конечно, между ними огромное различие по жанрам: от напряженного драматизма героев Лермонтова вплоть до идиллических мечтаний Обломова, но сущность миропереживания повсюду остается одна и та же: жизнь есть поэзия — вольно же людям искажать ее.
С этой точки зрения очень любопытно, что в речевой характеристике Обломова Гончаров, правда, с большой осторожностью, сохранил все-таки традиционную романтическую фразеологию. “Ты всегда был немножко актер, Илья”, — шутливо замечает Штольц. И действительно, в противоположность всем другим персонажам романа, Обломов постоянно “немножко” декламирует. Он держится патетических тонов не только в объяснениях с Ольгой, вызывая с ее стороны шутливые замечания насчет “бездны” и “молний”, — это было бы понятно; но он впадает в патетизм и в разговоре с случайно зашедшим к нему литератором, получая в ответ растерянную реплику: “вон куда хватили”, даже его “жалкие” слова Захару и те не обходятся без высокого стиля.
И это совершенно понятно. При тех возвышенных взглядах на жизнь (“поэзия”) и на самого себя (“поэт в жизни”), какие исповедует Обломов, он и не может “выражаться” иначе. Обыденная практическая речь совершенно не гармонировала бы с высоким строем переживаний и настроений этого мечтателя и фантазера. И — обратно — романтическая фразеология настолько соответствует всему его духовному облику, настолько естественна в его устах, что первоначально не обращает на себя почти никакого внимания со стороны читателя, несмотря на тонкие иронические подчеркивания автора. Во всяком случае она никогда не переживается как декламация, как нечто искусственное и литературное. Здесь, как и во всем, романтическая “маска и поза” оказываются в Обломове органическим проявлением его изначальной духовной организации.
Но именно в силу этого внутренняя безжизненность и бесплодность романтической установки выступают здесь особенно резко. Романтический идеал, перестроенный исключительно по категориям и нормам эмпирической жизни, неизбежно приобретает совершенно особый характер: он превращается в мечту. Это значит, что из системы норм и принципов, согласно которым должно вестись творческое преобразование действительности, он становится системой идеальных форм жизни, законченной картиной блаженного существования. Обе эти системы по-разному влияют на духовную жизнь человека. Первая призывает человека к неустанной деятельности и борьбе, поставляя перед ним действительность как материал вечного творчества, вторая заставляет его искать в жизни готовых форм. Действительность распадается на две сферы: поэзии и прозы; от последней надо всячески отталкиваться, первую должно сыскать.
Так возникает “обломовщина”. Сущность ее заключается не в “лени”, “распущенности”, “дряблости” и других “способностях” и “свойствах”, нередко приписываемых русскому человеку вообще, а в особой оформленности практического сознания: в том, что место творческих норм, стоящих над жизнью, заняли в нем фантастические представления об идеальных формах жизни, сочетающихся при этом с верой в их реальную данность в действительности.
Обломов отчетливо, до мельчайших подробностей рисует себе идеал жизни, точнее говоря, идеальную жизнь, но осуществить ее на практике он, конечно, не в состоянии, ибо этот идеал дан ему не как система творческих импульсов к преобразованию жизни, но как ее готовая форма. Величайший в русской литературе “поэт в жизни” оказался и величайшим дилетантом.
- 59 -
Здесь мы подходим к последнему моменту в развитии гончаровской темы о романтическом герое. “Обрыв” из бытового плана переносит нас в план художественного творчества.
Райский такой же “поэт в жизни”, как и Обломов, но он еще и художник. В силу этого тема развертывается здесь сразу в двух планах: идет роман в жизни, и эта жизнь преломляется в романе, точнее говоря в художественном творчестве70. Что же дает для этого последнего романтическое миропереживание с его основным противопоставлением двух сфер действительности?
Здесь прежде всего должно отметить ту же эмпирическую оформленность идеала прекрасного, который вообще характеризует структуру романтического идеала на русской почве. Идеал прекрасного дан не как реализованность системы эстетических норм в том или ином образовании, а как положительный, определенный по своему эмпирическому содержанию образ, или видение. Речь идет не о том, осуществились ли в данном произведении искусства или явлении жизни те или иные художественные принципы, а о том, подходит оно или нет под готовый образец.
Отсюда особое эстетическое “донжуанство” Райского. Дон Жуаном его называет приятель, и Райский условно принимает это название. Но “донжуанство”, если брать это явление в романтическом плане, есть своеобразный дилетантизм в любви: Дон Жуан ищет и не находит в жизни “идола” (термин Райского), подходящего под его “идеал”, т. е. под тот образ, который создала его фантазия, “не понимая, что идол” не может быть найден, а должен быть создан творческим чувством любви, что именно в этом и выражается подлинная сущность последней.
Нечто аналогичное происходит и в художественном творчестве Райского. С одной стороны, он ищет прекрасного в жизни, ибо жизнь есть поэзия, с другой стороны — это же прекрасное должно подходить под идеальные образцы его романтического воображения. Если этого нет, то наступает разочарование в жизни, а в то же время и в художественном замысле в смысле расхождения между эмпирически данным и эмпирически заданным, ибо прекрасное в жизни и идеально прекрасное даны в одинаковом эмпирическом оформлении. В итоге и увлечение новым “идолом”, и новым замыслом и т. д. и т. д.
Но эта же связанность художественного творчества с “поэзией жизни”, с одной стороны, и с заданным образцом прекрасного, с другой, сказывалась на его творчестве и в ином отношении. Для Райского была совершенно непонятна проблема художественного мастерства. Он не мог одолеть техники того или иного искусства не по недостатку преданности ему или из-за высокомерного пренебрежения к черной работе. Ему, прежде всего, было совершенно чуждо переживание творческого становления художественного произведения, в процессе которого эстетически безразличный материал превращается в “прекрасное создание”. Прекрасное предстояло ему как бы в готовом виде, в качестве “поэтических явлений жизни”, в начале работы, и оно же подсказывалось ему услужливым воображением как ее итог. Он знал прекрасное только как начало и конец творчества, но не постигал его чудесного возникновения из безобразного и бесформенного матерьяла. А не постигая этого, он не мог понять и всей значительности мастерства, которое одно только дает художнику власть и господство над этим объектом.
И, наконец, последнее, чем он был обязан условной эстетике романтизма эмпирического типа, это безмерное ослабление напряженности самого творческого процесса. Ведь для него речь шла не столько об эстетическом преобразовании наличного опыта, сколько об отыскании прекрасного в жизни. С этого, по его глубокому убеждению, непременно начинается работа художника. Но этим неизбежно вводились в творчество элементы пассивной созерцательности, превращение художника хотя бы на время в эстетически настроенного зрителя и даже лично заинтересованного участника тех явлений
- 60 -
жизни, о творческом преображении которых он мечтал. Искусство здесь действительно крепко-накрепко связывалось с жизнью, но по такой линии, следуя которой человек непременно испытывал разочарование за разочарованием, а художник утрачивал способность к подлинному творческому подвигу и становился эстетически пассивным созерцателем совершающегося.
Так заканчивается гончаровская эпопея о романтическом герое71. От фразера Адуева, до “поэта в жизни” Обломова и “художника” Райского, он прослеживает судьбы романтического миропереживания, романтической “маски и позы” в ее взаимоотношении с бытом, с жизнью чувства, с художественным творчеством. Само собою разумеется, что предыдущими беглыми замечаниями далеко не исчерпывается хотя бы в самых главных чертах все богатство тематического построения трилогии. Целый ряд весьма важных проблем, поставленных в романах, остался здесь вовсе без рассмотрения. Но это и не входило в наши задачи. Для нас было важно наметить только основную тематическую линию в ее постоянном углублении и осложнении, чтобы показать затем, в каком отношении к ней стоит тематика «Фрегата “Паллада”», рассматриваемая в чисто литературно-художественном плане.
VII
Перевод категорий и норм романтического миропереживания в эмпирический план имел своим последствием, как мы уже видели, два явления: с одной стороны, наполнение эмпирическим содержанием самого романтического идеала, что превращало его в эмпирически оформленную “мечту” или “видение”, а с другой стороны, распад действительности на две противостоящие друг другу сферы: поэзию и прозу. И то, и другое одинаково вызывало пассивное отношение к жизни со стороны личности и влекло за собой творческий дилетантизм. С одной стороны, мечтательный идеал, объемля по преимуществу систему готовых форм жизни, а не самый процесс оформления, давал слишком мало творческих норм и импульсов; с другой стороны, и жизнь представлялась романтику уже оформленной, так что в ней нужно было найти желанный план существования и накрепко утвердиться в нем. Разочарование, бездействие, падение творческой энергии были прямым результатом такого переживания действительности.
Что же противополагает Гончаров творческому дилетантизму романтического сознания?
Прежде всего монистическое воззрение на жизнь. Жизнь не есть ни поэзия ни проза: добро и зло, страдание и радость, будни и праздники перемешиваются в ней самым причудливым образом, создавая, быть может, бесформенное, но крепкое органическое единство. И так и должно быть, ибо иначе жизнь застыла бы в неподвижности и превратилась в стоячее болото, — о чем бы ни шла речь: об ее поэзии или об ее прозе.
Но в соответствии с этим новым пониманием жизни меняется и взгляд на назначение человека и самый идеал жизни. В жизни уже нельзя ничего искать, никаких завершенных прекрасных форм, нельзя отгораживать для себя какой-то угол действительности, провозглашая его поэтическим и выставляя объявление: вход прозе запрещается. Жизнь должна приниматься целиком, во всей ее многообразной полноте и, как таковая, она требует к себе напряженного творческого отношения; строго говоря, и само то, органическое единство всех ее многообразных и зачастую враждебных друг другу проявлений открывается только в процессе борьбы и творчества. “Жизнь человека нескончаемая задача, последнее решение которой едва ли дано здесь”, — говорит Александр Адуев в минуту просветления. Новая действительность требует непрерывного творческого преобразования, дающегося в трудах и страданиях, формы жизни никогда не даны, а должны быть созданы, и удел человека вечный творческий труд.
- 61 -
Тема эта: о жизни как единстве добра и зла и необходимости непрестанного ее оформления в творчестве — отчетливо поставлена уже в “Обыкновенной истории”72, подробно она развивается в тематике штольцевского круга в “Обломове”, слегка затронута в “Обрыве”, где первоначальный план романа (“Художник”) сбит непомерно разросшимся романом Веры (“Обрыв”) и, наконец, она же лежит в основе тематической концепции «Фрегата “Паллада”».
Неизвестный рецензент “Отечественных записок” был совершенно прав, когда не без иронии говорил по поводу «Фрегата “Паллада”»: и здесь “нас преследует все тот же идеально величавый образ лавочника, который не покидает г. Гончарова и во всех прочих произведениях его, во имя которого он вооружается и против сентиментальной взбалмошности Адуева-племянника, и против спячки Обломова, и против наивного эстетического эпикуреизма Райского, и против бесшабашности Марка Волохова”73.
Действительно, против такой постановки вопроса ничего нельзя возразить: тематика «Фрегата “Паллада”» как литературного произведения теснейшим образом связана с тематикой трилогии: и здесь и там, сводя счеты со своим старым и “внешним и внутренним” врагом — русским романтическим мировоззрением, Гончаров противопоставляет ему своеобразную идеологию творческого труда. Здесь не место входить в объяснение того, почему ему не удалось символическое оформление этой концепции в “идеально величавом образе лавочника”. Штольц и Адуев действительно отвлеченные, символически неполно развитые “характеры — типы”, вовсе лишенные того величия своего западноевропейского прототипа (героя диккенсовского эпоса), которое импонировало даже “Современнику”. Одно можно сказать, что если попытки символической персонификации относящегося сюда круга идей и оказались неудачными, то развертывание их на материале “очерков путешествия” увенчалось полным успехом.
Во «Фрегате “Паллада”» описание путешествия дано в преломлении того колоссального труда, той борьбы и творчества, которые положил человек на завоевание земного шара, на преодоление пространства и времени — двух врагов всемирного распространения культуры, на покорение дикой, чужой и враждебной природы, на создание сносных условий жизни во всех углах света. Весь “дальний вояж” показан в очерках с точки зрения тех достижений, которых успел уже добиться человек путем величайших жертв и трудов, а не с точки зрения тех тягостей, опасностей и страданий, которые выпадают еще на долю странника. В этом плане тяжелое и опасное плавание преподнесено читателю как приятная и безопасная прогулка, и условная литературная установка так искусно замаскирована “правдивым до добродушия рассказом”, что читатель остается вполне уверенным в фактической верности повествования.
Выше были отмечены те субъективные мотивы, по которым Гончаров, учитывая специфические особенности своего дарования, заранее, еще “не покидая берегов Англии”, остановился именно на этом плане для своего будущего произведения74. Теперь перед нами вскрываются иные, более объективные мотивы — литературного характера.
Подобно всем предшествующим произведениям Гончарова и «Фрегат “Паллада”» непременно должен был продолжить борьбу с романтическим влиянием в русской литературе. Но тогда в ее тематике обязательно должна была проявиться излюбленная гончаровская антитеза романтического дилетантизма и реалистической философии творческого труда. И недаром вступлением ко всему повествованию служит выдержанный в гротескных тонах показ английского “лавочника” и русского барина. Взятая в сопоставлении с целым произведением сцена эта звучит смелым вызовом романтической традиции в литературе и жизни. Тема “нескончаемой задачи”, на которую робко намекает Адуев в “Обыкновенной истории” и которая неудачно символизировалась
- 62 -
позднее в Штольце, развертывается здесь на широких просторах кругосветного путешествия с исключительным блеском, остроумием и убедительностью. Иные страницы «Фрегата “Паллада”» звучат прямым гимном гению человека, его упорному неустанному труду, его силе и мужеству. То, что ни разу не удалось Гончарову в его русском герое, нашло себе здесь свободное и полное выражение: “образ лавочника” действительно стал “идеально величавым”, каким он и дан в символике английского романа.
Но само собою разумеется, что этой хвалебной песней успехам человека на путях завоевания мира далеко не исчерпывается тематика «Фрегата “Паллада”». Эта тема представляет собою как бы ответ “поэтам в жизни”; рядом же с ней через всю книгу проходит другая, направленная против “поэтов в поэзии” — против художественно-эстетической идеологии романтизма. По своей тесной связи с стилистической конструкцией произведения эта вторая тема, пожалуй, еще важнее для характеристики целого, нежели первая.
В зависимости от общего характера своего миропереживания, романтик, как уже не раз указывалось выше, склонен был искать в действительности уже готовых эстетически значимых форм и классифицировать все явления жизни по рубрикам “прекрасное и безобразное” или “эстетически безразличное”. Гончаров самым решительным образом восстает против этого традиционного воззрения: именно для поэта, с точки зрения “артистического” созерцания нет никаких готовых форм, ни прекрасного, ни безобразного, а все является одинаковым материалом для творчества, одинаково ценным объектом эстетического оформления.
«“Ну, что море, что небо? какие краски там? — слышу я ваши вопросы. — Как всходит и заходит заря? как сияют ночи? Все прекрасно — не правда ли?” — “Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас, в хороший летний день...” Вы хмуритесь? А позвольте спросить, разве есть что-нибудь не прекрасное в природе? Отыщите в сердце искру любви к ней, подавленную гранитными городами, сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп, раздуйте ее и тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере со мной, а с вами конечно, и подавно, всегда так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на крутой обрыв берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой: как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину! Все находило почетное место в моей фантазии, все поступало в капитал тех материалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз запечатлевшись в душе, эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до сей минуты, нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления. Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет через Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши; когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту, и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновение разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров. Сознайтесь, что и Мурино и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуг и изумруды...» (с. 81—82).
“Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: они у вас под рукой, повсюду, где есть хоть капля жизни “. Этот — по существу глубоко иронический — совет направлен против романтической традиции в жизни, в искусстве, в поэтике. Не ищите готовых эстетических
- 63 -
форм, художественных штампов, освященных многовековым культурным опытом; не противопоставляйте высокомерно “бледным образам” окружающих вас будней “праздничных и поразительных явлений”; не отвертывайтесь с пренебрежением от песчаного косогора (“Люблю песчаный косогор...” — Пушкин) и мелкого кустарника ради снеговых вершин и тропических пальм. Именно как поэты вы не имеете на это никакого права. Все это: и пальмы, и пропасти, и рытвины с кочками — одинаково служат материалом для художника и, преломленные в художественном творчестве, могут быть одинаково прекрасны. Воспринятые душой, освобожденной от всего фальшивого и мелкого, впечатления эти — будничные и бледные, праздничные и поразительные — безразлично — одинаково поступают в капитал высокой артистической жизни, образуя тот фонд, откуда без конца будет черпать свой материал художественное творчество. И это последнее только тогда и заслуживает своего имени, когда, пренебрегая готовыми штампами традиционного эстетического созерцания, “возводит в перл творения” эстетически незаметное и бледное.
Но будучи прямым вызовом романтической традиции, это поэтическое credo налагало в то же время тяжелые обязательства и на самого Гончарова. Если, с одной стороны, оно требовало самого напряженного творческого внимания к серым и будничным явлениям действительности как достойному объекту эстетического оформления, то, с другой стороны, оно воспрещало подходить к эффектному, праздничному, экзотическому именно в плане его эффектности и красивости, т. е. воспринимать его в оценках традиционного эстетического опыта, ибо эти оценки должны быть признаны условными и внешними по отношению к самой сущности созерцаемого явления. В самом деле: навязывая объекту уже на первых ступенях художественного созерцания признаки поразительного, необычайного, красивого, художник уже тем самым налагает на это явление некую готовую форму, т. е. вкладывает в него известное содержание, подсказанное традиционным эстетическим каноном. Но тем самым индивидуальная, внутренняя форма, которая потенциально задана в созерцаемом явлении, не может свободно раскрыться и принять ясные и отчетливые очертания; ее подавляет и заслоняет привнесенная условная форма.
Подобно тому, как живописец, изображая лицо, которое он считает безусловно прекрасным, т. е. подходящим под его эстетический канон, должен прежде и больше всего позаботиться о передаче “не красивого” в нем, то есть взять его вне этого канона, точно так же необходимо поэт должен остерегаться искать опоры для творческой трактовки объекта в его “поэтических” элементах. “Красивое” и “поэтическое” придет само собой; если же художник упустит то, что в данном явлении не подчиняется никакому эстетическому канону, то его создание утратит свою конкретно-индивидуальную форму и превратится в условный эстетический штамп. Искусство должно уметь освобождать объект творчества от всех эстетических оценок, которые невольно навязываются ему культурной традицией, чтобы проникнуть к заложенной в нем действительно своеобразной и поразительной, индивидуальной форме.
Гончаров отчетливо сознавал этот, быть может, основной закон художественного творчества и тщательно избегал трактовать “праздничные и поразительные явления” именно в их экзотике. Он напряженно стремился постичь формы их как бы прозаического, будничного бытия для себя, а не того условного великолепия, в котором они предстояли сознанию, воспитанному в определенных эстетических традициях.
И для разоблачения их “бытовой”, если так можно выразиться, сущности он прибегал к чрезвычайно своеобразному приему использования в применении к ним формул и схем бытовой трактовки, привычных для него явлений русской действительности. Этим приемом достигалось разрушение их условного эстетического оформления и облегчался доступ к их имманентной форме. Вот как он описывает плавание в атлантических тропиках: “В этом
- 64 -
спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко; жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уж отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов... Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес — какие-то отдаленные образы...
Выйдешь на палубу, взглянешь и ослепнешь на минуту от нестерпимого блеска неба, моря; от меди на корабле, от железа отскакивают снопы лучей; палуба и та нестерпимо блещет и уязвляет глаз своей белизной” (с. 92; курсив мой. — Б. Э.).
Описание открывается неожиданным и смелым сравнением фрегата в океане с “степной русской деревней”. Этим определяется дальнейшее развитие темы разом в двух семантических планах; с одной стороны: маркиза над балконом, стрекозы в поле, рожь, гумно; с другой: вода из океана, тент, каюты, матросы, пушки; иногда оба плана сливаются: стук молотка в кузнице, пение петухов, — закрепляя тем самым единство целого.
В итоге получается полное разрушение традиционного художественно-эстетического штампа и создается бытовая, будничная установка для характеристики тропического дня.
В дальнейшем сопоставление обрывается: палуба (“улица”, как любит говорить Гончаров) показана в ослепительном сверкании тропического солнца. Но тон задан, и повествование развертывается в спокойном бытовом плане. Однако постепенно в него начинают вступать новые мотивы, окрашенные специальным “местным” колоритом; эмоциональная напряженность описания медленно повышается, и отрывок заканчивается великолепной картиной солнечного заката и тропического звездного неба, выдержанной в патетических тонах.
Это обычное построение описания Гончарова. Подходя к незнакомому поразительному явлению, он прежде всего стремится созерцать его в его будничном повседневном бытии, настойчиво отстраняя тот аспект, в котором оно предстает сознанию путешественника, воспитанного в определенных художественно-эстетических традициях. Так же построен рассказ о жизни в Welch’s Hotel на Капе с его прелестным лирическим заключением: «Долго мне будут сниться широкие сени, с прекрасной “картинкой”, крыльцо с виноградными лозами»; описание Анжера с его мелочной лавочкой: “Представьте себе мелочную лавку где-нибудь у нас в уездном городе: точь-в-точь как в Анжере. И тут свечи, мыло, связка бананов, как у нас бы связка луку, потом чай, сахарный тростник и песок, ящики, коробочки, зеркальца и т. п.” — и ее патетическим финалом: “Что это за вечер! Это волшебное представление...” (с. 194).
Аналогичный же прием можно встретить в очерках Сингапура, Бонин Сима, Манилы (Люсонг — “уездный город”) и т. д.75 Исключение, пожалуй, составляет картина Ликейских островов. Соблазненный примером Базиля Галля, давшего первое описание этих островов, Гончаров рисует ее в эффектном идиллическом
- 65 -
плане. Однако — и это очень характерно для его манеры — он тут же сознательно разоблачает “литературность” рассказа ссылками на Феокрита, Геснера, Дезульера, чтобы в конце концов, опираясь на авторитет местных миссионеров, опорочить и его фактическую достоверность.
“Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики” — советовал Гончаров своим романтически настроенным друзьям. А если пойдете туда, мог бы он прибавить: не увлекайтесь эффектной, парадной стороной встреченного; старайтесь понять явление в его независимом, повседневном существовании, ищите его имманентной формы, остальное придет само собой. Для Гончарова действительно остальное пришло само собой, и нигде, быть может, высокая плодотворность его новой точки зрения не проявилась с такой силой, как в изображении людей различных рас и культур, которых он встретил в своем долгом странствии.
Это составляет третью основную тему “Очерков”.
В разговоре с Пенкиным о литературе Обломов высказывает ряд суждений, которые без всякой натяжки можно отнести за счет самого Гончарова:
“— Зачем это они пишут — замечает Обломов: — только себя тешат...
— Как себя: верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника, — точно живьем и отпечатают.
— Из чего же они бьются: из потехи что ли, что вот кого-де ни возьмем, а верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице, да отводят в тюрьму<...>
— Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! — почти шипел Обломов <...> человека-то забывают или не умеют изобразить” (Часть 1. Гл. II).
Это требование: не забыть человека — основное для реалистического творчества и шедшее вразрез с плоским учением о типичности, господствовавшим в русской литературе 40-х годов, — и ставит себе Гончаров в своих очерках. Строго говоря, оно было лишь частным случаем второй темы: отыскания имманентной формы чуждых автору в своей экзотичности явлений: Гончарову предстояло, по возможности отстраняя эпатирующую в своей причудливости этническую маску, разглядеть под ней знакомое человеческое лицо. Речь шла для него о том, чтобы выявить то человеческое в них, что обычно скрыто для плененного живописной внешностью взора европейца. И в исполнении этой задачи он идет своим привычным путем.
Прежде всего он стремится наблюдать этих новых для него людей в самых незатейливых, простейших явлениях их быта. И заглядывая в эту серенькую, будничную сферу жизни, он жадно ловит все проявления общечеловеческих чувств и слабостей, где бы они ни встречались. В этом отношении от его поистине изумительной наблюдательности не ускользает решительно ничего. Обида старой негритянки в Порто-Прайя и гримаса английской мисс, порезавшей себе пальчик; забавные страстишки кучера в колонии, наглый хохот черных женщин, сладострастные ужимки бреющегося китайца, азарт тагала, кокетливые взгляды мулатки, вороватость черных мальчишек, важность китайского богача — все “находило почетное место в его фантазии, все поступало в капитал тех материалов, из которых складывались потом такие живые и человечные образы встречных людей”.
А в то же время он настойчиво пытается уничтожить тот налет театральности, который неизбежно присущ впечатлениям путешественника от чуждых ему и причудливых явлений. Подобно тому, как ему хотелось взглянуть на связку бананов так, как он смотрел бы на связку луку в деревенской лавочке, точно так же во что бы то ни стало хочет он наблюдать негров, малайцев,
- 66 -
лучинцев, тагалов, китайцев не как представителей экзотических рас именно в их экзотической своеобычности, а просто как людей, живущих в определенных условиях, работающих, страдающих, радующихся и т. д., и т. д. — словом, в их имманентно-бытовой данности.
С этой целью он и по отношению к ним пользуется приемом сопоставления с русскими бытовыми явлениями или смелого применения нарочито бытового русского словаря. Перед нами снова своеобразная игра образов: негритянка — и старуха-крестьянка, загорелая, морщинистая, с платком на голове; играющие в карты негры — и уездная лакейская; почесывающийся тагал — и русский простолюдин; китайский рынок в Шанхае — и наши толкучки и т. д. А рядом с этим и просто: негритянская баба, китайские мужики, парень-тагал, шинок в Фунчале, харчевня в Шанхае и т. д., и т. д.
Было бы большой наивностью относить все это за счет самого Гончарова как личности, строить всякие догадки об узости его натуры и о неспособности его выйти за пределы привычных созерцаний родной Обломовки. Само собой разумеется, что здесь мы имеем дело с вполне сознательным приемом разрушения условной театральности в переживании нового и поразительного с целью вскрыть общечеловеческое, стоящее за этнической маской, и тем обусловить возможность построения конкретного характера.
Гончаров решительно отказывался “ловить кого-либо на улице” и “отводить” если не в тюрьму, так в музей. Действительно, у него почти нельзя найти музейных экспонатов, этнических масок во всей экзотичности их облика и наряда. Но зато в его “Очерках” перед читателем проходит целая вереница живых человеческих образов, с индивидуальным характером, неподдельным своеобразием общего облика, с печатью личности. Вот негритянская красавица и безобразная старуха из Порто-Прайя, вот очаровательная мисс Каролина, проворный слуга Ричард, веселый Вандик, бледная Этола со своими “two shillings”1* и много, много других. Огромная галерея человеческих лиц, изображенных иногда двумя-тремя штрихами, но всегда живых, всегда индивидуальных, характерных и своеобычных.
Но совершенно исключительной силы достигает эта манера в трактовке японцев. Общеизвестно, с каким трудом взгляд даже привычного наблюдателя-этнографа различает индивидуальные черты в толпе людей чуждой и резко выраженной расы. Все кажутся одинаковыми, все словно на одно лицо, потому, конечно, что расовые типические черты заслоняют все остальное. С этим затруднением столкнулся и Гончаров, когда его в Нагасаки окружила целая толпа различных опер- и ондер-баниосов, гокейнсов, переводчиков и пр. и пр. Однако он очень скоро начал разбираться в этой массе “типичных” лиц, индивидуализируя каждое из них. Именно эта проблема и стояла в центре его наблюдений, и можно написать целое исследование о том, как осторожно и тонко, с каким трудом, тщанием и любовью он шаг за шагом подбирался к ее решению. В высшей степени интересно следить, с какой постепенностью из этой “сплошной” толпы однотипных масок начинают одно за другим выделяться индивидуальные лица, как они распадаются на ряд фигур, обладающих самыми различными характерами и нисколько не похожих друг на друга: угрюмый и вялый Тсу-Тсуи, добродушный лукавец Кавадзи, льстивый Кичибе, фатоватый и развязный Эйноске, сосредоточенный и умный Нарабайоси и т. д. и т. д. Словом, опять целый ряд тонко очерченных, живых и разнообразных человеческих характеров.
Но Гончаров не останавливается на этом: на основе характеристики отдельных лиц он стремится подойти к характеристике всего народа в целом. И снова этнографическая сторона дела мало его интересует; он пытается определить национальный характер японцев в категориях общечеловеческого масштаба. О результатах этой попытки не стоит много распространяться.
- 67 -
Еще до сих пор гончаровская характеристика японцев не утратила своего значения и пользуется всеобщим признанием. Для своего же времени она не только совершенно выделялась по своей тонкости, глубине и серьезности среди опытов подобного рода, но и заключила в себе черты какого-то пророчества: многое из предвиденного Гончаровым сбылось в позднейшей истории японского народа.
Над этим фактом стоило бы задуматься тем, кто упрекает Гончарова за узость, поверхностность и общемещанскую низменность его наблюдений и впечатлений. Можно опасаться, что, в конце концов, эти упреки повернутся против них самих, и, например, А. Мазон, который не без французского высокомерия сравнивает «Фрегат “Палладу”» с записками лакея Шатобриана Жюльена, окажется таким Жюльеном по отношению к самому Гончарову. Ведь совершенно ясно, что для того, чтобы создать эту галерею разнообразных и тонко очерченных характеров, угаданных под разными этническими масками, чтобы так глубоко проникнуть в психологию чуждого, загадочного народа, нужна была не только высокая художественная интуиция, но и внутренняя свобода от предрассудков и суеверий своей “Обломовки”, подлинное сочувствие к человеческой жизни, где бы и как бы она ни проявлялась, и сознательное уважение человеческого достоинства. И недаром прислуга Welch’s Hotel на Капе, — по воспоминаниям наших моряков — еще через несколько лет с уважением отзывалась о “русском джентльмене-писателе”, а японцы в Нагасаки сразу выделили его из толпы “незваных гостей” и относились к нему чуть ли не с обожанием76. Эти люди чуяли в нем глубокое сочувствие и способность внимательно, с серьезным уважением, без оскорбительного любопытства и излишнего восхищения отнестись к явлениям чужой непонятной культуры и жизни и были благодарны ему за то, что ради эффектной маски он не забыл человека.
Я сказал выше, что иные страницы «Фрегата “Паллада”» звучат хвалебной песней гению и мужеству человека. Теперь можно сказать и больше. Вся книга проникнута глубоким сочувствием и пониманием жизни и уважением человеческого достоинства. Она “гуманна” в высшем смысле этого слова и ее тонкий юмор исполнен высокой человечности.
VIII
Теперь остается только подвести некоторые итоги. Мы начали с вопроса об отношении «Фрегата “Паллада”» как описания известного путешествия к фактической истории этого последнего. Обследование довольно обширного документального материала привело к выводу, что повествование очерков резко расходится с действительностью. Тем самым изучение произведения естественно переносилось в чисто литературный план и возникал новый вопрос о причинах этого расхождения и о факторах, определивших общий характер книги.
Искать этих факторов в данных биографической характеристики Гончарова, в его конкретной личности, оказалось совершенно невозможным, именно в силу того, что рассказ о дальнем вояже был построен в плане добродушной правдивости и полной, якобы, верности действительности. Этот момент некоторой литературной мистификации подрывал всякое доверие к высказываниям “записок” как психологическим фактам и делал невозможным сопоставление их с реальным психологическим характером автора. Было ясно, что вопрос может быть разрешен только в художественно-литературном плане.
Некоторые особенности Гончарова как писателя: необыкновенно ясное понимание им сильных и слабых сторон своего дарования наряду с целым рядом высказываний как в изданных “Очерках”, так и в частных письмах из плавания, заставили нас прежде всего обратиться к выяснению возможных
- 68 -
субъективно-эстетических предпосылок «Фрегата “Паллада”», коренящихся в особом характере основных форм его художественного творчества. Произведенный анализ показал, что, превосходно учитывая свои творческие способности, Гончаров еще до начала плавания и, во всяком случае, не покидая берегов Англии, настойчиво искал и в конце концов нашел ту исходную “литературную установку” для своего будущего произведения, которая наиболее соответствовала его таланту и не требовала бы от него выполнения непосильных задач. Этой установкой явилось: “Путешествие вокруг света Ильи Обломова” (формула, созданная еще в Англии), где кругосветное путешествие было бы показано в преломлении различных культурных достижений, а герой — взирающим на окружающее сквозь призму быта.
ГОНЧАРОВ — АВТОР «ФРЕГАТА “ПАЛЛАДА”»
Карикатура неизвестного художника (карандаш). <1869>
Внизу слева неразборчивая подпись художника;
ниже: “Дозв<олено> ценз<урой> июля 1869 г.
Цензор В<ильмен>”Институт русской литературы, С.-Петербург
Но совершенно ясно, что, как бы остроумна и плодотворна ни была такая “установка”, ею еще не определялась по существу как тематическая, так и композиционно-стилистическая структура произведения в его целом. Необходимо было найти иные, более объективные, чисто литературные факторы, обусловившие конкретное содержание и стиль “Очерков”. Направление, в котором должны были вестись эти поиски, было уже указано всем предыдущим ходом исследования. Если «Фрегат “Паллада”» не был правдивым отчетом об экспедиции, в котором нашли свое беспристрастное отражение как личность путешественника, так и события плавания, а представлял собой чисто литературное произведение, в основе которого лежал особый художественный замысел, в известной мере предопределявший общий характер целого, то при анализе этого целого вполне естественным, а пожалуй, и единственно возможным <было> сопоставление его с другими художественными произведениями того же автора.
Сопоставление это вскрыло тесную внутреннюю связь «Фрегата “Паллада”» с трилогией. Как и все три романа Гончарова, она оказалась направленной против романтической традиции в русской литературе конца 30-х — первой половины 40-х годов. Ее тематика не только повторяла, но и развила дальше в чрезвычайно удачной форме основные темы романов, а ее стиль в значительной мере предопределялся теми эстетическими принципами, которые были выставлены в качестве антитез романтической идеологии.
С одной стороны, тематика штольцевского круга, развернутая в целом ряде превосходных символов, давала параллель к “Обломову”. С другой стороны, эстетическому credo Райского противополагалось учение об имманентной художественной форме, потенциально заложенной в каждом явлении, и объявлялась упорная война поэтическому “наигрышу”, т. е. навязыванию явлению
- 69 -
извне формы данной культурной традиции. А рядом с этим — в плане создания новой поэтики — условному романтическому “герою” и “типу” противопоставлялся “характер”; шло разрушение канонических формул для “бури”, “океана”, “дикаря”, “пальмы” и пр. и пр., и, наконец, на почве своеобразных семантических сдвигов (типа “китайский мужик”, “негритянская баба” и т. п.) обновлялась лексика поэтического языка.
В общем можно сказать, что ни одна из волновавших когда-либо Гончарова литературных проблем не выпала из поэтической системы «Фрегата “Паллада”». Напротив, многие из них только здесь и нашли свое окончательное разрешение или — по крайней мере — наиболее удачную постановку. В этом смысле “Очерки путешествия” можно назвать едва ли не самым завершенным, внутренне единым и зрелым из всех его произведений.
Но в связи с изучением «Фрегата “Паллада”» как литературного произведения перед нами возникает новый, чрезвычайно важный вопрос, который здесь можно только поставить, так как разрешение его потребовало бы новых обширных разысканий.
По самой сущности своего художественного замысла «Фрегат “Паллада”» непременно должен был восприниматься как “правдивый до добродушия” рассказ о реально пережитом в дальнем вояже, как более или менее достоверный отчет о путешествии. В противном случае литературное задание осталось бы невыполненным, а произведение ожидала бы решительная неудача.
Как известно, этого не случилось, что, к слову сказать, может служить доказательством литературного мастерства Гончарова. Книга была принята как серьезное описание экспедиции и именно в этом плане и трактовалась критикой.
Но утверждая фактическую верность ее содержания как истории путешествия, читатель и критик тем самым утверждали и подлинную реальность очерченного в ней образа самого путешественника.
Если Гончаров правдиво изображал в своих “очерках” события и впечатления плавания, то, значит, и себя он изобразил приблизительно с той же правдивостью. Упуская из вида литературность рассказа, вообще естественно было оставить без внимания и литературность его главного действующего лица; действительность описываемого путешествия должна была соответствовать действительности изображения путешественника. Так, благодаря сложности литературного жанра путешествия (неизбежный вопрос о связи рассказа с действительностью) литературный рассказчик легко мог отождествиться с реальной личностью автора.
Это и случилось с Гончаровым. Приняв за чистую монету его рассказ о плавании, читатель и критика признали данную в этом рассказе “литературную маску” за достоверное изображение автора. Именно с этого времени, с момента появления отдельного издания «Фрегата “Паллада”», в критике при разборе произведений Гончарова зачастую начинают широко применяться ссылки на конкретную личность писателя и возникает тот традиционный легендарный образ Гончарова-человека, который и по сию пору еще нередко сбивает с толку историка литературы.
Но возвращая «Фрегат “Палладу”» в первобытное, литературное состояние, мы тем самым восстанавливаем и литературность данного в ней образа путешественника. А в связи с этим с неизбежностью возникает вопрос о взаимоотношении “авторской” и “человеческой” личности писателя и подвергается сильнейшему сомнению традиционное представление о нем, сложившееся первоначально главным образом на основе литературных данных.
Для Гончарова вопрос этот особенно важен.
С одной стороны, он, в силу особенностей своего духовного склада, своей болезненной впечатлительности, нервозности и мнительности, сам любил прятаться под защиту своеобразной бытовой маски холодного и уравновешенного, флегматичного человека, заботливо ограждая свою внутреннюю
- 70 -
жизнь от всяких посягательств чужого любопытства. Яркие проявления этой наклонности к мистификации и маскировке, находившей, впрочем, благоприятную для себя почву в литературно-бытовых традициях того времени, можно найти и в частных письмах Гончарова из плаванья77, где шутливое рассуждение и описание, сопровождаемое осторожными оговорками “опять вы меня не поняли”, “поняли ли вы меня”, нередко очень тонко маскируют подлинную личность автора.
С другой стороны, к построению условной маски толкал его и самый характер его творчества. Оно было неспокойно и бурно. Возбужденное творческое сознание часто не могло устоять против наплыва поднимавшихся в взбудораженной душе писателя мыслей, чувств и образов, и “объективное видение поэта” легко смешивалось с субъективными мечтами и переживаниями писателя, что естественно нарушало имманентную закономерность процесса оформления художественного произведения. И единственным средством против этого было отнесение акта творчества не непосредственно к эмпирическому “я” художника, но к условной авторской личности, которую можно рассматривать как особого рода литературную установку творческого “я”. “Мистификация” оказывалась необходимой и по субъективно-художественным мотивам.
В силу этого процесс кристаллизации личности Гончарова в определенный конкретный образ совершался в сознании читателя и критика чрезвычайно быстро. Его художественные произведения до такой степени крепко срослись с этим образом, что толкование их вне соотнесения с личностью автора сделалось почти невозможным. (Вспомним хотя бы бесконечные рассуждения на тему о том, кто такой Гончаров — Обломов, Адуев или Райский). В итоге авторская и человеческая личность писателя почти отождествились.
А между тем еще в самом начале работы, говоря о причинах, побудивших Гончарова — этого избалованнейшего из смертных — пуститься в опасный и трудный “дальний вояж”, я уже подчеркивал глубокое расхождение между духовным обликом Гончарова и литературно-обывательским представлением о нем. Психически неуравновешенный, подверженный внезапным и бурным сменам настроений, неисправимый мечтатель, он — со своим решительным отвращением к прозе жизни и практической беспомощностью, с вечными тревожными ожиданиями чего-то и постоянным влечением в “волшебную даль” имеет в своем облике много подлинно романтических черт.
Но, быть может, всего убедительнее свидетельствует о романтических уклонах гончаровской натуры именно самый факт столь быстрого возникновения его “литературно-бытового образа”, с которым непременно соотносились его произведения. Ибо именно романтической идеологии с ее индивидуалистическим переживанием мира, с ее вечной раздвоенностью и разочарованиями и бурному романтическому творчеству, где субъективно-эмпирическая личность писателя играет подчас чрезвычайно важную роль, свойственно доводить до оформления почти конкретно-индивидуальный образ, то художественное сознание, которое неизбежно заложено в каждой символической структуре как ее последнее основание. Именно у романтика это объективное художественное сознание становится индивидуальной маской — конкретным образом авторского “я”, являющегося нередко одним из основных композиционных факторов.
Как бы то там ни было, но весь предшествующий анализ показывает, насколько сложен вопрос о личности Гончарова и с биографической и с чисто литературной точки зрения, и какую роль в истолковании его жизни и творчества, в определении характера его произведений, его тематики, стиля и “веяний” должна играть проблема бытовой мистификации и литературной маски.
- 71 -
КОММЕНТАРИИ1*
1 Письмо от 14 апреля 1874 г. (Б. М. Энгельгардт приводит выдержки из этого письма по его первой, крайне неточной публикации — ВЕ. 1905. № 4. С. 626; здесь и далее эти неточности исправлены по выверенному тексту, который печатается в наст. томе: Гончаров — А. А. Толстой, п. 6. В этом письме Гончаров цитирует свой очерк “Через двадцать лет”, напечатанный в сб. “Складчина”. СПб., 1874. С. 558. — Т. О.).
2 Письмо от 27 февраля 1866 г.2* // Гончаров и Тургенев. С. 43.
3 Письмо конца 1870 или начала 1871 г. // Там же. С. 85.
4 Там же. С. 87.
5 Венгеров С. А. Дружинин, Гончаров, Писемский // Венгеров С. А. Собр. соч. СПб., 1911. Т. V. С. 82 и 69; Mazon. P. 103—110; Ляцкий Евг. Гончаров. Стокгольм, 1914. С. 103. Ничего существенного не вносит и последняя работа Ляцкого, посвященная специально «Фрегату “Паллада”» в № 1—4 пражского журнала “Slavia” (Ляцкий Е. А. Гончаров в кругосветном плавании // Slavia. Časopis pro slovenskou filologie. 1922—1923. Roč. 1—4; отд. изд. Прага, 1922. — Т. О.).
6 “Об отплытии из Кронштадта трех военных судов и одной яхты к Восточным берегам Сибири” // Морской сборник. 1853. № 9. С. 245—252; «Военный транспорт “Неман”» // Там же. 1853. № 10. С. 23—26.
7 Гончаров И. А. Воспоминания. И. На родине // Собр. соч. 1952—1955. Т. 7. С. 239. “Наставник” и “крестный”, упоминаемый здесь под фамилией Якубов, — Н. Н. Трегубов. — Mazon. P. 8—10; Потанин Г. Н. Воспоминания о Гончарове // ИВ. 1903. № 4. С. 100—103. (См. также: Воспоминания современников. С. 466—468. Следует отметить, что мемуары Потанина содержат ряд неточностей, в частности, в отношении Н. Н. Трегубова, что не раз отмечалось в литературе о Гончарове. — Т. О.).
8 Неточная цитата. У Гончарова: “Все было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали”. — Фрегат “Паллада”. С. 9. (Т. О.).
9 Письмо от 14 апреля 1874 г. (см. примеч. 1; курсив Б. М. Энгельгардта. — Т. О.).
10 Мазон. Материалы. С. 12.
11 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 73.
12 Гончаров И. А. По Восточной Сибири. В Якутске и Иркутске // “Рус. обозрение”. 1891. № 1. С. 8. (См. также: Фрегат “Помада”. С. 597. Цитированная Гончаровым фраза приписывается не только Наполеону I, но и некоторым другим государственным деятелям, чья биография была связана с Россией, — например, Жозефу де Местру и принцу Шарлю де Линю. — Т. О.).
13 См. письмо Гончарова И. С. Тургеневу от 30 июня 1866 г. // Гончаров и Тургенев. С. 49. Здесь дано великолепное изображение этого “un tschinovnik”.
14 С этой точки зрения очень любопытна в цитированной выше статье (см. примеч. 12) характеристика Н. Н. Муравьева-Амурского, противопоставленного “губернатору-чиновнику” К. Н. Григорьеву (у Гончарова — “Игорев”. — Т. О.): “Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями <...> Да это отважный предприимчивый янки!.. (Фрегат “Паллада”. С. 598). Очень характерно также и то, что почтеннейший И. Барсуков, приводя этот отзыв в своей капитальной биографии Муравьева, пропустил последнюю фразу, считая, вероятно, прозвище “янки” несоответственным достоинству гр. Амурского. — Барсуков И. Гр. Н. Н. Муравьев-Амурский по его письмам, офиц. документам, рассказам современников и печати, источникам. М., 1891. Кн. 1. С. 389.
15 Дед Ивана Александровича Иван Иванович Гончаров (ум. 1790) служил на военной службе и имел чин капитана. — Суперанский М. Ф. И. А. Гончаров // ВЕ. 1907. № 2. С. 574—576.
16 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. ПО. Ср.: Mazon. P. 316—317. Влияние английской литературы на Гончарова еще совсем не выяснено, а между тем оно, несомненно, было гораздо больше, нежели это кажется с первого взгляда.
17 Письмо от 7/19 июня 1868 г. — Стасюлевич. Т. IV. С. 16 (см. также: Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 386. — Т. О.).
18 Потанин Г. Н. Воспоминания о Гончарове // ИВ. 1903. № 4. С. 100—101 (см. также: Очерки. Статьи. Письма. С. 467. — Т. О.).
- 72 -
19 О цензорской деятельности Гончарова существует целая литература. Ср.: Mazon. P. 189—209; Мазон А. Гончаров как цензор // РС. 1911. № 3, 6; Военский К. Гончаров — цензор // РВ. 1906. № 10; Евгеньев В. К характеристике Гончарова // Сев. записки. 1916. № 9; Его же. Гончаров как член Главного Управления по делам печати // Голос минувшего. 1916. № 11—12; П. Щ. <Щеголев П. Е.> Гончаров — цензор Пушкина // Голос земли. 1912. № 20. 24 янв. Кроме того, отделением “Цензуры и печати” Гос. архивного фонда подготовляется под ред. А. С. Николаева обширное собрание материалов по этому вопросу (судьба этих материалов неизвестна. — Т. О.).
20 Ср. отзывы адмирала Е. В. Путятина в письмах А. С. Норову от 20 сентября 1853 г. из Нагасаки (РА. 1899. № 1. С. 198—199) и Морскому министру от 27 июля 1854 г. (РС. 1911. № 10. С. 50—51).
21 Ср. “Автобиографии” Гончарова: первую (1858), опубликованную по рукописи А. Мазоном, и вторую (1867), напечатанную (также по автографу) М. Суперанским. — РС. 1911. № 10. С. 39; ВЕ. 1907. № 2. С. 582 (см. также: Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 221—224 и 225—227. — Т. О.).
22 Ср. в письме Гончарова И. С. Тургеневу от 28 марта 1859 г.: “У меня есть упорство, потому что я обречен труду давно, я моложе Вас тронут был жизнью и оттого затрогиваю ее глубже, оттого служу искусству, как запряженный вол <...>” — Гончаров и Тургенев. С. 30 (см. также: Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 307. — Т. О.).
23 Письмо от 20 июня 1866 г. // Гончаров и Тургенев. С. 49.
24 Нервно-психическое расстройство проявлялось у Гончарова в смене душевного подъема крайней апатией, угнетенностью духа (см. в наст. томе публикацию статьи М. А. Суперанского “Болезнь Гончарова”. — Т. О.).
25 Цитата из стихотв. Пушкина “Пора, мой друг, пора...”
26 Выражение Гончарова в письме М. М. Стасюлевичу от 30 мая 1868 г. // Стасюлевич. Т. IV. С. 8. (см. также: Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 379. — Т. О.).
27 Наст. том, с. 199.
28 Письмо от 26 мая 1868 г. // Стасюлевич. Т. IV. С. 6. “Граф” и “графиня” — А. К. и С. А. Толстые.
29 Письмо Гончарова М. М. Стасюлевичу от 30 мая 1868 г. // Стасюлевич. Т. IV. С. 8 (см. также: Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 378. Курсив Гончарова. — Т. О.).
30 “...Забавно то, — пишет Стасюлевич жене 28 марта 1868 г., после чтения “Обрыва”, — что автор, как и сам герой его романа, не замечал, что роман его кончен, а ему все кажется, что нужно кончить роман” (Стасюлевич. Т. IV. С. 1).
31 Письмо от 28 марта 1859 г. // Гончаров и Тургенев. С. 32 (см. также: Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 309. — Т. О.).
32 17 марта 1847 г. В. Г. Белинский писал В. П. Боткину, что “Обыкновенная история” “произвела в Питере фурор — успех неслыханный”. — Белинский. Т. 12. С. 352.
33 Гончаров вспоминал: «...вскоре после напечатания, в 1847 году в “Современнике”, “Обыкновенной истории” — у меня уже в уме был готов план “Обломова”». — Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда// Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 76 (Т. О.).
34 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 79 (Т. О.).
35 Письмо от <25 сентября 1849 г.> // РС. 1911. № 10. С. 42—43 (курсив Б. М. Энгельгардта. См. также: Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 246. — Т. О.).
36 Письмо Гончарова Евг. П. и Н. А. Майковым от 15 июля 1854 г. // Фрегат “Паллада”. С. 695.
37 Подразумеваются неодобрительные оценки “Обыкновенной истории” в обзоре Ф. В. Булгарина “Журнальная всякая всячина” (Сев. пчела. 1847, № 81. 12 апреля; подпись: Ф. В.) и в рецензии Л. В. Бранта на этот роман (Сев. пчела. 1847, № 88 и 89. 21 и 22 апреля; подпись: Я. Я. Я..), а также резко отрицательный отзыв о “Сне Обломова” в рецензии на “Литературный сборник с иллюстрациями” (СПб., 1849) в “Москвитянине” (1849. № 11. С. 76—77; подпись: А. В.).
38 Письмо от 12 августа 1852 г. // ИРЛИ. 8952. LIб. 2.
39 Письмо от 7/19 мая 1868 г. // Стасюлевич. Т. IV. С. 6 (см. также: Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 374. — Т. О.).
40 Ср.: Суперанский М. Ф. И. А. Гончаров за границей // ИВ. 1912. № 6. С. 848—868.
41 См., напр., письмо к В. П. Боткину от 26 сентября 1852 г. // ГМ. 1923. № 2. С. 170. Как известно, Гончаров действительно едва не вернулся из Англии. — См. его письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября/2 декабря 1852 г. // Фрегат “Паллада”. С. 626 (Т. О.).
42 Письмо к ним же от 13 января 1855 г. // Там же. С. 714.
43 Письмо к Е. А. Языковой от 23 августа 1852 г. // Там же. С. 616.
44 Письмо от 14/26 марта 1854 г. // Там же. С. 691.
45 Письмо от 15 июля 1854 г. // Там же. С. 694.
46 Письмо от 20 ноября/2 декабря 1852 г. // Там же. С. 621.
47 Письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 17/29 марта 1853 г. // Там же. С. 643.
48 Письмо к ним же от 29 марта/10 апреля 1853 г. // Там же. С. 649.
- 73 -
49 Письмо от 3/15 ноября 1852 г. // Там же. С. 620.
50 Письмо от 20 ноября/2 декабря 1852 г. // Там же. С. 628.
51 Mazon. Р. 56—57.
52 Цейтлин. С. 42—46.
53 Энгельгардт Б. М. Неизданная повесть Гончарова // Звезда. 1936. № 1. См. также “наброски”, напечатанные в кн.: Цейтлин. С. 443—450.
54 Современник. 1848. № 1; Собр. соч. 1952—1955. Т. 7. С. 492.
55 Б. М. Энгельгардт использует название романа Гете “Годы учения Вильгельма Мейстера” (Т. О.).
56 Литературный сборник с иллюстрациями. Изд. “Современника”. СПб., 1849.
57 Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 245—247.
58 О сложной творческой истории этого романа см.: Гейро Л. С. История создания и публикации романа “Обломов” // Обломов. С. 551—609 (Т. О.).
59 Это признание содержится в статье Гончарова “Лучше поздно, чем никогда. — Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 71—72.
60 Неточная цитата из “Необыкновенной истории” (ср.: наст. том, с. 200 и 201).
61 Необходимо иметь в виду, что с конца сентября 1852 г. до середины января 1855 г. Гончаров находился в составе экспедиции адмирала Е. В. Путятина.
62 Вероятно, здесь имеется в виду то, за что упрекал Гончарова Достоевский и что позднее вылилось в их полемику о типическом в художественной литературе (см. письма Гончарова Достоевскому от 11 и 14 февраля 1874. — Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 457, 459—460. — Т. О.).
63 Имеется в виду первая половина 1840-х годов, ибо вторая их половина была отмечена бурным подъемом русской общественной мысли и литературы (Т. О.).
64 Впоследствии Гончаров писал, что “Обыкновенная история”, “Обломов” и “Обрыв” — “не три романа, а один”. “Все они связаны одною общею нитью, — пояснял он далее, — одною последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой — и отражением их явлений в моих изображениях, портретах, сценах, мелких явлениях и т. п.” (Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 72. — Т. О.).
65 Подразумевается увлечение Белинского радикальной философией Фихте в 1836 г. Позднее он так описывал свое мировоззрение той поры: “...фихтеанизм понял, как робеспьеризм, и в новой теории чуял запах крови” (Белинский. Т. 11. С. 320). “Фихтеанство” Белинского возникло под влиянием М. А. Бакунина, в имении которого Прямухино он провел осень 1836 г.
66 Из стихотв. В. А. Жуковского “Я лиру юную бывало...”
67 Подразумевается статья Герцена “Very dangerouse!!!”, направленная как против так называемой “обличительной литературы”, так и против переоценки исторической и литературной значимости “лишних людей”, которая проводилась на страницах “Современника” и других русских журналов в 1857—1859 гг. — Герцен. Т. 14. С. 118, 493 (Т. О.).
68 Добролюбов. Т. IV. С. 337 (Т. О.).
69 Писарев Д. И. Обломов. Роман И. А. Гончарова // Писарев Д. И. Литературная критика. В 3 тт. Л., 1981. Т. I. С. 43 (Т. О.).
70 Райнов Т. И. “Обрыв” Гончарова как художественное целое // Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1916. Т. VII. С. 32—75.
71 По недостатку места я не могу остановиться здесь подробнее на художественно-эстетической идеологии Райского, которая представляет совершенно исключительный интерес как при сопоставлении ее с воззрениями на искусство русского романтизма, так и воззрениями, господствовавшими в кружке Майковых, где сам хозяин — художник Н. А. Майков — всегда пребывал верен доброй традиции 1830-х годов. В заметках по искусству, в письмах русских художников мы имеем здесь первоклассный материал.
72 В письме Адуева к тетушке. — Собр. соч. 1952—1955. Т. 1. С. 292—294.
73 <Протопопов М. А.>; «Фрегат “Паллада”», очерки путешествия Ивана Гончарова в двух томах. Изд. третье, с переменами. СПб., 1879 // ОЗ. 1879. № 8. С. 261 (авторство Протопопова установлено в кн.: Боград В. Журнал “Отечественные записки”. 1868—1884. М., 1971. С. 268, 489. — Т. О.).
74 Этот раздел работы вошел во вступительную статью Б. М. Энгельгардта к публикации писем Гончарова из плавания. — ЛН. Т. 22/24. С. 309—343; см. также: Фрегат “Паллада”. С. 722—760; Энгельгардт Б. М. Избр. труды. СПб., 1995. С. 225—259 (Т. О.).
75 Хороший подбор аналогичных примеров, хотя и без всякой попытки их литературного истолкования см.: Державин Н. С. «Фрегат “Паллада”». Л., 1924. С. 24.
76 Источник этих сведений не установлен. О пребывании Гончарова в Японии см.: Савада К. Гончаров в Японии // Japanese Slavic and East European Studies. Vol. 4. 1993. P. 95—99 (Т. О.).
77 Письма Гончарова из плавания впервые опубликованы Б. М. Энгельгардтом в 1935 г. — ЛН. Т. 22/24 (Т. О.).
СноскиСноски к стр. 15
1* До недавнего времени труды Б. М. Энгельгардта не были собраны воедино, а сведения о нем ограничивались несколькими строками в “Краткой литературной энциклопедии” (Т. 8. М., 1975. С. 899) и весьма скудной биографической справкой в книге В. Бахтина “Ленинградские писатели-фронтовики. 1941—1945” (Л., 1985). Лишь через 53 года после смерти ученого вышел первый сборник его работ (Энгельгардт Б. М. Избранные труды. Под ред. А. Б. Муратова. СПб., 1995). Здесь, во вступительной статье А. Б. Муратова, впервые освещена деятельность Энгельгардта, охарактеризованы основные его работы и (это главное) проанализированы исходные положения его методологической концепции.
2* Крайне сложной и трудоемкой работой по разбору и систематизации этого архива уже несколько лет занимается на общественных началах петербургский исследователь А. Б. Муратов.
3* По свидетельству А. Б. Муратова, в неразобранной части архива Энгельгардта содержится значительное количество листов, относящихся к монографии о Гончарове. Не исключено, что в дальнейшем выяснится их связь с описанными выше главами, однако установить эту связь в настоящее время не представляется возможным.
Сноски к стр. 24
1* “Те, кто едут за море, меняют небо, но не душу” (Гораций. Послания. I, II, 27; пер. Н. Гинзбурга).
2* Eichendorff Joseph. Aus dem Leben eines Taugenichts. Regensburg, s.d. S. 6. “Кому Господь дарует милость, // Того он шлет в широкий мир” (Йозеф фон Эйхендорф. Из жизни одного бездельника. М., 1935). Этот эпиграф был зачеркнут автором и заменен эпиграфом из Горация.
Сноски к стр. 26
1* Здесь и далее в текст работы Б. М. Энгельгардта введены ссылки на страницы издания: Гончаров И. А. Фрегат “Паллада”. Подгот. текста, вступ. статья и примеч. Т. И. Орнатской. Л., 1986 (Т. О.).
Сноски к стр. 27
1* И что же? (фр.).
2* стеснительность (фр.)
Сноски к стр. 28
1* “Поскоблите русского, и вы обнаружите татарина” <...> “или чиновника” (фр.).
Сноски к стр. 32
1* В первой редакции далее следовал абзац:
“Мы отнюдь не сгущаем красок. Такую именно картину рисует нам его переписка, полная жалоб и тоскливых восклицаний. Пусть эти жалобы для здорового и сильного человека звучат преувеличением. Это совершенно безразлично, раз что они верно отражают душевное состояние писателя, его глубокую неудовлетворенность и вечное томление, раз все те пустяки, на которые он ссылается, фактически отравляли ему существование и, главное, служили помехой его творчеству” (ИРЛИ. Ф. 700 (Б. М. Энгельгардт). Материалы к работе о «Фрегате “Паллада”» Гончарова; без пагинации).
Сноски к стр. 42
1* по должности (лат.).
Сноски к стр. 44
1* совершенством (фр.).
Сноски к стр. 49
1* с точки зрения вечности (лат.).
2* между равными (лат.).
Сноски к стр. 50
1* “местном колорите” (фр.).
Сноски к стр. 57
1* Букв.: младшие боги (лат.). Перен.: люди, занимающие второстепенное положение.
Сноски к стр. 66
1* двумя шиллингами (англ.).
Сноски к стр. 71
1* Комментарии Б. М. Энгельгардта, в их библиографической части, приведены в соответствие с условными сокращениями, принятыми в наст. томе; ссылки на “Полное собрание сочинений И. А. Гончарова” (СПб., 1912) переведены на издания: Собр. соч. 1952—1955 и Фрегат “Паллада”. На эти же издания переведены ссылки Энгельгардта на архивные источники при цитации писем, не опубликованных во время его работы над книгой. Уточнения и дополнения, сделанные нами, вводятся в скобках или даются как самостоятельные примечания с пометой: Т. О.
2* Здесь и далее при ссылках на письма Гончарова сохраняется особенность его датировок: письма, написанные в России, датированы по старому стилю, а письма из-за границы помечены двойной датой (старым и новым стилем).