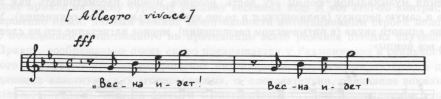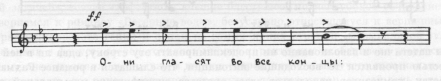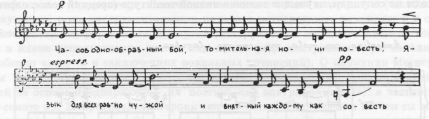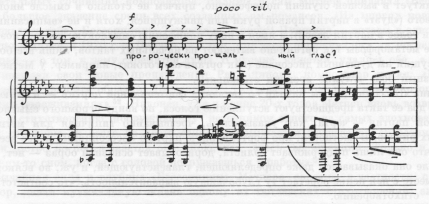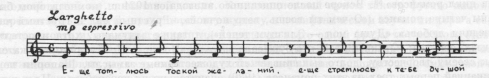- 548 -
ТЮТЧЕВ В МУЗЫКЕ
Статья Д. Д. Благого
Тема «Тютчев в музыке» богата и многогранна. В нее входит и то, что условно можно было бы назвать «музыкой в поэзии», и то, что существует реально: «поэзия в музыке», — имея в виду создание музыкальных произведений на основе стихотворных текстов. Примечательно, что именно с поэзией Тютчева оказалось связанным возникновение музыкально-тактовых теорий в области стихосложения впервые запись поэтического ритма при помощи музыкальных знаков была осуществлена А. Белым (под влиянием его бесед с С. И. Танеевым) на примере стихотворения Тютчева «Последняя любовь»1.
Отдавая должное положительным сторонам подобных опытов (нашедших ряд последователей среди филологов, музыкантов и театральных деятелей), следует все же предостеречь от подмены специфических черт одного искусства теми, что свойственны искусству иному, пусть в чем-то с ним сходному. Речь, видимо, может идти лишь о соотнесении интонационно-временной и формообразующих сторон поэтического искусства (все это целиком и полностью относится и к поэзии Тютчева) с некоторыми закономерностями музыки. Подобное соотнесение представляет большой теоретическо-познавательный интерес; вместе с тем оно может иметь немалое практическое значение в области исполнительского искусства.
Следует обратить внимание еще на один аспект исключительной «музыкальности» поэтического наследия Тютчева: а именно насыщенность его (до этого небывалую) образами, рожденными звуковыми впечатлениями, вызванными слуховыми представлениями; примечательна глубочайшая связь мира звуков, заключенного в самом содержании тютчевской лирики, с особенностями художественного стиля, творческого метода, всего миросозерцания поэта.
Что же до темы «поэзия в музыке» — претворения поэтического наследия Тютчева в музыкальном искусстве, — то она содержит целый ряд аспектов. Прежде всего общеисторический, касающийся роли и места, которые в разные периоды занимало наследие поэта в композиторском творчестве2. В целом такая историография отражает непростую судьбу поэтического наследия Тютчева: малую известность его вплоть до 90-х годов прошлого века, а затем возрастающую к нему тягу — сперва художественной «элиты», а затем все более широких поистине массовых читательских кругов.
Большой принципиальный интерес представляет разная степень «притягательности» для композиторов того или иного тютчевского стихотворения (опять же учитывая и исторический аспект данной проблемы). Колебания здесь чрезвычайно велики: от полного отсутствия и по сей день музыкальных трактовок некоторых даже лучших созданий поэта до целого ряда, а порою и нескольких десятков музыкальных «прочтений» многих иных образцов тютчевской лирики. Нельзя не обратить внимания и на различие жанров «музыкальной тютчевианы»: так, одни стихотворения поэта (их большинство) получили музыкальную жизнь прежде всего в романсах, другие — в хоровых произведениях, а некоторые даже послужили темами для программных инструментальных сочинений.
Очень различна степень тяготения разных композиторов к тютчевской лирике. Примечательно, в частности, что многие авторы, уделявшие особенное внимание различным жанрам вокальной музыки, вовсе «обошли» Тютчева, в творчестве же других, напротив, обращение к его поэтическому наследию занимает чуть ли не главенствующее место (разумеется, между подобными «крайностями» можно наблюдать множество промежуточных градаций). Интересно также проследить, какие поэты оказывались «соседями» Тютчева в творчестве разных композиторов — имея в виду как оставленное ими музыкальное наследие в целом, так и отдельные периоды их деятельности, в частности сочетание лирики Тютчева со стихотворениями других поэтов в пределах одного и того же вокального опуса — ряда вместе опубликованных сочинений.
- 549 -
ТЮТЧЕВ
Фотография Г. И. Деньера. Петербург, 1867
Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. ТютчеваОсобая тема — создание вокальных циклов, тяга к чему столь характерна для музыки нашего столетия, в частности последних десятилетий. Многие циклы русских и советских композиторов целиком посвящены творчеству Тютчева, причем отбор и расположение стихов воплощают тот или иной художественный замысел в целом. Не меньшее внимание привлекает и включение тютчевских стихотворений в циклы, созданные на основе не монографического принципа, а объединенные лишь общностью идеи, темы, настроения, — при этом вновь вызывает интерес то «поэтическое окружение», в которое в таких циклах попадают образцы тютчевской лирики.
Разумеется, один из самых главных вопросов, выдвигаемых изучением «музыкальной тютчевианы»: какие стихотворения поэта находили истолкование в творчестве каких авторов — иначе говоря, пристальное внимание должно быть обращено на отбор композиторами образцов тютчевской лирики в соответствии с характером их собственной творческой индивидуальности. Поскольку многими авторами выбирались одни и те же создания поэта, не менее
- 550 -
поучительно и сопоставление их музыкальных трактовок: особенно наглядно выступает при этом своеобразие «почерка» разных музыкантов, специфика их подхода к интонированию словесного первоисточника. Подробный же сравнительный анализ служит решению и более общих эстетических проблем — степени многообразия и критериев убедительности при «переводе» поэтического текста на язык искусства «интонируемого смысла», как называл музыку Б. В. Асафьев.
На первый план при изучении «музыкальной тютчевианы» выдвигаются и стилистические проблемы. Речь идет о влиянии стиля того или иного композитора (тесно сопряженного с его миросозерцанием, эстетическими вкусами и воззрениями, отношением к литературному, поэтическому творчеству) на истолкование им тютчевских стихотворений и, наоборот, о воздействии лирики Тютчева (как в целом, так и отдельных ее проявлений) на формирование стилистических особенностей творчества тех композиторов, которые обращались в вокальных и других музыкальных сочинениях к наследию великого русского поэта.
В данной работе автор стремится показать место, которое в целом занимало и занимает тютчевское наследие в творчестве отечественных композиторов, а также останавливается на некоторых выдающихся образцах претворения поэзии Тютчева в романсах русских и советских композиторов.
1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
В 1854 г. появляется первое прижизненное издание стихотворений Тютчева, осуществленное редакцией некрасовского «Современника» и подготовленное И. С. Тургеневым. Хотя большое число тютчевских стихов публиковалось и раньше в русской периодической печати, в том числе в пушкинском «Современнике», лишь после выхода этого издания возникают первые известные нам романсы на слова поэта. «Прижизненная судьба Тютчева в музыке совершенно подобна его прижизненной судьбе в критике и у читательской массы», — писал С. Н. Дурылин; «... его современниками, — указывал он, — были замечательные композиторы глинкинского и послеглинкинского периода», и, однако, «при жизни Тютчева, свыше чем 50 лет его творчества, ни один сколько-нибудь известный композитор не переложил на музыку ни одного его стихотворения»3.
В течение четырнадцати лет — до выхода в 1868 г. второго прижизненного собрания тютчевских стихотворений — было издано лишь четырнадцать романсов на слова Тютчева. В подавляющем большинстве авторами их были малозначительные, ныне совершенно забытые музыканты: С. Зыбина, Г. Кушелев-Безбородко, М. Офросимов, А. Шпарварт, Е. Кочубей, А. Толстая. Значительно более известны имена В. Кашперова. М. Сабининой, и, конечно, П. Виардо-Гарсиа. Не обладая яркими композиторскими дарованиями, последние три автора по-разному, но глубоко впитывали достижения современной им художественной культуры, что очень показательно и для последующей музыкальной судьбы тютчевского наследия: к его творчеству очень часто обращались музыканты, представлявшие собой незаурядные, многогранные личности. Композитор и вокальный педагог В. Н. Кашперов (1826—1884) был близок с Глинкой и Даргомыжским, с писателями Одоевским, Островским, Тургеневым, а в качестве профессора Московской консерватории явился одним из учредителей Общества драматических и оперных композиторов. Что же до Полины Виардо-Гарсиа и М. С. Сабининой, то обе они были ученицами Листа: первая стала крупнейшей певицей, тесно связанной с музыкальной жизнью как России, так и Европы, вторая — прежде всего видной пианисткой, преподававшей в петербургских придворных кругах.
Характерно, что в число стихотворений, избранных для первых романсов, вошли четыре, насчитывающие к настоящему времени наибольшее число музыкальных истолкований: в 1856 г. был издан романс С. А. Зыбиной «Еще томлюсь тоской желаний»; в 1857 г. — «Что ты клонишь над водами» Г. А. Кушелева-Безбородко (в 60-х годах появилось еще три романса на те же слова, в том числе В. Кашперова и П. Виардо); в 1861 г. увидели свет романсы М. С. Сабининой «Весенние воды» и «Слезы людские». Кроме того, среди первых романсов на слова Тютчева были «Вечер мглистый и ненастный» (1856), «Я очи знал» (1861, 1864), «Ты, волна моя морская» (1861). Однако ни одно из названных сочинений нельзя причислить к значительным достижениям русской вокальной лирики.
Не слишком плодотворными для музыкальной жизни тютчевского поэтического наследия были и 70—80-е годы прошлого века. Широкой известности его творчеству не принесли ни второе издание его стихотворений (1868), ни посмертная публикация в «Русском архиве»
- 551 -
многих неизвестных ранее стихов (1879), по поводу которых И. С. Аксаков писал И. С. Гагарину, что «эта поэзия не современная, для нее почти и ушей нет в публике нашей поры» (сам он давал стихам Тютчева чрезвычайно высокую оценку)4. «70—80-е годы — глухая пора для поэзии Тютчева», — констатирует исследователь творчества поэта К. В. Пигарев, отмечая, что сравнительно немногочисленные в это время поклонники его стихов всячески подчеркивали, что Тютчев — поэт для «немногих»5.
Кто же были эти «немногие» среди композиторов, музыкантов той поры? Не считая П. И. Чайковского, о внимании которого к тютчевской поэзии будет сказано особо, имен крупных композиторов мы здесь не встретим. Но и в отношении этого периода вновь обращает на себя внимание высота культуры, широта кругозора, многогранность деятельности тех, кто писал романсы на некоторые из тютчевских стихотворений.
В 1871 г. было издано «Весеннее успокоение» К. К. Альбрехта (1836—1893), представителя весьма известной музыкальной семьи. Очень широкой и плодотворной была его деятельность виолончелиста, хорового дирижера, композитора, педагога; он был ближайшим помощником Н. Г. Рубинштейна при организации Московского отделения «Русского музыкального общества», учредителем и дирижером «Русского хорового общества» (ему Чайковский посвятил одно из вдохновеннейших оркестровых сочинений — «Струнную серенаду»). Четырьмя годами позднее в Киеве издается романс «Еще томлюсь тоской желаний», автором которого был А. Ф. Казбирюк (1849—1885) — украинский музыковед, педагог, композитор и дирижер, ученик Зарембы и Римского-Корсакова, чья деятельность в основном была связана с Киевом. Романсы на текст того же стихотворения позднее (конец 70-х и 80-е годы) написали три видных музыканта: А. Д. Шереметев (1859—1931), К. К. Зике (1850—1890) и Н. В. Галкин (1856—1906). А. Д. Шереметев, опубликовавший названный романс в 1879 г., т. е. в ранние годы своей жизни, стал известным музыкально-общественным деятелем, основавшим в начале XX в. «Музыкально-историческое общество», меценатом, дирижером, композитором — автором ряда оркестровых и хоровых сочинений, в частности «Реквиема» памяти Римского-Корсакова. Очень разносторонним музыкантом был К. К. Зике (издавший романс на те же слова в 1885 г.): пианистом, композитором, дирижером, впервые поставившим в Петербурге «Евгения Онегина» Чайковского. Стоит отметить, что романс «Еще томлюсь тоской желаний» оказался единственным опубликованным его сочинением, в то время как другие опусы (в том числе кантата) оставались в рукописи и в основном не сохранились. Многогранна была деятельность и Н. В. Галкина — скрипача, дирижера, педагога, композитора, ученика прославленного скрипача Л. Ауэра, активного пропагандиста русской музыки, особенно представителей «Новой русской школы» (как тогда называли композиторов «могучей кучки»). Следует еще отметить автора романса «Я встретил вас, и все былое» (1871) С. И. Донаурова (1838—1897), одного из последних представителей русского дилетантизма, писавшего не только музыку, но и стихи, автора более ста романсов, близких по жанру к городским песням; многие из них, в том числе и романс «Я встретил вас», пользовались в свое время большой популярностью. Что до некоторых других музыкантов, обращавшихся к творчеству Тютчева в указанный период, таких, как М. Бегичева, Д. Столыпин, Н. Афанасьев, К. Сарлина, П. Лобанов, А. Нарышкин, А. Вилламов, В. Алейников, Н. Эрлянгер, то они не сыграли заметной роли в развитии русского музыкального искусства.
Интересно установить стихотворения Тютчева, к которым обращались композиторы в этот «глухой» для его поэзии период времени. Круг их уже несколько шире в сравнении с теми, что отбирались для романсов в 50—60-х годах. Правда, по-прежнему особенно привлекают композиторов создания поэта, вообще ставшие «рекордными» по числу музыкальных интерпретаций: это в первую очередь «Еще томлюсь тоской желаний» (к тому времени 8 романсов), далее «Весенние воды» (3), «Слезы людские» (2) — любопытно, что не известно ни одного романса в 70—80-х годах на любимое композиторами следующих поколений стихотворение «Что ты клонишь над водами». Но к ним, кроме указанного выше «Весеннего успокоения», присоединилось еще несколько стихотворений: «Весенняя гроза», «Волна и дума», «Silentium!», «Не говори, меня он, как и прежде, любит», «Я очи знал», «Зима недаром злится», «Еще земли печален вид». Как видим, в музыке представлены уже сочинения, относящиеся к разным областям поэтического творчества Тютчева, в том числе и имеющие философскую направленность. Примечательно, что внимание композиторов привлекли и «новооткрытые» стихотворения («Зима недаром злится» и «Еще земли печален вид») — те, что около сорока лет хранились у И. С. Гагарина в Париже и были опубликованы в «Русском архиве» в 1879 г.
- 552 -
Ни с чем не сравнимыми украшениями вокальной лирики на слова Тютчева в период двух в целом столь неблагодарных для его поэзии десятилетий явились произведения Чайковского, как бы опровергшего своим трехкратным обращением к стихотворениям Тютчева горькие слова Л. Н. Толстого о том, что Тютчева «все, вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел...»6. Трудно переоценить (особенно на фоне малозначительных в целом сочинений, относящихся к 50—60-м годам) появление в 1875 г. двух романсов Чайковского: «Как над горячею золой»7 и «Песнь Миньоны» (по Гёте), а в 1880 г. его же дуэта «Слезы людские». Безусловно, с подобными жемчужинами вокальной лирики не может сравниться ни один из романсов на тютчевские слова за первые четыре десятилетия обращения композиторов к творчеству поэта — вплоть до появления в 1896 г. «Весенних вод» Рахманинова. Сочинения Чайковского заслуживают подробного разбора*, здесь же продолжим краткую музыкальную историографию тютчевской лирики.
90-е годы прошлого столетия — особенно вторая их половина — ознаменованы постепенно возрастающим вниманием к поэтическому наследию Тютчева. Отчетливые признаки этого наблюдаются и в музыкальном искусстве. Среди наиболее значительных композиторов, обращавшихся к лирике Тютчева уже в конце прошлого века, — Рахманинов, Танеев, Кюи, Гречанинов, Н. Черепнин. Сразу же следует отметить, что для большинства из них этот период был лишь началом музыкальной дружбы с творчеством великого поэта, продолжавшейся в течение последующих лет и десятилетий. Но уже в 90-е годы появляются такие значительные произведения, как хоры «Из края в край, из града в град» и «Молчит сомнительно восток» («Восход солнца») Танеева, «Весенние воды» и «Слезы людские» Гречанинова, «Сияет солнце, воды блещут» Кюи. Совершенно особое место занимает романс «Весенние воды» Рахманинова, вошедший в золотой фонд русского и мирового вокального творчества2*. Вместе с тем интересно, что как раз в те же годы это стихотворение Тютчева оказалось наиболее притягательным для композиторов: с 1891 по 1899 г. появилось по крайней мере девять его музыкальных истолкований (включая упомянутые выше хор Гречанинова и романс Рахманинова). Среди авторов: М. В. Анцев (1865—1945), ученик Римского-Корсакова; М. М. Иванов (1849—1927) — музыкальный критик и композитор, ученик Чайковского, автор оперы «Горе от ума»; А. В. Кузнецов (1847—1918) — виолончелист и композитор, друг Чайковского и Балакирева, автор преимущественно камерных сочинений, а также оперы «Анджело» по Пушкину; наконец, М. А. Слонов (1869—1930) — ученик Танеева и Аренского, друг Рахманинова. Среди названных музыкантов некоторые еще до начала XX в. создали вокальные сочинения и на другие тютчевские тексты: А. В. Кузнецов — романсы на слова «Что ты клонишь над водами», «Поэзия», «Слезы людские»; М. В. Анцев — хоры «Слезы людские» и «Восход солнца». Еще одно хоровое сочинение на текст «Слез» написал Л. Л. Лисовский (1866—1934) — тоже весьма разносторонний деятель, окончивший Петербургскую консерваторию и историко-филологический факультет университета.
Расширение музыкальных жанров, обращение наряду с сольными к хоровым сочинениям, а также приобщение к «музыкальной тютчевиане» ряда крупных композиторов явились заметным достижением в музыке последнего десятилетия прошлого века. Что же до перечня самих стихотворений, получивших музыкальную жизнь в данный период, то он весьма немногочислен: к названным стихам можно добавить лишь «Как неразгаданная тайна», «Еще томлюсь тоской желаний», «Я встретил вас» — т. е. те, к которым обращались музыканты уже в предшествующие годы.
Разительно меняется отношение композиторов к поэзии Тютчева в начале XX в. С. Н. Дурылин справедливо говорил, что в первой четверти XX в. Тютчев стал «наиболее чтимым и любимым поэтом» после Пушкина и что, «подобно русским поэтам, все русские композиторы, выступившие в 90-х и в особенности в начале 900-х годов, оказались „тютчеволюбцами“», причем на любви к Тютчеву сошлись «обе линии русских композиторов этих лет — московская, шедшая от Чайковского и Танеева (Рахманинов, Гречанинов, Катуар, Н. Метнер, Ребиков, Глиэр, П. Чесноков и др.), и петербургская, шедшая от Римского-Корсакова (Черепнин, Золотарев, Акименко, Блюменфельд и др.)»8 Действительно, только в дореволюционное время музыкальное истолкование получили не менее пятидесяти стихотворений, т. е. довольно значительная часть небольшого по объему поэтического наследия Тютчева. К большинству
- 553 -
из них композиторы обратились впервые, причем ряд таких «новооткрытых» сочинений получил несколько музыкальных интерпретаций.
В предреволюционный период продолжилось музыкальное вчитывание в поэзию Тютчева крупных композиторов, уже ранее обращавшихся к его стихотворениям: Танеева, Рахманинова, Гречанинова, Н. Черепнина. Вместе с тем среди авторов сочинений на слова Тютчева появляются новые примечательные имена: Метнер, Катуар, Мясковский, Глиэр. Вновь обращает на себя внимание разносторонность деятельности многих музыкантов, обращавшихся к поэзии Тютчева: среди них оказались, например, четыре крупнейших представителя отечественного фортепианного искусства: Ф. М. Блюменфельд, Л. В. Николаев, И. Добровейн, А. Б. Гольденвейзер9.
Кратко охарактеризуем еще некоторых композиторов, создавших в предреволюционные годы вокальные произведения на слова Тютчева. Большое число романсов принадлежит Н. Н. Черепнину (1873—1945). Музыкант этот снискал широкую известность как композитор, дирижер и педагог. Последователь своего учителя Римского-Корсакова, создатель редакции оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка», он испытал также несомненное влияние выдающихся современников — Скрябина и Рихарда Штрауса; учениками его были многие крупнейшие музыканты: С. Прокофьев, Ю. Шапорин, А. Гаук и др. Тесно связанный в начале века с группой «Мир искусства», Н. Черепнин впоследствии стал основателем русской консерватории в Париже. Столь же интенсивным было общение с тютчевским творчеством В. А. Золотарева (1872—1964), ученика Балакирева и Римского-Корсакова, в дальнейшем ставшего одним из родоначальников белорусской композиторской школы. Н. Черепнина и В. Золотарева объединяли общие истоки, связанные с традициями «кучкистов» и школой Римского-Корсакова, что в известной мере обусловило повышенное тяготение их к колористическим поискам, богатству звуковой палитры. Вместе с тем, не обладая дарованием своих учителей, они не выказали в трактовке тютчевских стихотворений той глубины и значительности творческой мысли, которые могли бы приблизить их творения к поэтическим первоисточникам; эффектность изложения, «звукозапись» часто заменяли у них подлинную выразительность в передаче тютчевской «мудрости чувства».
Среди представителей «московской школы», многократно обращавшихся в конце прошлого и начале нынешнего столетия к тютчевскому творчеству, следует особенно выделить С. И. Танеева, ряд произведений которого, по выражению Б. В. Асафьева, «находится на границе интеллектуального становления музыки как философии» (та же грань в отношении поэтического искусства отчетливо ощутима и у Тютчева). Близость к тютчевской лирике можно усмотреть и в тяге Танеева к обобщенному, внутренне-сосредоточенному выражению чувств10. Однако эмоциональный строй его произведений кажется порою слишком сдержанным, даже умозрительным, лишенным той страстности, непосредственности, наконец внутреннего трагизма, что неотделимы от облика Тютчева-поэта. Показателен в этом плане выбор композитором лишь хорового или ансамблевого звучания при воплощении тютчевских созданий. Первым и, быть может, наиболее удачным обращением его к наследию Тютчева был хор «Восход солнца», относящийся еще к 1899 г.: столь характерное для Танеева утверждение света и разума, добра и справедливости оказалось как нельзя более созвучным «благовесту всемирному победных солнечных лучей», которым завершается стихотворение Тютчева «Молчит сомнительно восток». В отношении ряда других танеевских хоров и вокальных ансамблей можно согласиться с С. Н. Дурылиным, считавшим, что «все это — прекрасная благородная музыка, стройно отражающая величавые контуры зданий тютчевской лирики... но с одним недостатком: тютчевские «стихийные споры» почти не слышны: они преодолены, как у Гёте»11. С таким «преодолением» связано и приглушение трагического начала, и укрощение драматических порывов; с превалированием архитектоники в сравнении с бурной динамикой развития (все это особенно дает себя знать в терцете «Молчи, прошу, не смей меня будить» и двойном хоре a capella «Из края в край, из града в град»).
Ряд хоровых сочинений на слова Тютчева был создан также П. Г. Чесноковым (1877—1944), одним из виднейших деятелей русской, а затем и советской хоровой культуры, чье формирование как композитора связано с именами Танеева и Ипполитова-Иванова. П. Г. Чесноков явился автором нескольких сот мастерски написанных хоровых произведений, в том числе на слова ряда русских поэтов (кроме Тютчева — Кольцова, Островского, Никитина, Некрасова).
- 554 -
Очень значителен вклад в «музыкальную тютчевиану» таких представителей «московской школы», как С. В. Рахманинов, Н. К. Метнер, Г. Л. Катуар. Творчество двух первых снискало мировую известность3*. Что же до Г. Л. Катуара, то многие аспекты поэзии Тютчева были также очень близки его дарованию, что обусловило создание им целых музыкальных тетрадей на слова великого поэта (op. 18 и 29). Г. Л. Катуар (1861—1926) был композитором необычной судьбы, не получившим систематического музыкального образования (он окончил математический факультет Московского университета), но чье дарование было очень высоко оценено Чайковским. Творчество Катуара — в основном камерное — отличается чрезвычайной гармонической и ритмической утонченностью, причем, испытав влияние таких разных мастеров, как Чайковский и Вагнер, он сумел сочетать русский народный мелос с некоторыми стилистическими признаками импрессионизма. Импрессионистической утонченностью отмечены и тютчевские романсы композитора, где «он не дает строгого и точного музыкального рисунка отдельным стихотворениям, но чутко и нервно, в изысканных ритмах отдается тютчевской „поэзии намеков“»12.
Из музыкантов, опубликовавших в начале века сочинения на слова Тютчева, заслуживают также упоминания Ф. С. Акименко (1876—1945) — пианист, композитор и музыкальный критик, ученик Римского-Корсакова, Лядова и Витоля; С. В. Панченко (1887—1937) — композитор, теоретик, дирижер, педагог, ученик Лядова, друг Александра Блока; В. И. Ребиков (1866—1920) — пианист, композитор, педагог, писатель, музыкально-общественный деятель, проявлявший интерес к поискам в области синтеза жанров меломимики, мелопластики, музыкальной психографической драмы в тесной связи с обращением к литературному наследию Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Короленко; Н. С. Жиляев (1881—1938) — любимый ученик Танеева, друг и помощник Скрябина особенно известный как теоретик и педагог; Ю. Д. Энгель (1868—1927) — музыкальный критик и композитор, страстный поклонник русской музыкальной классики и творчества своих выдающихся современников: Скрябина, Стравинского, Мясковского, Прокофьева.
Весьма примечательно жанровое разнообразие музыкальных произведений начала XX в., оказавшихся связанными с тютчевской лирикой. В вокальной музыке — это и отдельные сочинения, и целые опусы — группы романсов, с которыми выступили, например, Метнер, Катуар, Н. Черепнин; к романсам все чаще добавляются хоровые сочинения (Танеева, Н. Черепнина, Чеснокова, Катуара, Золотарева, Ребикова) или вокальные ансамбли (терцеты Танеева, квартеты Черепнина). Лирика Тютчева оказывается не только источником для создания вокальной музыки, но и творческим импульсом, вызвавшим к жизни ряд инструментальных произведений, например Метнера (соната ми минор op. 25 и «Сказка» ми минор op. 34, финал Второй скрипичной сонаты), Черепнина (драматическая фантазия «Из края в край» для симфонического оркестра).
Очень разнообразны и сами стихотворения Тютчева, получившие музыкальную жизнь в первые два десятилетия XX в. — по существу, здесь впервые можно говорить об охвате во всем объеме чувств и настроений лирического наследия поэта. Есть здесь и стихотворения-картины, и образцы любовной лирики, но — что особенно знаменательно — большое место занимают стихотворные размышления философского характера. Не без основания обращают внимание на новое открытие поэзии Тютчева на рубеже XIX—XX столетий поэтами-декадентами и символистами. В прямую связь с этим хочется поставить преимущественное внимание уделяемое в предреволюционные годы некоторым образцам тютчевского творчества, созвучным (по крайней мере внешне) этим литературным течениям и настроениям. В первую очередь, это, пожалуй, относится к стихотворению «Тени сизые смесились», получившему в начале нашего столетия по меньшей мере шесть музыкальных трактовок (Метнера, Катуара, Н. Черепнина, Золотарева, Гольденвейзера, Жиляева). Особенно много музыкальных сочинений создано было в те же годы на тексты стихотворений «Слезы людские...» (не менее десяти композиторских прочтений — в том числе Кюи, Глиэра, Ребикова, Энгеля), «Волна и дума» (среди авторов — Метнер, Катуар, Чесноков и др.), «Весеннее успокоение» (Метнер, Н. Черепнин, Золотарев и др.), «Тихой ночью, поздним летом» (Кюи, Акименко, Л. Николаев и др.). В этот же период впервые получают музыкальную жизнь такие тютчевские шедевры, как «Пошли, господь, свою отраду» (Метнер), «Молчи, прошу, не смей меня будить» (Танеев, Мясковский),
- 555 -
«Последняя любовь», «О чем ты воешь, ветр ночной» (И. Добровейн), «Листья» (Чесноков), «Есть в осени первоначальной» (Панченко), «Сижу задумчив я один» (Метнер, Гречанинов), «Смотри, как роща зеленеет» (Метнер, Катуар) и мн. др.
При упоминании о композиторах, внесших вклад в создание романсов и хоров на слова Тютчева еще в начале века, не следует забывать, что деятельность многих из них успешно продолжалась в советскую эпоху. Можно назвать хотя бы таких крупнейших советских мастеров старшего поколения, как Мясковский, Глиэр, Катуар, Золотарев, Чесноков, Гольденвейзер, Л. Николаев и ряд других. Все это помогло и в области «музыкальной тютчевианы» органичному продолжению и развитию советскими композиторами традиций отечественного искусства.
Вместе с тем, переходя к обзору музыкальных сочинений на слова Тютчева, принадлежащих советским композиторам, нельзя не отметить одну из характерных тенденций развития музыки последних пяти-шести десятилетий: тягу к созданию вокальных циклов. Можно даже говорить о постепенном превалировании таких циклов перед жанром собственно романса как вполне самостоятельной, законченной музыкальной формы. Конечно, понятие цикличности в разных случаях неоднородно: наряду с циклическими произведениями, части которых очень тесно, порою нерасторжимо связаны между собой, встречаются и циклы, где такая связь кажется гораздо более условной, скорее напоминая объединение ряда романсов в отдельные опусы, что постоянно встречалось и в творчестве русских композиторов прошлого и начала нынешнего столетий.
Все это сказалось и в музыкальном претворении тютчевской лирики, где, говоря о вокальных циклах, мы будем иметь в виду прежде всего, те, что скреплены общей, творческой идеей. Естественно, поскольку речь идет о жанре вокальной музыки, такая идея неразрывно связана с поэтическим первоисточником — отбором и расположением получающих музыкальное истолкование стихотворений. При этом в иных случаях объединяющим началом оказывается обращение к созданиям только Тютчева, а в других — к творчеству различных поэтов. В последнем случае объединяющим «стержнем» оказывается исключительно тематическое единство. Таковы, скажем, циклы Ю. А. Шапорина («Элегии») или А. Н. Александрова («Холодное солнце зимы»), написанные на слова разных русских авторов, выявляющие и подчеркивающие преемственность национальной поэтической традиции. Впрочем, нередко принципы монографичности и отчетливо выраженной смысловой доминанты выступают в органическом сочетании, примеры чего находим в ряде тютчевских циклов советских композиторов. В соответствии с определенной «темой», душевным настроением циклы эти получили свое собственное название: «На склоне дня» Н. Я. Мясковского, «Память сердца» Ю. А. Шапорина, «Родные пейзажи» Ю. В. Кочурова, «Весна» Б. В. Асафьева, «Последняя любовь» И. Б. Финкельштейна, «Silentium!» Е. М. Иршаи и т. д. Не забудем все же, что приметы цикличности можно ощутить и в тех «тютчевских» опусах (по аналогии с произведениями на слова ряда других поэтов), которым авторы не дали особого названия, но сообщили черты единства на основе общности или, напротив, подчеркнутой контрастности тем и настроений, использования повторов, обрамления и т. п.
Обращение советских композиторов к творчеству Тютчева характеризуется дальнейшим и весьма значительным расширением круга стихотворений, отбираемых для создания вокальных циклов, романсов, хоров и, по существу, впервые — многочастных произведений кантатно-ораториального жанра. К настоящему времени получили музыкальное воплощение почти все тютчевские «картины природы» — к тем, что привлекали композиторов в прежние годы, прибавились, например, «Первый лист», «Неохотно и несмело», «Так, в жизни есть мгновения», «Обвеян вещею дремотой», «Чародейкою зимою», «Утро в горах», «В небе тают облака» и мн. др. Впервые «зазвучали» в музыке некоторые стихи о любви, в том числе столь разные, как «Последняя любовь», «Я знал ее еще тогда», «Я помню время золотое», «Предопределение». Впрочем, последнее из названных стихотворений (как и еще в большей мере — «Не верь, не верь поэту, дева») далеко выходит за рамки так называемой любовной лирики, смыкаясь с тютчевскими созданиями, отмеченными прежде всего глубиной обобщений при чуть ли не афористической сжатости формы. Только появление и развитие в вокальном творчестве особых, характерных для нашего века тенденций, поиски новых форм взаимосочетания музыки и слова определили обращение композиторов к таким вершинам тютчевской «поэзии смысла», «философии в стихах», как «О, вещая душа моя», «Нам не дано предугадать», «Поэзия», «Душа моя — Элизиум теней» «Не рассуждай, не хлопочи», «Цицерон» и т. д.
- 556 -
Чрезвычайно разнообразны и индивидуальности композиторов, обращавшихся к поэзии Тютчева в советскую эпоху. Такое обращение в отношении некоторых из них может показаться неожиданным. Назовем хотя бы А. В. Мосолова (1900—1973, ученик Н. Я. Мясковского). Имя этого музыканта связано с урбанистическими и конструктивистскими течениями в музыке 20-х годов. Однако творчество иных композиторов эволюционирует куда быстрее, чем установившееся (порою, кажется, раз и навсегда) представление о присущих им характерных особенностях. В последующие десятилетия стиль и характер творчества Мосолова резко изменились, чему соответствует обращение его к поэзии Державина, Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой. Неудивительно, что среди поэтических героев принадлежащих ему вокальных произведений мы встречаем и Тютчева13. Ряд романсов на слова Тютчева написан А. С. Абрамским (р. 1898; ученик К. Н. Игумнова, Г. Л. Катуара, Н. Я. Мясковского) — композитором, который известен в первую очередь как автор музыкально-театральных и ораториальных сочинений, посвященных темам революции и социалистического строительства (например, оратории «О Ленине поем», «Шахтерская слава», вокально-симфоническая поэма «1905 год», написанная на тексты революционных прокламаций), а также музыки ко многим кинофильмам. Им же написаны романсы на такие стихотворные откровения Тютчева, как «Последняя любовь» и «В толпе людей, в нескромном шуме дня».
Но обратимся к наиболее раннему периоду «музыкальной тютчевианы» советской эпохи. У самых истоков ее находим «Три наброска на слова Тютчева» Н. Я. Мясковского (1881—1950) — непосредственного продолжателя традиций классической русской музыки, прежде всего ее московских представителей, основателя крупнейшей советской композиторской школы. Этот крайне лаконичный, но весьма примечательный цикл (названный позднее «На склоне дня»), как бы заставляющий вспомнить характеристику Фетом сборника самих тютчевских стихотворений: «томов премногих тяжелей», заслуживает специального разбора4*.
Примерно в те же годы (одновременно с созданием более поздних романсов Н. К. Метнера) появляются и другие «тютчевские» сочинения советских авторов. Одним из композиторов, особенно тяготевших к лирике Тютчева еще в 20-х годах, был В. Н. Крюков (1902—1960), ученик Н. Я. Мясковского, автор, работавший в разных жанрах, написавший оперу «Станционный смотритель» (по Пушкину). Помимо романсов для голоса и фортепиано, им создан вариант «Бессонницы» с оркестровым сопровождением. При значительном композиторском мастерстве, тонком чувстве формы творчество этого музыканта не слишком самобытно, что сказалось и в таких романсах, как «Последняя любовь», «Она сидела на полу» (1921) или «Сей день, я помню, для меня» (1926). Во всех этих сочинениях нетрудно ощутить влияние гармонического языка (изысканные хроматизмы) и общего стиля скрябинских творений. Что же до созданной в 1922 г. «Бессонницы» (кстати, ранее метнеровского шедевра на те же слова), то ей присущи перегруженность фортепианной фактуры и элементы, казалось бы, столь чуждой Тютчеву театральности. Об изысканности трактовки Крюковым стихотворений поэта можно судить уже по необычайной детализации предназначенных для исполнителей словесных ремарок. К концу жизни В. Н. Крюков вернулся к некоторым из ранних своих романсов, создав их новые, как представляется более соответствующие поэтическим первоисточникам редакции (например, «Смотри, как роща зеленеет», 1926—1954). Менее рафинированным оказался и романс «Еще томлюсь тоской желаний», написанный в 1941 г.
Среди сочинений 20-х годов обращает на себя внимание «Весеннее успокоение» А. Н. Александрова (1888—1982) — романс, сочетающий использование народных интонаций с колористической утонченностью, особенно свойственной раннему периоду творчества этого композитора, чье художественное становление связано с именами Танеева, Игумнова, Василенко, а долгий творческий путь посвящен прежде всего развитию камерных музыкальных жанров. Интересны и четыре романса П. И. Васильева, композитора, начавшего свой творческий путь с прикосновения именно к тютчевской поэзии, — его первый опус состоит из четырех романсов: «Ночной порой в пустыне городской», «Душа хотела б быть звездой», «Из края в край, из града в град». «О вещая душа моя», — во многом отмеченных стилистическим воздействием горячо любимой этим композитором музыки Н. К. Метнера. В самом начале творческого пути несколько произведений на слова Тютчева создал В. Я. Шебалин (1902—1963).
- 557 -
В 1921 г. он обращается к стихотворению «Есть в осени первоначальной», годом позднее появляются еще четыре тютчевских романса: «Полдень», «Душа хотела б быть звездой», «Еще томлюсь тоской желаний», «Поэзия». При жизни автора эти юношеские сочинения опубликованы не были, и только одно из них увидело свет позднее. О том, насколько тонко чувствовал В. Я. Шебалин поэзию Тютчева, можно судить по воспоминаниям Н. И. Пейко, относящимся уже к 1930-м годам: он слышал однажды, как Виссарион Яковлевич декламировал стихотворение «Тихой ночью, поздним летом», создав совсем особенное, «тютчевское» настроение тихой восторженности...
Отходя от непосредственной хронологической последовательности появления романсов и других сочинений на слова Тютчева (поскольку 1920—1930-е годы оказались в этом отношении не слишком продуктивными), коснемся роли наследия этого поэта в творчестве еще некоторых советских композиторов старшего поколения5*.
Среди произведений «старейшин» советской музыки представляют интерес романсы А. А. Касьянова (1891—1982), в свое время учившегося у С. М. Ляпунова и окончившего Петроградскую консерваторию, а затем тесно связанного с музыкальной жизнью г. Горького, — автора опер, кантат, хоров, множества камерно-инструментальных и вокальных сочинений (в том числе на слова Пушкина и Блока). В 50—60-е годы он создает два тютчевских романса: «Море» («Как хорошо ты, о море ночное») и «Осень» («Есть в осени первоначальной»). «Человек и стихия» — так хочется назвать первое из этих сочинений — своего рода музыкальную поэму, где мужественность вокальной партии сопоставляется с тем, что так картинно передается в фортепианном сопровождении: «блеск и движенье, грохот и гром»; добавим, что все развитие музыки устремлено к драматической кульминации, связанной именно с образом могучих волн: «О, как охотно бы в их обаянье я потопил бы всю душу свою!». Трудно представить себе более резкий контраст этому сочинению, чем романс, названный композитором «Осень» («Есть в осени первоначальной»), — различные оттенки единого лирически-проникновенного чувства находят здесь претворение и в звучании голоса, и в акварельно-прозрачной партии фортепиано.
Чутко откликнулся на своеобразие тютчевской лирики А. М. Дзегеленок (1891—1969), разносторонний музыкант — композитор, пианист, теоретик, написавший, в частности, вокальные циклы на слова А. Майкова и Р. Тагора. Среди его тютчевских романсов — «Тихой ночью, поздним летом» и «В разлуке есть высокое значенье» (1958), «Люблю глаза твои, мой друг» и «Последняя любовь» (1966). Зыбкость гармонического языка и фактуры, влечение к «мерцающим» звучностям фортепиано — все это напоминает о некоторых течениях в русской музыке начала столетия, времени, на которое приходится раннее творчество композитора, ученика А. Н. Корещенко. Чувствуется и стремление к многогранной передаче музыкальными средствами смысла тютчевских строк, для чего широко используются повторы слов, которым как бы тесно в пределах единой музыкальной интонации или фразы.
Из трех более поздних романсов А. Н. Александрова (в сравнении с упомянутым выше «Весенним успокоением») особенно запоминается «Вот бреду я вдоль большой пороги» — глубоко прочувствованный, очень развитый, по форме драматический монолог. Но и два других сочинения — «Я знал ее еще тогда» и «Сей день, я помню, для меня» (последнее — из цикла «Холодное солнце зимы» на слова русских поэтов) — отмечены безупречным вкусом и тонким мастерством, благодаря которым автор смог, по-своему преломляя традиции русских композиторов-классиков, запечатлеть то, что привнесено в музыкальное искусство его, и только его индивидуальностью, его душевным обаянием, возвышенным строем чувств.
Нельзя не упомянуть о ярко проявившейся тяге к поэзии Тютчева такого крупного и разностороннего музыканта (прежде всего пианиста и педагога), как А. Б. Гольденвейзер (1875—1961 гг., ученик Танеева, Аренского), ранние «тютчевские» романсы которого относятся еще к самому началу века. Вернувшись к композиции после долгого перерыва, Гольденвейзер написал вокальные сочинения на слова «Ночной порой в пустыне городской» и «Вот бреду я вдоль большой дороги». В сравнении с не слишком самостоятельными по стилю ранними произведениями Гольденвейзера (в частности, и на слова Тютчева) оба упомянутых романса (к сожалению, оставшихся в рукописи) отмечены и глубоким психологизмом, и сложностью, своеобразием музыкального мышления автора.
- 558 -
Если в 30-е годы, как уже отмечалось, в целом не богаты музыкальными сочинениями на слова Тютчева, то в середине 40-х годов (т. е. ко времени окончания Великой Отечественной войны) появляется сразу несколько «тютчевских» опусов, каждый из которых включает целую группу романсов. Некоторым из таких тетрадей безусловно присущи черты цикличности. Так, в «Пяти романсах» М. А. Матвеева (р. 1912 г., ученик М. Ф. Гнесина) впечатлению этому способствует прием обрамления: открывается и замыкается данный опус двумя романсами, связанными с образом Петербурга («Глядел я, стоя над Невой» и «Опять стою я над Невой» — естественно, что последний в полном соответствии с содержанием обоих стихотворений воспринимается как реминисценция, перед которой звучат романсы на стихотворения «Неохотно и несмело», «Что ты клонишь над водами» и «Слезы»). Если опусу Матвеева присуща, на наш взгляд, некоторая чувствительность, интонационная простоватость, то в написанных в те же годы романсах В. Р. Энке (р. 1908, ученик В. Я. Шебалина), скорее, обращает внимание излишняя осторожность (порою даже аскетизм) в выявлении чувств (например, в романсе «Сияет солнце, воды блещут»). Наиболее значительным тютчевским опусом тех лет следует признать «Шесть романсов» М. С. Вайнберга (р. 1919 г.). Автор их, в свое время окончивший Белорусскую консерваторию под руководством В. А. Золотарева, стал одним из видных представителей советской композиторской школы. Впитав могучие традиции творчества Д. Д. Шостаковича, он обладает самобытной и тонкой творческой индивидуальностью. Мастер инструментальной музыки — автор симфоний, квартетов, сонат и т. д. — М. С. Вайнберг создал и множество вокальных сочинений (на слова И. Переца, Ю. Тувима, О. Туманяна и др.). Что же до его тютчевских романсов, то в них больше проявилась тяга не к драматизму и трагическим коллизиям (а она в целом очень сильна в музыке Вайнберга), а, скорее, к образам, связанным с утверждением поэтических сторон жизни и любви, — особенно в романсах «В небе тают облака», «Люблю глаза твои, мой друг», «Я помню время золотое». К тонким прочтениям тютчевских шедевров можно отнести также «Весеннее успокоение», «Листья», «Она сидела на полу». Говоря о 40-х годах, стоит упомянуть и о двух романсах И. Н. Иордан (р. 1910, ученица В. Я. Шебалина), завершающих ее вокальную тетрадь на слова Пушкина и Тютчева: «Поток сгустился и тускнеет» и «Любовь земли и прелесть года». Во втором из этих романсов, органично включающем элементы песенного жанра, выразительно воспевается «дух силы жизни и свободы...»
Несколькими годами позднее (1951) появляется отмеченный тонким мастерством камерного письма цикл «Родные пейзажи», принадлежащий перу Ю. В. Кочурова (1907—1952) — ленинградского композитора, ученика В. В. Щербачева, автора (среди многих других произведений) романсов на слова Пушкина, Лермонтова, Гейне, советских поэтов14. Само название убедительно воплощает синтез пейзажной звукописи с чувством любви к родине, так выразительно переданным во всех пяти романсах цикла (нужно ли напоминать, как отвечает подобный синтез духу самой поэзии Тютчева?). Цикл Кочурова — один из многих примеров запечатленпя в музыке смены времен года (достаточно назвать ораторию Гайдна «Времена года» или одноименный цикл фортепианных пьес Чайковского). Вместе с тем характерно, что обрамляют все произведение картины весеннего пробуждения природы («Первый лист» и «Еще земли печален вид»), отчетливо выявляя доминирующее в музыке настроение (летняя пора представлена стихотворением «Смотри, как роща зеленеет», осенняя — «Есть в осени первоначальной», зимняя — «Чародейкою зимою околдован лес стоит»). Точность (порою хочется сказать — находчивость) музыкальных решений, свежесть без претензий на особые «новации», национальная самобытность — все это можно отнести к достоинствам цикла Кочурова. К ним стоит добавить художественно яркое и в то же время очень тактичное использование изобразительного начала (в частности, в фортепианной партии), а также отличное чувство формы: как органично подводит, например, развитие музыки в романсе «Первый лист» к гимнической кульминации на словах «О, первых листьев красота»6*. Исследователь творчества композитора В. А. Васина-Гроссман особенно подчеркивает, что в тютчевском цикле Кочурова, так же как и в его цикле на слова советских поэтов, «впервые со всей полнотой раскрылась этическая и эстетическая сущность его творчества», причем такой по
- 559 -
форме камерный цикл, как «Родные пейзажи», обоснованно сближаются ею с «циклом вокально-инструментальных поэм», единству которого способствует глубоко продуманный тональный план, а яркой, живописной картинности — чрезвычайное богатство фортепианной фактуры15.
О том, насколько созвучным послевоенным годам было жизнелюбивое восприятие Тютчевым родной природы, свидетельствует и появившийся примерно в то же время цикл Б. В. Асафьева (1884—1949) «Весна», уже целиком посвященный радостным чувствам весенней поры, за что говорят сами отобранные композитором стихотворения: «Зима недаром злится», «Еще земли печален вид», «Весенние воды», «Сияет солнце, воды блещут», «Весенняя гроза». В лице Б. В. Асафьева мы вновь встречаем музыканта высочайшей культуры и необычайной разносторонности, что, как уже неоднократно отмечалось, пусть в разной степени, но в целом чрезвычайно характерно для музыкальных «тютчеволюбов». Добавим, что еще одним советским автором, получившим известность прежде всего как музыковед, но также написавшим романс на слова Тютчева («Что ты клонишь над водами») был ученик Б. В. Асафьева Ю. А. Кремлев.
Обширный «тютчевский» цикл романсов принадлежит И. Б. Финкельштейну (р. 1910), ленинградскому композитору, ученику М. Ф. Гнесина. Хотя цикл этот, написанный в 1957 г. и изданный тремя годами позднее, назван автором «Последняя любовь», однако наименование это кажется в достаточной мере условным: среди восьми избранных автором стихотворений оказались и те, что никак не связаны с темой любви, например «Как над горячею золой» или «Волна и дума». Вместе с тем композитор, видимо, сознательно остановил внимание на созданиях поэта, в которых неразрывно переплетаются друг с другом образы окружающего мира и чувств человека — будь то стихотворения «Еще природа не проснулась», «Обвеян вещею дремотой», «Сияет солнце» (со столь типичным для них одушевлением природы) или «Сей день, я помню, для меня», «Последняя любовь», «Еще томлюсь тоской желаний», где чувства человека ассоциируются то с восходом или, напротив, закатом солнца, то с образом далекой, недосягаемой звезды и т. п.
Если «Последняя любовь» Финкельштейна лишь условно может быть отнесена к жанру вокального цикла, то появившимся в 1973 г. «Семи романсам на слова Тютчева» В. Н. Салманова (1912—1978; ученик М. Ф. Гнесина), напротив, определенно присущи черты цикличности. За это говорит уже сам порядок избранных стихотворений: «Как тихо веет над долиной» («Вечер»), «На возвратном пути», «Есть некий час в ночи всемирного молчанья» («Видение»), «Silentium!» («Молчание»), «Бессонница», «Могила Наполеона», «Последний катаклизм» («Последний час»), — легко заметить кульминационное положение в опусе двух вершин тютчевского творчества: «Silentium!» и «Бессонницы». Кроме того, автор зачастую пользуется приемом как бы незавершенности отдельных сочинений — по существу, номеров или частей цикла, когда окончание одного предполагает напряженное ожидание продолжения (то, что в музыке обозначается термином attacca, хотя указания этого в романсах Салманова мы и не найдем). Лаконизм вокального высказывания, скромность и графичность фортепианной партии присущи большинству из названных романсов; некоторые же из них прямо-таки бросают вызов сложившимся традициям: прежде всего это относится к «Бессоннице», трактованной композитором как единый, лишенный контрастов поток мысли-чувства (весь романс звучит на фоне ритмически-остинатного сопровождения стаккато). Цикличность тютчевского опуса Салманова подтверждается и большим фортепианным заключением, как бы компенсирующим подчеркнутую скупость сопровождения в ряде предшествующих романсов и олицетворяющим в соответствии со смыслом последнего стихотворения («Последний катаклизм») мир без человека, его чувств и страстей («Все сущее опять покроют воды и божий лик отобразится в них»).
Хотя было упомянуто о тяге советских композиторов к созданию законченных циклов или целиком посвященных одному поэту опусов, нельзя недооценивать появления и отдельных «тютчевских» романсов.
Среди выдающихся достижений советской камерной музыки — романс Г. В. Свиридова «Эти бедные селенья», являющийся на сегодняшний день единственной музыкальной трактовкой бессмертного тютчевского творения7*. К стихотворениям, и в последние десятилетия продолжающим
- 560 -
привлекать к себе все новых музыкантов, безусловно относится «Еще томлюсь тоской желаний». Особенно удачным воплощением его представляется романс Ю. А. Шапорина8*, однако можно назвать немало и иных его прочтений, привлекающих искренностью, выразительностью, стройной законченностью формы. Вот, например, романс Н. П. Ракова (р. 1908 г.; ученик Р. М. Глиэра) — лирически-страстный «музыкальный момент» с красивой, выразительной мелодией вокальной партии на фоне трепетного, полного непрерывного тремолирующего движения сопровождения. Среди целого ряда музыкальных сочинений на текст стихотворения «Сумерки» («Тени сизые смесились») едва ли не лучшим кажется появившийся в 1957 г. романс Н. Пейко (р. 1916), композитора, внесшего весомый вклад в развитие самых разнообразных музыкальных жанров, ученика Н. Я. Мясковского и, в свою очередь, учителя многих видных советских авторов. Нечасто бывает, что слова стихотворения так естественно, словно без всякого вмешательства «извне» становятся музыкой. Именно подобное впечатление возникает при знакомстве с романсом Пейко, нашедшего простое, лаконичное и удивительно точное решение для музыкального воплощения одного из самых прекрасных стихотворений, как известно особенно пленившего в свое время Л. Н. Толстого16. Великолепна в этой вокальной миниатюре и полная острого душевного диссонанса кульминация («Чувства мглой самозабвенья переполни через край»), и молитвенно-хоральное заключение на словах «с миром дремлющим смешай», когда и вправду слияние, «смешение» мелодии с гармоническими последовательностями как бы олицетворяет полное единение человека и природы, личности и мирозданья.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что именно картины природы, которыми так богата поэзия Тютчева, особенно часто побуждали композиторов к созданию хоровых сочинений. Начало этой тенденции находим еще в хорах Танеева, Чеснокова и других музыкантов предреволюционной эпохи. Из произведений, более близких нам по времени (последние 50 лет), назовем сочинения таких разных авторов, как Р. М. Глиэр, А. Н. Александров, М. Коваль, В. Рубин, Р. Бойко и Ю. Чичков. Светлым пантеизмом проникнут хор Р. М. Глиэра «Сияет солнце», где находим типичную для этого автора естественность мелодического развития (хотя и без особой оригинальности и с налетом внешней красивости). К совсем иному этапу развития музыкального искусства относится хор В. И. Рубина (р. 1924) «Весна идет» («Весенние воды»). Автор, окончивший класс композиции у Н. И. Пейко, а фортепиано у А. Б. Гольденвейзера, испытал и, думается, продолжает испытывать большое и плодотворное воздействие творческой индивидуальности Г. В. Свиридова — начиная с общего тяготения к вокальным жанрам (им написано множество сочинений на слова Пушкина, Лермонтова, Блока, Твардовского, Луговского, Гёте, Бёрнса и др.) и кончая многими специфическими особенностями трактовки вокальных, в частности хоровых, произведений. Все это сказывается и в названном тютчевском хоре композитора. В основе его — настойчивые интонационные повторы, «выкликание» одних и тех же мелодических фраз. Среди особенностей хорового письма обращает на себя внимание прием импровизации женской части хора на заданных автором звуках (в целом составляющих, впрочем, вполне определенный гармонический комплекс): все это, вместе с также предусмотренным композитором произвольным сочетанием пения на разных гласных, как бы воспроизводит шум бурлящих весенних вод — фон для решительных реплик мужских голосов. Интересна и некоторая модификация автором порядка стихотворных строк: первоначально в хоре отсутствует повторение слов: «Весна идет, весна идет» — в начале третьей строфы, вместо чего музыка сразу обретает колорит, соответствующей картине «тихих, теплых майских дней». Однако в дальнейшем именно возвращение этой опущенной ранее строки используется для нового вторжения ликующих возгласов: тем самым концовка хора предстает как борьба между лирическим настроением и победно-героическими образами с безусловным доминированием последних.
Более традиционны, хотя по-своему привлекательны два тютчевские хора Р. Бойко (р. 1931), вошедшие в цикл «Три времени года». Цикл этот открывается сочинением, созданным на слова советского поэта Андрея Дементьева, — сочетание поэтических первоисточников, могущее показаться весьма неожиданным; следует, однако, отметить, что стихотворение А. Дементьева «Сентябрь» во много перекликается с тоном классической русской поэзии, своеобразно сочетая тютчевскую интонацию с есенинской в такой, например, строке «Ах, все уйдет, жалей иль не жалей, все превратится в памятную небыль». Оба хора Бойко на слова
- 561 -
Тютчева — «Чародейкою зимою околдован лес стоит» и «Зима недаром злится» — по складу представляют собой терцеты, где партия басов объединена с тенорами, по форме же — основаны на куплетном строении, что особенно подчеркивает связь их с народно-песенной традицией.
На те же слова «Зима недаром злится» гораздо раньше написан хор М. И. Красевым (1897—1959, ученик Ю. Д. Энгеля и А. Т. Гречанинова). В музыке его отчетливо слышны интонации массовых песен 20—30-х годов, что, видимо, подсказано необычайной популярностью данного стихотворения, вошедшего во многие школьные хрестоматии. Хор этот примыкает к целому ряду музыкальных истолкований тютчевских созданий, предназначенных для детского исполнения или по крайней мере восприятия, — начало подобной традиции было положено еще в первые десятилетия нашего века (в частности, рядом сочинений В. Ребикова). А вот хор «В небе тают облака» Ю. М. Чичкова (р. 1929), композитора, казалось бы прочно связавшего свое творчество именно с детской аудиторией, как раз лишен такого специфического «адреса»: написанный автором в юности, он привлекает искренностью и свежестью чувства, изяществом голосоведения, «картинностью» хорового звучания.
С циклами, запечатлевшими времена года, перекликаются те, что можно было бы назвать «Временами дня». Один из них принадлежит перу упомянутого выше В. Н. Салманова. Это цикл из трех хоров: «Утро в горах» («Лазурь небесная смеется»), «Полдень» («Лениво дышит полдень мглистый») и «Летний вечер» («Уж солнца раскаленный шар»). В творчестве В. Н. Салманова хоровые жанры занимают едва ли не ведущее место: именно здесь в особенной мере проявились многие новаторские черты мышления этого автора, будь то ораториальные произведения («Двенадцать» на слова А. Блока) или циклы хоров на стихи С. Есенина, Я. Купалы, Н. Хикмета, Р. Гамзатова. Об огромном опыте Салманова как хорового композитора нельзя не вспомнить, знакомясь и с его тютчевскими хорами, которым присуща яркая картинность, колористическая тонкость, достигнутые специфическими средствами хорового письма. Быть может, в наибольшей мере это относится к центральному хору цикла — «Полдень», где большое значение обретает и пение с закрытым ртом, и как бы парящие над общим слитным звучанием сольные фразы: характерно, что появляются они на словах: «И сам теперь великий Пан в пещере нимф спокойно дремлет», выразительно оттеняя метафоричность образа, как бы даже обособляя это заключительное сравнение из области мифологии от вполне реальной картины знойного полдня.
Все же неверно было бы думать, что хоровое воплощение получали стихотворения Тютчева, посвященные только образам природы. Доказательством могут служить пять хоров Ан. Александрова, созданные композитором в конце своего долгого пути (1971). О разнообразии этого опуса можно судить по включению таких разных стихотворений, как «От жизни той, что бушевала здесь», «Слезы», «Листья», «В небе тают облака», «Зима недаром злится». Высокая культура, тонкий вкус, мастерская разработка материала, немалая изобретательность в области хоровой фактуры, в частности умение музыкально-варьированным повторением одних и тех же слов и строк по-разному высветить оттенки мыслей, чувств, настроений — все это позволяет рассматривать хоры Александрова как заметный вклад в музыкальную тютчевиану последних десятилетий. К значительно более раннему периоду (1945) относятся «Пять хоров» на слова Тютчева М. Коваля. Нередко близкие русским народным интонациям, отличающиеся богато разработанной полифонией, в целом хоры эти представляются все же чрезмерно многозвучными, а порою и «громогласными», что в известной мере лишает их и той контрастности, которую как будто предполагает сам отбор и порядок тютчевских стихотворений: «Восход солнца» («Молчит сомнительно восток»), «Что ты клонишь над водами», «Весенние воды», «Слезы», «Листья».
Уже было упомянуто, что лишь советские композиторы дали стихам Тютчева возможность зазвучать в произведениях кантатно-ораториального жанра. Добавим, что случилось это лишь в последние несколько лет.
Очень интересна кантата Б. А. Чайковского (р. 1925) «Знаки Зодиака» на слова Тютчева, Блока, Цветаевой и Заболоцкого. Автор ее — видный представитель советского музыкального искусства, начавший свой путь под руководством Н. Я. Мясковского, — наряду с симфоническими и камерно-инструментальными жанрами большое внимание уделяет созданию вокальных произведений (цикл «Лирика Пушкина» и др.). Стихотворение «Silentium!» положено в основу первого вокального номера кантаты «Знаки Зодиака», которому предшествует драматически-взволнованное оркестровое вступление (в состав оркестра всей кантаты
- 562 -
входит лишь камерная струнная группа и клавесин); вслед за этим следуют части: «Похоронят, зароют глубоко» (А. Блок), «У четырех дорог» (М. Цветаева) и «Знаки Зодиака» (Н. Заболоцкий). Нетрудно почувствовать, хотя значительно труднее сформулировать то общее, что присуще всем отобранным композитором стихотворениям, куда входят строки: «Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя?» (Тютчев), «Тут, быть может, надумаем мы, что под жизнью беспутной и путной разумели людские умы» (Блок), «Вечной памяти не хочу на родной земле» (Цветаева)... Думается, что ключом, помогающим вскрыть основную идею цикла — соотношение между надвременной, космической сущностью и иллюзорностью ее «реальных» проявлений (что по-своему отражено и в одушевлении простейших вещей, и вакханалии воображаемой нечисти в стихотворении Заболоцкого), могли бы стать многие строки из других, не вошедших в кантату тютчевских созданий, например «Земная жизнь кругом объята снами...». Интересна и по-своему очень убедительна музыкальная трактовка в кантате самих строк «Silentium!». Она вовсе лишена типичной для некоторых других музыкальных трактовок того же стихотворения чисто философской умозрительности, нарочитого глубокомыслия. С подобным толкованием спорит уже само обозначение темпа — характера музыки: Allegro agitato («скоро, возбужденно»). И действительно, на протяжении всей этой части кантаты автор словно бы пытается усмирить трепетное, даже бурное волнение, которое непокорно противостоит в звучании у струнных инструментов мудрой рассудительности слов поэта, и лишь после долгой, упорной борьбы взволнованность эта оказывается преодоленной. Нельзя не признать, что такое решение весьма близко общей антиномичности тютчевского творчества. То, что композитор не пошел по пути воспроизведения спокойно-рассуждающего тона стихотворения, но как бы сообщал ему полифонию чувства и разума, то, что он понял, «вскрыл» пафос внутренней борьбы тютчевского высказывания, не побоявшись «взрывая, возмутить ключи», — все это представляется подлинным творческим открытием, ярко высвечивающим самую сущность гениального творения поэта.
Заметным явлением «музыкальной тютчевианы» недавнего времени оказалась оратория «К солнцу» А. В. Чайковского (р. 1946; ученик Т. Н. Хренникова) для большого оркестра, смешанного хора и солистов (1982); сочинение это уже целиком написано на строки тютчевских стихотворений. Знаменательно, что впервые обращение к поэтическому наследию Тютчева обусловило появление столь монументального вокально-симфонического произведения (протяженностью около сорока минут). Автор его словно бросает вызов той камерности, что присуща большинству музыкальных трактовок тютчевских стихов, камерности, в известной мере перекликающейся с так долго бытовавшим отношением к Тютчеву как «поэту для немногих». Очень разные образцы тютчевской лирики вошли в ораторию А. Чайковского: «Сияет солнце», «Ты волна моя морская», «Не верь, не верь поэту, дева», «Не рассуждай, не хлопочи», «Мотив Гейне» («Если смерть есть ночь»), «Последняя любовь». Но главенствующей в произведении оказалась роль стихотворений «Из края в край» (большой пролог к ряду следующих затем без перерыва частей), «Цицерон» драматическая кульминация всего сочинения) и «Восход солнца» («Молчит сомнительно Восток») — заключительная часть оратории. Сочетание личного и общечеловеческого, земных чувств, тревог, страстей и могучего космического дыхания, веры в «благовест всемирный победных солнечных лучей» — такова основная идея оратории, произведения, уже неоднократно исполнявшегося музыкальными коллективами страны, вызывавшего порою споры (в частности, именно монументальностью трактовки наследия поэта), в целом же получившего уже за первые годы существования большой общественный резонанс.
Оратория А. Чайковского — лишь один из примеров огромного интереса, проявляемого к поэзии Тютчева все новыми поколениями советских композиторов. Уже в последние годы появилось большое число очень разных по стилю музыкальных истолкований тютчевской лирики. Назовем, например, двух молодых ленинградских авторов: Е. Иршаи (р. 1951) и А. Смелкова (р. 1950). Первым создан вокальный цикл «Silentium!», вторым — романсы «Душа хотела б быть звездой», «Листья», «Весеннее успокоение»; можно было бы упомянуть также сочинения А. Мынова, А. Лобзова и многих других авторов. Особо примечательно, что к поэзии Тютчева все чаще обращаются музыканты, представляющие разные республики нашей страны, например туркменский композитор Нуры Халмамедов (р. 1940, ученик А. Н. Александрова).
Понятно, что в кратком обзоре не было возможности хотя бы бегло упомянуть обо всех связанных с Тютчевым работах советских композиторов, в отношении же упомянутых —
- 563 -
дать сколько-нибудь подробный аналитический их разбор. Кроме того, не забудем, что главным арбитром для познания подлинной ценности художественных произведений является время, а время подведения итогов в отношении многих и многих образцов музыкального претворения тютчевского наследия еще не настало. Зато можно с полным основанием говорить, что само развитие музыкального искусства все более и более подтверждает бессмертие тютчевского наследия, близость его все новым и новым поколениям, безграничность музыкального истолкования творений гениального русского поэта.
2. РОМАНСЫ ЧАЙКОВСКОГО
«КАК НАД ГОРЯЧЕЮ ЗОЛОЙ» И «ПЕСНЬ МИНЬОНЫ»Среди произведений композиторов, обращавшихся к поэзии Тютчева в 50—80-х годах, два романса П. И. Чайковского — «Как над горячею золой» и «Песнь Миньоны» (op. 25) — безусловно наиболее совершенны и заслуживают пристального внимания и подробного анализа. Между тем даже в наиболее фундаментальных исследованиях творчества композитора имеются лишь беглые о них упоминания. Почти не уделил им внимания и С. Н. Дурылин в статье «Тютчев в музыке», отметивший только, что романсы эти, «отличаясь обычным для Чайковского мягким элегическим характером, не принадлежат к числу лучших его созданий»17. Такая оценка представляется глубоко ошибочной, хотя с ней перекликается, например, утверждение одного из советских музыковедов о том, что в романсе «Как над горячею золой» тютчевская философская тема воплощается, скорее, в стиле фетовских романсов — «Пойми хоть раз», «Уноси мое сердце»18. Нам думается, напротив, что, не посягая на стихотворения Тютчева, отличающиеся философской глубиной (ряд из них впоследствии нашел замечательное претворение — прежде всего у Метнера), Чайковский выбрал образцы лирики поэта, особенно близкие ему по настроениям, пронизанные и страстным лирическим чувством, и драматической взволнованностью. Созданные им романсы в полной мере отмечены неповторимыми чертами его творческой индивидуальности9*. Имеется, в частности, в виду органическое сочетание элементов песенности, ариозностии декламационного речитатива, переосмысление традиционных романсных форм на основе их симфонизации, превращающей их, по выражению А. Альшванга, в «маленькие драмы инструментально-вокального склада»; интересна его же характеристика романсов Чайковского как своего рода хранилища «интонационного фонда», запас которого все время обновлялся в тесной связи с новизной содержания, т. е. смыслом поэтического текста19. В этой связи совершенно очевидна роль обращения композитора к наследию таких поэтов, как Гёте и Тютчев. Если «Как над горячею золой» в жанровом отношении можно уподобить сцене-монологу, близкому ариозным фрагментам оперных созданий Чайковского, то «Песнь Миньоны» в высшей степени сродни и песенному, и народно-балладному жанрам.
Романсы «Как над горячею золой» и «Песнь Миньоны» изданы Чайковским в 1875 г. (изд. Бессель в Петербурге) вместе с четырьмя сочинениями того же жанра — первое на слова Н. Щербины, а три последних — Л. Мея. Весь опус отнюдь не претендует на значение некоего единого цикла, о чем говорит различие положенных в его основу стихотворений — и по стилю, и по темам, и по художественному значению. Все же характерно, что сочинения на слова Тютчева (второе — перевод из Гёте) следуют одно за другим. Примечательно и то, что тема романса «Как над горячею золой» является в какой-то мере продолжением чувств душевного диссонанса, неудовлетворенности, характерных для предшествующего романса. Хотя романс на слова Н. Щербины назван «Примирение», но, скорее, это лишь призыв к примирению и покорности:
О засни, мое сердце, глубоко!
Не буди, не пробудишь, что было,
Не зови, что умчалось далеко,
Не люби, что ты прежде любило.Напротив, для романса «Как над горячею золой» характерен страстный отпор внутреннему бессилию, желание хотя бы на мгновение вырваться из его оков. Отсюда резкие отличия музыкального строя обоих сочинений: относительное единообразие — как мелодическое в вокальной партии, так и фактурное в фортепианном сопровождении — в «Примирении» и,
- 564 -
напротив, контрастность, а также драматическая напряженность в романсе «Как над горячею золой».
Обратимся же к этому романсу — одному из шедевров вокальной лирики Чайковского, великолепному образцу истолкования тютчевского стихотворения.
Наличие фортепианных вступлений и заключений весьма характерно для жанра романса (в том числе и в творчестве Чайковского). Однако в разных случаях масштабы и значение такого инструментального обрамления не однородны. И вовсе не так уже часто фортепианные вступления и заключения столь контрастируют друг с другом и, как увидим далее, несут совершенно различные функции в раскрытии поэтического первоисточника. Не слишком типично для романсов Чайковского и буквальное предвосхищение во вступлении того тематического материала, который затем будет повторен при вступлении голоса, как и, напротив, появление совершенно новых мелодических интонаций в заключении. Все эти особенности вытекают из чуткого и глубокого постижения композитором смысла тютчевского стихотворения.
Вспомним первое четверостишие:
Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает.Фортепианное вступление отражает именно этот первоначальный импульс — созерцание сгорающего над горячею золою свитка, чему посвящены и первые строки вокальной партии романса. Кажется, будто сперва возникает картина-образ, а затем уже человек находит слова для ее отображения — отображения весьма точного, поскольку вокальная мелодия поначалу почти буквально повторяет мелодию вступления и столь же близким, по существу, даже аналогичным оказывается характер фортепианного сопровождения10*.
Как же рисуется Чайковским картина, которою открывается стихотворение Тютчева? Это дважды повторенная мелодическая фраза, где возбуждение и торможение сплетаются в нерасторжимом единстве. Взволнованности музыкальной речи способствует восходящее движение мелодической линии (с использованием пронзительного интервала увеличенной секунды) и особенно пунктирность ритма — чередование восьмых с точкой и шестнадцатых. Сдерживающее же начало олицетворяют повторы каждой новой достигнутой ступени, создающие ощущение подспудного сопротивления, что приводит к замедлениям движения и бессильным ниспаданиям в концах обеих фраз.
Примечательно соответствие тютчевским словам, казалось бы, традиционного построения обоих музыкальных предложений (в целом составляющих период), симметрии повторов их зачинов и завершений: первая и третья строки («Как над горячею золой», «И огнь сокрытый и глухой») подводят как к кульминационным пунктам к словам «Дымится свиток и сгорает» (строка вторая) и «Слова и строки пожирает» (строка четвертая), где замедленное произнесение каждого слова обретает особую значительность.
- 565 -
Наряду со сходством обоих предложений привлекает внимание и различие: начинаются они почти одинаково, окончания же их — разные. Однако в обоих случаях подчеркнутыми оказываются слова, особенно важные для выявления основной идеи стихотворения. Первое из них «дымится» — т. е. то, что является антиподом сияющего горения (напомним, что впоследствии слово «дым» возникнет уже как метафора при выявлении душевного состояния автора). Со словом этим в мелодии романса интонационно перекликается слово «сгорает». Оба они не только отображают действие (а ведь известно, что музыка особенно тяготеет к процессуальности), но и противостоят тому «сиянию», о котором далее мечтает поэт. Вместе с тем если понятие «дымится» ассоциируется все же с движением ввысь, то «сгорание» вызывает, скорее, ощущение поникания, ниспадания. Именно этим различиям вполне соответствует интонационная природа музыкального высказывания.
Иначе обстоит дело с заключением второго музыкального предложения — четвертой строкой стихотворения. Здесь кульминационными оказываются не глаголы, а существительные, и это понятно: ведь именно «словам» и «строкам» свитка уподобляется в дальнейшем Тютчевым сама жизнь, бытие человека. Для подчеркивания особенно важных слов композиторы часто применяют распевание их на относительно более высоких звуках. Так поступал и Чайковский. Но к иному средству прибегнул он в отношении самого важного слова первого четверостишия — «стро́ки»: ведь речь здесь идет уже не просто о бумажном «свитке» или лишь «словах» — нет, это именно стро́ки, т. е. сам смысл пожираемого огнем. Правда, и здесь движение мелодической линии замедлено обозначением ritenuto. Но главное — это резкое гармоническое вторжение в си минор тональности фа мажора (тритон!), что приводит к завершению всего построения в до мажоре. Именно благодаря этому последние слова первого четверостишия: «строки пожирает» — обретают итоговое, решающее значение.
Второе четверостишие переносит нас от созерцания (пусть глубоко взволнованного) к размышлениям автора о собственной жизни.
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом!..В полном соответствии с этой модуляцией настроения оказывается музыкальное истолкование тютчевского текста: бурное движение сменяется мерными аккордами, активно-устремленные мелодические фразы — речитативно рассуждающими. Последние обретают особую выразительность, прерываясь паузами в вокальной партии и повторами ключевых интонаций в партии фортепианной (что, безусловно, усиливает их психологическое воздействие, помогает более глубокому осмыслению).
- 566 -
К этому можно добавить и иные наблюдения, касающиеся мелодического строения средней части романса. В первой ее половине (5-я и 6-я строки стихотворения) с первым разделом сочинения контрастирует господство противоположного типа движения — не восходящего, а нисходящего. При этом обращает на себя внимание необычайная значительность звучания первоначального наречия в строке: «Так грустно тлится жизнь моя», концентрирующего, словно бы вбирающего в себя смысл всего первого четверостишия, переводя образ-картину в область собственно человеческих чувств. В полной мере удалось Чайковскому передать важнейшее значение этого слова. Во-первых, оно оказывается верхним звуком возникающей затем нисходящей музыкальной фразы («вершиной-источником», по терминологии Б. В. Асафьева); во-вторых, композитор сообщил ему особую протяженность (во всем романсе лишь еще в одном месте партии голоса имеется половинная нота); наконец, слово «так» звучит синкопированно после предваряющего его аккорда, что всегда заставляет обратить особенное внимание на выразительность произносимого голосом.
Каждая интонация вокальной партии средней части романса заставляет восхищаться точностью и тонкостью музыкального воплощения тютчевского текста. Вот некоторые примеры.
Ассонанс звука «и» в словах «тлится» и «жизнь» отражается в сходных мело-ритмических интонациях. В строке: «И с каждым днем уходит дымом» — примечательно единообразие ритма (ровные восьмые), так отвечающее равномерному (день за днем!) течению времени. Во фразе этой примечательно и то, что понятие «дыма» обретает совершенно иной оттенок в данном музыкальном (как и поэтическом) контексте: не образ уносящейся вверх струи, а символ душевной приниженности, что передано дальнейшим нисхождением мелодической линии с попаданием слова «дым» на самый нижний звук романса — фа-диез (добавим, что эта вариация звучащего в начале романса слова «дымится» совпадает с отклонением в начальную же тональность си минора). В отличие от монотонной «каждодневности» «уходящих дымом» дней «постепенность» и «однообразие» гаснущей жизни в последней строке четверостишия переданы ритмическими оттяжками, последнее же понятие («однообразие») выявлено особенно рельефно повторением одного и того же звука фа-диез — сперва октавным ходом вниз, а затем как бы «застыванием» на месте.
Застывание достигает апогея в остающемся тянуться единственном звуке в партии фортепиано (все том же фа-диезе), одновременно готовящем переход к заключительной (соответствующей третьему четверостишию) части романса, возвращение и еще большее усиление эмоциональной возбужденности.
Третья часть романса — типичная реприза в трехчастной форме, характерная для огромного числа музыкальных, и прежде всего инструментальных, сочинений. Но как отвечает принцип такой трехчастности смыслу тютчевского стихотворения! Ведь в конце его вновь появляется образ пламени, хотя теперь это не «огнь, сокрытый и глухой», а «пламень», который (пусть лишь в воображении) «развился́ по воле». В полном соответствии с этим музыка не только возвращает нас к начальному настроению, но и придает ему новое качество («динамизированная» реприза), достигая апогея выразительности на, несомненно, кульминационных, венчающих все стихотворение словах «просиял бы и погас».
Перед характеристикой этого кульминационного пункта романса обратим внимание еще на один достаточно существенный признак вариантности мелодической линии репризы в сравнении с экспозицией. Если в начале продлевалось важнейшее в смысловом и композиционном отношении слово «как», то теперь интонационно восходящим и ритмически подчеркнутым оказывается обращение «О небо», где переносное значение невольно перекликается с буквальным — устремлением пламени ввысь, к небесным высотам. Мелодическими средствами — ритмическим расширением — подчеркивается и желание того, чтобы «пламень развился по воле» (отметим, что слова «дымится свиток и сгорает» получили в музыке иное ритмическое решение):
- 567 -
Но вот, наконец, последняя, завершающая фраза стихотворения: «И не томясь, не мучась боле, я просиял бы и погас». Чтобы оценить акцентирование ее Чайковским, стоит упомянуть о том, что вокальная партия столь драматического, эмоционально-насыщенного романса охватывает диапазон всего лишь в пределах малой ноны (фа-диез — соль). И только в этом безусловно самом драматичном месте произведения автор использует верхний звук указанной вокальной тесситуры (предшествующие кульминации доходили последовательно до ми, фа и наконец фа-диеза). Итак, слово «просиял» — слово заветнейшее, подобное вырывающемуся наконец на волю из-под «горячей золы» пламени истинной жизни и вдохновения, — получает верховное значение, как бы озаряя собою весь романс. Тут же его сменяет и антипод света — тьма, причем контраст этот передан непосредственным «сталкиванием» самого верхнего звука вокального диапазона с самым нижним, в результате чего образуется необычайная «интонационная напряженность», знаменующая глубочайший внутренний диссонанс, которым и завершается все произведение.
Однако здесь-то с особенной очевидностью обнаруживается замечательное свойство музыки: не только по-своему преломлять то, о чем говорится в стихотворении, но и дополнять его тем, чего нет в словах, что читается между строк. Начиная разбор романса «Как над горячею золой», мы говорили о роли фортепианного вступления — изначальном импульсе-впечатлении, которое приводит к словесному высказыванию. Но еще значительнее роль заключения. Внешне, приходя на смену обрывающейся в бессилии вокальной партии, оно как бы разрешает возникший диссонанс света и тьмы. Однако разрешить это противоречие невозможно: ведь именно на остром противоречии между желаемым и действительным и основано все стихотворение. И все же создается впечатление некоего утверждения — утверждения именно неразрешимости конфликта, что с такой непосредственной силой оказывается в состоянии выявить музыка. Если бы найти словесный эквивалент смыслу этого заключения, то, видимо, он выразился бы примерно в следующей фразе: «Этого никогда не будет, не дано, невозможно!» То есть на первый план выступает тема фатальной неизбежности, к которой столь часто обращался в своем творчестве Чайковский и которая — пусть иначе — была очень близка миросозерцанию Тютчева.
В связи с этим стоит вслушаться в интонации, на которых основано это утверждающее неразрешимость конфликта заключение. Интонационно оно, конечно, оформлено на основе уже звучавших мелодических ходов вокальной партии, причем тех, что слышались именно в кульминационных моментах (прежде всего в последней главной кульминации). Но все же речь должна идти о новой, впервые появляющейся теме, причем теме, родственной «мотивам судьбы» у Чайковского — в первую очередь в созданной позднее «Пиковой даме» (герой которой, пусть и совсем в другом контексте, тоже жаждал совершения чуда).
Итак, фортепианное заключение очень выразительно дорисовывает тютчевское стихотворение; используя специфику именно музыкального искусства, оно с предельной убедительностью воплощает все то, что обозначено Тютчевым в последней строке лишь восклицательным
- 568 -
знаком, но что могло бы быть выражено и многоточием, и каким-то несуществующим в синтаксисе словесного языка знаком неразрешимого вопроса...
«Тютчевский перевод монолога маленькой Миньоны, героини «Вильгельма Мейстера» Гёте, как нельзя лучше передает ее прелестный женственный образ» — так характеризовал стихотворный прообраз «Песни Миньоны» А. А. Альшванг. Однако оценка им романса композитора оказалась совсем иной и, на наш взгляд, по меньшей мере спорной. Отмечая «проникновение симфонических принципов в сферу романса», что делает это сочинение «чрезвычайно интересным», исследователь творчества Чайковского вместе с тем писал о «неравноценности отдельных эпизодов и даже нецельности, неоднородности отдельных фраз»; по его мнению, «вокальная мелодия лишена той юношеской страстности, того порыва, которых мы вправе ожидать от музыкального образа Миньоны», мелодия эта «недостаточно стремительна» и «не может сравниться с лучшими образцами страстно выразительного пения у Чайковского», само же «гармоническое движение недостаточно интенсивно»20. Вряд ли, однако, можно согласиться с этими наблюдениями-характеристиками: напротив, заслугой Чайковского представляется то, что ему удалось органически сочетать трогательную песенность с принципами симфонизма, что композитор проявил замечательное чувство меры между «спокойным изяществом»21 и все же безусловной страстностью — как раз в полной мере отображающими «прелестный женственный образ» Миньоны.
В соответствии с жанром «Песнь Миньоны» написана Чайковским в куплетной форме. Однако куплетность сочетается с видоизменениями музыки при повторах — т. е. чертами вариационности. Кроме того, отчетливо дает себя знать и принцип трехчастности — не только в буквальном повторении фортепианного вступления в заключении («обрамление»), но и в развитии вокальной партии романса. Наконец, далее будет упомянуто о некоторых чертах симфонического развития в форме этого сочинения.
Говоря о воплощении в музыке Чайковского поэтического текста, единении стихии музыки и слова, остановимся на двух главных моментах. Первый, связанный со спецификой именно музыкального языка, привел к серьезным коррективам в области архитектоники, композиционной структуры произведения; второй относится к особенностям мелодического интонирования стихотворной речи.
В поэтическом первоисточнике «Песни» примечательна бо́льшая краткость рефренов (каждый раз варьированных) в сравнении с предшествующими им четверостишиями: во всех случаях таким рефренам отводится лишь две строки. В музыке, напротив, для «запева» оказывается достаточным семи-восьми тактов; что же до рефренов, то трижды они расширяются до десяти тактов и лишь однажды такой рефрен, подводя к повторению первой строфы — повторению, не имеющемуся в стихотворении, но добавленному в романсе, — оказывается более сжатым.
Объяснение нетрудно найти в самой специфике музыкального искусства с его повышенной тягой к тому, чему присуща наибольшая эмоциональная выразительность. Каждая из строф «Песни Миньоны», хотя и начинается лирическим обращением героини («Ты знаешь...»), все же посвящена описанию того края, куда зовет она своего отца: здесь картины пышной южной растительности, и крутых гор, и ущелий со снегами, туманом, водопадом, и сияющего зала с лучезарным куполом в доме «на мраморных столпах». Иное дело — рефрены. Описательности в них нет и следа, зато вволю — непосредственного чувства, желания, призыва: «Туда, туда с тобой хотела б я укрыться, милый мой!» (близки по смыслу и совершенно аналогичны по форме высказывания этому первому рефрену и оба следующие). Понятно, именно «зовам» Миньоны дано было стать своего рода лирическими кульминациями романса Чайковского, а в связи с этим обрести и наибольшую развернутость. Стремление композитора (великолепно им воплощенное!) возможно полнее, многограннее отобразить мир чувств героини и смыл ее обращения-призыва к нежно любимому отцу достигается, казалось бы, достаточно традиционным приемом: повторением слов рефрена, вторичным их распеванием. Но как меняется при этом их эмоциональный строй! Сперва в них звучит страстный порыв, а при повторении тех же призывных слов порыв этот каждый раз уступает место глубоко затаенному лирическому чувству. Тем самым наиболее значительные слова «Песни», связанные с нежным наименованием того, к кому обращается героиня («милый мой», «властитель мой»), обретают драматически-взволнованное, а затем лирически-сокровенное истолкование — все это усугубляет силу и емкость выраженного в них чувства:
- 569 -
Подчеркнем, что рефрен расширяется не только за счет двукратного распевания основной его части, но и повторения начинающих вопросительных слов: «Ты знаешь край?», «Ты знаешь путь?», «Ты знаешь дом?»22, — во всех случаях вопрос этот звучит в вокальной партии дважды, что значительно усиливает его выразительность, способствует эмоциональному нагнетанию при развитии мелодической линии. Не меньшую роль играют и повторы слова «туда»: в первых двух рефренах слово это звучит дважды, в заключительном (повторяющем первый) — трижды.
Перейдем теперь к некоторым особенностям самого интонирования Чайковским стихотворного текста, в частности тех его строк, что предшествуют рефренам. Прежде всего привлекает внимание типичное для Чайковского тонкое соответствие мелодической линии, ее ритмического строения синтаксически-смысловому характеру каждой из фраз. Достаточно продекламировать первое четверостишие, чтобы убедиться в естественности, даже необходимости тех же пауз, что имеются в музыке: «Ты знаешь край, // где мирт и лавр растет, // глубок и чист лазурный] неба свод, // цветет лимон, // и апельсин златой, как жар горит под зеленью густой?..»
Обозначенные здесь цезуры представляются наиболее логичными (так же как и слитное, непрерывное звучание сравнительно протяженных словесных определений — даже независимо от строфического деления: «и апельсин златой как жар горит под зеленью густой»). Все эти смысловые, синтаксические закономерности реализуются в вокальной мелодии романса, причем особенно длительной оказывается цезура между первой и второй парой строк — перед словами «цветет лимон».
Нетрудно подметить и еще некоторые тонкости мелодической трактовки текста. Так, ударными в первой строке стихотворения оказываются все три слога с гласными «а». Подчеркиваются они и музыкально-интонационными средствами: «ты знаешь» — ходом вверх на квинту, «край» — протяженностью мелодического звука, «лавр» — вновь широким ходом вверх (на этот раз на сексту). Во второй строке композитором чутко передано противопоставление сочетания слов «неба свод» в отличие от возможной замены его односложным «небосвод»: этому способствует и продление слога «не», и сам рисунок мелодической линии, органически сопряженный со сменой гармонических функций (доминанта на «неба», тоника — «свод»). Значение подобных закономерностей музыкальной речи подтверждается варьированием зачина при повторении его в следующей строфе, в частности, второй ее строке (образ бредущего в тумане по скалам «лошака»), и особенно — в конце четверостишия, где описывается гремящий обвал и ревущий водопад:
- 570 -
Как видим, в мелодии здесь появляются то пунктирная, то триольная ритмические фигуры, верхний звук поется синкопированно, возникая на самую слабую, последнюю долю такта, соответствуя безударному союзу «и» (нарочитая деформация, усиливающая драматическую напряженность, взволнованность вокального высказывания)23.
Что же до мелодии рефренов, то обращает на себя внимание выразительная вопросительность начальных интонаций: «Ты знаешь край?» и т. п. Само повторение этих словесно-музыкальных фраз усиливает ощущение ожидания ответа, в результате же — безответность. Этому способствует и обозначенное композитором замедление — ritenuto, после чего особенную стремительность обретает возвращение к прежнему темпу на словах «туда, туда, туда». Итак, замирание в ожидании ответа разрешается призывными возгласами самой героини, активная настойчивость которых подчеркнута в слове «туда» ритмической устремленностью короткого первого слога к значительно продленному в сравнении с ним второму.
Огромный драматизм обретает, как уже было сказано, первое упоминание о том, к кому обращена речь Миньоны: «Милый мой!» — значение этих слов подчеркнуто и стремительным, буквально «взмывающим» вверх ходом, подводящим к самому высокому звуку на протяжении всего романса, и внезапным, очень ярким вторжением гармонии шестой ступени с дальнейшим продолжением восходящей линии уже в партии фортепиано (и то и другое — каждый раз в аналогичных местах романса). Совсем иные мелодические средства избраны для повторения той же фразы (напомним, отсутствующего в стихотворении) в противоположном музыкально-эмоциональном ключе: здесь внимание сосредоточено на выявлении интимной затаенности, которая так ясно выявлена в словах первого рефрена: «хотела б я укрыться». Если слова «туда с тобой» интонационно как бы отвечают начальным вопросам рефренов, то дальнейшее основано на «завораживающем» повторении одного и того же звука си-бемоль.
Было упомянуто об использовании в «Песни Миньоны» Чайковского принципов не только куплетности и вариационности, но и трехчастности — наличии своего рода среднего раздела, после которого наступает реприза. Казалось бы, для такого решения нет предпосылок в стихотворном первоисточнике. Правда, замечательной особенностью «перевода» слов на язык музыки оказывается нередко преобразование поэтического создания (вспомним хотя бы о значительном различии в структуре рефренов рассматриваемого сочинения). Но в данном случае как раз в поэтическом первоисточнике композитор нашел то, что позволило ему ввести в романс столь созвучный музыкальному искусству принцип трехчастности. С самого начала третьей строфы меняется тональный план, появляется характерное отклонение в фа-мажор с последующей цепочкой модулирующих гармонических сочетаний; она придает всей музыке неустойчиво-трепетный характер, чему соответствует ряд принципиальных изменений, относящихся и к интонационной стороне мелодической линии, вокальной декламации. Именно в этой части романса справедливо усматриваются черты, характерные для симфонизма Чайковского.
С чем же связано избрание третьей строфы для столь значительных метаморфоз? Дело в том, что именно здесь завершается воображаемое путешествие, приводится описание уже не страны вообще, не трудного горного пути, а самой цели его: «дома на мраморных столпах», где «сияет зал и купол весь в лучах». Более того, «кумиры» там спрашивают (правда, «молча и грустя»): «Что, что с тобою, милое дитя?». Такое введение прямой речи, символизирующее долгожданную встречу с чем-то самым заветным, способным понять наиболее сокровенное, откликнуться на него, разительно контрастирует с описательностью, которая господствует в обеих предыдущих частях стихотворения. Неудивительно, что композитор сразу же отозвался на эту перемену в своей трепетной, взволнованно зазвучавшей музыке.
- 571 -
Однако здесь необходима весьма существенная оговорка. В оригинале Гёте порядок стихов иной, чем в переводе Тютчева: вторая строфа не предшествует третьей, а следует за ней, и, стало быть, все стихотворение кончается описанием ведущего к цели горного пути11*. Понятно, что при следовании гётевскому оригиналу замысел Чайковского не смог бы реализоваться в той форме, о которой сказано выше. Любопытно, что до Тютчева «Миньону» переводили на русский язык трижды, каждый раз сохраняя последовательность строф первоисточника. Легко предположить, что хотя бы с некоторыми из них мог быть знаком Чайковский и раньше. И как знать, быть может, не только великолепное звучание, но и указанная «вольность» тютчевской передачи стихотворения оказались стимулом для создания столь выразительного по смыслу, стройного по форме романса? Ведь в композиции его большую роль играет и другая «вольность», допущенная самим композитором: буквальное повторение в музыке первой строфы, образующее репризу трехчастного музыкального построения, способствующее достижению того, что Б. В. Асафьев называл «направленностью формы у Чайковского» — направленностью на достижение максимально законченного восприятия, глубокого запечатления музыкальных образов. Тому же, по существу, помогает и инструментальное обрамление романса: буквальное повторение в заключении фортепианного вступления закрепляет ощущение предельной цельности, «досказанности» этой своеобразной музыкальной арии.
Если интонационно вступление (и заключение) в «Песни Миньоны» родственно многим другим образцам в творчестве самого Чайковского (в том числе мелодии фразы из «Письма Татьяны» — «И в это самое мгновенье не ты ли, милое виденье»), то по строению, полифоническому изложению оно напоминает фортепианный стиль Шумана, как известно являвшегося одним из музыкальных кумиров Чайковского12*. Такое проникновение «немецких истоков» кажется весьма знаменательным в отношении романса на слова, источником которых является создание немецкого поэта. Трудно утверждать, насколько сознательно был использован Чайковским подобный художественный прием24. Но несомненно, что ассоциация эта (возникающая и в начале, и в конце романса) очень помогает восприятию всего произведения как прочтения русским поэтом, а вслед за ним и композитором, того, что корнями своими уходит в искусство другого народа. Все это придает совершенно особый колорит данному сочинению Чайковского в отличие от множества других его романсов, вызывает то особое настроение задушевности, проникновенной выразительности, которое так точно выражается трудно переводимым на русский язык словом innig (искренний, сердечный) — словом, которое столь часто предпосылал своим музыкальным созданиям Шуман.
3. «ВЕСЕННИЕ ВОДЫ» РАХМАНИНОВА И «БЕССОННИЦА» МЕТНЕРА
В отличие от тютчевских романсов Чайковского, почти не освещавшихся в литературе о творчестве великого композитора, романсы Рахманинова на слова того же поэта, особенно «Весенние воды», привлекли пристальное внимание музыковедов. Поэтому задачей предлагаемого анализа является, наряду с приведением собственных наблюдений автора, суммирование того главного, что содержится в трудах, посвященных творчеству Рахманинова, а также проблемам взаимоотношения музыки и поэтического слова.
«Меня очень вдохновляет поэзия, — писал Рахманинов. — После музыки я больше всего люблю поэзию <...> У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они — как сестры-близнецы»25. Что же до лирики Тютчева, то свидетельством глубокого интереса к ней композитора могут служить не только вокальные сочинения, созданные на слова великого поэта, но и одна из частей Первой сюиты для двух фортепиано («Фантазии»), навеянная, по признанию самого композитора, стихотворением «Слезы». Вспоминая впечатления детства, связанные со звучанием больших колоколов Софийского собора в Новгороде, Рахманинов замечал, что «четыре серебряные плачущие ноты, окруженные непрестанно меняющимся аккомпанементом», складывались «во вновь и вновь повторяемую тему», ассоциируясь с мыслью о слезах. «Несколько лет спустя, — продолжал
- 572 -
композитор, — я сочинил сюиту для двух фортепиано, в четырех частях, раскрывающих поэтические эпиграфы. Для третьей части, которой предпослано стихотворение Тютчева „Слезы“, я тотчас нашел идеальную тему — мне вновь запел колокол Новгородского собора»26.
Вершиной обращения Рахманинова к тютчевской лирике (а возможно, и вершиной всего его камерно-вокального творчества) стал романс «Весенние воды», который «весь словно залит солнечным светом и проникнут чувством радостного подъема и ликования»27. Но, прежде чем перейти к разбору этого рахманиновского шедевра, напомним о других вокальных сочинениях композитора на слова Тютчева.
Одной из наиболее вдохновенных страниц рахманиновского творчества стал романс «Все отнял у меня казнящий Бог», справедливо относимый к лучшим образцам драматически-взволнованной лирики композитора. Музыкальное прочтение молодым Рахманиновым этих, по существу, предсмертных тютчевских строк звучит в романсе как патетически-взволнованный монолог, в котором «сама музыка дышит страстно-протестующей непримиримостью»28.
К безусловным достижениям композитора принадлежит и романс «Сей день, я помню, для меня» — одна из «тонких лирических миниатюр Рахманинова, в которых выражение чувства обычно связано с поэтическим любованием красотой и безмятежностью природы»29.
Вместе с тем трудно не согласиться с критическим отношением к некоторым романсам Рахманинова на слова Тютчева, например мнением о «несколько утрированно-мелодраматической экспрессии», свойственной романсу «Ты знал его в кругу большого света»30. Наиболее же уязвимым представляется «Фонтан», где композитор отбросил всю вторую половину гениального стихотворения, посвященную размышлениям о «смертной мысли водомете». Если у Тютчева первая строфа является лишь развернутой метафорой, подводящей к главному философскому выводу, смысловому ядру стихотворення, то Рахманинов, превратив первую строфу в самостоятельное художественное высказывание, «увлекся чисто колористической задачей», создав «эффектное, внешне блестящее, но неглубокое сочинение»31.
Но вернемся к романсу «Весенние воды», безусловно относящемуся к вершинным свершениям рахманиновского гения и одной из самых ярких страниц «музыкальной тютчевианы». В нем, как в фокусе, сосредоточились многие характерные особенности творчества композитора, причем проявились они уже в период созревания его могучего музыкального дара (это можно сказать и о ранее созданной прелюдии до-диез минор, по сей день остающейся одним из любимейших сочинений всей фортепианной литературы).
Именно здесь «впервые у Рахманинова так явно проявились те „весенние“ настроения, которые начинали все отчетливее слышаться в русском искусстве с середины 90-х годов <...> Современник композитора свидетельствует, что в пору нарастания революционного движения в 1900-х годах этот романс стал символом общественного пробуждения»32. «Весенние воды» можно сопоставить с такими воспринимавшимися также в духе революционного обновления мира произведениями, как последний этюд op. 8 Скрябина или ми-минорный «Музыкальный момент» самого Рахманинова (напомним, что Б. В. Асафьев сближал некоторые произведения Рахманинова — в том числе и «Весенние воды» — с романтическим пафосом молодого Горького33).
Сам выбор стихотворения «Весенние воды» представляется исключительно созвучным облику молодого Рахманинова, присущей ему могучей жизнеутверждающей силе, эмоциональной приподнятости и взволнованности, мужественному романтизму, сочетанию проникновенной лирики и яркой картинности образов. Как нельзя более отвечают строки из «Весенних вод» той «призывности», что доходит порою до ораторского пафоса, также являясь характерной чертой рахманиновского творчества. Что же до рисуемой в этом стихотворении картины шумливых, бегущих, блещущих на солнце вод, то она оказывалась весьма благодарной для создания фортепианного сопровождения, проявления в нем богатейшей фантазии и мастерства великого композитора-пианиста. Особенно примечательными представляются при этом черты «симфонизации камерного вокального произведения»34, которое «обретает настоящий концертно-симфонический размах»35. Все это, безусловно, подсказано строками тютчевского стихотворения, их огромной обобщающей силой: ведь сама картина весеннего пробуждения природы воспринимается «как ярко национальный и вместе с тем символический массово-стихийный образ»36, «гимн стихийным порывам, буйному кипению молодых сил»37.
- 573 -
Когда обращаешься к вокальному творчеству Рахманинова, невольно сопоставляешь его с достижениями в той же области Чайковского, поскольку творчество обоих композиторов связано узами преемственности, которую в период становления рахманиновского стиля современники были даже склонны трактовать как прямое подражание. Между тем гений Рахманинова с самого начала проявил черты самобытности, что стало особенно ясным в процессе его дальнейшего развития: как часто бывает, что, знакомясь со зрелым творчеством художника, начинаешь особенно чутко воспринимать все наиболее характерное для него и на более ранних, часто даже начальных этапах его развития!
В приведенном выше разборе сочинений Чайковского на тютчевские тексты подчеркивались не только интонационная гибкость и выразительность вокальной линии, но и «достоверность» во всех мельчайших деталях интонационному строю поэтического первоисточника. Подход Рахманинова к поэтическому слову во многом отличен. Основан он не только на декламационном сближении языка слов и музыки, на непосредственном «перековывании» речевых интонаций в мелодические, но часто — на подчинении мелодических интонаций обобщенным образам; возникнув в словах, эти образы диктуют композитору приемы, связанные уже со сферой чисто музыкальной выразительности. Так, исходным тематическим зерном в «Весенних водах» оказывается «не вокально-речевая интонация, а инструментальный мотив, очень выразительно передающий усилие, напряжение, а потому как нельзя более подходящий для рвущейся на волю стихии»38. Или обратимся к экстатически-взволнованному восклицанию: «Весна идет, весна идет!», приводимому Тютчевым в конце второй строфы в виде прямой речи.
Как бы патетично и взволнованно ни продекламировать эту строку, едва ли в ней с такой очевидностью проявятся те восходящие интонации, что слышатся в романсе Рахманинова. По существу, композитор использует здесь средства специфически-музыкальной образности, интонации, близкие уже не речи, а трубно-фанфарным призывам, обретающим роль своего рода музыкально-интонационных символов. Кстати, именно выход музыки за пределы интонационного следования за словом и, напротив, использование более обобщенных мелодических формул, выявляющих прежде всего существо поэтических образов, привело к тому, что романс «Весенние воды» легко «оторвался» от жанрового первоисточника и исполняется на различных инструментах (в частности, медных духовых, с особенной яркостью передающих в кульминации фанфарно-призывные восклицания).
И все же нельзя не усмотреть в мелодике «Весенних вод» и тонкого интонационного осмысления поэтических строк. Доказательством могут служить уже первые две: с какой решительностью сопоставлением самих мелодических фраз отвергается зимнее прошлое («Еще в полях белеет снег») приметами наступающей весны, шумом хлынувших отовсюду весенних вод!
Характерна в этой связи содружественная сила мелодических и гармонических средств выразительности: великолепно оттеняет отклонение в минорную тональность на словах «белеет снег» сразу же наступающее затем утверждение мажорной тональности на словах «а воды уж весной шумят». Таков зачин романса, прекрасно выявляющий смысловую тезу и антитезу, заключенные в начальных строках стихотворения. Далее, в полном соответствии
- 574 -
с аналогией в смысле и строении строк («бегут и будят», «бегут и блещут») следуют две повторяющие друг друга музыкальные фразы. Смысл рисуемой поэтом картины, бег шумящих водных потоков вновь отображаются специфически-музыкальными средствами: восходящим по ступеням и очень упругим в ритмическом отношении движением мелодической линии.
Если близость между собой стихотворных строк находит отражение в буквальных повторах мелодических фраз, то различие их окончаний подчеркнуто гармоническим контрастом: так, на словах «сонный брег» (продолжение зимней «антитезы» главенствующему весеннему, действенному, жизнеутверждающему образу) опять ненадолго возникает отклонение в минорную тональность; что же до второй мелодически идентичной фразы, то ее завершает уже не минорная, а яркая мажорная тональность субдоминанты.
Следующая фраза развития подводит к наивысшей точке эмоционального напряжения. В отношении музыкальной формы эту часть романса можно рассматривать как предыкт к репризе и самую репризу (являющуюся в то же время кульминацией сочинения). Упорное повторение единого звука (в ритмическом расширении), мерное нагнетание его на словах «они гласят во все концы»:
— и вправду ассоциируется с «возглашением», за которым, подобно фанфарным призывам (о них уже упоминалось), следуют восклицательные реплики «весенних вод».
На краткий миг вновь возникают начальные интонации романса («еще в полях»), но напоминание это призвано лишь оттенить новый, еще более страстный порыв на словах «она нас выслала вперед», с достижением самой высокой ноты в мелодической линии всего сочинения: ля-диез. Вновь нельзя не подчеркнуть роль тонального плана в этой кульминационной части романса; именно появление новой гармонии и тональности определяет резкий поворот в развитии уже знакомой нам поначалу мелодической фразы: сколько горделивого мужества слышится в словах «мы молодой весны гонцы», приводящих к тональности, завершающей экстатически-страстный трубно-фанфарный возглас на словах «она нас выслала вперед!».
Следующая часть романса, соответствующая третьему четверостишию, открывается повтором тех же слов, которыми кончилось предыдущее (характерный прием поэтики Тютчева). Однако повтор этот выступает уже не в виде прямой речи («от лица» весенних вод), а как слова самого автора, своего рода констатация со стороны, включающая момент отстранения, «объективизации». Перевод такой «объективизации» на язык музыки, выражение ее специфическими, лишь этому искусству присущими средствами — едва ли не самая удивительная находка композитора. Если в возгласах «весенних вод» (прямая речь) на слова «Весна идет,
- 575 -
весна идет» звуки восходящего мажорного трезвучия взмывали круто вверх, то теперь те же слова дважды произносятся на одной и той же ноте, создавая впечатление спокойного утверждения, даже созерцания со стороны — созерцания того шествия весны, что передается в фортепианной партии и переливами гармоний, и поступью восходящих мелодических ходов на фоне продолжающегося журчания водяных струй. Это застывание мелодической линии в вокальной партии прекрасно готовит появление нежных хроматизмов в следующей фразе: «И тихих, теплых майских дней»13*.
Интонационно фраза резко контрастирует всему строю вокальной (но не фортепианной!) партии романса, и, конечно, предпосылку для такого контраста легко усмотреть в самом поэтическом первоисточнике: ведь в последних строках стихотворения Тютчев как бы отрывает нас от настоящего, переносит в будущее. При этом рисуется удивительная картина, где то, что ждет впереди, пространственно оказывается «нарисованным» в отдалении, грядущий хоровод «тихих, теплых майских дней», подобно некоему призрачному фону, располагается за высланными вперед гонцами молодой весны. Вместе с тем действительность, столь картинно и «звучно» (имея в виду использование автором слуховых представлений) описанная в основной части стихотворения, уступает место мечте, воображению, рисующему то, что должно прийти на смену бурному разливу весенних вод. И вот этот-то контраст и передан совершенно иным, полным нежной мечтательности интонационным строем мелодической фразы с появлением единственного на протяжении всего романса оттенка звучности pianissimo. Правда, воображаемое очень скоро превращается у Рахманинова в реальность нового страстного призыва — отсюда возвращение интонационного строя, характерного для фраз, утверждающих властную силу «гонцов весны», и, следовательно, окончание вокальной партии fortissimo (продолжающееся затем и в экстатически-бурном фортепианном заключении романса — собственно коде). В таком музыкальном решении можно усмотреть некоторую вольность композитора по отношению к тютчевскому стихотворению, где вся концовка кажется окутанной дымкой мечты и иллюзорности. Однако не забудем, что свойством музыки (часто значительно продлевающим словесное высказывание во временно́м отношении) оказывается высвечивание и укрупнение тех деталей, которые могут остаться незамеченными при чтении стихотворения, — именно с этим связано его досказывание и даже, как порою кажется, переосмысление. И действительно: пусть на какое-то время поэт переносится в даль тихих майских дней, но в самой последней строке он все же возвращает нас к переживаемому моменту: «толпится весело за ней» — т. е. за весной.
Мы проследили развитие музыки романса на основе главным образом его вокальной партии, казалось бы в наиболее очевидной форме призванной осуществить взаимоотношение музыки со словесным текстом. Однако отличительной чертой этого, как и ряда других романсов Рахманинова, оказывается подлинное равенство партий голоса и фортепиано, когда последняя лишь условно может быть названа сопровождением или аккомпанементом39. Многообразны ее функции. Конечно, одна из них — передача стремительного движения, бурливости струящихся потоков, т. е. задача изобразительного и даже звукоподражательного плана. В соответствии с этим большая часть (20 тактов из 36) представляет собой непрерывное движение шестнадцатых, звучащих очень стремительно в предусмотренном автором темпе Allegro vivace; кроме того, задаче звуковой выразительности отвечает и волнообразный характер фигураций, «образ стремительно взлетающей и радостно пенящейся на вершине волны»40. К этому следует добавить широту диапазона, создающую впечатление не только безбрежности пространства, на котором происходит наступление весны, но и захваченности происходящим всего существа человека.
Однако уже во вступительных двух тактах (материал которых становится затем фоном вокальной партии) именно у фортепиано возникает главная тема:
- 576 -
С упорным постоянством звучат в ней призывно-восходящие интонации, а также хроматизмы, ассоциирующиеся с томлением, даже жалобами: вместе с предшествующими им ходами вверх по звукам трезвучия (как бы стремительные накаты волн и их неохотное, но неизбежное отступление) создается очень своеобразное психологическое настроение, пафос борьбы и одновременно нежное томление весенних упований.
Все это органически дополняет и даже, можно сказать, качественно трансформирует то, что слышится в вокальной партии. Примечательно, что даже на строках «Весна идет, весна идет», «мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед», т. е. в кульминации сочинения, где жизнеутверждающий характер, присущий вокальной партии, проявляется в наиболее категорической форме, — даже там (как и в конце сочинения) автор не только не расстается с щемящими интонациями нисходящих хроматизмов у фортепиано, но придает им особенно взволнованный, как бы доходящий до исступления характер. Именно столкновение с ними фанфарно-мажорных ходов (восходящие трезвучия) и создает ощущение исключительного драматического напряжения, пафоса, экстаза борьбы, вновь заставляя вспомнить об упомянутых выше сочинениях — последнем этюде op. 8 Скрябина (часто называемом «революционным») или «Музыкальном моменте» ми-минор (в последнем случае экстатически-взволнованный характер обретают и фанфарные призывы, и нисходящие хроматизмы, очень напоминающие те, что слышатся в фортепианной партии «Весенних вод»). Впрочем, еще более примечательно другое: на интонациях, которые до этого столько раз звучали в фортепианной партии основана вокальная фраза в начальном разделе коды — «эпизоде отстранения» («И тихих, теплых майских дней»); именно это делает возникающий здесь контраст столь естественным, органически вписывающимся в общее музыкальное развитие.
Итак, тесное сплетение вокальной и фортепианной партии проявляется на протяжении всего сочинения: то это голос, догоняющий стремящиеся вверх пассажи фортепиано на словах «бегут и будят сонный брег», «бегут и блещут и гласят», то переход в репризе от «струящегося» пассажного движения к сопровождающим фанфарную мелодию аккордам «колокольно-хорового» характера41 («восклицания» весенних вод), то очень выразительные мелодические фразы, звучащие как ответы на слова «Весна идет, весна идет» в начале третьего четверостишия, кажущиеся на фоне меняющихся, переливающихся разными цветами гармоний своего рода символом непрерывного движения, весеннего изменения и обновления. Особенно же отчетливо чувство взаимопроникновения вокальной и фортепианной партий возникает к концу сочинения (интересная тенденция к сближению в развитии словесно-музыкальных образов!), когда вокальная партия перенимает интонации фортепианной (нисходящие хроматизмы на словах: «теплых майских дней»), последняя же от непрерывного движения шестнадцатых переходит к патетическим возгласам триолей, а в самом конце — к фанфарному ходу, так напоминающему призывы гонцов наступающей весны в кульминации романса и как бы символизирующему окончательную их победу.
Автор статьи «Тютчев и музыка» С. Н. Дурылин назвал Метнера единственным конгениальным этому поэту композитором, чьим творчеством «русская музыка уплатила старый свой долг лирике Тютчева»42. Отмечая интересные параллели литературных симпатий и истоков творчества обоих художников (связанных, в частности, с наследием Гёте), Дурылин
- 577 -
подчеркивал в музыке Метнера строгую стройность и классическую ясность формы, сочетающуюся «с трагическими ритмами, со страстной мощью дифирамба, с глубоким „лирическим волнением мелодии“», что «дало Метнеру силу и возможность впервые в русской музыке передать подлинного Тютчева»43.
Конечно, такая оценка метнеровских опусов в соотнесении даже с музыкальной тютчевианой, существовавшей ко второй четверти нашего века (времени появления цитируемой статьи), не лишена субъективных преувеличений. Думается, автор, критически или по меньшей мере прохладно отзывавшийся о всех других музыкальных воплощениях тютчевского наследия, сузил понятие «подлинного Тютчева», ограничив его тем кругом настроений и раздумий поэта, которые привлекли к себе Метнера, соответствуя именно его художественным склонностям, вкусам, всему его творческому облику. В самом деле, трудно представить себе истолкование тем же композитором многих образцов тютчевской лирики (назовем хотя бы «Весенние воды»), являющихся также созданиями «подлинного Тютчева», чей гений при всей яркости и самобытности отличается и чрезвычайной многогранностью, что и определило обращение к его наследию самых различных музыкантов.
Вместе с тем несомненным представляется тесное родство многих черт в обликах Тютчева и Метнера, тяготевшего «к литературным текстам преимущественно созерцательно-философским по своему строю»44. Безусловно, что именно Метнеру удалось впервые почувствовать и гениально воплотить одну из важнейших сторон тютчевского творчества, связанную с раздумьями о смысле бытия, проблемой «человек — мирозданье». Недаром в воспоминаниях об этом музыканте можно прочитать, что он, «как никто другой из современных ему композиторов, чувствовал и осознавал хаотическое начало в бытии человеческой души и во всей своей художественной деятельности преодолевал это начало»45, что «некоторая сдержанность, подчас суровость музыки Метнера роднит его с одним из любимых его поэтов — Тютчевым, поэтом «космического сознания», как его часто называли в России, что «оба эти художника конгениальны друг другу», стремясь проникнуть «в глубочайшие тайники человеческого духа»46.
Подчеркивая тягу Метнера к образам «космического сознания» в поэзии Тютчева, не будем все же недооценивать широту, разносторонность метнеровской тютчевианы. Уже при первом обращении композитора к тютчевской лирике внимание его привлекли такие разные стихотворения, как «День и ночь», «Волна и дума», «Сумерки», «Что ты клонишь над водами». «Мудрая ясность преодоленного трагизма»47, — так характеризовал С. Н. Дурылин тютчевские создания композитора, вошедшие в op. 28: «Весеннее успокоение», «Сижу задумчив я один», «Пошли, Господь, свою отраду». В сочинениях же Метнера последующих лет соседствуют такие шедевры, как «Бессонница», «О чем ты воешь, ветр ночной», «Слезы людские» (op. 37) или «Как сладко дремлет сад темнозеленый» и «Наш век» (op. 45); наконец, последним опубликованным сочинением композитора оказался романс, также написанный на слова Тютчева: «Когда, что звали мы своим...» (op. 61)48.
Во всех романсах Метнера на слова Тютчева отразилось то, что вообще чрезвычайно характерно для его вокального творчества. Чтобы лучше осознать особенности последнего, напомним, сколь непростым был путь композитора к поэтическому искусству. В одном из ранних писем он признавался, что «заставил себя как следует вчитаться в стихотворную поэзию», но, почитав «немного Тютчева, потом поэзию „Скорпиона“ и „Грифа“ и, наконец, сборник Фета», он нисколько не изменил своего «холодного отношения к стихотворной поэзии». В том же письме Метнер пояснял, что хотя Тютчев и Фет талантливы, «но все же чувствуется до известной степени, что поэтическая форма для них бремя. Нет творчества в форме, а только в мыслях и настроениях»49. Думается, что, претворяя поэзию Тютчева как поэзию «мыслей и настроений», Метнер стремился дополнить, обогатить ее тем, что он называл «творчеством в форме», — разумеется, в данном случае музыкальной. Что мы имеем в виду? Справедливо установлено наличие двух различных подходов композиторов к поэтическому тексту: возможно более точного, детального следования мелодической линии за интонационно-ритмическими особенностями стихотворной речи (один из ярчайших примеров — Чайковский) и, напротив, создания мелодии на основе лишь обобщенного поэтического образа. Можно с полным основанием утверждать, что вокальный стиль Метнера олицетворяет прежде всего второй из этих принципов, причем порою в наиболее крайних его проявлениях. Нередко кажется, будто музыка буквально парит над словами, не столько подчиняясь декламационным особенностям стихотворной речи, сколько создавая для нее свою собственную
- 578 -
форму, в результате чего образуется некая «полифония» восприятия музыки и текста, созидаемая, разумеется, на основе внутренней, пусть глубоко опосредствованной общности высказываний поэта и композитора. Легко понять в связи с этим и огромную (часто кажется — главенствующую) роль инструментального начала в метнеровских романсах: и в отношении необычайно развитой фортепианной партии (которую едва ли можно назвать сопровождением), и в плане использования голоса как своего рода инструмента при вокализации без слов (особенно часто — в заключениях вокальных сочинений). О внимании Метнера к взаимосвязям между музыкой и словом свидетельствует создание им ряда инструментальных сочинений на основе предваряющих их поэтических эпиграфов (motto): в частности, фортепианной сонате op. 25 предпосланы строки тютчевского стихотворения «О чем ты воешь, ветр ночной», одной из сказок op. 34 — слова того же поэта: «Когда, что звали мы своим...», наконец, финалу Второй скрипичной сонаты — ликующая фраза: «Весна идет, весна идет!». Вместе с тем тягу композитора к вокализации без слов увенчало создание им столь необычных произведений, как «Соната-вокализ» и «Сюита-вокализ» op. 41. И все же нельзя недооценивать в романсах Метнера чуткого отношения к поэтическому слову, внимания к соответствию между ним и музыкой «не только в пределах общего настроения, но и в отдельных подробностях», пусть и далеких от «детального иллюстрирования поэтического текста»50.
Все тютчевские создания Метнера заслуживают подробного анализа, поскольку каждое из них является поистине чудом глубокого и самобытного проникновения в мир поэзии Тютчева и одновременно образцом присущего Метнеру высочайшего композиторского мастерства. Но особенно широкую известность получила «Бессонница» («Часов однообразный бой»), которую можно поставить на одно из первых мест среди не только вокальных, но и инструментальных сочинений композитора. Видимо, и сам Метнер придавал «Бессоннице» особенно большое значение среди всех созданных им романсов. «Из многих новых песен мечтаю показать тебе „Бессонницу“ Тютчева и „Арион“ Пушкина, — читаем в одном из его писем, относящихся к 1920 г. — Первая — о том, что часто переживалось за последнее время, а вторая — о том, к чему стремится душа. В музыке, кажется, удались обе...»51. Годом позднее, посылая свои новые произведения Рахманинову, композитор писал: «Из песен прошу прочесть главным образом „Бессонницу“ Тютчева, которая даст вам некоторое понятие о наших переживаниях»52. Наконец, уже в конце 20-х годов Метнер вновь возвращается в мыслях к стихотворению, послужившему источником одного из самых вдохновенных его созданий: «Конечно, и везде на свете сейчас вспоминается тютчевская «Бессонница», но нигде так остро не переживается она мною, как здесь, во Франции. Только и забываешься каким-то сном, когда с головой погружаешься в работу»53.
Необычайная сила и глубина «Бессонницы» Метнера связана, в частности, с тем, что композитор, давая музыкальную жизнь одному из тютчевских стихотворений, заставляет вспомнить о многих других созданиях того же поэта, почувствовать нерасторжимую связь между частью и целым. Уже посвящение романса (как, впрочем, и двух других: «О чем ты воешь, ветр ночной» и «Слезы») памяти брата Карла вызывает ощущение скрытого присутствия еще одного тютчевского творения: «Брат, столько лет сопутствовавший мне». Возникает ассоциация и с еще одним поздним произведением Тютчева — «От жизни той, что бушевала здесь»: о последней строке этого стихотворения невольно вспоминаешь в конце метнеровской «Бессонницы», где слова «металла голос погребальный порой оплакивает нас» поистине разрешаются образом «всепоглощающей и миротворной бездны». Наконец, сам тон музыкального повествования в «Бессоннице» проникнут тем горделивым утверждением возвышенности, благородства человеческого духа, что так близок мужественному преодолению трагизма в стихотворении «Два голоса», и прежде всего двум последним его строкам: «кто ратуя пал, побежденный лишь роком, тот вырвал из рук их победный венец».
Казалось бы, в начале романса, открывающегося словами: «Часов однообразный бой», Метнером использован достаточно традиционный прием звукоподражания. Однако композитору удалось придать ему огромную обобщающую силу, сделать своего рода символом неумолимого хода времени: кажется, именно «глагол времен» (вспомним, что неоднократно указывалось на близость тютчевской «Бессонницы» державинской строке), а вовсе не только лишь звуки боя часов слышатся в фортепианной партии — и во вступлении, и в сопровождении первых вокальных фраз. Какие же средства используются композитором? Вроде бы самые простые: тонический «органный пункт» в басу и остинато того же тонического звука в верхнем голосе; столь же упорное повторение третьей минорной ступени — как бы накидывающей
- 579 -
на музыку траурный покров (верхний голос партии левой руки); далее — диссонирующее задержание, остро синкопированным ритмом разрешающееся в пятую ступень; и, наконец, ходы по секундам, звучащие также в низкой тесситуре (средний голос партии левой руки).
Итак, исходным моментом музыкального развития оказывается повторение минорного трезвучия — однако не как чего-то органично-целостного, а расщепленного на разные элементы, каждый из которых получает свою собственную выразительную функцию: первая ступень обрамляет звучание, но не синхронно, а каждый раз с опозданием басового звука, третья ступень как бы «подталкивает» движение «ямбическим» ритмом от слабых к сильным долям; наконец, пятая вызывает ощущение некоего антипода устойчивости и равновесия, что усугубляется и диссонирующими задержаниями, и «опеванием» ее неаккордовыми звуками.
Можно утверждать поэтому, что гомофонно-гармоническую по видимости фактуру автор трактует в высшей ступени полифонично, причем не столько в смысле многоголосия как такового («дуэт» в партии правой руки или движущийся, хотя и не «выписанный» полифонически голос в партии левой), а имея в виду полифонию смысловую: именно поэтому последующие метаморфозы так органично вытекают из начальных тактов, лишь все более обнажая присущий им душевный диссонанс (как органично готовит, например, у Метнера «часов однообразный бой» «глухие времени стенанья»!).
Анализ «Бессонницы» мы начали со звучания фортепианной партии — и отнюдь не потому, что два ее такта предшествуют вступлению голоса, но ввиду огромного смыслового значения этой партии — черта, как указывалось, чрезвычайно типичная для метнеровских вокальных опусов. В частности, про фортепианную партию «Бессонницы» менее всего можно сказать, что она лишь поддерживает солиста, дорисовывает основной образ — нет, в известном смысле она оказывается даже определяющей, главенствующей, и уж, во всяком случае, только вместе с ней пение обретает ту глубочайшую выразительность, что соответствует тютчевскому стихотворению.
Первая же вокальная фраза, кажется, лишь добавляет слова к тому, что звучало во вступительных тактах: мелодия ее основана на тех же звуках — звуке тоническом (количественно преобладающем) и звуке третьей минорной ступени — той, которая сразу же должна подчеркнуть скорбный характер музыки. Первый инородный вступлению звук — субдоминанта четвертой ступени — появляется лишь на слове «томительная», давая первый импульс к собственно мелодическому развитию. Следующим «импульсом» (как бы подхватывающим предыдущий) оказывается восходящий ход на квинту в слове «повесть». В декламационном отношении он может показаться неожиданным. Однако не забудем, что смысл первых двух строк стихотворения получает дальнейшее развитие на основе нагнетания сравнений: бой часов постепенно одушевляется, уподобляясь сперва «повести», а затем не только «языку», но и «совести». И вот эту-то напряженную ассоциативную работу мысли и передает музыкальное истолкование Метнером первого четверостишия. В частности, слово «повесть» интонационно не замыкает, а, напротив, «размыкает» мелодическое построение, открывая путь для следующих очень выразительных, мелодически-насыщенных фраз. Уже в них дифирамбическая по характеру мелодия не только и даже не столько передает смысл произносимых певцом слов, а — вновь повторим — кажется, парит над ними, в результате чего также образуется своего рода полифония: музыки и словесного высказывания. Разумеется, имеется в виду вовсе не противоречие между ними: нет, в конечном счете сама мелодия рождена именно смыслом тютчевских строк, в частности, даже секвенционное строение ее отражает следование друг за другом двух словесных определений, относимых к бою часов: «язык для всех равно чужой и внятный каждому как совесть». И все же отчетливо ощущается и некая
- 580 -
дополнительная, «надсловесная» выразительность вокальной партии, заставляя вспомнить о многих инструментальных произведениях композитора.
В органическом сочетании интенсивного развития с единообразием — одно из удивительных свойств метнеровского творения. Музыкальное истолкование и следующего четверостишия не порывает с остинатностью сопровождения, играющего огромную выразительную роль во всем произведении, но вместе с тем опять же именно оно дает музыкальному повествованию совершенно новое направление, основанное на главенстве не архитектонического, а процессуального начала. Знаменательно, что своего рода сигналом для такого преобразования послужила концовка первого четверостишия: неожиданная модуляция в двойную доминанту на слове «совесть», вновь сопровождаемая восходящей интонацией, на этот раз — сексты. И вновь «сдвиг» этот не столько завершает «экспозицию» романса, сколько открывает его разработку, где уже в начале гармоническая неустойчивость приводит к тональности си-бемоль минор на словах «пророчески-прощальный глас!»
Чтобы понять, почему так органично воспринимается утверждение именно этой тональности при произнесении приведенных слов, вспомним о роли звука си-бемоль уже в самом начале романса: ведь именно с ним был неразрывно связан «часов однообразный бой», именно «наслаивание» си-бемоля на тонический органный пункт создавало столь чреватую конфликтностью «смысловую полифонию» фортепианной партии; вместе с тем именно к тому же звуку дважды устремлялись восходящие интонации мелодии на словах «повесть» и «чужой». И вот теперь после интенсивного развития, сопряженного с интонационной неустойчивостью и обилием модулирующих аккордов, после все более драматического звучания в фортепианной партии «стонущих» нисходящих хроматизмов («глухие времени стенанья») главенство звука си-бемоль утверждается его упорным семикратным повторением в вокальной партии на словах «пророчески-прощальный глас» — словах, добавим, ключевых: именно в них поэту удалось с предельным лаконизмом выявить роль звука как средоточия связи времен (что так характерно и для многих других его стихотворений).
Трактовка Метнером следующего четверостишия вновь может показаться неожиданной. Полные трагизма слова об «осиротелом» мире, настигнутом «неотразимым Роком», о «покинутом» человеке при музыкальном осмыслении менее всего напоминают об отчаянье и подавленности — скорее, они полны оптимизма, хотя оптимизма, глубоко выстраданного, олицетворяющего возвышенность и мужество — черты, столь созвучные метнеровскому творчеству. Сама безысходность содержания стихотворных строк словно бы находит выход в красоте и величавости мелодического распева, пластической завершенности и отточенности
- 581 -
ритмического рисунка — словом, той дифирамбической возвышенности, что поистине создает впечатление силой духа преодоленного трагизма.
Тому же способствует и отходящая от первоначальной суровой остинатности фортепианная фактура (хотя и сохраняющая с ней преемственную связь): еще более усиливает она то, что Б. В. Асафьев назвал «обобщением через жанр» — в данном случае родством музыки с возвышенно-дифирамбическим, как бы оторвавшимся от земли со всеми ее страданиями танцем. Все построение вновь лишено разрешения: место кадансирования заступает неожиданная модуляция (как и в конце первого четверостишия — в тональность двойной доминанты). Вместе с «повисающим» интервалом восходящей кварты в вокальной партии это создает ощущение вопроса — точнее, некоего утверждения его извечной неразрешимости. Подчеркнем, что подобные «вопросы», являющиеся каждый раз и предварением всего последующего, властно требующие продолжения, «подхватывания» музыкальной мысли, во многом способствуют монолитной цельности произведения, неразрывному сцеплению всех его частей, что так отвечает непрерывности тютчевского монолога-размышления.
Однако на этот раз «подхватывание» происходит не сразу: ему предшествует интенсивное развитие музыки в фортепианной партии. Хотя «интерлюдия» эта занимает всего два такта, однако роль ее очень велика: следующему, по существу, кульминационному построению, соответствующему четвертой строфе стихотворения, сообщается необычайный драматический накал (Con moto, agitato), причем во всем дальнейшем развитии огромную роль продолжает играть полная могучего внутреннего напора фортепианная партия, обретая и самостоятельное, очень широкое мелодическое дыхание. Особенная выразительность сообщается ей после кульминационных слов: «И наша жизнь стоит пред нами, как призрак на краю земли». При «застывании» голоса в конце этой фразы на выдержанном звуке фа и одновременно продолжающемся нагнетании патетически-взволнованного чувства у фортепиано возникает как бы феномен отстранения автора-героя от происходящего, созерцание со стороны и впрямь будто на краю земли стоящего призрака... Лишь «вплетенной» в звучание фортепианных фраз, повторяющих и развивающих то, что ранее пелось голосом, оказывается вокальная партия при последующем динамическом спаде (sempre diminuendo), когда, в соответствии со словами поэта, само звучание, кажется, постепенно «бледнеет в сумрачной дали», растворяется в нисходящих секвенциях, вновь вопросительно обрываясь, создавая ощущение даже какой-то растерянности, чему так созвучны и ход вокальной партии на увеличенную сексту вниз, и появление зыбкой гармонии альтерированного аккорда у фортепиано.
В начале нового раздела музыка поистине переносит нас в бесконечную даль, где «новое, младое племя меж тем на солнце расцвело». Вся она будто соткана из прозрачных кружев, это — поистине видение, переданное призрачным колоритом, почти импрессионистическими чертами музыкального письма: «полутона» гармонических наслоений, полиритмия, зыбкая, словно бы колеблемая нежным ветерком или покачивающаяся на волнах мелодия. Но как же гениально превращает Метнер этот «эпизод отстранения» в своего рода предыкт, необычайно тонко, как бы исподволь готовя им полную трагического пафоса репризу романса! То, что совсем недавно представлялось бесконечно далеким, иллюзорным, возникшим в каком-то забытье, вновь оборачивается трагической реальностью, лишь еще более подчеркивая неумолимость хода времени, бренность человеческого бытия, — нужно ли напоминать о том, как созвучен подобный прием той антиномичности, которой пронизаны творения Тютчева?
Глубинная связь «эпизода отстранения» с исходной темой сочинения полностью (притом с поразительной силой) ощущается лишь при возвращении последней в репризе. Но анализ
- 582 -
помогает выявить те предпосылки, на которых основан эффект такого поистине чудесного преображения, когда то, что представлялось бесконечно далеким, внезапно вновь оказывается совсем рядом. Гармонически весь «эпизод» отмечен не только зыбкой неустойчивостью, но и неуклонным тяготением именно к исходной тональности произведения, хотя тяготение это и завуалировано альтерациями и многочисленными неаккордовыми звуками (что обусловливает ощущение неожиданности при возвращении основной тональности в репризе). Сперва это гармония двойной доминанты (с органным пунктом на альтерированном звуке до-бемоль). Затем тяготение еще более усиливается появлением в басу звука фа (поистине как бы неожиданный бой часов) — как раз в то время, когда от картины созерцания «нового младого племени» Тютчев возвращается к судьбе своего поколения («А нас, друзья, и наше время давно забвеньем занесло») и на смену мечтательной отрешенности мелодической линии приходят интонации душевной горечи. Если гармония альтерированной двойной доминанты лишь исподволь намечала, так сказать, предполагала возможность возвращения основной тональности, то новая гармония, по существу, уже предрешает его неотвратимость. И действительно, после четырехтакта, отмеченного противоборством наступающего в басу тонического органного пункта (ми-бемоль) и сопротивляющихся ему неустойчивых звуков фортепианной фигурации, сперва погружающейся во мрак басового регистра, а затем мощным усилием взмывающей вверх, — после всего этого трагически-победно звучит начало репризы.
Реприза «Бессонницы» во многом повторяет экспозицию, безусловно подчеркивая сходство в образном строе первого и последнего четверостиший тютчевского стихотворения (обрамление). Но вместе с тем ее по праву можно назвать динамизированной, поскольку путем вариационных видоизменений автор как бы досказывает то, что ранее было им лишь намечено, сообщает (на основе использования элементов предшествующего развития) еще больший трагизм звучанию главной темы сочинения. Именно здесь, в репризе, необычайно отчетливо ощущается связь музыки с жанром траурного марша (недаром автором добавлена ремарка «Maestoso»), что вполне соответствует тютчевским словам: «металла голос погребальный порой оплакивает нас». Контуры фортепианной партии (в целом соответствующие экспозиции) заполняются сплошным звучанием аккордов, причем замечательно перенесение в нее интонации большой секунды, заимствованной из первой фразы голоса («часов однообразный бой» — в экспозиции и «лишь изредка обряд печальный» — в репризе), и превращение этой интонации в элемент остинатного сопровождения:
В дальнейшем проникают в фортепианную партию и реминисценции того, что вызвано было ранее словами «глухие времени стенанья». Что же до партии голоса, то в ней появляются те дифирамбические распевы, что звучали на словах в третьем четверостишии («Нам мнится мир осиротелый»). Распевы эти как бы увенчиваются заключительной вокализацией (на десять тактов!), где пение без слов кажется символом освобождения от оков для той внутренней музыки, которой так страстно призывал внимать Тютчев в конце стихотворения «Silentium!». Вокализация эта образует необычайно выразительный контрапункт к повтору роялем последней спетой до этого фразы («металла голос погребальный порой оплакивает нас»), после чего опять же у фортепиано дважды звучит мотив, основанный на упорном повторении и опевании тонического звука, — по существу, лейтмотив всего произведения, возвращающий к ключевым словам стихотворения: «пророчески-прощальный глас». Именно «пророчески-прощальный»! Как соответствует подобной двойственности, антиномичности восприятия боя часов сопоставление в заключении романса минорного и мажорного ладов: разрешение всех минорных фраз мажорными трезвучиями, поистине напоминающими о ждущей всех и каждого «миротворной бездне»...
Степень мастерства, с которым Метнер обобщает, синтезирует в последних тактах «Бессонницы»
- 583 -
все важнейшие элементы произведения, характернейшие черты предшествующего музыкального развития, кажется поистине фантастической. Упомянем хотя бы «ожерелье» восходящих мажорных трезвучий, так живо напоминающее образ расцветшего на солнце нового младого племени, или непрерывное чередование малой секунды (до-бемоль — си-бемоль), ведущее «родословную» от скрытого полифонического голоса в начале произведения, или столь же непрерывное утверждение хода на малую терцию вниз, на котором было основано интонирование первых слов в экспозиции и репризе романса... Поистине это один из примеров, как для уяснения того, что происходит в музыке за считанные секунды, требуются часы аналитических раздумий и многие страницы для изложения их результатов. Здесь же, в заключение этого достаточно краткого очерка, хочется задать один, как представляется, весьма существенный вопрос: почему музыка метнеровской «Бессонницы» оказалась образцом преодоленного трагизма? Почему, несмотря даже на сближение с жанром Marche funebre, конец произведения оставляет впечатление подлинного катарсиса, что подчеркивается и мажорным окончанием (наступающим, правда, после долгих колебаний и, как кажется, вопреки им), и дифирамбически-утверждающим звучанием музыки даже во время самых мучительных раздумий «о смысле жизни, о судьбе грядущих и уходящих поколений»?54 Есть ли в стихотворении Тютчева реальные предпосылки именно для такого музыкального решения? Думается, безусловно. Главной из них представляется то, что можно было бы назвать «соборностью чувства».
Вдумаемся: хотя автор делится мыслями, рожденными во время одинокого ночного бдения, нигде он не дает почувствовать личного одиночества. Во всех двадцати четырех строках стихотворение изобилует местоимением «мы» и его производными: «кто без тоски внимал из нас», «нам мнится», «мы в борьбе», «на нас самих», «и наша жизнь стоит пред нами», «и с нашим веком и друзьями», «а нас, друзья», «оплакивает нас» (с той же «соборностью» согласуется и фраза: «язык для всех равно чужой и внятный каждому, как совесть»). Есть, видимо, великое утешение, великая опора для человека в сопричастности всеобщей судьбе, всеобщему делу, перед которым — все равны и даже — все друзья. И еще большая — в осознании неизбежности вечного, непрестанного обновления мира. «Обновляющийся мир» — так писал сам Тютчев в одном из поздних своих творений, страстно защищая мир молодости от «сварливого старческого задора». Образ обновляющегося мира встает перед нами и в «Бессоннице» в виде «младого племени», которое «на солнце расцвело» (как родствен этот образ весенним картинам лирики Тютчева!). Приходится ли удивляться, что Метнер, музыкант, которому было дано столь сильно, тонко, глубоко почувствовать сущность тютчевского творчества, как и всего мировосприятия поэта, так гордо и величаво и одновременно «человечно-искренне» (еще одна тютчевская реминисценция!) выявил в «Бессоннице» именно лейтмотив преодоленного трагизма, которым в огромной мере пронизан весь строй тютчевской поэзии?!
4. ТЮТЧЕВСКИЕ СТРАНИЦЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ МЯСКОВСКОГО, ШАПОРИНА, СВИРИДОВАПервым изданным сочинением Н. Я. Мясковского был вокальный цикл «Размышления» на слова Баратынского (1907). И название его, и выбор поэтического героя чрезвычайно характерны для композитора, от музыки которого — как бы ни была она многообразна — совершенно неотъемлемо размышляющее начало. Думается, именно оно логично определило обращение Мясковского к тютчевской лирике, а в ней — к тем образцам, что в основном оказались обойденными другими композиторами, видимо как чрезмерно рассудочные для передачи их «языком чувств», которому так часто уподобляют музыкальное искусство.
Вскоре после появления цикла на слова Баратынского, в 1909 г., Мясковский воплощает в музыке стихотворение Тютчева «Молчи, прошу, не смей меня будить» (из Микеланджело), создав сочинение, где «тема безвременья, острое ощущение темных и страшных сторон действительности» прозвучала «протестующе, с редкой открытостью чувства»55.
Совсем иным оказался характер «Трех набросков» на слова Тютчева op. 21. Хотя опус этот и не назван циклом, но добавленное позднее наименование «На склоне дня» позволяет рассматривать его как единое целое. В этом случае данный цикл следует признать самым лаконичным из всех, что написаны на слова Тютчева. Лаконичен он и по числу отобранных стихотворений — всего три, и по их краткости (два крайних представляют собой четверостишия, среднее же состоит из шести коротких строк), наконец, по самому музыкальному решению:
- 584 -
отсутствию каких-либо повторов слов, фортепианных интерлюдий, к чему можно добавить скупость использования регистров, лапидарность фактуры. Имея в виду соответствие с литературным первоисточником, хочется говорить об афористичности как наиболее общей присущей этому опусу жанрово-стилистической особенности, чему в известной мере отвечает и авторское определение: не романсы, а всего лишь «наброски» (подобным определением композитор неоднократно пользовался в своем вокальном творчестве).
Название «На склоне дня» отображает общую эмоциональную тональность этой вокальной триады: «Нам не дано предугадать», «Нет боле искр живых» и «Как ни тяжел последний час». Словно сумерки надвигающейся ночи (характерный для Тютчева образ) окутывают музыку всех трех романсов, полных «прощальных» размышлений, ощущения себя уже почти за гранью бытия, — эпиграфом ко всему циклу могла бы служить тютчевская строка: «живая жизнь давно уж позади» («Брат, столько лет сопутствовавший мне»). В соответствии с характером трех названных поэтических созданий Тютчева музыка Мясковского лишена контрастов и разнообразия — в ней господствует нагнетание единого настроения, доходящего в конце до глубокого внутреннего трагизма56. Характерна в этой связи близость во всех трех «набросках» темповых указаний (Poco lento, espressivo; Andante; Andante sostenuto), а также господство звучности piano с использованием лишь различных ее градаций.
Казалось бы, настроения, так очевидно выражающиеся строками из названных стихотворений: «во мне глухая ночь, и нет для ней утра» или «но для души еще страшней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья» — не слишком вяжутся с возрастом композитора в период создания цикла, как и духом эпохи (написаны «наброски» в 1922 г., когда автору было всего сорок лет). Однако тем, кто знаком с биографией и эволюией творчества Мясковского, характер этого опуса не может показаться неожиданным. Стоит вспомнить о признании самим композитором пессимистических настроений, отразившихся в его раннем творчестве57, о том, что в области вокальной лирики «Трем наброскам» предшествовал ряд очень мрачных романсов на слова З. Гиппиус; о том, наконец, что примерно в период создания тютчевского цикла композитор работал над одним из самых трагических своих произведений — Шестой симфонией, отражающей и впечатления ужасов гражданской войны, и личные потрясения (напомним, что музыка ее связана с образами драмы Верхарна «Зори», включая вместе с тем и хоровой народный плач на русский раскольничий стих, и напев из католической заупокойной мессы «Dies irae», символизирующий силы рока и смерти). Не следует в этой связи забывать слова Б. В. Асафьева (кстати, также относящиеся с 20-м годам) о том, что в романсах Мясковского, «как в лаборатории его творчества, можно как нельзя лучше наблюдать трансформацию элементов языка, процесс оформления и эволюции композиторского мышления»58. Вместе с тем, перекликаясь с Шестой симфонией по душевному строю, цикл «На склоне дня» прямо противоположен ей. Имеем в виду не только жанровые особенности, но и то, что, по существу, их породило: не выражение трагических сторон эпохи в собирательно-обобщенных симфонических образах, а глубоко личные настроения — в предельно кратких, скупых вокальных монологах или даже как бы трех эпизодах единого монолога. Никаких иных камерно-вокальных сочинений в этот период Мясковским не написано, но в отношении камерности, да в значительной мере и по кругу настроений близким тютчевскому опусу Мясковского представляется законченный несколькими годами позднее фортепианный цикл «Пожелтевшие страницы».
Сумеречный колорит всех трех «набросков» находит отражение в сложных, «смутных» (вспоминается тютчевское «Тени сизые смесились») гармонических напластованиях, столь же «смутной», вязкой полифонии фортепианной фактуры, «размытости», зыбкости интонационных очертаний, обилии изысканных хроматизмов, словно бы и впрямь стремящихся сделать «во мраке незаметным», «вымирающим» все, что осталось от жизни, все «лучшие воспоминанья». В вокальной партии не найти широкой кантиленности, напевности — господствуют приемы речитатива, причем, что типично для Мясковского, непросто поначалу распознать закономерности мелодического интонирования словесной речи.
Но обратим внимание на членение вокальной партии в первом «наброске».
Как усиливает ритмическая асимметрия музыкальных построений, казалось бы противоречащая симметричности стихотворных строк, выразительность их вокального произнесения! В частности, пауза между «как слово наше» и «отзовется» дает действительно ощущение как бы отзвука на расстоянии... Обращает внимание тонкое варьирование композитором трижды повторяющегося в стихотворении слова «нам»: если первый и третий раз оно звучит кратко и приходится на безударный момент музыкальной фразы, то во второй («И нам сочувствие
- 585 -
дается»), напротив, оказывается подчеркнутым и метрически-сильной долей такта, и ритмической протяженностью. Прекрасно соответствует непредсказуемости, как основному лейтмотиву стихотворения, ощущение вопросительной неопределенности в конце первого «наброска» — внезапное «застывание» на неустойчивом созвучии...
Очень чутко реагирует на смысл стихотворных строк ритмика вокальной партии в следующем наброске «Нет боле искр живых».
Нередко появляющийся пунктирный ритм (чередование восьмой с точкой и шестнадцатой) подчеркивает в интонационном, гармоническом и полифоническом контексте ощущение обреченности, безысходности — например, на словах «последний, скудный дым». Иногда, впрочем, ритм этот тесно связан и с фонетическими особенностями текста: так, в начале («Нет боле искр живых») естественно отделение слова «живых» от предыдущего, насыщенного согласными, — «искр», что передано остановкой (восьмая с точкой) и в музыке Мясковского. Нарушающим симметрию продлеванием звучания подчеркивает композитор как бы три основные вехи в следующей строке: «Во мне глухая ночь, и нет для ней утра». Выразительно введение триолей как намека на «полетность» в следующих словах: «И скоро улетит», колоритно использование тесситурных особенностей голоса — в частности, крайне низких звуков на словах «последний, скудный дым». Наконец, обращает на себя внимание то, что центральный «набросок» — единственный, где имеется небольшое фортепианное заключение, видимо вызванное завершающей метафорой улетающего с потухшего костра дыма (в других вошедших в цикл стихотворениях нет и намека на конкретно-образные ассоциации). По изысканности и некоторым характерным особенностям гармонического языка «набросок» «Нет боле искр живых» напоминает позднего Скрябина, что, возможно, связано с тяготением
- 586 -
последнего к образам огненной стихии: особенно вспоминается фортепианная пьеса «Мрачное пламя», перекликающаяся с настроением данного стихотворения.
Интересно, убедительно музыкальное решение последнего «наброска» — «Как ни тяжел последний час». Почти непрерывное возникновение начального мотива в виде канонических имитаций в разных голосах — и в вокальной партии, и в полифонической (в основном четырехголосной) ткани фортепианного сопровождения — создает ощущение тягостных повторов одной и той же навязчивой мысли. Композиционный прием такого фугато напоминает о хоровом письме: легко представить эту музыку в полифоническом звучании хора a capella. Непрерывности музыкального развития в пределах всего одной фразы тютчевского стихотворения прекрасно соответствует рисунок вокальной партии, постепенно поднимающейся на протяжении первых двух строк, а затем столь же неуклонно ниспадающей; смысловой насыщенности, внутренней напряженности поэтических строк отвечает и широта тесситуры голоса: на протяжении всего десяти тактов диапазон ее охватывает почти две октавы:
Примечательно, что чередование подъема и спада мелодической линии очень точно отражает смысловое членение стихотворения — ярко выявляется единство противоположностей основной тезы и предшествующей ей антитезы: начальные слова: «Как ни тяжел последний час» и возражающие им: «Но для души еще страшней» сходны по мелодическому рисунку, представляющему собой основной лейтмотив пьесы (во всех остальных случаях звучащий в различных голосах фортепианной партии). Вместе с тем сопоставление этих фраз основано на остром регистровом контрасте: слова «но для души еще страшней», оказываясь звуковысотной кульминацией, создают перелом от восходящего к нисходящему движению. Следует подчеркнуть, что данный «набросок» представляется одним из наиболее убедительных образцов воплощения того рода стихотворений Тютчева, которые ввиду предельной смыслоловой сжатости и лаконичности весьма трудны для музыкального истолкования.
Было бы преувеличением причислять «На склоне дня» к числу наиболее значительных сочинений выдающегося советского композитора, прежде всего симфониста. В его камерно-вокальное творчество более яркие страницы вписали, например, циклы на слова Баратынского, Блока, Лермонтова. Однако и в «Трех набросках» на слова Тютчева проявилось то неповторимое стилистическое своеобразие музыки Мясковского, что добавляет совсем особый штрих к музыкальной тютчевиане и более того — расширяет представление о связях поэтического и музыкального искусства, возможностях последнего интерпретировать те образцы поэтического слова, где особенно велика роль понятийного начала, где оно может даже показаться преобладающим и, однако, способно вызвать глубокие эмоциональные переживания не только у читателей стихотворений, но и слушателей созданных на их основе романсов.
Лирика Тютчева богато представлена в творчестве одного из виднейших советских композиторов старшего поколения — Ю. А. Шапорина. В 1919 г. Александр Блок (специально написавший два стихотворения для задуманной еще в то время молодым Шапориным оратории
- 587 -
«На поле Куликовом») читал композитору стихи Тютчева, в частности «Два голоса». «Чтение Блока показалось мне полным большого и глубокого значения. Я до сих пор уверен, что именно то, что Блок прочел тогда стихи Тютчева, заставило меня снова обратиться к его поэзии, с которой я был хорошо знаком, которую любил, но к которой в своих сочинениях еще не обращался <...> в память наших встреч, в память о том, что именно Блок снова натолкнул меня на поэзию Тютчева, я обратился к стихам последнего, чтобы написать первый в моей жизни цикл романсов»59. Вскоре после описанного эпизода, в 1921 г., композитором были созданы четыре романса («О чем ты воешь, ветр ночной», «Грустный вид и грустный час», «Последняя любовь», «Душа моя — Элизиум теней»), а также задуманы, хотя и остались в эскизах, еще два: «От жизни той, что бушевала здесь» и «Поэзия». Необычайно взыскательный к своему творчеству, долго вынашивавший художественные замыслы, Шапорин перед публикацией первых трех из этих романсов (1930) значительно их переработал. Но и к этому варианту он впоследствии относился весьма критически, упрекая себя за сложность мелодического рисунка, изощренность гармонического языка, громоздкость фактуры сопровождения, считая даже, что в первой редакции 1921 г. романсы были проще, яснее, непосредственнее, эмоциональнее60. Тем не менее нельзя не признать, что именно тютчевский цикл помог обрести самобытность вокальному творчеству композитора, для которого прежде всего «была важна музыка стиха, затем поэтический образ, порождающий музыкальное содержание, и, наконец, музыкально-поэтическое, интонационное единство обоих компонентов, составляющих самую суть вокальной лирики»61. Неудивительно, что некоторые романсы (вновь в сильно переработанном виде) композитор включил в свой поздний и значительно более обширный цикл на слова Тютчева — «Память сердца» (1956)62. Таким образом, обращение к тютчевской лирике обрамляет путь Шапорина как камерно-вокального композитора. С обращением к ней мы встречаемся и еще в одном цикле, который, в отличие от пушкинского, тютчевского или блоковского, объединен не монографическим, а жанровым принципом. Это цикл «Элегии» (op. 18), включающий наряду с сочинениями на слова Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Огарева, Блока, Анненского, Бунина прекрасный романс «Еще томлюсь тоской желаний». Без преувеличений можно сказать, что романс «Еще томлюсь тоской желаний» — пример необычайно чуткого постижения и преломления поэтического первоисточника, когда именно последний определяет и форму музыкального сочинения, и его интонационно-ритмические особенности, и характер взаимоотношения вокальной партии и фортепианного сопровождения. «Едва ли можно найти более удачный пример определяющего значения вокальной партии», — замечает исследовательница шапоринских романсов В. А. Васина-Гроссман, считающая, что именно в этом романсе композитором «достигнута удивительная выразительность, образность вокальной интонации»63.
Отчетливое деление романса на две части органично воплощает эмоционально-смысловое развитие стихотворения, в двух четверостишиях которого легко усмотреть и элементы сопоставления, несмотря на то, что все оно звучит словно на едином дыхании, синтаксически представляя собой одно предложение. Казалось бы, второе четверостишие является лишь развернутым определением того, к чему подвело первое: возникшего из «сумрака воспоминаний» образа. Но именно эта функция и придает ему свой, неповторимый колорит в сравнении с начальными строками. В самом деле, первая часть стихотворения рисует переживания автора, доминирует в ней процессуальность, подчеркнутыми оказываются глагольные формы: «томлюсь», «стремлюсь», «ловлю». Что же до второй строфы, то действия и соответственно глагольных форм в ней нет совершенно: они уступают место определениям «милый», «незабвенный», «недостижимый», «неизменный» — вплоть до заключительного сравнения образа любимой с сияющей «ночью на небе» звездой.
Проследим же отражение этой, как и некоторых иных особенностей тютчевского шедевра, в музыке Шапорина. После небольшого фортепианного вступления, восходящее движение которого словно бы предвосхищает устремление ввысь, к далекой звезде, первая строка стихотворения звучит соло. Кажется, эта сольная медитация рисует, подчеркивает одиночество автора — то состояние, в котором рождаются все последующие чувства и размышления. Лишь со второй строки вокальную партию начинает поддерживать фортепианное сопровождение, возникающее сперва подобно едва слышным подголоскам. Но и на этом фоне она продолжает звучать как монолог, самим строением своим предопределяя декламационную свободу интонирования. С самого начала композитор находит точные средства для воплощения в музыке ряда особенностей стихотворного первоисточника. Так, в соответствии с единством
- 588 -
в первых двух строках смысловых и звуковых повторов:
Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой— мелодическая линия строится на основе восходящей секвенции, олицетворяющей синтез единообразия (повторы глагольных форм) и развития (общее эмоциональное нагнетание).
Долгими и опорными оказываются звуки, соответствующие внутренним рифмам в словах «томлюсь» и «стремлюсь» — тех словах, что воплощают указанное выше главенство действия в первой части стихотворения. Однако смысл близких по звучанию глаголов «томлюсь» и «стремлюсь» не только различен, но в чем-то и противоположен, что также выразительно передано Шапориным сменой гармонической окраски сходных мелодических интонаций (энгармоническая замена звука ля-бемоль на соль-диез и соответственно модуляция из фа-минора в ля-минор)64. После минорного оттенка, приданного звучанию слов «и в сумраке воспоминаний» (где обращает на себя внимание острая, «жалящая» малая секунда на первом слоге слова «сумрак»), заключительной строке первого четверостишия — «Опять ловлю я образ твой» — сопутствуют и трепетность ритма, и появление далеких в тональном отношении гармонических созвучий.
Но вот «милый образ» словно пойман. Правда, в стихотворении автор останавливается на несовершенном виде глагола «ловлю», и это понятно: ведь образ-воспоминание все же остается «недостижимым», как «ночью на небе звезда». Однако теперь он полностью завладел воображением: именно поэтому так выразительно сменяется нагнетание действия, глагольных форм динамикой иного рода — определений, так лелеется тот образ, о котором теперь уже прямо говорится: «Он предо мной везде, всегда». Качественную новизну второго четверостишия, его контрастирование первому (при всей нерасторжимой с ним связи) очень тонко передает музыка Шапорина. Лишь при звучании последнего слова первого четверостишия — «твой» — она обретает ту гармоническую устойчивость, что становится исходным моментом всего дальнейшего развития. В то же время и мелодически, интонационно композитор убедительно подчеркивает переход ко второй части стихотворения — тот, что основан у Тютчева на «ключевом» значении слова «твой», завершающем первое и открывающем следующее четверостишие. Восходящим ходом к первому «твой» в музыке романса словно бы ловится ускользавший до этого образ, а повторением того же слова на соседнем мелодическом звуке открывается новый раздел музыкально-поэтического высказывания14*.
«Во второй части мелодия наполняется живым, восторженным чувством, постепенно растет и выпрямляется, и это, в свою очередь, проясняет ладово-гармоническую сторону, определяя движение к заключительной тонике одноименного мажора», — отмечает В. А. Васина-Гроссман, подчеркивающая тональную неопределенность и зыбкость всей первой части романса65. К этому можно добавить, что сочинение обретает более напевный, даже, можно сказать, распевный характер, звучит на фоне качающегося, колышащегося фортепианного сопровождения, поддерживающего и дополняющего выразительную вокализацию. В мелодии вокальной партии вновь обращает на себя внимание нагнетание интонационно-ритмических
- 589 -
повторов, соответствующих тем, что имеются в самих поэтических строках: «везде, всегда», «недостижимый, неизменный». Закономерно кульминационное значение в музыке слова «незабвенный» как наиболее концентрированного определения темы, всего стихотворения, — сопряжена эта кульминация с достижением вершинного звука мелодической линии — соль второй октавы.
Достижение кульминации способствует особенно прочувствованному интонированию всех последующих слов-определений, по-разному высвечивающих «милый образ»; при этом все большее развитие получает фортепианная партия, накаты в ней звуковых волн, сочетание устремленности с интонациями томления. Лишь при произнесении последней строки главенствующей вновь становится сольная декламация. То, что все внимание здесь сосредоточивается именно на интонировании вокальной партии, помогает особенно рельефно выявить поэтическое сравнение: «Как ночью на небе звезда». Тому же содействует и наиболее длительное (по отношению ко всему предыдущему) распевание каждого из приведенных слов и особенно последнего слога (в слове «звезда») — на два с лишним такта. Наконец, очень существенно для музыкального претворения образов ночи и звезды сопоставление «сумрачной» гармонии доминанты (с пониженной квинтой) и всеразрешающей тоники ля мажора66.
При краткости фортепианного заключения (в значительной мере «наложенного» на последний слог вокальной партии) оно выразительно подытоживает лейтмотив всего стихотворения-романса: о внутреннем диссонансе «томления» «в сумраке воспоминаний» напоминает острое гармоническое сочетание, разрешающееся в очень светло звучащий в верхнем регистре аккорд67: «недостижимое» поистине сливается с «незабвенным» — тем, что сопровождает «везде, всегда», подобно «неизменному» свету далекой звезды.
Любовь — одна из заветнейших тем тютчевской лирики. Не приходится удивляться, что некоторые посвященные этой теме стихотворения поэта обрели множество музыкальных трактовок. Едва ли не первое место по их числу занимает «Еще томлюсь тоской желаний». Тем большей заслугой Шапорина оказалось создание, на наш взгляд, самой проникновенной, созвучной чистому и высокому строю чувств поэта вокальной миниатюры на эти слова.
Хотя к настоящему времени Г. В. Свиридовым издано лишь одно «тютчевское» сочинение, но, как и большинство его романсов и песен, оно относится к лучшим образцам отечественного музыкального искусства, выявляя неповторимые черты стиля композитора, теснейшим образом связанные с поэтическим наследием родного народа, в значительной мере именно им подсказанные и обусловленные.
Сам выбор стихотворения «Эти бедные селенья» характерен для Свиридова — ведь оно воплощает обобщенный образ России (подобно, скажем, некрасовским строкам: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь», положенным Свиридовым в основу финала «Весенней кантаты»), притом России деревенской («эти бедные селенья, эта скудная природа»), нашедшей особенно разностороннее и проникновенное претворение в творчестве композитора: достаточно вспомнить о его есенинских циклах и ряде отдельных произведений68. Право, кажется, будто стихотворение это ждало музыкального истолкования со стороны композитора именно такого склада дарования: не случайно, думается, обращение к нему Свиридова является первым и пока единственным его воплощением в звуках (кстати, как и наиболее близкой нам по времени классически-совершенной музыкальной трактовкой тютчевского наследия).
Искусство Свиридова находить предельно простые и в то же время обобщенные средства музыкальной выразительности полно и ярко проявляется в его романсах и песнях на слова Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака, Твардовского, Александра Прокофьева и других русских и советских поэтов. Не составляет в этом отношении исключения и романс-песня
- 590 -
(пожалуй, такое жанровое определение будет наиболее точным) «Эти бедные селенья». В основе его можно услышать как бы два прообраза: хорала, проникнутого молитвенной строгостью и «истовостью», и мерной, медлительной поступи; и то и другое органично созвучно строю поэтического творения Тютчева и созданному им образу «Царя небесного», «в рабском виде» обходящего родную землю. И то и другое — хоральная природа и мерные «шаги» аккордов с гулко, несколько «колокольно» (еще примечательная особенность!) звучащими басами — возникает уже в первых двух тактах фортепианного вступления.
Та же поступь четвертей передается вокальной партии, причем ее басовая тесситура как нельзя более соответствует общему суровому тону повествования. Впрочем, определение «суровый» представляется хотя и верным, но отнюдь не достаточным. Можно согласиться с исследователем творчества Свиридова А. Н. Сохором, слышащим в этой мелодии, близкой «есенинским образам печальных русских полей», как «извечную тоску, затаившуюся в бедных селеньях стародавной России, в ее „скудной природе“», так и «ощущение того величия, той силы, «что сквозит и тайно светит», в «смиренной наготе» родного края»69. Выпеванию начальных строк отнюдь не мешает то, что последние безударные слоги в словах «бедные» и «скудные» приходятся на сильные доли тактов: рождается ощущение как бы пения на ходу, созвучного также типичному для свиридовского творчества образу странника. Вместе с тем подчеркивается непрерывность движения, когда все первое четверостишие составляет сплошную линию, словно бы единый, лишенный внутренних подразделений такт. Строгости, «торжественности» отвечают и особенности гармонического строения («плагальность»), и ритмическое единообразие: почти сплошное движение ровными четвертями с «вкраплением» распевания (на два звука) первого слога в слове «родной» и введением триольного ритма на слове «русского» (что, кстати, образует смысловую симметрию: «край родной долготерпенья, край ты русского народа»).
Второе четверостишье — второй куплет «песни» — почти идентинчен первому: появляется лишь более свободный ритм на словах «в наготе твоей смиренной», трепетность которого (паузирование на сильную долю, триольность) особенно обращает на себя внимание на фоне той «статики в движении», что уже успела прочно запечатлеться в сознании слушателя.
Однако при буквальном повторении во втором куплете вокальной мелодии и фортепианного сопровождения в звучании появляется нечто принципиально новое — сразу же вслед за первым четверостишием вступает гобой, сольный распев которого, своего рода интерлюдия, предваряет начало второго куплета.
Прием введения партий дополнительных инструментов в произведения, в основном предназначенные для исполнения голосом и фортепиано, нередко встречается у Свиридова в
- 591 -
опусах ближайших к нам десятилетий: достаточно напомнить об исключительной выразительности, которую обретает этот прием в великолепном цикле «Петербургские песни» на слова Блока. Что же до избрания в данном случае гобоя, то «жалеечная» звучность его (как и некоторых иных деревянных духовых инструментов) стала для автора своего рода символом деревенской Руси — именно с ней в значительной мере связана тончайшая передача ее колорита в сочинениях на слова Есенина, Некрасова, Пастернака. И в данном случае не остается сомнений, что тембр гобоя — «рожка», его задумчиво-печальные переливы символизируют то, что «сквозит и тайно светит» в образе родной природы, русской земли, то, чего в ней «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный»; знаменательно, что звуки гобоя сопровождают именно второе четверостишие, включающее приведенные строки.
Итак, в музыкальном истолковании двух первых четверостиший господствует куплетно-вариационная форма, причем куплетность выявлена почти неизменным повторением партии голоса и фортепианного сопровождения, вариационность же — простым, но необычайно сильным в смысловом (и неотъемлемом от него колористическом) отношении средством — введением партии гобоя.
Зато — в полном соответствии с развитием высказывания поэта — музыкальный облик третьего четверостишия в значительной мере контрастирует предыдущим или по меньшей мере приобретает качественно новые черты. Движение и фактура в основном остаются теми же передающими мерную поступь, что столь созвучно словам «исходил, благословляя». Однако интонационный строй музыки меняется: диатонику сменяют хроматизмы, сопоставления далеких гармонических функций (к примеру, трезвучий ми-бемоля и фа-мажора). Басы фортепианного сопровождения приобретают при этом особенную глубину («колокольность»), партия гобоя представляет уже не контрапунктирующий голос, инструментальный узор-подголосок к основной теме, но на время становится неотъемлемой частью самих гармонических комплексов, полностью сливается с ними.
Однако кажется, что главное совершается, когда все слова уже спеты и композитор подчеркивает смысловое значение заключительных строк стихотворения их повторным распеванием: «в рабском виде царь небесный», а вслед за этим вновь — «небесный царь». Начало этих повторов звучит поистине кульминационно, причем достигается это средствами не только самого мелодического интонирования («вершинное» звучание в вокальной партии — ми первой октавы), но, быть может, еще в большей мере — «вознесением» ввысь и звуков гобоя, возгласом (на ми третьей октавы!), открывающим его печально-нисходящий распев, особенно явственно воспринимающийся на этот раз как лейтмотив родины, ее тяжелой судьбы, а вместе с тем неизбывной к ней любви.
После жалобных, «стонущих» интонаций гобоя (нисходящие малые секунды уже в нижней части диапазона, которым созвучно и интонационное строение фортепианной партии, и словно бы внешне отрешенные, но полные глубочайшей внутренней выразительности вокальные фразы) необыкновенно светло звучит заключительный до-мажор.
- 592 -
Кажется, этот тонический аккорд, где вокальная партия спускается до соль большой октавы, а гобой, напротив, поднимается до третьей (у рояля же звучит широко расположенное созвучие), внезапно засветился, «воссиял» надо всем, о чем так скорбно и торжественно думалось, так проникновенно рассказывалось поэтом и композитором. Именно эта концовка во многом определяет общее впечатление от произведения как «гимна русской земле, русскому народу»70, созданного композитором, которого недавно один из зарубежных музыковедов так выразительно назвал «современным пророком русской национальной стихии, подобно тем поэтам, на чьи слова написана его музыка»71.
Итак, нами была предпринята попытка наметить историческую канву «музыкальной тютчевианы», а также подробно рассказать о некоторых ее вершинах — о романсах Чайковского, Рахманинова, Метнера, Мясковского, Шапорина, Свиридова. Каждый из названных авторов воплотил ту сторону в богатом и многогранном мире тютчевской поэзии, которая оказалось близкой именно его творческому облику; каждого из этих композиторов привлекала своя, наиболее ему близкая сфера тютчевской лирики (с чем, видимо, связано и отсутствие «параллелизма» — обращения к одному и тому же стихотворению). Вместе с тем неверно было бы думать, что перечисленными именами и рассмотренными произведениями ограничивается все самое выдающееся в «музыкальной тютчевиане» за более чем столетнее ее существование: достаточно назвать сочинения Танеева, Гречанинова, Катуара, Ан. Александрова, Шебалина и ряда других, в том числе современных советских композиторов. Еще большей ошибкой было бы думать, что примерами «прочтения» тютчевской лирики всеми названными (и неназванными) композиторами хоть в какой-то мере исчерпываются возможности ее дальнейшего музыкального истолкования. Если, образно говоря, литературный, стихотворный «инвариант» можно уподобить лучу света, способному под разными углами окрашиваться в те или иные тона цветового спектра, то следует подчеркнуть и всю условность данной метафоры, так как спектр лучей тютчевского гения оказывается поистине безграничным.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. в кн.: В. А. Васина-Гроссман. Музыка и поэтическое слово, ч. I. М., 1972, с. 11—12.
2 Опытом подобного историографического очерка является небольшая статья С. Н. Дурылина, охватившая, к сожалению, лишь первые десятилетия «музыкальной тютчевианы» (С. Н. Дурылин. Тютчев в музыке. — Урания, с. 269—285).
3 Там же, с. 273 и 271. Среди современников Тютчева названы Глинка, Даргомыжский, Варламов, Гурилев, Верстовский, Серов, Рубинштейн, Балакирев, Кюи, Мусоргский, Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков, Направник. К этому следует добавить Алябьева, чей огромный вклад в развитие русского камерно-вокального творчества долго недооценивался. Вместе с тем С. Н. Дурылин, говоря о появившихся при жизни Тютчева романсах на его слова, упомянул лишь двух «великосветских любительниц» — М. С. Сабинину и Елизавету Кочубей.
- 593 -
4 Цит. по ст.: К. В. Пигарев. Поэтическое наследие Тютчева. — Лирика, т. I, с. 310. См. также в наст. кн.: «Тютчев в Мюнхене. (Из переписки И. С. Гагарина с А. Н. Бахметевой и И. С. Аксаковым)», п. 12.
5 Лирика, т. I, с. 311.
6 «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I, М., 1960, с. 362.
7 В связи с этим романсом Чайковского стоит вспомнить, что стихотворение «Как над горячею золой...» помечено Л. Н. Толстым (в принадлежавшем ему сборнике стихов Тютчева) буквой «Г», означавшей: «Глубина» («Толстовский ежегодник», т. I. М., 1912, с. 145).
8 С. Н. Дурылин. Указ. ст., с. 275—276.
9 Обращение последнего к поэзии Тютчева особенно примечательно, поскольку уже в то время он сблизился с Л. Н. Толстым, как известно, необыкновенно высоко оценивавшим гений Тютчева.
10 «Он был современник своих музыкальных предков — Баха и Моцарта. Тем, что для Тютчева был Гёте, для Танеева были великие германцы — композиторы XVIII века» (С. Н. Дурылин. Указ. ст., с. 281).
11 Там же, с. 282.
12 Там же. Соглашаясь с данной характеристикой в отношении романсов Катуара, нельзя не признать убедительным отождествление автором цитированной статьи подхода к поэзии Тютчева таких разных музыкантов, как Катуар и Мясковский.
13 «Советская музыка», 1976, № 12, с. 80.
14 За этот цикл (вместе с рядом других романсов) композитор был удостоен Государственной премии.
15 В. А. Васина-Гроссман. Мастера советского романса. М., 1980, с. 184.
16 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 57.
17 С. Н. Дурылин. Указ. ст., с. 273.
18 Е. Орлова. Романсы Чайковского. М. — Л., 1948, с. 12.
19 А. Альшванг. П. И. Чайковский. М., 1967, с. 406 и 405.
20 Там же, с. 380—382.
21 Там же, с. 381.
22 Чайковский пользовался при создании этого романса публикацией «Современника»; в автографе, как и в первой публикации («Галатея»), в этих и некоторых иных местах имеются разночтения.
23 Сошлемся по этому поводу на суждение В. Чудовского: «Слова, ударение которых попадает на неударное место, получают удвоенную значительность» (Вал. Чудовский. О ритме пушкинской «Русалки». — «Аполлон», 1914, № 1/2, с. 112).
24 Е. Орлова считает, что во всей «Песне Миньоны» Чайковского слышны «традиции» шумановской Lied (в частности, последнего его цикла «Из Вильгельма Мейстера»). — Е. Орлова. Указ. соч., с. 12.
25 С. Рахманинов. Литературное наследие, т. I. М., 1978, с. 95.
26 Цит. по кн.: В. Н. Брянцева. С. В. Рахманинов. М., 1976, с. 128.
27 Ю. В. Келдыш. Рахманинов и его время. М., 1973, с. 156—157.
28 В. Н. Брянцева. Указ. соч., с. 369.
29 Ю. В. Келдыш. Указ. соч., с. 382.
30 Там же, с. 382.
31 Там же, с. 305. В. Н. Брянцева идет еще дальше в негативной оценке «Фонтана», считая его «отвлеченно-созерцательным» и даже «самым бледным» среди романсов op. 26. — Указ. соч., с. 371.
32 Ю. В. Келдыш. Указ. соч., с. 128.
33 См. в кн.: «Русская музыка конца XIX и начала XX века». Л., 1968, с. 82.
34 В. А. Васина-Гроссман. Музыка и поэтическое слово, ч. 3. М., 1978, с. 285.
35 В. Н. Брянцева. Указ. соч., с. 249.
36 Там же.
37 В. А. Васина-Гроссман. Музыка и поэтическое слово, ч. 3, с. 288.
38 Там же, с. 286. Далее автор убедительно показывает большие возможности данного мотива для дальнейшего симфонического развития, имея в виду длительные нарастания, изменения его воздействия в зависимости от гармонизации, фактуры и контекста в целом.
39 Примечательно, что В. Н. Брянцева основывается в своем анализе данного романса прежде всего именно на фортепианной партии. — Указ. соч., с. 247—249.
40 Там же, с. 248.
41 Там же.
42 С. Н. Дурылин. Указ. ст., с. 285.
43 Там же, с. 283.
44 Е. Долинская. Николай Метнер. М., 1966, с. 153.
45 П. И. Васильев. О моем учителе и друге. — В кн.: «Н. К. Метнер в воспоминаниях современников». М., 1980, с. 76—77. Автор особенно подчеркивает, что теме хаоса посвящена соната Метнера ми-минор — «одно из значительнейших его творений», эпиграфом к которой послужили начальные строки из стихотворения «О чем ты воешь, ветр ночной...».
46 И. С. Яссер. Искусство Николая Метнера. — Там же, с. 202.
47 С. Н. Дурылин. Указ. соч., с. 283.
48 Справедливо считая тютчевские создания Метнера 1920-х годов «потрясающим воплощением» «гармонии в стихийных спорах», С. Н. Дурылин образно уподобляет некоторые
- 594 -
из них «эсхиловским хорам из недошедшей тютчевской трагедии о Ромуле и Хаосе». — Указ. ст., с. 284.
49 Н. Метнер. Письма. М., 1973, с. 49 (письмо к Э. К. Метнеру 2—5 августа 1903 г.). В связи с высказанными здесь же мыслями о том, что «у русских вообще довольно мало творчества в форме искусства» (исключение, по мнению Метнера, составляет лишь Пушкин), нельзя не вспомнить, что первые вокальные опусы композитора связаны исключительно с немецкой литературой — творчеством Гёте, Гейне, Ницше. Из того же письма узнаем и об очень критическом отношении молодого Метнера к тютчевскому «Silentium!» «Знаешь, — писал композитор, — я положительно пришел к тому заключению, что тютчевская мысль «мысль изреченная есть ложь» — есть ложь! (Хотя бы потому уже, что она изреченная). Нехорошо, когда художник теряет веру в искусство» (там же, с. 50).
50 Е. Долинская. Указ. соч., с. 153.
51 Н. Метнер. Письма, с. 186 (письмо к Э. К. Метнеру 7/20 июня 1920 г.).
52 Там же, с. 192 (письмо к С. В. Рахманинову 10 апреля 1921 г.).
53 Там же, с. 394 (письмо к С. Н. Дурылину 28 сентября 1929 г.).
54 Е. Долинская. Указ. соч., с. 159.
55 В. А. Васина-Гроссман. Мастера советского романса, с. 47. Подчеркивая яркость мелодии как в вокальной, так и в фортепианной партиях, исследователь вокального творчества композитора также сопоставляет патетический тон этого сочинения с некоторыми произведениями Рахманинова, оговаривая, впрочем, что «это, кажется, единственный случай сближения Мясковского с Рахманиновым». — Там же, с. 47.
56 По мнению В. А. Васиной-Гроссман, цикл этот «выражает — очень ярко и сильно — тему одиночества и скорби». — Там же, с. 53.
57 Н. Я. Мясковский. Статьи, письма, воспоминания, т. 2, М., 1960, с. 13.
58 Игорь Глебов (Б. В. Асафьев). Мясковский как симфонист. — В кн.: Н. Я. Мясковский. Статьи, письма, воспоминания, т. I. М., 1959, с. 30.
59 Цит. по кн.: С. И. Левит. Ю. А. Шапорин. Очерк жизни и творчества. М., 1964, с. 93—94. Позднее Шапорин отдал дань и творчеству самого Блока — не только упомянутой выше ораторией, но и вокальным циклом «Далекая юность», написанным на тексты десяти стихотворений этого поэта.
60 Воспоминаниями этими Шапорин делился с автором данной работы, окончившим по его классу композиторское отделение Московской консерватории. См. также: С. И. Левит. Указ. соч., с. 106 и 93.
61 Там же, с. 97.
62 Обстоятельный, глубокий и тонкий анализ цикла «Память сердца» содержится в ряде работ, например очень интересной статье В. В. Протопопова («Сов. музыка», 1961, № 3).
63 В. А. Васина-Гроссман. Мастера советского романса, с. 147.
64 В. А. Васина-Гроссман удачно характеризует этот процесс как «перекрашивание очень близких оборотов». — Там же, с. 147.
65 Там же, с. 148.
66 Там же.
67 В этой постлюдии «как бы синтезируется путь от фа-минора к ля-минору и раскрывается значение «загадочного» ля-бемоля». — Там же, с. 148.
68 М. Элик считает, что «есенинской интонации» созвучно и многое другое в творчестве композитора, в том числе и «Эти бедные селенья» на слова Тютчева («Георгий Свиридов. Сборник статей и исследований». М., 1979, с. 76).
69 А. Н. Сохор. Георгий Свиридов. М., 1972, с. 240—241. Касаясь «поступи» этого напева, исследователь считает ее «уверенной, не лишенной бодрости и торжественности». — Там же, с. 240.
70 Там же, с. 241.
71 Луис Блуа. Музыка Георгия Свиридова. — «Сов. культура», 24 ноября 1983 г.
СноскиСноски к стр. 552
* Разбору двух романсов Чайковского («Как над горячею золой» и «Песнь Миньоны») посвящена вторая глава наст. статьи.
2* Разбор этого романса Рахманинова см. в третьей главе наст. статьи.
Сноски к стр. 554
3* О сочинениях Рахманинова и Метнера на слова Тютчева см. в третьей главе наст. статьи.
Сноски к стр. 556
4* Разбор этого цикла романсов Мясковского см. в четвертой главе наст. статьи.
Сноски к стр. 557
5* Многократное и плодотворное обращение Ю. А. Шапорина к тютчевским стихотворениям рассматривается в четвертой главе наст. статьи в связи с его романсом «Еще томлюсь тоской желаний».
Сноски к стр. 558
6* Стоит отметить, что в некоторых случаях композитор отходил от канонического тютчевского текста, предпочитая иные авторские редакции, в одном же месте, к сожалению, допустил замену гениального образа «Над нами бредят их вершины» звучащим гораздо беднее «Над нами шепчут их вершины».
Сноски к стр. 559
7* Разбор этого романса Свиридова см. в четвертой главе наст. статьи.
Сноски к стр. 560
8* Разбор этого романса Шапорина см. в четвертой главе наст. статьи.
Сноски к стр. 563
9* То же можно сказать и о третьем «тютчевском» сочинении Чайковского — дуэте «Слезы» (op. 46), изданном им пятью годами позднее.
Сноски к стр. 564
10* С подобным принципом: сперва «музыка души», «неизреченное» впечатление от картины происходящего или чисто музыкальное отображение настроения, а затем уже нахождение слов для их воплощения — связана функция множества вступлений в романсовом творчестве Чайковского, а также многих других композиторов.
Сноски к стр. 571
11* Эта вольность особенно примечательна ввиду полной эвритмии перевода, приводящей к тому, что вокальная мелодия в равной степени соответствует как немецкому, так и русскому тексту.
12* Напомним хотя бы: что «Детский альбом» Чайковского снабжен ремаркой «В подражание Шуману». Упомянем также фортепианную пьесу из op. 72 «Немного Шумана».
Сноски к стр. 575
13* Именно процесс такой подготовки обусловливает значение этого раздела как не просто продолжения репризы, а своего рода предыкта к наступающей далее коде — точнее, первому ее разделу («И тихих, теплых майских дней»).
Сноски к стр. 588
14* Отметим, что сам поэтический прием повторения слова для внутренней «перестройки» очень напоминает модуляции в музыке, основанные на сохранении общего тона в аккордах.