745
ЛЕРМОНТОВ И РУССКАЯ КРИТИКА 40-х ГОДОВ
Статья Н. Мордовченко
1
Произведения Лермонтова начали обсуждаться в критике вскоре же после появления «Песни про купца Калашникова», напечатанной без имени автора в «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду» 1838 г. (№ 18). «Не знаем имени автора этой песни, которую можно назвать поэмою в роде поэм Кирши Данилова, — писал Белинский в «Московском Наблюдателе» того же года, — но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование»1.
С начала 1839 г. Лермонтов стал ближайшим сотрудником «Отечественных Записок», печатая из номера в номер стихотворения и отдельные главы «Героя нашего времени». С опубликованием каждой новой вещи внимание к Лермонтову все усиливалось и росло. Особенно же сильное впечатление на современников произвели стихотворения Лермонтова «Дума» и «Поэт». Обозревая русскую литературу конца 30-х годов, Н. Мельгунов в «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду» 1839 г. приводил цитату из «Думы» и заключал: «Эти стихи г. Лермонтова, молодого поэта с большим дарованием, наводят тяжелую грусть и заставляют невольно задуматься. Дай бог, чтоб предчувствие не сбылось, чтоб поколение наше оставило прочный след на земле, запечатлев его плодовитой мыслию и гениальным трудом! Да, мы еще можем совершить что-нибудь великое; но „времена спешат“, сказал один знаменитый наш проповедник... Так, времена спешат; спешите и вы, вперед, не медлите!»2. Это высказывание по поводу «Думы» принадлежало литератору, ближайшим образом связанному с кругом бывших любомудров, романтиков-шеллингианцев.
Сильное впечатление произвела «Дума» и на романтика французской ориентации — Н. Полевого. В «Сыне Отечества» 1839 г. Полевой целиком перепечатал «Думу», назвав ее «прекрасной», причем подчеркнул: «Давно не слыхали мы такого звучного стиха, не слыхали от русских поэтов такой свежей мысли!». С большим сочувствием отнесся Н. Полевой и к стихотворению Лермонтова «Поэт». «Опять является нам г-н Лермонтов с прекрасною, полною мысли и огня пьесой „Поэт“, — писал Полевой. — Уподобление поэта кинжалу, игрушке, повешенной на стенке среди роскошной мебели богача — превосходно!». «Поэт», так же, как и «Дума», целиком был перепечатан на страницах «Сына Отечества»3.
Сам Н. Полевой в 1839 г., как и прежде, в пору «Московского Телеграфа», склонен был считать себя представителем новейшей и передовой критики, умеющей безошибочно оценить дарование каждого впервые
746
входившего в литературу поэта. Полевой был уверен, что и дарование Лермонтова было отгадано и оценено по достоинству им первым4. Однако в действительности дело обстояло не так. Пропагандисту французских романтических теорий и поклоннику Виктора Гюго творчество Лермонтова вскоре же оказалось чуждым и враждебным. К 40-м годам завершилась и политическая эволюция Полевого в сторону реакции, а сам бывший издатель «Московского Телеграфа» стал поставщиком официально-патриотических драм и соратником Булгарина и Греча.
В той же «Летописи Русских Журналов за 1839 год», где была дана цитированная выше оценка стихотворения «Поэт», Полевой издевался над «интеллектуальным конкретизмом», «безусловным абсолютизмом», «призрачностью» и другими терминами гегелевской философии, которую пропагандировал «Московский Наблюдатель» и на основе которой Белинский создавал русскую реалистическую критику.
Н. Полевому, воспитанному в традициях французской романтической школы и прославлявшему эффектную и изысканную прозу Марлинского, не могла быть приемлема проза «Бэлы», «Фаталиста», «Тамани». Не более чем через год после того, как Полевой приветствовал стихотворения Лермонтова, на страницах того же «Сына Отечества» о Лермонтове-прозаике говорится уже пренебрежительно, отмечается, что «Лермонтов, прозаик, до сих пор ничего порядочного не писал, ибо что писал он, было очень плохо». Характерно, что тогда же Н. Полевой изменяет свое отношение и к стихотворениям Лермонтова. О Лермонтове, напечатавшем вслед за «Думой» и «Поэтом» «Русалку», «Ветку Палестины», «Молитву», «Дары Терека» и многие другие стихотворения, Н. Полевой говорит теперь как об авторе «полдюжины пьесок, весьма недурных»5. Этой одной фразой Полевой, в сущности, зачеркивал свои прежние похвалы Лермонтову и ясно обнаруживал, что эти похвалы не имели глубоких принципиальных оснований. Нужно сказать еще, что подобное отношение к Лермонтову связано было не только с литературно-эстетической позицией бывшего издателя «Московского Телеграфа», но и с обстоятельствами журнальной борьбы. Н. Полевой стал пренебрежительно и отрицательно отзываться о Лермонтове тогда, когда Белинский, после прекращения «Московского Наблюдателя», переехал в Петербург, стал сотрудником «Отечественных Записок» и возложил на Лермонтова все свои упования и надежды.
2
Белинский, может быть, действительно не знал в 1838 г., что «Песня про купца Калашникова», которую он так проницательно охарактеризовал, принадлежала Лермонтову. Через год, когда в «Отечественных Записках», уже с именем Лермонтова, появились «Дума», «Поэт», «Русалка», «Ветка Палестины», «Не верь себе», Белинский ко всем этим вещам отнесся с величайшим вниманием. Тогда же он дал необычайно высокую оценку «Бэлы», тоже только-что напечатанной в «Отечественных Записках».
«Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск, — писал Белинский о «Бэле» в «Московском Наблюдателе», — мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него. Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей г. Марлинского»6. Белинский смело противопоставлял Лермонтова, автора еще только одной повести, прославленному прозаику 30-х годов Марлинскому,
747
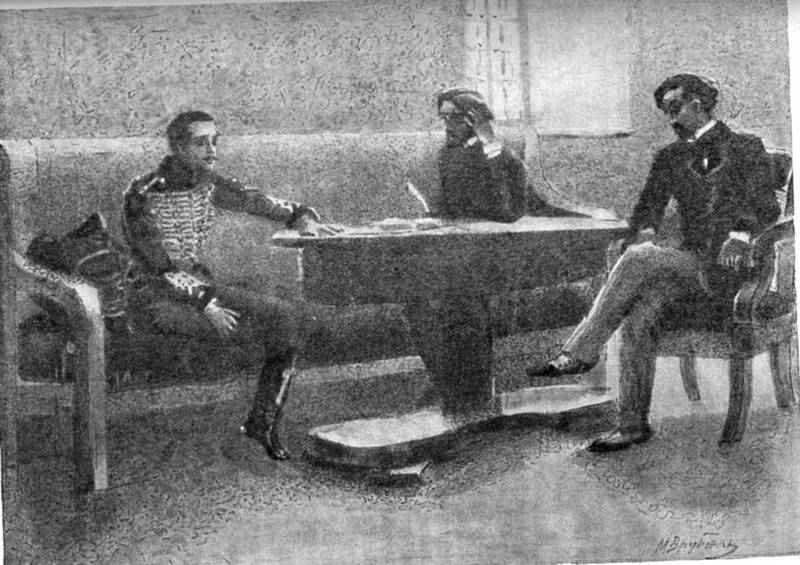
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ЖУРНАЛИСТУ, ЧИТАТЕЛЮ И ПИСАТЕЛЮ“ (ИЗОБРАЖЕНЫ ЛЕРМОНТОВ, БЕЛИНСКИЙ И ПАНАЕВ)
Рисунок М. Врубеля, 1890—1891 гг.
Третьяковская галлерея, Москва
748
чье творчество было связано с романтическим этапом литературы и с точки зрения Белинского могло только тормозить развитие реализма.
Касаясь стихотворений Лермонтова, Белинский выделял «Ветку Палестины» и «Не верь себе». Он писал, что «первое поражает художественностию своей формы, а второе глубокостию своего содержания и могучестию формы: дело идет, кажется, о тех непризванных поэтах, которые могут вдохновляться только своими страданиями, за отсутствием истинного поэтического призвания». Приводя далее стихотворение «Не верь себе», Белинский указывал: «Заметьте, что здесь поэт говорит не о бездарных и ничтожных людях, обладаемых метроманиею, но о людях, которым часто удается выстрадать и то и другое стихотворение, и которые вопли души своей, или кипение крови и избыток сил, принимают за дар вдохновенья. Глубокая мысль!.. Сколько есть на белом свете таких мнимых поэтов! И как глубоко истинный поэт разгадал их!..». Сдержаннее и холоднее Белинский отнесся к «Думе» и «Поэту». «Думу» он характеризовал как «энергическое, могучее по форме, хотя и прекраснодушное несколько по содержанию стихотворение». О «Поэте» Белинский упоминал как о произведении, «примечательном многими прекрасными стихами и также прекраснодушном по содержанию»7. Гегелевским термином «прекраснодушие» (Schönseligkeit), восходящим к Шиллеру и сентиментальной эпохе, Белинский обозначал тогда субъективное отношение к действительности, абстрактный, мечтательный идеализм.
В соответствии с формулой Гегеля «всё, что действительно, то разумно» Белинский вместе с М. Бакуниным в 1838—1839 гг. теоретически обосновывал действительность и разумность существующих общественно-политических порядков и отказывался от всякого протеста. И искусство он звал в эту пору к преодолению всякой дисгармонии, считая, что истинное художественное произведение не обнажает противоречий жизни, не углубляет их, что оно «примиряет с действительностью, а не восстановляет против нее»8.
На первый взгляд может показаться, что, исходя из подобной теории, Белинский должен был осудить Лермонтова и отвергнуть его поэзию. Однако, как уже видно из приведенных высказываний Белинского, его отношение к автору «Думы» и «Поэта» было гораздо более сложным и противоречивым. Констатируя «прекраснодушие», т. е. порицая обличительные, протестующие начала у Лермонтова, Белинский в то же время признал его истинным и замечательным поэтом. Для того, чтобы понять существо высказываний Белинского о Лермонтове, следует подробнее остановиться на литературно-эстетических взглядах Белинского 1838—1839 гг.
Именно в эту пору Белинский безоговорочно осудил Полежаева, заявив, что «его песни, нашедшие отзыв в современниках, не перейдут в потомство». Давая оценку стихам Полежаева, Белинский вспоминал слова Гёте о «лазаретной поэзии». «Плачевных и скорбящих поэтов, — писал Белинский, — великий поэт Гете характеризовал эпитетом лазаретных, и этим вполне определил их отрицательное значение в области искусства». Белинский подчеркивал при этом, что «субъективность — смерть поэзии и ее произведения — поэтический пустоцвет»9. Нужно вспомнить, что «лазаретной» поэзией Гёте называл современную ему «литературу отчаяния», которая возбуждала в нем отвращение своим болезненным характером: «Поэты все пишут так, как будто бы они больны и как будто бы весь
749
мир — это лазарет. Все они говорят о страданиях и земной юдоли и о потусторонних радостях»10.
Но Гёте, который для Белинского и всего круга «Московского Наблюдателя» являлся величайшим авторитетом в области искусства, противопоставлял «лазаретной» поэзии «истинно тиртейскую» поэзию. Эта поэзия «не только воспевает битвы, но и вооружает человека мужеством для жизненной борьбы»11. Таким представителем тиртейской поэзии для Гёте был Байрон, хотя Гёте и не сочувствовал его революционным устремлениям12. В пору «Московского Наблюдателя» М. Бакунин и Белинский и в данном вопросе, в отношении к Байрону, шли вслед за Гёте.
В декларативном предисловии к «Гимназическим речам» Гегеля Бакунин характеризовал «великого Байрона» как поэтического выразителя «мучительного перехода от XVIII века к XIX-му, от болезни к выздоровлению»13. Еще более ярко и выразительно говорит о Байроне Белинский в рецензии на «Краткую историю Франции» Мишле (1838), которая вся проникнута ненавистью к «лазаретной» поэзии, к «литературе отчаяния» во Франции. В этой рецензии Белинский касается двух литературных школ: «идеальной», представителями которой он считает Шатобриана и Ламартина, и «неистовой», происходящей по прямой линии от Байрона. В «неистовую» школу Белинский относит Гюго, Эж. Сю, Бальзака, Дюма, Жорж Санд. Обе эти школы Белинский порицает с исключительной резкостью, но Байрон характеризуется им как величайший поэт, хотя Белинский вслед за Гёте и считает пагубными его революционные устремления. «Дело вот в чем, — писал Белинский: — Байрон, как новый атлант, поднял на свои мощные рамена страдания целого человечества, но не пал под этою ужасною тяжестию. Душа его была — бездонная пропасть; его притязания на жизнь были огромны, и жизнь отказала ему в его требованиях. Он оперся на самоё себя, и новый Прометей, терзаемый коршуном — ненасытимою жаждою своего беспокойного духа, вопли гордой души своей передал в чудных, художественных образах. Это был поэт гордого самим-собою отчаяния. Сын XVIII века, он с презрением оттолкнул от себя его бедные радости, его нищенские наслаждения, — и не узнал истинных радостей, истинных наслаждений, того богатства духа, который ни ржа не точит, ни тать не похищает. В аравийской пустыне железного стоицизма нашел он свое убежище от карающей его и презираемой им судьбы, и не достиг до обетованной земли благодати, где открывается вечная истина, разрешаются в гармонию диссонансы бытия и мерцает таинственным блеском заря бесконечного блаженства. Да, благородному лорду дорогою ценою обошлись его дивные песни: они были им выстраданы. Но наши господа неистовые об этом не подумали: им показалось очень эффектно бранить и проклинать жизнь»14. «Неистовой» школе французского романтизма Белинский, таким образом, противопоставляет Байрона как подлинного представителя тиртеевской поэзии.
В 1838—1839 гг. Белинский доказывал, что поэт является «органом общего и мирового», что никакого отношения к общественности данного времени искусство не имеет, что между художником и человеком нет ничего общего и т. д. Являясь выражением абсолютной идеи в один из моментов ее развития, искусство всегда «объективно», в противоположность всякому субъективному заблуждению, отрицающему действительность. Борясь с субъективизмом в искусстве, Белинский, однако, утверждал, что отрицание, будучи необходимой ступенью в развитии абсолютной
750
идеи, необходимо должно присутствовать и в искусстве. «В духовном развитии человека момент отрицания необходим, — писал Белинский, — потому что кто не ссорился с жизнью, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнию: ссора не может быть целию самой себе, не иметь целию примирение»15.
Соответственно этой концепции Белинский анализировал и истолковывал произведения искусства. Так, в статье о «Гамлете» Шекспира трагедия Гамлета характеризуется Белинским как переход из младенческой, бессознательной гармонии духа в дисгармонию и борьбу, «которые суть необходимое условие для перехода в мужественную и сознательную гармонию и самонаслаждение духа»16. Аналогичным образом трактуется Белинским и образ Фауста. П. В. Анненков в своих мемуарах справедливо указывает, что «для Белинского той эпохи Фауст есть точно такая же философская схема, как и Гамлет, даже почти ничем не отличающаяся от нее. Фауст, как человек глубокий и всеобъемлющий, должен был выдти из естественной гармонии духа, поссориться с действительностью, к которой обратился за утешением и познанием, и после ряда кровавых испытаний, мучительной борьбы, падений и обольщений возвратиться снова к полной гармонии духа, но уже гармонии, просветленной опытом и сознанием»17.
Проблема взаимоотношения искусства и действительности выступает в концепции Белинского в сугубо идеалистической форме. Но идеализм Белинского был объективным идеализмом. Если идея разумна и истинна, как истолковывал ее Белинский, то значит она и действительна. Следовательно, художественное произведение, выражающее идею в один из моментов ее развития, не может противостоять действительности, а должно совпасть с нею.
Гегелевское учение помогало Белинскому в развитии и укреплении его реалистических тенденций. Но вместе с тем Белинский совершал глубокую ошибку, усматривая единство противоположностей не в последовательном развитии противоречий, а в преодолении и свертывании их, в спекулятивном высшем синтезе.
«Дума» и «Поэт» Лермонтова не только не заключали в себе никаких тенденций к обнаружению этого «высшего синтеза», но, наоборот, были проникнуты безнадежным отчаянием и трагизмом. В то же время Лермонтов не имел ничего общего с «лазаретной» поэзией французского романтизма, которую презирал Белинский. Над поэтами, воспевавшими земные страдания и горести, Лермонтов возвышался своим стоицизмом.
П. В. Анненков в своих мемуарах рассказывает: «Нельзя сказать, чтобы Белинский не распознавал в Лермонтове отголоска французского байронизма, как этот выразился в литературе парижского переворота 1830 года и в произведениях „юной Франции“, — а также и примеси нашего русского великосветского фрондерства, построенного еще на более шатких основаниях, чем парижский скептицизм и отчаяние. Но он им отыскивал другие причины и основания, а не те, которые выходили из самой жизни поэта»18. Это очень важное наблюдение Анненкова нуждается, однако, в уточнении и разъяснении. Отчаяние и трагизм Лермонтова Белинский в 1839—1840 гг. склонен был объяснять как неизбежную ступень в духовном развитии молодого поэта, как необходимое условие для перехода к гармонии и примирению с действительностью. Несомненно, что такое объяснение не имело оснований в жизни Лермонтова и было со стороны
751
Белинского ошибкой, от которой он впоследствии сам отказался. Но «отголоски французского байронизма» настраивали Белинского не против Лермонтова, а в его пользу. Если отсутствие «примирительных» тенденций в «Думе» и «Поэте» Белинский счел «прекраснодушием», если «великосветское фрондерство» у Лермонтова было ему также неприемлемо, все же Лермонтов оказался ему близок.
Лермонтов стал близок Белинскому прежде всего потому, что Белинский увидел в нем «истинного» поэта, сумевшего распознать и изобличить «мнимых», «лазаретных» поэтов. В стихотворении «Не верь себе» ирония и сарказм Лермонтова были направлены одновременно и в сторону лицемерной и бездушной толпы, и в сторону плачущих и скорбящих поэтов. Оружием художественного слова Лермонтов боролся с той поэзией, против которой восставал и Белинский и которую он систематически обличал.
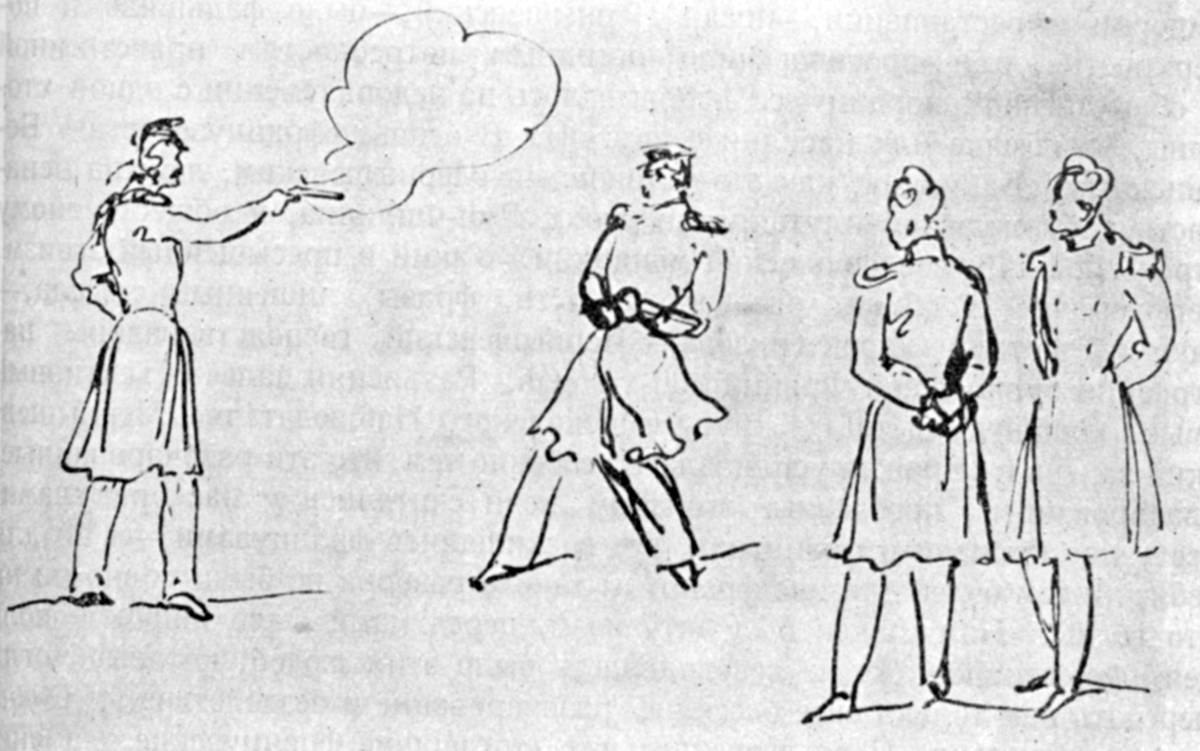
ДУЭЛЬ
Рисунок пером Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 171)
Институт литературы, Ленинград
Отвращение к плачущим и скорбящим поэтам у Белинского теснейшим образом было связано, с одной стороны, с его гегельянством, с другой стороны — оно шло рука об руку с глубочайшей его неприязнью к французской литературе и искусству. Ирония и сарказм Лермонтова по адресу «мнимых» поэтов тоже были в несомненной связи с его французскими симпатиями и антипатиями.
Как известно, в идейном направлении «Московского Наблюдателя», руководимого и вдохновляемого Белинским, большую роль играло так называемое «французоедство» (Franzosenfresserei). «Французоедству» были посвящены многие страницы бакунинского предисловия к «Гимназическим речам» Гегеля, «французоедством» было проникнуто большинство статей и рецензий Белинского. Упомянутая рецензия на «Краткую историю
752
Франции» Мишле с достаточной ясностью может свидетельствовать о сущности «французоедства» Белинского. С отвращением относясь к французской «литературе отчаяния», Белинский вместе с Бакуниным распространял свою ненависть и на всю историю Франции, особенно на Французскую революцию, и на передовые течения во французской общественной мысли 30-х годов.
Чернышевский превосходно и с полной убедительностью показал, что «французоедство», отчасти обусловленное гегельянством, в конечном счете предопределено было глубокими общественно-историческими причинами. Чернышевский показал и то, что, несмотря на несомненные крайности «французоедства» (огульное осуждение истории Франции и общее осуждение всех направлений французской общественной мысли), все же оно имело прогрессивный смысл. «Все, чем блистала Франция времен первой империи и реставрации, — писал Чернышевский, — было фальшиво и поверхностно или противоречило истинным потребностям нравственной и общественной жизни; все основывалось на недоразумении с одной стороны, на обмане или насилии с другой». В основе «французоедства» Белинского и Бакунина, как это установлено Чернышевским, лежала ненависть к буржуазной плутократии эпохи Луи-Филиппа, к общественному строю Франции послеиюльской монархии. Узкий и пресыщенный эгоизм, легкомыслие и обман, разочарованность, фразы, лишенные смысла, — такими чертами характеризовал Чернышевский господствовавшие настроения буржуазной Франции 30-х годов. Разъясняя далее объективный смысл «французоедства» в кругу «Московского Наблюдателя», Чернышевский замечал: «Вражда усиливалась особенно тем, что эти разочарованные, блазированные, проеденные эгоизмом люди считались у нас оракулами: все у нас кричали о французах, все восхищались французами, — а ни для себя, ни тем более для нас французы такого разбора не были ровно ни на что годны. Нам нужен был энтузиазм, перед нами было широкое поле деятельности: как же не возненавидеть было этих людей, которые могли передать нам только свое бессилие, разочарование и бездействие?». Очень тонко наблюдение Чернышевского, что «тогдашние французские знаменитости», у которых «не было ни решительных принципов, ни строгой последовательности в образе мыслей», были люди «в роде тех, которых изображал у нас Пушкин в своих героях, — в роде тех, которых Лермонтов заставляет говорить:
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом...
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы...»19 и т. д.
Из наблюдений Чернышевского с необходимостью следует вывод, касающийся центральных стихотворений Лермонтова. Художественные обобщения, данные в этих стихотворениях и связанные с русской действительностью конца 30-х годов, могут и должны быть распространены и на действительность западно-европейскую, в частности на французскую буржуазную действительность эпохи Луи-Филиппа. Существенно и то, что при создании своих стихотворений Лермонтов исходил, конечно, не только из опыта русской, но и французской жизни конца 30-х годов.
Лермонтов, подобно большинству людей его круга, был воспитан во французских традициях. В его идейном развитии сыграла большую роль июльская революция 1830 г., которую он приветствовал в своих стихах.
753
С тем большей горечью должен был отнестись Лермонтов к послеиюльской монархии, к наступившему господству биржевиков и банкиров. В связи с этим естественно и понятно, что Лермонтов заинтересовался Барбье, клеймившим в своих сатирах буржуазный Париж, обличавшим порочность и развратность современной ему Франции. Гневные сатиры Барбье откликнулись у Лермонтова и в «Думе», и в «Поэте», и особенно ярко в стихотворении «Не верь себе». Характерно, что в качестве эпиграфа к последнему стихотворению взяты те строки из «Пролога» Барбье, где изобличаются «кричащие шарлатаны, торговцы пафосом и изготовители напыщенных слов», т. е. представители французской литературы, которые выдвинулись после поражения Июльской революции.
Отношение Лермонтова к литературе послеиюльской Франции требует специального исследования. Однако, учитывая обращение Лермонтова к Барбье, несомненно родственного ему идейно-политически, можно заключить, что Лермонтов отнюдь не склонен был симпатизировать болезненным и упадочным течениям во французской литературе. Эти течения, так же как и породивший их общественный строй, были, очевидно, враждебны Лермонтову, и он боролся с ними, преодолевая «парижский скептицизм и отчаяние». В этом-то отношении Лермонтов и оказывался близок Белинскому, хотя их пути в 1839—1840 гг. скорее пересекаются, чем сходятся. Стоицизм, не боящийся действительности со всеми ее противоречиями и антагонизмами, — такова идейная позиция Лермонтова, во многом аналогичная байроновской. Примирение с действительностью и разрешение всех противоречий в абстрактном синтезе — такова позиция Белинского в рассматриваемый период.
Анненков рассказывает, как Белинский «носился с каждым стихотворением» Лермонтова, появлявшимся в «Отечественных Записках», и «как он прозревал в каждом из них глубину его души, больное, нежное его сердце»20. Каждое новое стихотворение расширяло представление о поэтическом облике Лермонтова, о силе его таланта, о широте его диапазона. Прочитав в августе 1839 г. «Три пальмы» Лермонтова в «Отечественных Записках», Белинский писал Краевскому: «Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое»21. Месяцем позже, в письмо к Станкевичу, Белинский приводил целиком «Три пальмы» и заявлял: «На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов»22. В январе 1840 г. Белинский спрашивал о Лермонтове К. Аксакова: «Каков его „Терек“? Дьявольский талант!». С тем же вопросом Белинский обращался и к Боткину, причем замечал: «Чорт знает — страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт, и что Пушкин умер не без наследника»23. Так еще в самом начале 1840 г., когда не было ни «Героя нашего времени», ни сборника стихотворений Лермонтова, Белинский предсказывал Лермонтову место в литературе вслед за Пушкиным и Гоголем.
Важно подчеркнуть, что и в начале 1840 г. Белинский еще продолжал отрицать всякие связи литературы и искусства с общественно-исторической действительностью. Январь 1840 г. — время появления статьи «Менцель, критик Гете», где утверждались принципиальная аполитичность и асоциальность искусства. Вследствие этого Белинский еще не ставил и не мог ставить вопроса о соотношении лермонтовской поэзии с условиями и противоречиями русской общественной жизни. Исходя из гегелевского тезиса, что поэт есть «орган общего и мирового», Белинский продолжал
754
отстаивать свою концепцию о неизбежности разрешения всех противоречий и антагонизмов в гармонию и примирение. Пока еще не только не расставаясь с этой концепцией, но и пропагандируя ее в своих статьях, Белинский по ходу своей собственной эволюции выходил, однако, за ее рамки и перерастал ее.
С конца 1839 г. Белинский начинал видеть несостоятельность своего истолкования «разумной действительности» и вступал в полосу мучительного идейного кризиса, который преодолевался на протяжении 1840—1841 гг. Наблюдения петербургской жизни помогали Белинскому развивать и углублять идею отрицания, идею революционной борьбы. В пору пересмотра старых взглядов и перехода на новые позиции Лермонтов как бы сопутствовал Белинскому. Поэзия Лермонтова не только не заключала в себе тенденции примирения с действительностью, как того требовала философско-эстетическая концепция Белинского, но, наоборот, — углубляла и обостряла все жизненные противоречия. Вот почему в процессе выработки нового мировоззрения Белинский нашел у Лермонтова полное и глубокое отражение своей «рефлексии», своих сомнений и колебаний, своей внутренней борьбы, которую он переживал.
В письме к Боткину от 9 февраля 1840 г. Белинский восхищался «Колыбельной песней» Лермонтова. «Как безумный, твердил я и дни и ночи эту чудную молитву, — писал он, — но теперь я твержу... другую молитву:
И скушно, и грустно!.. и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Эту молитву твержу я теперь потому, что она есть полное выражение моего моментального состояния». И дальше Белинский делал характерное признание: «А дня через два надо приниматься за статью о детских выпусках, где я буду говорить о любви, о благодати, о блаженстве жизни, как полноте ее ощущения, словом, обо всем, чего и тени, и призрака нет теперь в пустой душе моей»24.
3
До выхода в свет «Героя нашего времени» специальных критических статей о Лермонтове еще не было, хотя имя поэта уже встречалось в литературных обзорах, рецензиях, заметках. В самом начале 1840 г. имя Лермонтова даже оказалось вовлеченным в полемику.
«Отечественные Записки» Краевского, где систематически печатался Лермонтов, вместе с «Литературной Газетой» того же Краевского развернули борьбу с реакционной журналистикой, а особенно с Н. Полевым, который был тогда ближайшим участником «Сына Отечества». Самую непримиримую позицию по отношению к Н. Полевому занял Белинский, начавший обличение Полевого еще в «Московском Наблюдателе». После переезда в Петербург Белинский продолжил и еще шире развернул борьбу с Н. Полевым. В первом номере «Отечественных Записок» 1840 г. Белинский напечатал обширную рецензию на «Очерки русской литературы» Н. Полевого; он неустанно преследовал и клеймил Полевого и в ряде других своих статей и рецензий того же времени. Вместе с «Отечественными Записками» выступала и «Литературная Газета». С начала 1840 г. здесь начался печатанием цикл фельетонов И. Панаева, дававших памфлетную характеристику деятелям реакционной журналистики. В «Портрете № 2» давалась характеристика Н. Полевому, причем автор явно намекал на дружбу Полевого с Булгариным и Гречем25.
755
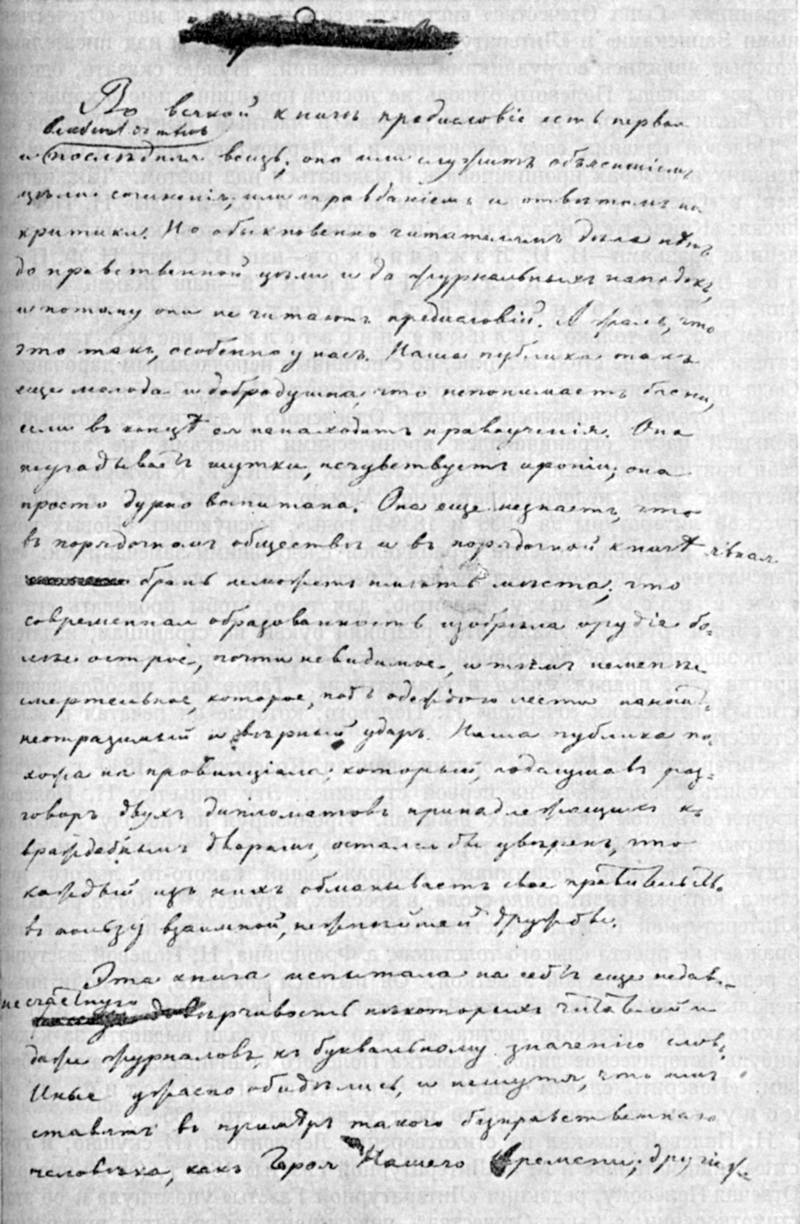
ПРЕДИСЛОВИЕ К „ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“, НАПИСАННОЕ РУКОЙ А. ШАН-ГИРЕЯ,
С ПОПРАВКАМИ ЛЕРМОНТОВА
Институт литературы, Ленинград
756
Н. Полевой не остался в долгу и в ответ на все эти нападки начал на страницах «Сына Отечества» систематически издеваться над «Отечественными Записками» и «Литературной Газетой», а также и над писателями, которые являлись сотрудниками этих изданий. Нужно сказать, однако, что все выпады Полевого отнюдь не носили принципиального характера. Это были придирки по мелким поводам и частным фактам. Тогда же Полевой изменил свое отношение и к Лермонтову, начав в своих рецензиях и обзорах иронизировать и издеваться над поэтом. Так, например, в «Очерке русской литературы за 1838 и 1839-й годы» Н. Полевой писал: «Кроме гениальных и великих романистов, каковы прославленные друзьями — И. И. Лажечников — наш В. Скотт, Н. Ф. Павлов — наш Бальзак, Казак Луганский — наш Жакоб Библиофил, Е. П. Гребенка, М. Ю. Лермонтов — наши... право, и не знаем кто, но только великие писатели — у нас есть также писатели, хотя и не столь великие, но с истинным неподдельным дарованием. Сюда причисляем мы, например: Булгарина, Греча, Загоскина, Вельтмана, Гоголя, Основьяненка, князя Одоевского и других»26. Полевой по большей части ограничивался ироническими намеками, не затрудняя себя критическим разбором творчества тех писателей, к которым он был настроен явно недоброжелательно. Можно отметить, что в «Очерке русской литературы за 1838 и 1839-й годы», коснувшись «Новых повестей» Н. Павлова, Полевой ограничился следующими замечаниями: «всё напечатано с ужасною разбивкою, с бесконечными пробелами, и вышел том в восьмушку, вероятно, для того, чтобы продавать его по десяти рублей. Жаль, что, разгоняя буквы по страницам, издатели не позаботились об исправной корректуре книги: она кишит ошибками против всех правил языка и грамматики». Таков был преобладающий стиль критических «очерков» Н. Полевого, которые он печатал в «Сыне Отечества».
«Литературная Газета», организованная Краевским с 1840 г., стала выходить с виньеткой на первой странице. Эту виньетку Н. Полевой избрал объектом для своих выпадов. Иронизируя по поводу «фасона», которым щеголяет «Литературная Газета», Полевой упомянул и виньетку — «прелестный политипаж, изображающий какого-то лысого толстяка, который сидит подле стола, в креслах, и думает»27. Когда редакция «Литературной Газеты» ответила «Сыну Отечества», что политипаж изображает не просто «лысого толстяка», а Франклина, Н. Полевой выступил с резкой полемической заметкой. Он пытался доказать, что политипаж, использованный «Литературной Газетой» в качестве виньетки, взят из какого-то французского листка, «где его и не думали выдавать за какое-нибудь историческое лицо». Заметка Полевого оканчивалась таким образом: «Поверить словам вашим и скучно, и грустно, и не кому, как говорит какой-то поэт у вас, на стр. 135»28.
Н. Полевой намекал на стихотворение Лермонтова «И скушно, и грустно», напечатанное в № 6 «Литературной Газеты» 1840 г. (от 20 января). Отвечая Полевому, редакция «Литературной Газеты» упомянула и об этом стихотворении: «„Сыну Отечества“, повидимому, не нравятся прекрасные стихи М. Ю. Лермонтова, напечатанные на 135 стр. „Литературной Газеты“, стихи, положенные на музыку одним известным петербуржским артистом и принятые с живым участием в лучшем петербуржском обществе... И здесь мы спорить не станем: — у всякого свой вкус! Мы любим
757
стихи Лермонтова, Жуковского, Пушкина и печатаем их в нашем журнале; „Сын Отечества“ любит стихи гг. Печенегова, Коровкина, Сушкова, И. Д—ча, Н. Д—ва и им подобных... На здоровье!..»29.
Редакция «Литературной Газеты» и «Отечественных Записок» не только печатала стихотворения Лермонтова, но и выдвигала его имя как большую надежду русской литературы. Характерно, что в рецензии «Литературной Газеты» на «Одесский альманах 1840 г.» по поводу Лермонтова прямо заявлялось: «Многого, многого ждем мы от этого могущественного таланта; одни из самых лучших, светлых, блистательных надежд возложили мы на него... Дай бог, чтобы он осуществил их все...»30. Одновременно Белинский в «Отечественных Записках», в свою очередь рецензируя «Одесский альманах 1840 г.», также упоминал имя Лермонтова. Давая краткую характеристику современной поэзии, Белинский, между прочим, отмечал: «Поэтов действующих — у нас немного; если хотите, мы всех их перечтем по пальцам: гг. Лермонтов и Кольцов; далее подписывающийся — Ѳ — <И. П. Клюшников>, и г. Красов...»31. Однако, в своей рецензии Белинский очень холодно отозвался об «Ангеле» и «Узнике» Лермонтова, помещенных в «Одесском альманахе». 1 марта 1840 г. он писал Боткину по поводу этих стихотворений: «Стихи Лермонтова не достойны его имени, они едва ли и войдут в издание его сочинений (которое выйдет к празднику), и я их ругну. Впрочем, они случайно и попали в печать, чтобы отвязаться от альманашников»32. В рецензии на «Одесский альманах» по поводу «Ангела» и «Узника» Белинский ограничился следующими замечаниями: «Два стихотворения г. Лермонтова, вероятно, принадлежат к самым первым его опытам, — и нам, понимающим и ценящим его поэтический талант, приятно думать, что они не войдут в собрание его сочинений, которое, слышали мы, выйдет весною. Впрочем, эти два стихотворения недурны, даже хороши, но только не превосходны, а без того не могут быть и хороши, когда под ними подписано имя г. Лермонтова»33. Предположение Белинского, что «Ангел» и «Узник» принадлежали к числу самых первых опытов Лермонтова, не совсем верно. «Ангел», действительно, был написан в 1831 г. и являлся единственным из юношеских стихотворений, напечатанных самим Лермонтовым. Но «Узник» датируется 1837 г., хотя первоначальная его редакция (стихотворение «Желание») относится к 1831—1832 гг.
Редактор и комментатор сочинений Белинского С. А. Венгеров обвинял Белинского в том, что в оценках «Ангела» и «Узника» критик «жестоко промахнулся»31. Как это видно из приведенных цитат, оценки Белинского не сопровождены мотивировкой. Неизвестно, в силу каких причин Белинский отрицательно отнесся к «Ангелу» и «Узнику».
До сих пор не обращалось внимания на то, что в рецензии на «Одесский альманах», помещенной в «Литературной Газете», «Ангел» и «Узник» также были оценены очень холодно, причем оценки сопровождались мотивировкой. Эта мотивировка проясняет и сущность оценок Белинского. Вот что было сказано в рецензии по поводу «Узника» и «Ангела»: «В этих пьесах нет ничего особенного, ими нельзя измерить таланта Лермонтова. Первое, по нашему мнению, лучшее. Яркий металлический стих, какой-то особенный прием, обличающий художника, полнота образов, исчерпывающих своими формами все содержание чувства, выражаемого стихотворением, — вот достоинства пьесы „Узник“. Стихотворение „Ангел“ менее
758
удовлетворяет нашему эстетическому чувству. В самом содержании его какая-то неопределенность, какая-то антипоэтическая туманность, так что даже самый талант Лермонтова не мог придать ему жизни... Может быть, в связи с другими стихотворениями оно получит более глубокое значение и иначе отзовется, но само по себе, как уже и сказали мы, оно не удовлетворяет нас». Рецензент заканчивал свою оценку «Ангела» следующими словами: «Вообще мы желали бы, — если позволено нам это желание, — чтобы талант Лермонтова чуждался всего аллегорического, безжизненной области, населенной символическими демонами, двусмысленными пери и пр.»35.
Можно предположить, что Лермонтов принял во внимание мнение рецензента, поскольку «Ангел» не был включен в сборник стихотворений издания 1840 г.
Но возвратимся к полемике «Сына Отечества» с «Литературной Газетой» и «Отечественными Записками». Изложенные вкратце перипетии этой полемики не имели бы, конечно, никакого существенного значения, если бы в числе свидетелей этой полемики не был сам Лермонтов и если бы эта полемика не откликнулась в его творчестве.
В стихотворении «Журналист, читатель и писатель», написанном в конце марта 1840 г. (во время пребывания Лермонтова под арестом за дуэль с Барантом) и напечатанном в 4-й книжке «Отечественных Записок», несомненно отразились впечатления Лермонтова от полемики Полевого с изданиями Краевского. В «журналисте» и его речах нельзя не узнать некоторых существенных черт облика Н. Полевого, к 1840 г. растерявшего свою принципиальность, писавшего за деньги и сблизившегося с деятелями продажной журналистики:
Приличье, вкус — всё так условно;
А деньги все ведь платят ровно! —
Поверьте мне: судьбою несть
Даны нам тяжкие вериги...
Белинский, характеризуя критические «очерки» Полевого в «Сыне Отечества», превосходно говорил о них: «Все эти „очерки“ поются на один и тот же лад и отличаются элегическою унылостию разочарованных юношей двадцатых годов настоящего столетия, — юношей, уж очень состарившихся для 1840 г. В них на один и тот же тон распевается одна и та же мысль, — что теперь все не так, как было, и в современной литературе видна одна посредственность»36. «Журналист» в стихотворении Лермонтова, подобно Полевому, смотрит на «русскую музу» «открыто негодуя», подобно Полевому, он видит в литературе одну посредственность:
Скажите, каково прочесть
Весь этот вздор, все эти книги...
И всё зачем? — чтоб вам сказать,
Что их не надобно читать!..
Выше мы отмечали, каков был преобладающий стиль критических «очерков» Полевого: он уклонялся от серьезного критического анализа, зачастую лишь иронизировал над писателями, которые сотрудничали во враждебных ему органах. Литературная критика в руках Полевого, как уже указывалось, подменялась библиографическими заметками, нападками на шрифт, опечатки и пр. По поводу виньетки в «Литературной Газете» Полевой открыл даже целое наступление, затрагивая и имя Лермонтова. В следующих строках «Журналиста, читателя и писателя» не только
759
отразились впечатления Лермонтова от полемики Полевого с «Литературной Газетой», но и была дана оценка этой полемики. В ответ на слова «журналиста», что и он, «открыто негодуя», смотрит на «музу русскую», «читатель» говорит:
Читал я. — Мелкие нападки
На шрифт, виньетки, опечатки,
Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто.
Хотя б забавно было свету! —
В чернилах ваших, господа,
И желчи едкой даже нету,
А просто грязная вода.
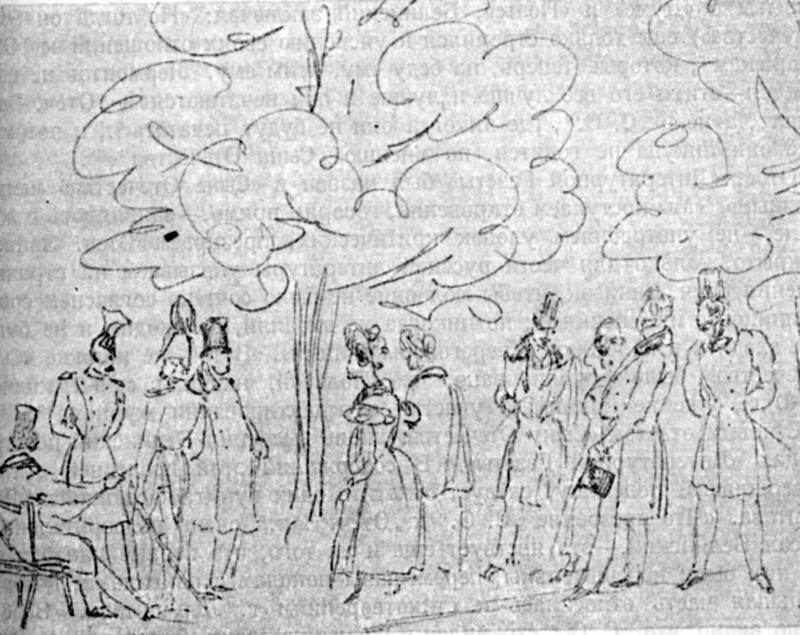
ГУЛЯНЬЕ В САДУ
Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 87)
Институт литературы, Ленинград
К «Журналисту, читателю и писателю» нам еще придется вернуться. В стихотворении отразился лишь первый, начальный этап полемики «Сына Отечества» с изданиями Краевского. Полемика продолжалась и после напечатания стихотворения, но все в том же стиле. Меткая характеристика Лермонтова применима и ко второму, заключительному этапу полемики.
Поводом для новых выпадов «Сына Отечества» послужила рецензия Белинского в «Отечественных Записках» на «Одесский альманах 1840 г.». «Сын Отечества» восстал против утверждений Белинского, что у нас всего четыре «действующих» поэта (Лермонтов, Кольцов, Клюшников и Красов) и немногим более — переводчиков (Вронченко, Катков, Струговщиков, Аксаков и Мейстер). Если Белинский в числе «действующих» поэтов на
760
первое место поставил Лермонтова, то в статье «Сына Отечества» (принадлежавшей, конечно, тому же Полевому) утверждалось другое: «Г-н Лермонтов за полдюжины пьесок, весьма недурных, и г-н Кольцов за несколько очень милых пьесок и песенок, по нашему мнению, никак не могут еще назваться поэтами великими». (Нужно отметить, что Белинский в своей рецензии и не называл Лермонтова и Кольцова великими поэтами.) Так же мельком автор статьи упоминал в «Сыне Отечества» и о Лермонтове-прозаике, заметив, что все написанное Лермонтовым в прозе «очень плохо»37.
На полемическую статью «Сына Отечества» ответил Белинский в «Литературной Газете». Белинский вспоминал, что когда-то «Сын Отечества» восхищался стихами Лермонтова. Процитировав прежние похвальные отзывы о «Думе» и «Поэте», Белинский заключал: «Но тогда он <«Сын Отечества»> еще только стремился к уяснению своих отношений к „Отеч. Запискам“, которые теперь, на беду ему, ясны ему. Лермонтов не изменяется — стихи его все лучше и лучше и они печатаются в „Отеч. Записках“, а не в „С. О.“, где никогда они не будут печататься, и потому — все они никуда не годятся, по мнению „Сына Отечества“»38.
Ответ «Литературной Газеты» был назван в «Сыне Отечества» «неприличным». «Мы поступаем откровенно, говорим прямо, — заявлялось в журнале, — не употребляем уловок критических, презираем Отеч. Записки открыто, только для чести русской литературы указываем на странные мнения Отеч. Записок, чтобы молчание не было сочтено согласием современников с их мнениями; но никогда не входили, не входим и не будем мы входить в полемику и переговоры с ними». В той же книжке «Сына Отечества» было опубликовано, что Полевой, начиная с 9-й книжки 1840 г., уже не принимает участия в редактировании журнала39.
С новым ответом «Сыну Отечества» вновь выступил Белинский на страницах «Литературной Газеты». В содержании этой последней статьи, завершившей полемику, следует отметить один пункт, касающийся Лермонтова. «Что презрение „С. О.“ к „Отеч. Зап.“ очень подозрительно, — писал Белинский, — это явствует еще и из того, что первые нападки его на них были нерешительны, перемешаны пополам с похвалами, которых большая часть относилась к стихотворениям г. Лермонтова. Вообще было видно, что „С. О.“ стремился к уяснению своих отношений к „Отеч. Запискам“ и рассчитывал так, чтобы его отзывы о них походили на изречения дельфийского оракула, т. е. могли б быть перетолкованы в ту и другую сторону — и как брань, если бы „От. Зап.“ отвергли искательства „С. О.“, и как похвала, если бы они низошли до этих искательств». И дальше, как и в предыдущей своей полемической статье, Белинский вновь подчеркивал беспринципность «Сына Отечества»: «„Сын Отечества“ отвергает всякий талант в г. Лермонтове, стихотворения которого сам превозносил назад тому год»40.
Когда вышел в свет «Герой нашего времени», «Сын Отечества» объединил произведение Лермонтова с одновременно вышедшим «Мещанином» Башуцкого, которым восторгался Бурачок в «Маяке», и по поводу обеих вещей даже отказался высказываться. «Мы думаем, — отмечалось в «Сыне Отечества», — что для многих пишущих критика дело бесполезное, как бесполезны дождь и роса для растений, корень которых подточен неумолимым червяком. Критика в таком случае может быть полезна, как анатомия, производящая свои исследования над мертвыми телами для научения
761
других. Следовательно, критике здесь торопиться нечего. Она всегда успеет догнать больные создания, влекущиеся между жизнью и смертью, в малый промежуток их бедного, эфемерного бытия»41.
4
По особенностям своего творческого развития Лермонтов был далек от литературных группировок, от журнальной и критической борьбы. Чем же тогда объяснить, что в марте 1840 г., во время сидения под арестом, он написал стихотворение, в котором ставились темы взаимоотношения писателя и читателя, темы, непосредственно связанные именно с журналистикой и критикой? Б. М. Эйхенбаум выдвинул предположение, что «главным поводом» к написанию стихотворения «Журналист, читатель и писатель» явилось, вероятно, посещение Белинского, который действительно был у Лермонтова в ордонанс-гаузе и вел с ним длительную беседу42. Хронологические данные если и не противоречат гипотезе Б. М. Эйхенбаума, то не могут и подкрепить ее. «Журналист, читатель и писатель» написан, вероятно, 20 марта 1840 г. Эта дата проставлена на копии стихотворения, сделанной (как установил Л. Б. Модзалевский) рукою В. Соллогуба. 4-я книжка «Отечественных Записок», где было напечатано стихотворение, вышла в свет 12 апреля 1840 г.43. Белинский же в письме к Боткину от 16 апреля 1840 г. говорит, что он «недавно» был у Лермонтова в заточении44. До своего визита Белинский хотя и встречался с Лермонтовым в редакции «Отечественных Записок», но близких отношений с ним не поддерживал, и они, видимо, сторонились друг друга45. Скорее всего, что Белинский отправился к Лермонтову в связи с только-что вышедшей 4-й книжкой «Отечественных Записок» (с напечатанным в ней «Журналистом, читателем и писателем»), чтобы вручить ее поэту. Если принять подобное допущение, тогда встречу Белинского с Лермонтовым нужно датировать между 12 и 16 апреля, что и соответствует словам Белинского: «недавно был я у него», т. е. в течение последних четырех-пяти дней. При таком допущении гипотеза о том, что «главным поводом» к написанию стихотворения Лермонтова послужило именно посещение Белинского, снимается совершенно. В упомянутом письме к Боткину от 16 апреля 1840 г. Белинский сообщает, что Лермонтов в разговоре с ним отзывался, между прочим, о повести В. Соллогуба «Большой свет в трех танцах». Но повесть В. Соллогуба была напечатана в 3-й книжке «Отечественных Записок», вышедшей в свет 15 марта. Следовательно, ко времени встречи с Белинским Лермонтов должен был уже прочесть эту повесть. В историко-литературных целях удобнее выдвигаемое предположение, что визит Белинского к Лермонтову состоялся между 12 и 16 апреля и что, значит, «Журналист, читатель и писатель» написан Лермонтовым еще до встречи с Белинским. Дело в том, что «главным поводом» к написанию стихотворения послужили Лермонтову, конечно, его собственные творческие потребности, а не беседа с кем-либо и не чей-либо визит, хотя бы и Белинского.
Весьма существенен тот факт, что 19 февраля 1840 г., т. е. за месяц до создания «Журналиста, читателя и писателя», цензурой было разрешено печатание «Героя нашего времени». Находясь в вынужденном одиночестве, Лермонтов, со дня на день ожидавший появления в свет своей первой книги, естественно, не мог не думать о том, как она будет встречена журналами и читающей публикой. «Журналист, читатель и писатель», являясь,
762
как и пушкинский «Разговор книгопродавца с поэтом», своего рода литературно-общественной декларацией автора, связан, однако, гораздо более близко с «Героем нашего времени», чем пушкинский «Разговор...» с первой главой «Евгения Онегина».
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток...
Эти строки из заключительного монолога в «Журналисте, читателе и писателе» прямо перекликаются с позднейшим авторским предисловием ко второму изданию «Героя нашего времени»: «Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии...».
Осмысляя «Журналиста, читателя и писателя» как литературно-общественную декларацию Лермонтова, соотнесенную с «Героем нашего времени» и закономерно написанную накануне выхода романа в свет, мы понимаем, почему именно в этом стихотворении поэт подытожил и резюмировал свои впечатления от современной ему журналистики.
Помимо впечатлений от «Сына Отечества» и статей Полевого, в стихотворении отразились, вероятно, впечатления Лермонтова и от других изданий начала 40-х годов. Так, слова «читателя» о дурной внешности журнала, об опечатках, о низком уровне стихотворного отдела — все это в равной степени может быть отнесено и к «Сыну Отечества» и к «Библиотеке для Чтения». Сетования «читателя» на то, что в журнале преобладают переводы, а тематика оригинальных «рассказов» ограничена насмешками над Москвой или бранью чиновников, — эти сетования следует рассматривать как обобщенную характеристику всей петербургской реакционной журналистики. Переводы, действительно, являлись преобладающим материалом отдела «словесности» и в «Сыне Отечества» и в «Библиотеке для Чтения»; насмешки над Москвой весьма свойственны были «Библиотеке для Чтения», усвоившей издевательский тон по отношению к Москве с самого основания журнала; чиновников постоянно бранил Булгарин в своих нравоописательных очерках в «Северной Пчеле».
Характерно, что в стихотворении Лермонтова была дана обобщенная характеристика журналов, враждебных «Отечественным Запискам», был дан сатирический портрет именно реакционной журналистики. Лермонтов сотрудничал в «Отечественных Записках», и, будучи близок к этому журналу, он, вероятно, полностью разделял его боевую линию по отношению к Полевому, Сенковскому, Булгарину и Гречу. Но литературно-общественная позиция Лермонтова, сформулированная в стихотворении, совершенно самостоятельна и оригинальна; она связана, конечно, только с собственными творческими путями Лермонтова.
К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь?
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлёк
В свой необузданный поток?
763
О нет! — преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю.

ГОЛОВА МУЖЧИНЫ С ТРУБКОЙ
Рисунок пером Лермонтова,
1832—1834 гг., из 22-й тетради
(рис. 199)
Институт литературы, Ленинград
Говоря о «толпе», Лермонтов необычайно близок Белинскому, который в 1840 г. определял толпу как «собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету». В 1840 г. «толпа» в понимании Белинского была синонимом филистерства46. Конечно, именно в этом смысле говорит о «толпе» и Лермонтов. Гораздо сложнее смысл последующих строк, в которых собственно и формулирована литературно-общественная позиция Лермонтова. Чтобы прояснить и уточнить смысл этих строк, было бы целесообразно их тоже сопоставить с тем, что писал Белинский.
Как учил Белинский, младенческая, бессознательная гармония духа переходит в дисгармонию и борьбу для того, чтобы возвратиться к новой, но уже мужественной и сознательной гармонии. С точки зрения Белинского задача искусства заключалась в том, чтобы показать, «как из диссонанса снова возникает гармония, — через то ли, что раззвучная струна снова настраивается или разрывается вследствие ее своевольного разлада»47. Начиная с середины 1840 г., Белинский уже высмеивал свою «преутешительную философию» и горько иронизировал над всеми, верующими в грядущее блаженство на лоне мировой субстанции. Однако статьи Белинского начала 1840 г., вплоть до статьи о «Герое нашего времени» включительно, были посвящены вдохновенной и страстной проповеди этой «преутешительной философии».
764
Нетрудно видеть, что заключительные строки «Журналиста, читателя и писателя» находятся в несомненном противоречии с «философией» Белинского. В данном случае речь идет не о том, что Лермонтов полемизирует с Белинским или как-то отвечает ему в своем стихотворении. Речь идет об объективном соотношении концепций Лермонтова и Белинского. В самом деле, о чем говорит Лермонтов в заключительных строках своего стихотворения? Обнажая «приличьем скрашенный порок», поэт несет людям не примирение и гармонию, а «тайный яд», увлекающий слабые сердца в свой «необузданный поток». Поэт несет в жизнь не преодоление диссонансов и противоречий, а, наоборот, он способствует последовательному и всестороннему их раскрытию.
В заключительных строках стихотворения подчеркивается не отказ поэта от общественной роли, а трагическое сознание того, какой «тяжелою ценою» эта роль может быть выполнена. На свое искусство, неумолимое и жестокое, поэт смотрит с глубокой горечью, потому что сознает, что оно не утешит и не просветлит людей, а принесет им страдания и скорби.
Вопросы, поставленные Лермонтовым в «Журналисте, читателе и писателе», повидимому, обсуждались и в беседе с Белинским, когда он посетил поэта в Ордонанс-гаузе. Историческое свидание Белинского с Лермонтовым, по словам И. И. Панаева, продолжалось «часа четыре» и произвело на Белинского огромное впечатление. В письме к Боткину от 16 апреля 1840 г. Белинский отзывался о вышедшем тогда из печати «Герое нашего времени» и рассказывал о своем свидании с Лермонтовым. Впечатления от только-что прочитанной книги у Белинского соединились и сплелись с впечатлениями от личности Лермонтова. «Кстати: вышли повести Лермонтова, — писал Белинский. — Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Печорин — это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: дай бог!»48.
О чем спорил Белинский с Лермонтовым? В чем состояли их расхождения и несогласия? Очевидно, что Белинский спорил с Лермонтовым, защищая свою философскую концепцию. Он, вероятно, развивал перед Лермонтовым свои взгляды на задачи искусства как на преодоление дисгармонии и борьбы и возвращение в мужественную и сознательную гармонию. С этой точки зрения Белинский, конечно, и считал, что рассудочный и озлобленный взгляд на жизнь и людей являлся переходным этапом в развитии Лермонтова. Характерно, что именно в озлобленности и охлажденности Лермонтова Белинский усматривал «семена глубокой веры» в достоинство жизни и людей. Только через год Белинскому стало ясно, что он ошибался. «Говорят, что дисгармония есть условие гармонии, — писал он в 1841 г., — может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж конечно не для тех, которым суждено выразить своею участию идею дисгармонии»49. Большое преимущество Лермонтова перед Белинским во время их встречи заключалось в том, что у Лермонтова
765
не было и не могло быть никаких утешительных чаяний и иллюзий. Но в то же время Белинский был прав, констатируя наряду с глубиной и цельностью Лермонтова непроясненность для самого поэта задач его исторического поведения и его же собственного искусства. Говоря о «семенах глубокой веры» в достоинство жизни и людей и субъективно это истолковывая, Белинский тем не менее понял назревающий и необходимый поворот в творческом развитии Лермонтова, — поворот от трагического сознания разрушительной силы своего искусства к уяснению его положительного и созидательного смысла.
В течение того времени, когда в критике протекало обсуждение «Героя нашего времени» и сборника стихотворений Лермонтова, поэт значительно отошел от настроений и взглядов, декларированных им в «Журналисте, читателе и писателе». Пафос негодования и разоблачения, который представлялся ему страшным для людей и общества, стал осознаваться как пафос утверждения жизни.
В предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени», в таких стихотворениях, как «Договор», «Выхожу один я на дорогу» и, особенно, «Пророк», идея отрицания и борьбы уже не сопровождается сомнениями и колебаниями в ее необходимости и правомерности для жизни и людей. Поэт уже не страшится того, что «тайный яд» его речей смутит непосредственное сознание и увлечет слабые сердца. В предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени» он говорит: «Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины». Обнажение болезней общества, бесстрашное обличение и разоблачение пороков, — в этом Лермонтов стал видеть основную задачу своего искусства, несмотря ни на какие трудности и препятствия (ср. стих. «Пророк»).
Идея отрицания, признанная Лермонтовым в ее общественной функции, в силу этого прояснилась и осмыслилась у него как идея созидания и творчества. Таков был один из существеннейших факторов в эволюции Лермонтова, переживаемой им в последние годы жизни.
Суждения и оценки, высказанные в литературной критике по поводу «Героя нашего времени» и сборника стихотворений Лермонтова, не могли быть безразличны для поэта. Литературная критика, и особенно, разумеется, критика Белинского, способствовала идейному росту Лермонтова. Критика помогла ему понять идею отрицания как передовую идею искусства и общественной жизни. Но, с другой стороны, сам Лермонтов оказал немалое влияние на судьбы литературной критики, поскольку его творчество содействовало укреплению самого прогрессивного ее течения, возглавлявшегося Белинским. Поэзия Лермонтова способствовала освобождению Белинского от примирительных умонастроений, она разоблачала его утешительные чаяния и иллюзии. Уже вслед за Лермонтовым и на основе его творчества Белинский выдвигает идею отрицания и борьбы, которую обосновывает и истолковывает как революционно-созидательную силу.
5
«Герой нашего времени» вызвал в критике восторженные похвалы и ожесточенную брань. Отзывам Белинского, посвятившего «Герою нашего времени» две рецензии и обширную критическую статью, противостояли отзывы и высказывания по поводу романа в «Сыне Отечества», «Библиотеке для Чтения», «Маяке».
766
Мы уже отмечали, что критик «Сына Отечества» даже отказался от критического разбора, безоговорочно причислив «Героя нашего времени» к числу «больных созданий», влекущихся «между жизнью и смертью, в малый промежуток их бедного, эфемерного бытия»50.
Двусмысленный характер носила рецензия в «Библиотеке для Чтения». «Публика до сих пор знала г. Лермонтова только как поэта, как одного из лучших наших лирических поэтов, — писал Сенковский. — Поэтическое дарование его не подлежит никакому спору, ни сомнению. Это обстоятельство, конечно, очень невыгодно для того, кто хочет писать в прозе, но г. Лермонтов счастливо выпутался из самого затруднительного положения, в каком только может находиться лирический поэт, поставленный между преувеличениями, без которых нет лиризма, и истиною, без которой нет прозы. Он надел плащ истины на преувеличения, и этот наряд очень к лицу им». Касаясь образа Печорина, Сенковский замечал, что «лучшими из повестей, в которых он действует, могут быть признаны — „Тамань“ и „Княжна Мери“, хотя в первой, относительно к месту, где происходит действие, есть несколько незакрытого плащом преувеличения. Но еще лучшие страницы — рассказ о Максиме Максимыче»51.
Проза Лермонтова рассматривалась в этой рецензии как проза лирического поэта, причем, несомненно, осуждалась, хотя Сенковский и хвалил Лермонтова. Отрицательное отношение Сенковского к «Герою нашего времени» обнаруживается с полной очевидностью, если учесть взгляд Сенковского на взаимоотношение стихов и прозы. В одной из своих рецензий он писал: «Вообще то, чего не стоит говорить, надобно говорить стихами, надобно выравнять по поэтическому ватерпасу, подкрасить эпитетами и стараться спустить с рук с рифмами: многие, для рифмы, купят мысль, которой иначе не взяли бы и даром. Хорошие, дельные мысли, напротив, можно очень выгодно сбывать в натуре, то есть, в прозе. Большая часть писателей, полагая, по врожденному самолюбию, что все их мысли равно чудесны, пренебрегают великим искусством сортирования идей, суют без разбору дельные мысли свои в стихи, пустые в прозу, и оттого и проза и стихи их выходят плохие»52. При сопоставлении приведенных строк Сенковского с его отзывом по поводу «Героя нашего времени» становится ясным, что под «преувеличениями» Сенковский понимал пустые и вздорные мысли («то, чего не стоит говорить»), которые, будучи изложены прозой, получили видимость истины. Свое действительное отношение к «Герою нашего времени» Сенковский формулировал уже после смерти Лермонтова, когда он с полной откровенностью заявил, что «Герой нашего времени» — «не такое произведение, которым русская словесность могла бы похвастаться». «Тут на всяком шагу еще виден человек, который говорит о жизни без личной опытности, об обществе без наблюдения, о „своем времени“ без познания прошедшего и настоящего, о свете по сплетням юношеским, о страстях по слуху, о людях — по книгам, и думает, будто понял сердце человеческое — из разговоров в мазурке, будто может судить о человечестве, потому что глядел в лорнетку на львенков, гуляющих по тротуару»53.
Сенковский умел превращать свои рецензии в сплошную брань по адресу писателя (так было, например, с Гоголем), но в 1840 г. по отношению к Лермонтову он предпочел осуждение романа преподнести в форме похвалы. Вероятно, именно на эту рецензию Сенковского Лермонтов откликнулся эпиграммой, которая оставалась ненапечатанной до 1861 г.:
767
Под фирмой иностранной иноземец
Не утаил себя никак —
Бранится пошло: ясно немец,
Похвалит: видно, что поляк.

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ
Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 7)
Институт литературы, Ленинград
Откровенной бранью был встречен «Герой нашего времени» в статье Бурачка, одного из редакторов журнала «Маяк». В этом мракобесном органе, который обвинял Жуковского и особенно Пушкина «в растлении нашей литературы и развращении вкуса публики», по поводу романа Лермонтова писалось следующее; «Психологические несообразности на каждом шагу перенизаны мышлением неистовой словесности. Короче, эта книга — идеал легкого чтения. Она должна иметь огромный успех! Все действующие лица, кроме Максима Максимыча с его отливом ridicule’я — на подбор, удивительные герои; и при оптическом разнообразии, все отлиты в одну форму, — самого автора Печорина, генерал-героя, и замаскированы, кто в мундир, кто в юбку, кто в шинель, а присмотритесь: все на одно лицо и все — казарменные прапорщики, не перебесившиеся. Добрый пучек розог — и все рукой бы сняло!..». Свое впечатление от романа Бурачок резюмировал в таких словах: «И так, в ком силы духовные заглушены, тому герой наших времен покажется прелестью, несмотря, что он — эстетическая и психологическая нелепость. В ком силы духовные хоть мало мальски живы, для тех эта книга отвратительно несносна»54.
768
В черновике предисловия ко второму изданию «Героя нашего времени» Лермонтов, имея в виду, несомненно, статью Бурачка в «Маяке», писал: «Но хотя ничтожность этого журнала и служит ему достаточной защитой, однако, всетаки должно признаться, что, прочитав пустую и непристойную брань, на душе остается неприятное чувство, как после встречи с пьяным на улице».
В приведенных отзывах по поводу «Героя нашего времени», несмотря на их несходную тональность (от издевательства до брани), была одна общая черта — неприемлемость образа Печорина. Оценка самого романа у рецензентов прямо вытекала из их отношения к Печорину, который для Сенковского казался «преувеличением», а для Бурачка был совершенно нетерпим с моральной точки зрения.
Вопрос о соотношении искусства и морали был одним из самых боевых вопросов русской критики, начиная с эпохи 20-х годов. Вопрос этот не терял своей актуальности и в последующие десятилетия, заняв важное место в критике Белинского. Белинский пошел вслед за романтиками в защите автономии эстетического чувства от всякого рода моралистических покушений. Но он еще в начальную пору своей деятельности сделал новый шаг в трактовке данного вопроса. Белинский отождествил эстетическое чувство с нравственным и обосновал автономию чувства вообще от всякой принудительной опеки. Глубокому и окончательному уяснению Белинским вопроса о взаимоотношении искусства и морали помогло гегелевское учение. «Надо припомнить, — замечает Анненков, — что Белинский вполне усвоил себе деление Гегеля нравственных начал на две области: моральную (Moralität), к которой он отнес более или менее хорошо придуманные правила общежития, и собственно-нравственную (Sittlichkeit), которая объемлет у него самые законы, управляющие психическим миром человека и порождающие этические потребности и представления. Сделавшись проводником этих мыслей в русской жизни, Белинский начал свой долгий подвиг преследования в литературе и вообще явлениях нашего общества того, что он называл моралью и моральничанием»55.
Главным аргументом, который выдвигался против «Героя нашего времени», был именно аргумент от морали, понимаемый в смысле существующих правил и норм человеческого общежития. Характерно, что для Бурачка аморальность «Героя нашего времени» была аналогична аморальности французской «неистовой» словесности. Белинский тоже, как мы видели, порицал и осуждал писателей «юной Франции». Однако эти писатели были враждебны ему не потому, что в своих произведениях они противоречили привычным нормам общежития, а потому, что они в его глазах не имели эстетических норм. В статье «Менцель, критик Гете» Белинский утверждал, что «вопрос о нравственности поэтического произведения должен быть вопросом вторым и вытекать из ответа на вопрос — действительно ли оно художественно»56. Исходя из этого положения, мы начинаем понимать, почему Белинский открывал разбор «Героя нашего времени» обоснованием своей эстетической концепции. Если роман Лермонтова являлся истинно художественным произведением, то тогда все обвинения его в безнравственности должны были отпасть; тогда он должен быть оправдан и принят целиком.
Руководящая философско-эстетическая предпосылка Белинского, восходящая к учению Гегеля, формулируется им следующим образом: «Все,
769
что ни есть в действительности, есть обособление общего духа жизни в частном явлении. Всякая организация есть свидетельство присутствия духа: где организация, там и жизнь, а где жизнь, там и дух. И потому, как всякое произведение природы, от минерала и былинки до человека, есть обособление общего духа жизни в частном явлении, так и всякое создание искусства есть обособление общей мировой идеи в частный образ, в самом себе замкнутый». Отсюда Белинский делает соответствующие общеэстетические выводы. Поскольку художественное произведеие есть образ, в самом себе замкнутый, постольку критерии для оценки произведения должны лежать не вне его, а внутри него самого. Поэтому «истинно-художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков: для кого доступна их целость, тому видится одна красота. Только близорукость эстетического чувства и вкуса, неспособная обнять целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность»57.
Белинский и подошел к «Герою нашего времени» как к замкнутому целому, стремясь отыскать внутри него самого и развитие, и причину, и оправдание заложенной в нем идеи. Центральным моментом в статье Белинского был, конечно, анализ образа Печорина. Анненков неправ, когда он утверждает, что Белинский дал «чисто адвокатскую» и «искусственную» защиту Печорина. Эта защита не только не противоречила эстетической концепции Белинского, как полагает Анненков58, но, наоборот, прямо из нее вытекала. Согласно своей концепции, Белинский отнюдь не должен был осудить Печорина, а необходимо должен был его оправдать.
Характеризуя статью Белинского о «Герое нашего времени», Чернышевский справедливо указывает, что Белинский еще не ставил вопроса о том, почему именно Печорин, «а не другой тип людей производится нашей действительностью»59. Образ Печорина Белинский соотносил не с конкретно-исторической действительностью, а с «общим духом жизни», т. е. с гегелевской абсолютной идеей.
Вслед за Гегелем Белинский учил, что саморазвитие идеи идет от бессознательной гармонии, распадающейся, переходящей в дисгармонию и борьбу для того, чтобы приобрести новую гармонию, новое разумное единство. В трактовке Белинского образ Печорина и воплощал вторую стадию «общего духа жизни» — стадию рефлексии и внутреннего распадения.
Признав идею «Героя нашего времени» истинно художественной, Белинский тем самым решал вопрос и о нравственности всего романа Лермонтова в целом, а образа Печорина в частности. Характерно поэтому, что в своей статье он с большой силой и негодованием обрушился на проповедников лицемерной морали, защищая от них Печорина. «Ему другое назначение, другой путь, чем вам, — писал Белинский. — Его страсти-бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизм и геморрой, которыми вы, бедные, так бесплодно страдаете... Пусть он клевещет на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клевещет на человеческую природу, видя в ней один эгоизм; пусть клевещет на самого себя, принимая моменты
770
своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостию, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд!..»60.
Анненков, полагавший, что Белинский защищал Печорина «красноречиво», но «искусственно», в доказательство своего мнения указывает на одно место в статье Белинского, когда он якобы «останавливается перед выходкой Печорина совершенно растерянный, не находя уже слов для уяснения грубой мысли героя и признаваясь, что не понимает его». Анненков имеет в виду то место «Героя нашего времени», когда Печорин чувствует трепет неизъяснимого блаженства при мысли, что обольщенная им княжна Мери проведет ночь в слезах61. Действительно, процитировав соответствующие строки из «Героя нашего времени», Белинский ставит себе вопрос, на который тут же и отвечает: «Что такое вся эта сцена? Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно-неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства; но последней черты ее мы решительно не понимаем... Она кажется нам преувеличением, умышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою; словом, нам кажется, что здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного...». Анненков был бы прав, если бы Белинский ограничился приведенными словами. Но Белинский останавливается в недоумении для того, чтобы подчеркнуть и заострить свое объяснение «выходки Печорина». Дальше Белинский говорит: «И, если мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно (разрядка моя. — Н. М.): состояние противоречия с самим собою необходимо условливает большую или меньшую изысканность и натянутость в положениях...»62.
Приведенные строки Белинского, несомненно, были связаны с письмом Боткина (от 21 мая 1840 г.), полученным во время работы над статьей. Боткин делился с Белинским впечатлениями по поводу «Героя нашего времени» и, между прочим, высказывал мнение «о натянутости и изысканности (местами) Печорина». Вероятно, что Боткин имел в виду, в частности, и ту сцену, на которую указывает Анненков. Белинский ответил Боткину одновременно и в статье, над которой он работал, и в письме к нему, где говорил: «Я не согласен с твоим мнением о натянутости и изысканности (местами) Печорина, они разумно необходимы. Герой нашего времени должен быть таков... В самой его силе и величии должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтов великий поэт: он объектировал современное общество и его представителей»63.
Несмотря на исключительную последовательность, с какой велся анализ характера Печорина, Белинскому все же не удалось раскрыть художественную структуру «Героя нашего времени» как замкнутую в самой себе, не удалось показать объективность романа. Это произошло потому, что «Герой нашего времени» по самой своей природе расходился с нормами объективности, а кроме того, Белинский неправильно представлял себе самую объективность, неразрывно связывая ее с неизбежностью преодоления противоречий и примирения их в спекулятивном «высшем единстве».
Заканчивая разбор характера Печорина, Белинский вынужден был признать, что «хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого
771
Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство»64. Характерно, что впечатления от романа у Белинского совпали с впечатлениями от встречи с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе. «Печорин — это он сам, как есть», — заявил Белинский в цитированном выше письме к Боткину. Белинский был, конечно, очень далек от наивно-реалистического отождествления Печорина с Лермонтовым Но он глубоко и тонко понял, что Лермонтов еще не смог подняться над Печориным, стать вне его и оценить его в правильной перспективе в тех соотношениях с действительностью, которые определяют его природу. Таков был вывод Белинского — вывод исключительной важности и значения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ИЗМАИЛ-БЕЮ“
Рисунок М. Врубеля, 1890—1891 гг.
Третьяковская галлерея, Москва
Констатируя у Лермонтова недостаток художественной объективности, Белинский тем не менее и сам не мог удержаться в рамках объективного
772
анализа. Еще не расставшись со своей «преутешительной философией» и в то же время вступив в полосу идейного кризиса, Белинский чувствовал в рефлексии Печорина отражение собственной рефлексии и своих собственных противоречий, которых он еще не изжил. В силу этого, а также в силу того, что в Печорине, с точки зрения Белинского, в какой-то мере отразилась личность самого Лермонтова, трактовка образа Печорина неизбежно приобрела у Белинского субъективный характер. Та страстность, с какой он защищал и оправдывал Печорина, объясняется борьбой за личность Лермонтова. Но если Лермонтов еще не смог окончательно отделиться от своего героя и стать вне его, то и Белинский тоже не смог истолковать образ Печорина в правильной и объективной перспективе. Белинский отчасти сознавал это и сам. В письме к Боткину (12 августа 1840 г.) он признавался по поводу своей статьи: «Кроткий тон ее — результат моего состояния духа: я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать, и по неволе стараюсь держаться середины. Впрочем, будущие мои статьи должны быть лучше прежних: 2-я статья о Лермонтове <т. е. вторая половина статьи о «Герое нашего времени», начиная с разбора «Тамани»> есть начало их. От теорий об искусстве я снова хочу обратиться к жизни и говорить о жизни»65.
Давая оценку статье Белинского, Чернышевский совершенно верно указывал, что «Герой нашего времени» был истолкован Белинским «почти исключительно с художественной точки зрения». «Белинский прекрасно понимает характер Печорина, — писал Чернышевский, — но только с отвлеченной точки зрения, как характер европейца вообще, дошедшего до известной поры духовного развития, и не отыскивает в нем особенностей, принадлежащих ему, как члену нашего русского общества»66. В игнорировании исторической действительности, а также и в примирительных тенденциях были слабые стороны статьи Белинского, немедленно использованные его врагами.
Любопытно, что выводы Белинского по отношению к Печорину оказались приемлемыми для Бурачка, который и поспешил солидаризироваться с Белинским. В статье по поводу стихотворений Лермонтова, написанной в форме письма к автору, критик «Маяка» прямо говорил: «...после самых пышных защищений вашего героя, О<течественные> З<аписки> в конце своей статьи повторили, другими только словами, все мои заключения. Они согласились, что вы славно представили мир я, то же доказывали, с присовокуплением, что это только одна сторона человеческой действительности, в которой, кроме темного мира я, есть еще и светлый мир божий; в него-то вы и не заглянули! в этом-то вся и ошибка! оглядитесь: этот светлый божий мир в вас и около вас — как же можно миновать его?»67.
Если Бурачок попытался демагогически сыграть на примирительных тенденциях статьи Белинского, то по-своему использовал Белинского и Булгарин. Нужно заметить, что плагиат Булгарина не прошел мимо внимания Белинского и был указан им. В рецензии на сборник стихотворений Лермонтова Белинский отметил, что «одна газета (т. е. „Северная Пчела“ — Н. М.), — которая, впрочем, больше занимается успехами мелкой промышленности, чем литературою, и знает больше толка в качестве сигар и достоинстве водочистительных машин, чем в созданиях искусства, — провозгласила „Героя нашего времени“ гениальным и великим созданием, упрекая в то же время какие-то субъективно-объективные
773
журналы в пристрастии и неумеренных похвалах этому, действительно превосходному произведению Лермонтова». «К довершению комедии, — добавлял Белинский, — пустившись судить о частностях романа Лермонтова, сия газета выбрала несколько мыслей из критики „Отеч. записок“, разумеется, исказив их по-своему, и нашпиговала свою статейку тупыми остротами на счет обобранной же ею критики»68.
О «Герое нашего времени» Булгарин отзывался с неподдельным восторгом. «Герой нашего времени есть создание высокое, глубоко обдуманное, выполненное художественно, — писал он. — Господствующая идея есть разрешение великого нравственного вопроса нашего времени: к чему ведут блистательное воспитание и все светские преимущества без положительных правил, без веры, надежды и любви? Автор отвечает своим романом: к эгоизму, к пресыщению жизнью в начале жизни, к душевной сухотке, и наконец к гибели». Истолковывая роман Лермонтова как нравственно-сатирическое произведение, Булгарин восклицал: «Родители, юноши и девицы! Читайте, изучайте и поучайтесь!»69.
Хвалебная рецензия Булгарина и его «мнимое беспристрастие», как и предполагал Белинский, на деле было «купленным пристрастием»: Булгарин хвалил Лермонтова за солидное вознаграждение, которое он получил70. Это, впрочем, нисколько не противоречит тому, что «Герой нашего времени» Булгарину действительно понравился и его похвалы были, вероятно, искренними. Но Булгарин всю проблематику «Героя нашего времени» сводил к упрощенной морали, т. е. руководствовался той же точкой зрения, что и Бурачок. По видимости Бурачок и Булгарин в своем отношении к роману Лермонтова шли в противоположных направлениях, но источник их был один и тот же: моральные критерии для художественной оценки литературы, т. е. критерии, связанные с охранительными и консервативными началами.
Несравненно более тонким и содержательным был разбор «Героя нашего времени», написанный Шевыревым. Критик «Москвитянина» хотел по-своему преодолеть отвлеченность Белинского и дать более конкретное и историческое истолкование романа Лермонтова.
В своей статье Белинский сравнивал Печорина с Онегиным и по поводу последнего замечал: «Сближение с Европою должно было особенным образом отразиться в нашем обществе, — и Пушкин гениальным инстинктом великого художника уловил это отражение в лице Онегина»71. Этой вскользь брошенной мыслью Белинский и ограничился, но ее подхватил Шевырев и положил в основу своего критического разбора «Героя нашего времени».
Точка зрения Шевырева на роман Лермонтова была впервые намечена в декларативной статье «Москвитянина» — «Взгляд русского на современное образование Европы». Говоря в этой статье о «заразительном недуге» и «опасном дыхании» Запада, о том, что Запад «обречен гниению» и что якобы только Восток наделен всем величием истории и настоящего, Шевырев коснулся «Евгения Онегина», а вслед за ним и «Героя нашего времени». «Да, разочарование Запада породило у нас одну холодную апатию, — писал Шевырев. — Дон Жуан произвел Евгения Онегина, один из общих русских типов, метко схваченный гениальною мыслию Пушкина из нашей современной жизни. Этот характер повторяется нередко в нашей литературе: о нем грезят наши повествователи, и еще недавно, один из них, блистательно вышедший на поприще поэта <т. е. Лермонтов>, нарисовал
774
нам ту же русскую апатию, еще степенью больше, в лице своего героя, которого мы, по чувству национальному, не хотели бы, но должны признать героем нашего времени»72.
Об исторической преемственности Лермонтова с Пушкиным и о Печорине как об Онегине нового времени писал Белинский в своей статье. Повторяя мысль Белинского, Шевырев в данном случае нисколько не был оригинален. Своеобразие Шевырева в его подходе к «Герою нашего времени» заключалось в том, что он рассматривал проблематику романа не безотносительно к условиям русской жизни, как это делал Белинский, а именно в связи с ее ходом, под углом зрения исторических взаимоотношений России с Западной Европой. В противовес отвлеченной философско-эстетической точке зрения критика «Отечественных Записок», Шевырев пытался оценить роман Лермонтова, исходя из особенностей русской истории и русской жизни.
Статья Шевырева «Взгляд русского на образование Европы» достаточно известна как программное выступление официозного апологета «православия, самодержавия и народности». В соответствии с политической позицией Шевырева главной линией его в области эстетики был романтизм. Но Шевырев теоретически отнюдь не отказывался и от реализма, он даже призывал к нему. «Жизнь и искусство — искусство и жизнь! Да будут они связаны самою тесною дружбою в словесности нашего народа!» — таковы были лозунги Шевырева, выставленные им в «Москвитянине»73. Шевырев ратовал за правдивое изображение действительности, но понимал реализм как путь к облагораживанию действительности, к ее возвышению и идеализации. Объективно это значило — затушевывание противоречий жизни, а следовательно оправдание и защита ее исторически сложившихся форм.
В своем разборе «Героя нашего времени» Шевырев приветствовал «блистательный талант автора в создании многих цельных характеров, в описаниях, в даре рассказа». При всем том Шевырев резко осудил «главную мысль создания, олицетворившуюся в характере героя». «Печорин, конечно, не имеет в себе ничего титанического, — писал Шевырев, — он и не может иметь его; он принадлежит к числу тех пигмеев зла, которыми так обильна теперь повествовательная и драматическая литература Запада». Продолжая свою оценку Печорина, Шевырев указывал, что «не в этом еще главный его недостаток. Печорин не имеет в себе ничего существенного, относительно к чисто русской жизни, которая из своего прошедшего не могла извергнуть такого характера. Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга, мелькающая в фантазии наших поэтов, un mirage de l’occident... Там он герой мира действительного, у нас только герой фантазии — и в этом смысле герой нашего времени... Вот существенный недостаток произведения». Свое общее резюме по поводу «Героя нашего времени» Шевырев формулировал в следующих словах: «Всё содержание повестей г-на Лермонтова, кроме Печорина, принадлежит нашей существенной русской жизни; но сам Печорин, за исключением одной его апатии, которая была только началом его нравственной болезни, принадлежит миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада. Это призрак, только в мире нашей фантазии имеющий существенность»74.
Оценки «Героя нашего времени», которые дал Шевырев, очень характерны в сопоставлении их с оценками Белинского. Казалось бы, что
775
Шевырев историчнее Белинского, поскольку в своем разборе романа он был воодушевлен интересами русской жизни. Несомненно отталкиваясь от Белинского, Шевырев переводил обсуждение «Героя нашего времени» в плоскость той «существенности», которая в статье Белинского была игнорирована. И, однако, несмотря на всю отвлеченность Белинского, он стоял на почве идеи развития, и потому его критика действительно отвечала прогрессивным интересам русской жизни. Наоборот, Шевырев исходил из охранительных и консервативных тенденций, вследствие чего в оценке «Героя нашего времени» он объективно совпал и с Бурачком и с Булгариным. Совершенно прав поэтому Чернышевский, когда он, отмечая отвлеченность точек зрения Белинского в 1840 г., вместе с тем подчеркивал, что «никто еще не проникался элементами нашей действительности так глубоко и живо, как и в то время была уже проникнута ими критика Белинского». В связи со статьей Белинского о «Герое нашего времени» Чернышевский отметил, что Белинский «никогда не любил останавливаться на половине пути, из боязни, что с развитием соединены свои опасности, как соединены они со всеми вещами на свете: все-таки эти опасности, по его мнению, вовсе не так страшны, как та нравственная порча, которая бывает необходимым следствием неподвижности; притом же, они с неизмеримым избытком вознаграждаются положительными благами, какие дает развитие»75.
6
Итоги критическим суждениям, которые были высказаны в печати по поводу «Героя нашего времени», подвел сам Лермонтов. Второе издание романа он снабдил предисловием, в котором отвечал своим критикам.
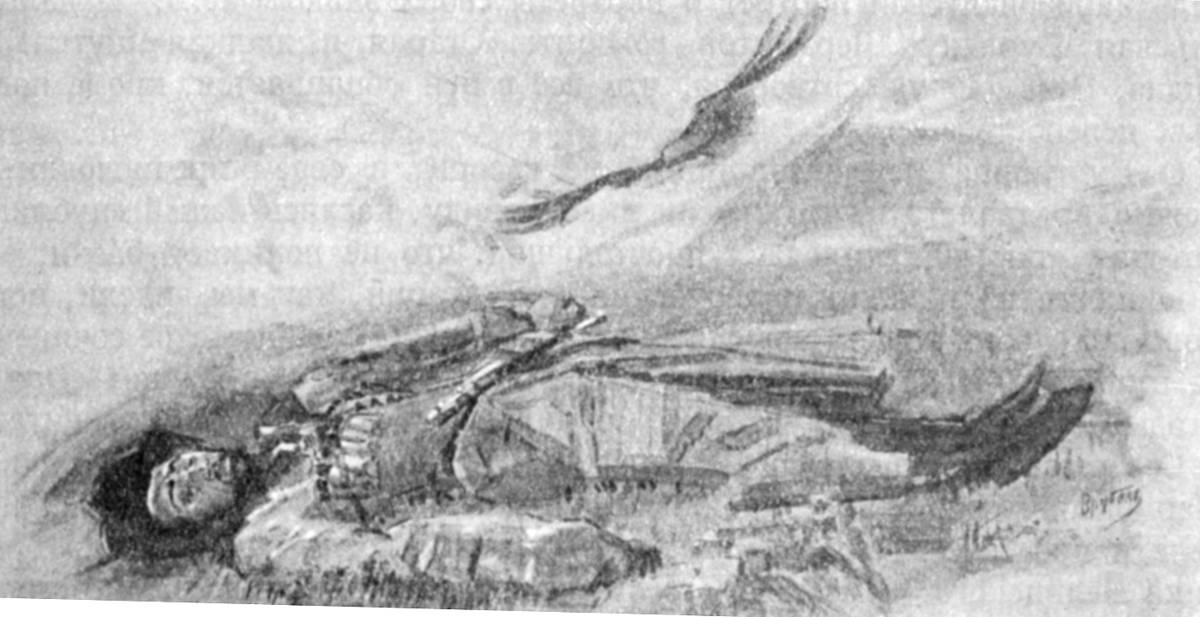
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ИЗМАИЛ-БЕЮ“
Рисунок М. Врубеля, 1890—1891 гг.
Литературный музей, Москва
Выше было указано, что взгляды Лермонтова на задачи искусства, декларированные в «Журналисте, читателе и писателе», в течение 1840—1841 гг. претерпели значительные изменения. В предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени» Лермонтов говорит о своем творчестве уже без всяких трагических интонаций и с полным сознанием его общественного
776
смысла. То, что было запутанным и непроясненным для Лермонтова накануне выхода «Героя нашего времени» в свет, через год получило свое разрешение.
Какой смысл для жизни и людей имеет искусство, обнажающее пороки? Не окажется ли разоблачение пороков соблазнительным и вредным? Так можно формулировать сомнения Лермонтова, высказанные в «Журналисте, читателе и писателе» и сводящиеся, в сущности, к одному вопросу — о взаимоотношении искусства и нравственности. Но именно этот вопрос явился лейтмотивом всех критических статей по поводу «Героя нашего времени».
Бурачок и Булгарин, несмотря на видимую противоположность их оценок, руководствовались одними и теми же моральными критериями для художественной оценки романа. На том же пути стоял и Шевырев, по основной направленности своей статьи объективно совпавший с Бурачком и Булгариным.
Можно считать бесспорно установленным, что с Шевыревым Лермонтов прямо полемизирует. На основной тезис Шевырева о призрачности Печорина Лермонтов отвечает саркастическими вопросами: «ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..»76.
Еще более, чем критика Шевырева, Лермонтову были враждебны, конечно, суждения Бурачка и Булгарина. Как уже отмечалось, статья Бурачка произвела на Лермонтова тягостное и неприятное впечатление. В черновике предисловия (цитированном выше) Лермонтов со всей резкостью высказывался по поводу статьи Бурачка. В окончательном тексте предисловия намеки на эту статью ослаблены, но тем не менее они обнаруживаются с полной отчетливостью. «Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых...». И дальше, отвечая Бурачку, Лермонтов говорит: «Старая и жалкая шутка! Но видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей».
О Булгарине Лермонтов прямо не говорит в своем предисловии, но можно предполагать, что его он имеет в виду, касаясь нашей «публики», которая «так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения». Булгарин, как мы видели, истолковывал «Героя нашего времени» как нравственно-сатирическое сочинение, и, вероятно, к нему относятся слова Лермонтова о публике: «Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана».
Совершенно ясно, что ни Шевырев, ни Бурачок, ни Булгарин не давали Лермонтову ответа на сомнения, волновавшие его в «Журналисте, читателе и писателе». Разрешению этих сомнений могла помочь только критика Белинского. Именно в его статье со всей принципиальной остротой был поставлен вопрос о взаимоотношении искусства и нравственности. Белинский с замечательной ясностью показал, что «Герой нашего времени» в основании своем — глубоко нравственное произведение. Искусство, которое громко говорит о грехах и пороках, о «кровавых ранах» общества,
777
с точки зрения Белинского было искусством, наиболее отвечающим задачам времени. Наш век «понял, — указывал Белинский, — что сознание своей греховности есть первый шаг к спасению. Он знает, что действительное страдание лучше мнимой радости. Для него польза и нравственность только в одной истине, а истина — в сущем, то-есть в том, что́ есть».
Как будто отвечая на сомнения Лермонтова, высказанные им в «Журналисте, читателе и писателе», Белинский заявлял в своей статье: «Задача нашего искусства — не представить события в повести, романе или драме, сообразно с предположенною заранее целию, но развить их сообразно с законами разумной необходимости. И в таком случае, каково бы ни было содержание поэтического произведения, — его впечатление на душу читателя будет благодатно, и, следовательно, нравственная цель достигается сама собою. Нам скажут, что безнравственно представлять ненаказанным и торжествующим порок: мы против этого и не спорим. Но и в действительности порок торжествует только внешним образом: он в самом себе носит свое наказание и гордою улыбкою только подавляет внутреннее терзание»77. К этим мыслям Белинского пришел и Лермонтов, преодолев свои сомнения и колебания. Следующие строки Лермонтова из его предисловия ко второму изданию «Героя нашего времени» прямо перекликаются с тем, что писал Белинский: «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии... Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины».
Приведенные сопоставления показывают, что решение вопроса о взаимоотношении искусства и нравственности, которое дал Белинский, было близко к решению Лермонтова. Но с данным вопросом был тесно связан и другой вопрос.
Белинский указывал в своей статье, что между Лермонтовым и Печориным, в их взгляде на вещи, удивительное сходство, что Лермонтов еще не смог подняться над Печориным, стать вне его и оценить его в правильной перспективе. Этот недостаток художественной объективности, наблюденный Белинским, в значительной мере был следствием того же трагического отношения Лермонтова к своему искусству, которое декларировалось в «Журналисте, читателе и писателе». На Печорина Лермонтов смотрел с тою же глубокой горечью, которая пронизывала его стихотворение. Образ писателя в стихотворении и образ автора, раскрывающийся в «Герое нашего времени», — это один и тот же образ.
По поводу характера Печорина Белинский писал: «Чтобы изобразить верно данный характер, надо совершенно отделиться от него, стать выше его, смотреть на него как на нечто оконченное. Но этого, повторяем, невидно в создании Печорина»78. Замечательно, что Лермонтов принял, по видимому, и это указание Белинского.
Самый факт написания авторского предисловия к «Герою нашего времени» нельзя не расценивать как стремление Лермонтова отделиться от своего героя, «стать выше его, смотреть на него, как на нечто оконченное». В предисловии к «Журналу Печорина» от имени автора было сказано: «Может-быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. — „Да это злая ирония!..“
778
скажут они. — Не знаю». В предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени» Лермонтов не только отделяет себя от своего героя, становится вне его, но и высказывает свое мнение о его характере: «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет...» и т. д.
Вряд ли можно сомневаться в том, что именно Белинский помог Лермонтову разрешить его творческие сомнения и прояснить вопрос о назначении искусства. И в личной беседе с Лермонтовым и в своей статье Белинский предсказывал необходимый поворот в развитии поэта, что и оказалось справедливым. Лермонтов не стал на путь «разумного примирения противоположностей», на который его звал Белинский, но тем не менее он вступил в новую фазу своего развития. Задачи искусства, разоблачающего пороки, Лермонтов стал осознавать как задачи утверждения жизни. Идея отрицания, которую раньше он истолковывал как разрушительную силу для общества, теперь прояснилась для него как единственно возможная сила созидания. Лермонтов вступил в новую фазу развития, естественно подготовленную всем его творчеством, но вместе с тем и подсказанную Белинским.
С другой стороны, и Белинский, не только по ходу своей идейной эволюции, но и под несомненным влиянием Лермонтова, вынужден был отказаться от иллюзии «разумного примирения противоположностей». Белинский стал видеть единство противоположностей не в преодолении и свертывании противоречий, а в последовательном и всестороннем их развитии. Отбросив консервативную сторону в учении Гегеля и став на путь революционной диалектики, Белинский стал на путь утверждения жизни через ее отрицание.
Предисловие ко второму изданию «Героя нашего времени» Лермонтов, обращаясь к своим критикам, закончил такими словами: «Ему <автору> просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!». Итак, Печорин, по оценке самого Лермонтова, — это «болезнь». Так же понял «героя нашего времени» и Белинский. Но как излечить болезнь — оставалось неясным и для Лермонтова и для Белинского.
Проблема «героя нашего времени» была связана с условиями и противоречиями русской жизни и возможностями ее исторического развития. Разрешить данную проблему — понять, как излечить болезнь, — это значило выяснить происхождение болезни, т. е. раскрыть характер Печорина в соотношении с конкретными условиями той исторической действительности, которые его породили и создали.
В 1841 г. Белинский только подошел к историческим проблемам, и у него не было еще ни ясных перспектив, ни готовых решений. Между тем проблемы русского исторического развития в это время были поставлены и по-своему разрешены в теории славянофильства. Вопросами о взаимоотношениях России и Западной Европы, о путях русского и европейского общественного развития, об исторических интересах русского народа, — всеми этими вопросами Белинскому пришлось овладевать вслед за славянофилами и в напряженной борьбе с ними. В 1841 г. славянофильской концепции о «заразительном недуге» и «опасном дыхании» Запада Белинский не мог противопоставить своей концепции, потому что она еще только вырабатывалась и созревала. Славянофильское учение о самобытности исторического развития России еще не имело отпора
779
в 1840—1841 гг. Размежевание славянофилов и западников произошло, как известно, позже. Поэтому все, кому не безразличны были вопросы об особенностях русской истории, кого волновали судьбы народа, не могли пройти мимо славянофилов, ибо в их постановке эти вопросы впервые приобрели небывалую жгучесть и остроту.

ТАРХАНЫ. ЧАСТЬ ПАРКА И ПРУД
Фотография В. Чудинова, 1937 г.
Как мы видели, Лермонтов решительно разошелся с Шевыревым, который объявил, что в условиях русской действительности Печорин может быть только «героем фантазии». С точки зрения Шевырева Печорин — это воображаемая болезнь, которая еще только может «мало по малу» перейти в существенность; следовательно, задача заключалась в том, чтобы предохранить себя от этой болезни. Для Лермонтова, как и для Белинского, Печорин — это реальная, существующая болезнь, и нужно было найти средства для ее излечения. Обращение к истории, к народу для Лермонтова было закономерно и неизбежно, и на этих путях возник его интерес к славянофилам.
В 1841 г. в Москве Лермонтов встречается и поддерживает общение с Хомяковым, Самариным и другими деятелями славянофильского лагеря. Тогда же он печатает в «Москвитянине» свое стихотворение «Спор»79.
Совокупность всех известных нам фактов о встречах и беседах Лермонтова со славянофилами нельзя считать случайностью. Эти факты говорят о несомненном интересе Лермонтова к славянофилам. В свою очередь славянофилы тоже были весьма заинтересованы в Лермонтове. «После своего романа „Герой нашего времени“, — писал Самарин Гагарину 3 августа 1841 г., — он <Лермонтов> очутился в долгу перед современниками... теперь у очень многих он оставляет за собой тяжелое и неутешительное
780
впечатление, тогда как творчество его еще далеко не вполне расцвело. Очень мало людей поняли, что его роман указывал на переходную эпоху в его творчестве, и для этих людей дальнейшее направление его творчества представляло вопрос высшего интереса»80.
Было бы ошибочным заключать, что в 1841 г. Лермонтов стал склоняться на сторону славянофилов. Для такого заключения оснований мы не имеем, тем более, что все направление творчества Лермонтова противоречило взглядам славянофилов. Однако в славянофильских теориях были моменты, которые явно импонировали Лермонтову. В биографии Лермонтова засвидетельствовано, что он «мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направления „Отечественных Записок“. Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французами...»81. В этих надеждах на самобытные для России пути развития Лермонтов очень близко подошел к славянофилам.
Борьба славянофилов и западников развернулась только в 1842 г., т. е. уже после гибели Лермонтова. В 1841 г. ни у Белинского, ни тем более у Лермонтова, не обладавшего философской и теоретической выучкой, еще не было сложившихся ответов на все те вопросы, которые вскоре стали предметом ожесточенной борьбы. Но Лермонтов не мог не видеть симптомов этой борьбы, не мог не видеть назревающего размежевания двух течений русской общественной мысли. «Последнее новоселье» и «Родина» явились как бы итогом размышлений Лермонтова о европейской культуре и о судьбах России, а вместе с тем предвестием борьбы славянофилов и западников.
7
Критические отзывы о сборнике стихотворений Лермонтова, изданном в 1840 г., во многом повторяли и вариировали суждения по поводу «Героя нашего времени». И тем не менее общий тон журнальных статей был гораздо более сочувственным по отношению к Лермонтову.
Одним из первых о сборнике стихотворений высказался Сенковский, который непринужденно и развязно хвалил поэта. Сенковский признавался, что ему «жаль расставаться с такими милыми стихами» и что хотелось бы «выписывать их до бесконечности и не говорить ни о чем более в нынешнем месяце». «Судя по первому собранию, — писал Сенковский, — мы уже знаем, чего можно ожидать от господина Лермонтова в тех из будущих творений, которыми он захочет навсегда утвердить свою славу: стих звучный, твердый и мужественный, сильное чувство, богатое воображение, разнообразие ощущений, простота, естественность, нежность, свежесть, отсутствие поддельных стихотворных страстишек и притворных жалоб, сарказм без наглости, грусть без пошлого романа, вот — прекрасные и редкие достоинства, которыми отличаются эти, большею частью мелкие, „Стихотворения“, и которые сильно возбудят цену будущих поэм его»82.
Сочувственной, но не затрагивавшей принципиальных вопросов была рецензия Л. Л. (В. С. Межевича) в «Северной Пчеле». «Надобно много иметь силы, много самобытности, много оригинальности, — писал Межевич, — чтобы к стихам приковать общее внимание в то время, когда стихи потеряли весь кредит и оставлены мальчишкам в забаву. Лермонтов волшебною силою своего таланта привлекает, если не привлек
781
уже к себе общего внимания просвещенной публики». Рецензент полагал, что после Пушкина «ни один из русских поэтов не дебютировал с такою полнотою свежих, девственных сил, с таким запасом поэтического огня, с такою глубиною мысли самобытной, независимой от чуждого влияния»83.
Характерно признание Греча, который объяснил, что́ именно подкупало журналистов и критиков несходных направлений в стихотворениях Лермонтова: «Прочтите изданные в нынешнем же году стихотворения его, и вы убедитесь, что образ мнений и чувствований Героя нашего времени отнюдь не принадлежит поэту, пламенному, умному, разнообразному, благородному»84. Греч проводил резкую грань между «Героем нашего времени» и «Стихотворениями» Лермонтова, причем в сборнике стихотворений он склонен был видеть тенденции, не свойственные роману. Совершенно обратную точку зрения защищал Бурачок, оставшийся по отношению к Лермонтову на прежней враждебной позиции.
В статье Бурачка, посвященной сборнику стихотворений и написанной в форме письма к автору, решительно и грубо заявлялось, что Лермонтов хотя и обладает талантом, но поэтическое направление, избранное им, ложно и безнравственно. Из всего сборника стихотворений Бурачок сочувственно выделил лишь две «Молитвы» и «Ветку Палестины». Все прочие стихотворения категорически осуждались. Весьма примечательно, что в своем осуждении Лермонтова Бурачок пытался опереться на Белинского и использовать некоторые его положения, конечно, извращая их. Так, Бурачок воспользовался понятием «лазаретной» поэзии, считая, что это понятие целиком приложимо к Лермонтову. Говоря о «Молитве» и «Ветке Палестины», Бурачок замечал: «Автор, неоспоримо, мог бы первенствовать в этом роде, но дух времени требует, как выразился Гете, поэзии лазаретной, и, автор, видимо, позволяет ей увлекать себя: как бы хорошо ему пригодился его же собственный совет». Далее приводилось стихотворение «Не верь себе», и Бурачок заявлял, обращаясь к Лермонтову: «Оборотите, поэт, такой совет прекрасный к самому себе!». Любопытно, что в заключение статьи, процитировав концовку «Журналиста, читателя и писателя», Бурачок делал своеобразный вывод: «Посмотрите же, какую огромную славу купили вы! Сам Булгарин ратует за вас...» (имелась в виду рецензия Булгарина на «Героя нашего времени»).
В противоположность Гречу Бурачок считал, что основное направление стихотворений Лермонтова тождественно с направлением «Героя нашего времени» и потому одинаково ложно85.
Суждения Бурачка не лишены интереса в том отношении, что они были не только грубее и примитивнее, но и последовательнее суждений других реакционных критиков. Бурачок откровенно бранил Лермонтова, в то время как другие заявляли о признании его поэзии, но за вычетом произведений обличительного и мятежного направления. В этом сошлись критик «Сына Отечества» профессор и цензор Никитенко и критик «Москвитянина» Шевырев.
Никитенко, восхищаясь «премилыми, преумными пьесками» Лермонтова, вместе с тем обращался от имени «истинной критики» к его «прелестной поэзии» с предложением «поправить немножко» ее «туалет»: «вот тут висит несколько лишних лент, что ли, которые мотаются так, без нужды и портят только изящную гармонию вашего наряда: мы отрежем
782
их. Станьте ко мне спиной, вот так: первое января долой, и скушно и грустно также, благодарность тоже. Смотрите, душечка, кто это вам присоветывал пришить эти серые лоскутья? Что в них хорошего, достойного вашей прелестной физиономии? Вместо мужественных, жарких, благородных мыслей, которые вы так любите, тут выведены самые обыкновенные траурные узоры в роде отцветших надежд, угасших страстей, поэтического презрения к толпе, — одним словом эти лирические личности души, обессиленной своими собственными стремлениями, тщетными притязаниями на право, на которое нет права, — на право высшего существования. Фи! это совсем нейдет к вам. Вы дитя доблести и силы, дитя истинного поэтического призвания. Ваши самые слезы должны быть пролиты только во имя великих скорбей человечества, а не во имя вашей домашней скуки, чтобы от этих слез, как от благодатной росы неба, прозябло в душе людей святое сочувствие ко всему человеческому»86.
Истолковывая обличительные и горько-иронические стихотворения Лермонтова как выражение не «великих скорбей человечества», а «домашней скуки» поэта, Никитенко, в сущности, совпадал с Бурачком. Та же линия была продолжена и в статье Шевырева87.
Как лучшие стихотворения Лермонтова критик «Москвитянина» выделил «Дары Терека», «Казачью колыбельную песню», «Три пальмы», «Памяти А. И. О—го» и две «Молитвы». «Но случалось ли вам, — спрашивал Шевырев своего читателя, — по голубому, чистому небу увидеть вдруг черное крыло ворона и густое облако, резко противоречащее ясной лазури? Такое же тягостное впечатление, какое производят эти внезапные явления в природе, произвели на нас немногие пьесы автора, мрачно мелькающие в светлом венке его стихотворений. Сюда отнесем мы: И скушно и грустно, слова писателя из разговора его с журналистом, и в особенности эту черную, эту траурную, эту роковую Думу».
Обличительный, мятежный пафос Лермонтова с точки зрения Шевырева не имел никаких корней в русской действительности и поэтому был не более как плодом «какой-то мрачной хандры», припадком «какого-то странного недуга». Поскольку Россия, в противоположность Западной Европе, согласно взглядам Шевырева, носила в себе «сокровище надежд великих», — «для поэзии русской неприличны ни верные сколки с жизни действительной, сопровождаемые какою-то апатиею наблюдения, тем еще менее мечты отчаянного разочарования, не истекающего ни откуда». Шевырев призывал русскую лирику к поэзии «фантазии творческой, возносящейся над всем существенным». Расходясь с Лермонтовым и осуждая избранное им направление, Шевырев высказывал пожелание, чтобы русские поэты созидали «мир русской мечты из всего того, что есть светлого и прекрасного в небе и природе, святого, великого и благородного в душе человеческой». Прямо обращаясь к русским поэтам, Шевырев патетически восклицал: «...и пусть заранее предсказанный вами, из воздушных областей вашей фантазии, перейдет этот светлый и избранный мир в действительную жизнь вашего любезного отечества».
Призывы и лозунги Шевырева знаменуют прямой отказ от реализма, поскольку поэзия привносится в жизнь принципиально независимой от жизни личностью художника. Шевырев постоянно подчеркивал, что он отвергает всякую тенденцию в искусстве, звал искусство к правде жизни. Однако логика эстетических взглядов Шевырева вела его к ограничению
783
или даже уничтожению правды во имя ложной тенденции. Путь Лермонтова совершенно не соответствовал тем перспективам, которые рисовались Шевыреву, вследствие чего Шевырев и не мог принять основного в его поэзии. Отсюда становится понятным недоумение Шевырева, которое он высказывал в статье, отмечая невозможность «начертать» портрет Лермонтова за недостаточностью материалов. Становится понятным и то, почему Шевырев разрывал единство содержания и формы в поэзии Лермонтова и строил свой критический анализ, опираясь на критерии преимущественно формального порядка.

ТАРХАНЫ. ЧАСОВНЯ ГДЕ ПОХОРОНЕН
ЛЕРМОНТОВ
Фотография В. Чудинова, 1937 г.
В стихотворениях Лермонтова Шевырев усматривал «какой-то протеизм таланта, правда замечательного, но тем не менее опасного развитию оригинальному». «Когда вы внимательно прислушаетесь к звукам той новой лиры, — писал Шевырев, — ...вам слышатся попеременно звуки то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова, примечается не только в звуках, но и во всем форма их созданий; иногда мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова; иногда видна манера поэтов иностранных, — и сквозь все это постороннее влияние трудно нам доискаться того, что собственно принадлежит новому поэту, и где предстоит он самим собою». Свое общее впечатление от стихотворений Лермонтова Шевырев резюмировал в таких словах: «Мы слышим отзывы уже знакомых нам лир — и читаем их как будто воспоминания поэзии последнего двадцатилетия».
Точка зрения Шевырева на Лермонтова как на своеобразного эклектика вызвала глубокое возмущение Белинского. Уже после гибели Лермонтова он вспоминал о статье Шевырева в исключительно резких выражениях: «Только дикие невежды, черствые педанты, которые за буквою не видят мысли, и случайную внешность всегда принимают за внутреннее сходство, только эти честные и добрые витязи букварей и фолиантов, — замечал Белинский, — могли бы находить в самобытных вдохновениях Лермонтова подражания не только Пушкину или Жуковскому, но и гг. Бенедиктову и Якубовичу»88. В статье Шевырева Белинского возмущала
784
не только самая оценка Лермонтова как эклектика, но ему были враждебны и те принципиальные основы, из которых исходил Шевырев. Положения об объективности художественной формы, о содержательности формы являлись одной из важнейших сторон эстетики Белинского, его учения о реализме. Между тем Шевырев отождествлял художественную форму с внешними по отношению к содержанию приемами художественного выражения.
Если сопоставить приведенные отзывы Сенковского и Межевича, Греча и Бурачка, Никитенко и Шевырева со статьей о стихотворениях Лермонтова, написанной Белинским, станут ясными ее теоретическая глубина и принципиальность, а также и величайшая проницательность Белинского. Сравнительно с предшествующими критическими работами Белинского, в частности с его статьей о «Герое нашего времени», статья о стихотворениях Лермонтова является значительным шагом вперед.
За четыре месяца до написания данной статьи Белинский проклял свое «гнусное стремление к примирению с гнусною действительностию» (знаменитое письмо Боткину от 4 октября 1840 г.). К началу 1841 г. он окончательно преодолел свои примирительные умонастроения, вышел на «широкое поле действительности», стал на путь революционного отрицания и борьбы. Работая над статьей о Лермонтове, в письме к Боткину от 15 января 1841 г. Белинский заявлял: «Вообще, все общественные основания нашего времени требуют строжайшего пересмотра и коренной перестройки, что и будет рано или поздно. Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности — мнения черни и предания варварских веков»89.
В пору «примирения с действительностью» Белинский защищал интересы личности лишь постольку, поскольку она являлась выражением «общего». Во имя «общего» Белинский требовал «смирения» личности, подчинения ее окружающей действительности. Это было глубокой ошибкой Белинского, которую он теперь преодолел и исправил. Если прежде знаменитую формулу Гегеля о разумности всего действительного Белинский ошибочно истолковывал в смысле отождествления действительного с существующим, то теперь он стал понимать эту формулу диалектически.
В статье о стихотворениях Лермонтова Белинский писал: «Что действительно, то разумно, и что разумно, то и действительно: это великая истина; но не все то действительно, что есть в действительности, а для художника должна существовать только разумная действительность»90.
Поняв революционный характер диалектики Гегеля, перейдя на позиции революционного отрицания, Белинский стал по-новому истолковывать и задачи искусства. Вместо гегелевской «идеи» и обезличивающего «общего» он выдвинул живую человеческую личность. Вместо «объективности» как главного критерия искусства теперь была поставлена «субъективность».
Мы знаем, что в годы «примирения с действительностью» Белинский решительно осуждал «субъективность». Понимая «субъективность» как выражение ограниченной личности, изолированной от «общего», Белинский считал ее смертью для поэзии. Характерно, что такого рода «субъективность» Белинский не приемлет и теперь, перейдя на позиции революционного отрицания. «Лазаретная» поэзия и теперь находит в нем беспощадного врага. «Преобладание внутреннего (субъективного) элемента в поэтах обыкновенных есть признак ограниченности таланта, — утверждает
785
Белинский. — У них субъективность означает выражение личности, которая всегда ограниченна, если является отдельно от общего. Они обыкновенно говорят о своих нравственных недугах, и всегда одно и то же; читая их, невольно вспоминаешь эти стихи Лермонтова:
Какое дело нам, страдал ты, или нет,
На что нам знать твои сомненья и пр.»91
Попрежнему осуждая «субъективность» как выражение ограниченной личности, Белинский вместе с тем выдвигает теперь новое понимание «субъективности», означающей способность художника откликаться на общественные вопросы своего времени и силою художественного таланта угадывать потребности времени. Это новое понимание «субъективности» Белинским тесно связывается с «социальностью», с идеей отрицания, которая только и позволяла произносить суд над явлениями жизни. «В таланте великом избыток внутреннего, субъективного элемента есть признак гуманности, — говорит Белинский. — Не бойтесь этого направления: оно не обманет вас, не введет вас в заблуждение. Великий поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит об общем — о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем живет человечество».
В 1839 г., принимая поэзию Лермонтова, Белинский, однако, не мог еще теоретически ее осознать. Это стало возможным лишь в связи с развитием и обоснованием нового понимания «субъективности». По признаку «субъективности» Белинский признал теперь в Лермонтове «поэта русского, народного, в высшем и благороднейшем значении этого слова, — поэта, в котором выразился исторический момент русского общества». Обличительная, гражданская лирика Лермонтова, которая порицалась и осуждалась реакционной критикой, была выдвинута Белинским на первый план и получила особенно высокую его оценку. Он восхищался пафосом стихотворения «Поэт» и особо выделял «писанные кровью» стихи «Думы». По поводу стихотворения «И скушно и грустно» он писал: «Страшен этот глухой, могильный голос подземного страдания, нездешней муки, этот потрясающий душу реквиэм всех надежд, всех чувств человеческих, всех обаяний жизни!.. Это не минута духовной дисгармонии, сердечного отчаяния: это — похоронная песня всей жизни!».
Рассматривая стихотворения Лермонтова, Белинский показывал многообразие их тематики, находя у Лермонтова «все силы, все элементы, из которых слагается жизнь и поэзия». Белинский показывал, что «похоронная песня всей жизни» переплеталась у поэта с тоской по жизни, с неукротимой жаждой жизни. Важно подчеркнуть, что идея отрицания, проникающая поэзию Лермонтова, истолковывалась Белинским как идея утверждения и созидания жизни. Утверждение через отрицание — такова основная мысль, основной тезис Белинского. «Нет, это не смерть и не старость: люди нашего времени также или еще больше полны жаждою желаний, сокрушительною тоскою порываний и стремлений. Это только болезненный кризис, за которым должно последовать здоровое состояние лучше и выше прежнего. Та же рефлексия, то же размышление, которое теперь отравляет полноту всякой нашей радости, должно быть впоследствии источником высшего, чем когда-либо блаженства, высшей полноты жизни».
Было бы ошибочно в приведенных словах Белинского усматривать рецидивы его примирительных умонастроений. Говоря о «высшей полноте
786
жизни», Белинский понимает ее отнюдь не в смысле «разумного примирения противоположностей». «Высшая полнота жизни» с точки зрения Белинского — это будущий общественный строй, основанный на началах разума и человечности, подготовляемый развитием идеи отрицания, последовательным и всесторонним развертыванием противоречий.
В статье о «Герое нашего времени», как мы видели, Белинский еще не смог раскрыть проблематику романа в соотношении с интересами русской действительности. Образ Печорина соотносился им с «общим духом жизни», т. е. с гегелевской абсолютной идеей. Поставив теперь на место абсолютной идеи идею личности, ее прав, ее освобождения от власти предания, Белинский вплотную подошел к историческим проблемам. Вопрос об освобождении личности стал для Белинского в то же время и вопросом об освобождении общества, о путях его исторического развития.
Весьма знаменательно, что, анализируя поэзию Лермонтова, Белинский впервые оценивает ее исторически. Он исходит из положения, что «чем выше поэт, тем больше принадлежит он обществу, среди которого родился, тем теснее связано развитие, направление и даже характер его таланта с историческим развитием общества». Своеобразие Лермонтова как «представителя нового периода литературы» Белинский определяет, сравнивая его с Пушкиным. Поэзия Пушкина, говорит Белинский, была «столько же полна светлых надежд, предчувствия торжества, сколько силы и энергии. В произведениях Лермонтова также виден избыток несокрушимой силы духа и богатырской силы в выражении; но в них уже нет надежды, они поражают душу читателя безотрадностью, безверием в жизнь и чувства человеческие, при жажде жизни и избытке чувства... Нигде нет пушкинского разгула на пиру жизни; но везде вопросы, которые мрачат душу, леденят сердце... Да, очевидно, что Лермонтов поэт совсем другой эпохи, и что его поэзия — совсем новое звено в цепи исторического развития нашего общества».
В своей статье Белинский не ограничился приведенным сопоставлением, но совершенно конкретно показал историческую преемственность, связывающую Лермонтова с Пушкиным. Эту преемственность Белинский усматривал в теме сомнения и отрицания, намеченной у Пушкина в «Сцене из Фауста» и в «Демоне». По мысли Белинского, Пушкин вплотную подошел к «духу нового времени» и как бы предсказал его. «Демон» Пушкина «привел другого демона, еще более страшного, более неразгаданного».
Образ демона для Белинского был не только центральным образом поэзии Лермонтова, но и основным ведущим началом всего лермонтовского творчества. И в статье о стихотворениях Лермонтова и в позднейшие годы (особенно замечательно в статье о Баратынском 1842 г.) концепция лермонтовского демонизма раскрывается Белинским как всестороннее развитие противоречий, как утверждение жизни через ее отрицание.
Именно так истолковывая поэзию Лермонтова, Белинский прямо отвечал творческим исканиям самого поэта. Белинский отвечал исканиям Лермонтова и в том отношении, что теперь он ставил вопрос об историческом развитии общества и человечества. В статье о стихотворениях Лермонтова Белинский много говорит о жизни, он решительно настаивает на необходимой связи поэта с обществом и человечеством, он говорит, наконец, о любви к родине. «В полной и здоровой натуре тяжело лежат на сердце судьбы родины; всякая благородная личность глубоко сознает
787
свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством». Интересы отечества, интересы России Белинский, в противоположность славянофилам, не противопоставляет интересам других стран. Национальное развитие не мыслится им вне общечеловеческого развития. «Любовь к отечеству должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего, — утверждает Белинский. — Любить свою родину значит — пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих способствовать этому. В противном случае, патриотизм будет китаизмом, который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственным безобразием»92.
Нельзя не видеть в словах Белинского о китаизме, т. е. о квасном патриотизме, прямых намеков на идеологов «Москвитянина» и вдохновителей славянофильского учения. Еще более характерно в этом отношении другое место в статье Белинского, где он говорит, что смысл его высокой оценки Лермонтова могут понять только люди, возвышающиеся над толпою. «Они отличат Лермонтова от какого-нибудь фразера, который занимается стукотнею звучных слов и богатых рифм, который вздумает почитать себя представителем национального духа потому только, что кричит о славе России (нисколько не нуждающейся в этом) и вандальски смеется над издыхающею, будто бы, Европою, делая из героев ее истории что-то похожее на немецких студентов»93.

ТАРХАНЫ. ДУБ, ПОСАЖЕННЫЙ
ПО ПРЕДАНИЮ ЛЕРМОНТОВЫМ
Фотография В. Чудинова, 1937 г.
Исследователи и комментаторы Белинского до сих пор почему-то считали, что в приведенных словах говорится о Языкове и что, следовательно,
788
Белинский противопоставляет Лермонтова Языкову94. Это абсолютно неверно. Белинский говорит, конечно, о Хомякове, самом выдающемся поэте славянофильского лагеря, авторе исторических трагедий «Ермак» (1832) и «Димитрий Самозванец» (1833). Именно Хомяков в «прорицательных» лирических пьесах предвещал гибель Запада и «кричал о славе России».
В 1835 г. в «Московском Наблюдателе» появилось программное стихотворение Хомякова «Мечта», в котором скорбь о закате некогда блистательной западной культуры выражалась одновременно с надеждой, что России суждено заступить место Запада и стать во главе общечеловеческого развития.
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи новом,
Проснися дремлющий Восток! —
таковы были заключительные строки «Мечты»95. В 1839 г. появилось другое стихотворение Хомякова, напечатанное под заглавием «Отчизна» (в «Санктпетербургских Ведомостях», № 230), но еще до напечатания, по словам И. И. Панаева, производившее фурор. Содержание стихотворения сводилось к следующему: Россия должна гордиться не славой военных подвигов, а детской простотой и смирением, а также своим прошлым, в котором заключено предвестие ее великого будущего.
...О, вспомни свой удел высокой,
Былое в сердце воскреси,
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни запроси!
Внимай ему и, все народы
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей:
И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный —
Прозрачный вышнего покров!96
Противопоставляя Лермонтова Хомякову, Белинский имел в виду отношение обоих поэтов к родине, к интересам русской жизни. Совершенно поразительно, что Белинский словно предсказывал Лермонтову его стихотворение, посвященное родине и написанное весной 1841 г. Тема родины, прозвучавшая в статье Белинского, была заострена против славянофильства. Аналогичным образом разрешил тему родины и Лермонтов.
«Родина» Лермонтова рассматривается обычно как разрыв поэта с официально-патриотической идеологией. Гораздо более вероятно, однако, что в стихотворении поэт отталкивался от «Отчизны» Хомякова. Характерно, что в рукописи Лермонтов озаглавил свое стихотворение также «Отчизной». Еще более существенно то обстоятельство, что не совсем ясные строки лермонтовского стихотворения становятся понятными при сопоставлении их со стихотворением Хомякова:
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
В стихотворении Хомякова говорилось, что России не следует гордиться славой военных подвигов. Лермонтова тоже не привлекает купленная кровью слава. Следовательно, в этом пункте Лермонтов еще не расходится
789
с Хомяковым. Однако дальше он прямо с ним полемизирует. «Полный гордого доверия покой» и «темной старины заветные преданья», т. е. все то, в чем видел Хомяков будущее величие России, — все это не трогает Лермонтова. Излюбленным темам славянофильского патриотизма Лермонтов противопоставляет пронизанные глубокой грустью картины русской природы и русской деревни. «...Что за вещь — пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских», — отозвался о «Родине» Белинский (в письме к Боткину от 13 марта 1841 г.)97. Лежащая в основе стихотворения грусть была тем элементом, который позволил Белинскому говорить о «Родине» как о пушкинском стихотворении. И это была самая высокая оценка, какую только мог дать Белинский. «Нигде Пушкин не действует на русскую душу с такою неотразимою силою, — писал он в том же 1841 г., — как там, где поэзия его проникается грустью, и нигде он столько не национален, как в грустных звуках своей поэзии»98.
Лермонтов, таким образом, принципиально разошелся со славянофильским патриотизмом, выраженным в стихах Хомякова. Но он же и перекликнулся с Хомяковым в стихотворении «Последнее новоселье», написанном одновременно с «Родиной».
Как известно, «Последнее новоселье» было посвящено перенесению праха Наполеона I с острова св. Елены в Париж99. Это событие сильно взволновало европейское общественное мнение и отозвалось также и в России. Первым поэтическим откликом в русской печати на перенесение праха Наполеона было стихотворение Хомякова «Небо ясно, тихо море», напечатанное в «Москвитянине».
Образ Наполеона трактовался у Хомякова как воплощение земной гордыни, усмирить и покорить которую могла только «наша сила, русский крест»:
И в те дни своей гордыни
Он пришел к Москве святой...
Но спалил огонь святыни
Силу гордости земной...100.
Иная трактовка Наполеона была дана в «Последнем новоселье». Для Лермонтова Наполеон — сверхчеловеческий гений и трагический герой, непонятый и отвергнутый своей родиной. Расходясь с Хомяковым в трактовке Наполеона, Лермонтов совпал с ним в оценке современной Франции. Для Хомякова отечество Наполеона — «в дни несчастий, в дни страданий изменившая страна». У Лермонтова отношение к французам еще более резкое:
Негодованию и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!
Чернышевский указывал на связь «Последнего новоселья» с идеологией вдохновлявшегося Белинским «Московского Наблюдателя» 1838—1839 гг. Чернышевский полагал, что «французоедство» «Последнего новоселья» совершенно тождественно с «французоедством» Белинского и Бакунина. При этом Чернышевский подчеркивал, что в «Последнем новоселье» Лермонтов «буквально переложил» в стихи бакунинское предисловие к «Гимназическим речам» Гегеля101.
Как было показано выше, неприязненное отношение Лермонтова к Франции Луи-Филиппа весьма импонировало Белинскому в 1839 г. Нет никаких
790
сомнений в том, что в пору своего «французоедства» Белинский приветствовал бы «Последнее новоселье». Однако к 1841 г. обстановка существенно изменилась. Преодолев примирительные умонастроения, Белинский пересмотрел и свое отношение к французской культуре. Прежнего огульного осуждения как исторического прошлого, так и настоящего Франции у Белинского не осталось и следа. Буржуазный общественный строй послеиюльской монархии, болезненные течения французского романтизма 30-х годов — все это было для Белинского попрежнему враждебным. Но Белинскому стало ясно, что во Франции развивалась и передовая общественная мысль, которой он прежде не замечал. Белинскому стало ясно, что он был неправ и в своей оценке истории Франции. «Тяжело и больно вспомнить! — писал он Боткину 11 декабря 1840 г. — А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества au drapeau tricolore?» («с трехцветным знаменем», т. е. республиканским). «Художественная точка зрения довела меня до последней крайности нелепости, — признавался Белинский в письме к Бакунину от 6 апреля 1841 г., — и я не шутя было убедился, что французская литература вздор, а о самих французах стал думать точь в точь, как думают о них наши богомольные старухи»102.
Начиная с 1840—1841 гг., Белинский высоко ценит французскую литературу за «социальность», т. е. за насыщенность современными общественными идеями, и в позднейшие годы все симпатии Белинского в этом отношении на стороне французов. Необходимо всячески подчеркнуть, что Белинский отказался от своего «французоедства» в то самое время, когда «французоедство» вошло в славянофильскую доктрину и стало одним из элементов славянофильского отрицательного отношения к западно-европейской цивилизации.
В данном случае совершенно не существенно, заимствовал ли Лермонтов «французоедские» формулы «Последнего новоселья» у Белинского и его сторонников или у славянофилов, — несомненно только, что в 1841 г. эти формулы объективно прозвучали как славянофильские. Характерно, что именно Белинский воспринял «Последнее новоселье» как славянофильское стихотворение. «Какую дрянь написал Лермонтов о Наполеоне и французах, — замечал Белинский в письме к П. Н. Кудрявцеву от 28 июня 1841 г., — жаль думать, что это Лермонтов, а не Хомяков». Еще более интересен отзыв о «Последнем новоселье» самого Хомякова. В письме к Н. М. Языкову летом 1841 г. Хомяков писал: «Между нами буди сказано, Лермонтов сделал неловкость: он написал на смерть Наполеона стихи, и стихи слабые; а еще хуже то, что он в них слабее моего сказал то, что было сказано мною. Это неловкость, за которую сердятся на него лермонтисты. Другому бы я этого не сказал, потому что похоже на хвастовство; но ты примешь мои слова как они есть, за беспристрастное замечание. Лермонтов так вообще хорош, что на него досадно, когда он остается ниже себя»103.
«Родина» и «Последнее новоселье», явившись предвестием борьбы славянофилов и западников, отразили противоречивость мировоззрения Лермонтова в переходную пору его развития. Вопросы о взаимоотношении России и Европы, о русском народе и его исторических интересах, о ближайших перспективах русской истории, — все эти вопросы, волновавшие
791
общественную мысль начала 40-х годов, неотступно стояли и перед Лермонтовым. В несомненной связи с обостренным интересом Лермонтова к истории был его грандиозный замысел романической трилогии, оставшийся неосуществленным.

ПАМЯТНИК ЛЕРМОНТОВУ В ЛЕНИНГРАДЕ
Скульптура В. Крейтана, 1893 г.
В рецензии на второе издание «Героя нашего времени», явившейся одновременно и некрологом Лермонтова, Белинский писал: «Он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собой связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся „Последним из Могикан“, продолжающейся „Путеводителем в пустыне“ и „Пионерами“ и оканчивающейся „Степями“...»104. За несколько минут до своей гибели, по дороге к месту дуэли, Лермонтов рассказывал секунданту — офицеру Глебову о плане второго и третьего романа из задуманной трилогий: «Я выработал
792
уже план двух романов: одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и другого из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране»105.
Если прежде, в пору «Песни про купца Калашникова», Лермонтов уходил в прошлое как романтик, вследствие своего недовольства современностью, то в 1840—1841 гг. его отношение к истории стало принципиально иным. Пройденный путь идейного развития, а также вся общественно-литературная обстановка начала 40-х годов толкали Лермонтова к тому, чтобы учиться у истории и постигать характер самих исторических сил. Очевидно, что Лермонтов шел к реалистическому историзму и задуманная им трилогия мыслилась как историческая трилогия о современности.
8
Глубокая скорбь о безвременно погибшем великом русском поэте не помешала Белинскому со всей трезвостью оценить личность Лермонтова и его художественное наследие. Несмотря на то, что Белинский пережил идейный кризис и отошел от тех взглядов, которые он развивал в первой статье о Лермонтове, тем не менее он и теперь, после гибели поэта, повторил свою прежнюю основную мысль. И при личном свидании с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе и в статье о «Герое нашего времени» Белинский указывал на необходимость поворота в развитии Лермонтова. Он отмечал тогда, что Лермонтов еще не мог отделиться от своего героя, «стать выше его, смотреть на него, как на нечто оконченное». Но в 1840 г. Белинский и сам еще не смог оценить Печорина в правильной перспективе, в соотношении с исторической действительностью. Став на путь революционного отрицания и борьбы, осознав идею отрицания как созидательную силу, Белинский еще глубже понял противоречивость творческого сознания автора «Героя нашего времени».
«Решая слишком близкие сердцу своему вопросы, — писал Белинский, — автор не совсем успел освободиться от них и, так сказать, нередко в них путался; но это дает повести новый интерес и новую прелесть, как самый животрепещущий вопрос современности, для удовлетворительного решения которого нужен был великий перелом в жизни автора...»106. О том, что Лермонтов «не совсем успел освободиться» от близких его сердцу вопросов, Белинский говорил и в первой статье о «Герое нашего времени», отмечая родство Печорина с самим Лермонтовым. Но тогда Белинский обосновывал эту мысль, исходя из критериев объективной художественности. Теперь та же мысль мотивируется Белинским интересами современности, т. е. «социальности», передовыми идеями общественной жизни. «Дать историческое направление искусству XIX века, — писал Белинский через год, — значило гениально угадать тайну современной жизни. Байрон, Шиллер и Гете — это философы и критики в поэтической форме»107.
«Великого перелома», о котором говорил Белинский, в жизни Лермонтова не произошло, — Лермонтов трагически погиб, — но все его развитие в 1840—1841 гг. подготовляло к такому перелому. Скорбь Белинского о погибшем поэте была тем более велика, что он видел будущего Лермонтова, что две изданные его книги он рассматривал как «живое, говорящее прорицание великой поэтической славы».
793
Признаки художественной и идеологической зрелости Лермонтова Белинский усматривал и в предисловии к «Герою нашего времени», которое он целиком приводил в своей рецензии, и в грандиозном замысле исторической трилогии, о которой рассказывал Белинскому сам Лермонтов.
«Какая точность и определенность в каждом слове, как на месте и как незаменимо другим каждое слово! — писал Белинский по поводу предисловия. — Какая сжатость, краткость и, вместе с тем, многозначительность! Читая строки, читаешь и между строками; понимая ясно всё сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым».
В предисловии к «Герою нашего времени» Белинский не мог не видеть, что Лермонтов отделялся от своего героя, он смотрел на него «как на нечто оконченное». Все содержание предисловия свидетельствовало о том, что Лермонтов выходил на новые творческие пути. И об этом, вероятно, думал Белинский, читая «между строками». Сообщая далее о замысле трилогии, Белинский писал о Лермонтове: «Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые...»108.
Лермонтов погиб, не осуществив этих созданий, которыми он не только обогатил бы русскую литературу, но и оказал бы огромное влияние на ее дальнейшее развитие.
«...Лермонтов убит наповал — на дуэли, — сообщал Белинский Н. Кетчеру 3 августа 1841 г. — Оно и хорошо: был человек беспокойный, и писал хоть хорошо, но безнравственно, — что ясно доказано Шевыревым и Бурачком. Взамен этой потери, Булгарин все молодеет и здоровеет, а Межевич подает надежду превзойти его и в таланте и в добре... Литература наша процветает, ибо явно начинает уклоняться от гибельного влияния лукавого запада — делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по матерну. Уваров торжествует и, говорят, пишет проект, чтобы всю литературу и все кабаки отдать на откуп Погодину...»109.
Бесполезны догадки, в каком направлении пошло бы развитие Лермонтова, если бы он не был убит. Исторический смысл деятельности Лермонтова объективно не отделим от революционного и демократического течения русской общественной мысли 40-х годов, возглавлявшегося Белинским.
В одной из своих статей, защищая право на революционное сомнение в вечности существующих общественных порядков, Белинский говорил, что такое сомнение неизбежно овладевает умами «во времена переходные, во времена гниения и разложения устаревших стихий общества, когда для людей бывает одно прошедшее, уже отжившее свою жизнь, и еще не наставшее будущее, а настоящего нет...»110.
Белинский стал глашатаем революционного отрицания именно в эти времена «уже отжившего прошлого», но «еще не наставшего будущего». Эти же переходные времена отразил в своем творчестве и Лермонтов. Недаром Герцен сказал о нем, что он «всецело принадлежит к нашему поколению»111.
794
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В. Белинский, Полное собрание сочинений под ред. С. Венгерова, Спб., 1901, III, 394 (рецензия на поэму Бернета «Елена»). Все последующие цитаты из статей Белинского даются по названному изданию.
2 Н. Мельгунов, Журнальные выдержки. — «Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду», 1839, № 19, 13 мая, 416.
3 «Сын Отечества» 1839, VII, отд. IV, 46—47 и 87.
4 На свой приоритет в оценке целого ряда молодых писателей, в том числе и Лермонтова, Н. Полевой указывал в статье «Вредит ли критика современной русской словесности». — «Сын Отечества» 1839, VIII, отд. IV, 58—59.
5 «Сын Отечества» 1840, II, кн. 3, отд. VI, 666.
6 Белинский, Полн. собр. соч., IV, 277.
7 Там же, 278—280.
8 Там же, 481 («Менцель, критик Гете»).
9 Там же, 47 («„Кальян“ и „Арфа“ Полежаева»).
10 И.-П. Эккерман, Разговоры с Гете... М. — Л., 1934, 377—378 (24 сентября 1827 г.).
11 Там же, 378.
12 Там же, 368 (5 июля 1827 г.) — Интерпретация высказываний Гёте о романтической литературе и о Байроне дана в интересной статье Н. Верховского, Мировая литература в эстетике позднего Гете. — «Ученые Записки Ленингр. Гос. Университета, Серия Филологических Наук», вып. 3-й, Л., 1939, 140—142.
13 Белинский, Полн. собр. соч., IV, 490.
14 Там же, III, 408—409.
15 Там же, IV, 417 («„Очерки Бородинского сражения“ Ф. Глинки»).
16 Там же, III, 229 («Гамлет, драма Шекспира»).
17 П. Анненков, Литературные воспоминания под ред. Б. Эйхенбаума, Л., 1928, 227—228.
18 Там же, 248.
19 Н. Чернышевский, Очерки Гоголевского периода русской литературы. — «Избранные сочинения», М., 1934, 386—387.
20 П. Анненков, цит. соч., 249.
21 Белинский, Письма под ред. Е. Ляцкого, Спб., 1914, I, 336.
22 Там же, 339—341.
23 Там же, II, 23 и 31—32.
24 Там же, 31—32.
25 Ив. Панаев, Портретная галлерея. Портрет № 2. — «Литературная Газета» 1840, № 12, 10 февраля, столб. 264—273.
26 «Сын Отечества» 1839, XI, отд. IV, 45.
27 Там же, 1840, I, кн. 2, отд. VI, 492.
28 Там же, I, кн. 3, отд. VI, 711.
29 «Литературная Газета» 1840, № 15, 21 февраля, столб. 356—357.
30 Там же, № 23, 20 марта, столб. 538—547.
31 «Отечественные Записки» 1840, IX, № 3; ср. Белинский, Полн. собр. соч., V, 223.
32 Белинский, Письма, II, 35.
33 Его же, Полн. собр. соч., V, 225—226.
34 Там же, 561.
35 «Литературная Газета» 1840, № 23, 20 марта, столб. 544—545. — Автором рецензии на «Одесский альманах» был М. Катков; см. об этом письмо Белинского к Боткину от 16 апреля 1840 г. — Белинский, Письма, II, 114.
36 «Отечественные Записки» 1840, № 4 («Репертуар Русского Театра», 3-я книжка); ср. Белинский, Полн. собр. соч., V, 238.
37 «Несколько слов касательно приговора русским поэтам и прозаикам в Отечественных Записках». — «Сын Отечества» 1840, II, кн. 3, отд. VI, 663—670.
38 «Литературная Газета» 1840, № 43, 29 мая. Ср. Белинский, Полн. собр. соч., V, 250.
39 «Сын Отечества» 1840, II, кн. 4, отд. VI, 889—890 и 903—904.
40 «Литературная Газета» 1840, № 54, б июля, столб. 1237. — Данная полемическая статья не вошла в собрание сочинений Белинского, и принадлежность ее Белинскому до сих пор не была известна. Между тем это несомненно и почти не требует доказательств, поскольку предыдущая полемическая статья против «Сына Отечества» (в «Литературной Газете» № 43, от 29 мая) принадлежала Белинскому.
795
41 «Сын Отечества» 1840, II, кн. 4, отд. IV, 856—857.
42 Лермонтов, изд. «Academia», II, 215. — В докладе о Белинском и Лермонтове, прочитанном в 1938 г. в Институте литературы, Б. М. Эйхенбаум снял свою гипотезу и отказался от мысли о связи «Журналиста, читателя и писателя» с Белинским. Тем не менее об этой гипотезе приходится говорить. То, что у Б. М. Эйхенбаума было осторожным предположением, в популярной литературе выдается уже за достоверный факт. Так, С. Иванов в статье о Белинском и Лермонтове («Литературная Учеба» 1939, № 11), — в которой нет, впрочем, ни Белинского, ни Лермонтова, — безоговорочно утверждает, что стихотворение «Журналист, читатель и писатель» было написано под влиянием беседы с Белинским.
43 Извещение о предстоящем выходе в свет 4-й книжки «Отечественных Записок» см. в «Литературной Газете» 1840, № 29, 10 апреля.
44 Белинский, Письма, II, 108. — О том, что Лермонтов находится под арестом, Белинский упоминал впервые в письме к Боткину от 14 марта 1840 г. (см. там же, 93). Очевидно, что в этом письме Белинский говорит о Лермонтове с чужих слов («Читает Гофмана, переводит Зейдлица и не унывает») и еще до своей встречи с поэтом.
45 Белинский впервые встретился и познакомился с Лермонтовым еще летом 1837 г., в Пятигорске, на квартире у Н. Сатина, приятеля Герцена и Огарева. Судя по воспоминаниям Сатина, эта первая встреча была неблагоприятна для обеих сторон: Белинский и Лермонтов не поняли друг друга и поэтому отнеслись друг к другу с взаимным раздражением; см. Н. Сатин, Отрывки из воспоминаний. — «Почин», сб. Общества любителей российской словесности на 1895 г., М., 1895. Перепечатку см. в сб.: «В. Белинский в воспоминаниях современников», сост. М. Клеман, Л., 1929, 131—136. — О встречах Белинского с Лермонтовым в редакции «Отечественных Записок», а также у кн. В. Одоевского см. в «Литературных воспоминаниях» И. Панаева, Л., 1928, 222.
46 Белинский, Полн. собр. соч., V, 427 (рецензия на сб. «Стихотворения Лермонтова»).
47 Там же, 339 (статья о «Герое нашего времени»).
48 Его же, Письма, II, 108. — Б. М. Эйхенбаум в упоминавшемся выше докладе впервые выдвинул и аргументировал положение, что статья Белинского о «Герое нашего времени» была написана под непосредственным и очень сильным впечатлением от встречи с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе. Б. М. Эйхенбауму удалось, как мне кажется, совершенно бесспорно доказать, что впечатление от личности Лермонтова во многом определило характеристику образа Печорина, которую дал Белинский в своей статье.
49 Там же, 213 (письмо к Боткину от 1 марта 1841 г.).
50 «Сын Отечества» 1840, II, кн. 4, отд. IV, 856—857.
51 «Библиотека для Чтения» 1840, XXXIX, апрель, «Литературная летопись», 17.
52 Там же, XLI, «Литературная летопись», 13 (рецензия на «Сочинения в стихах и прозе» Д. Давыдова).
53 Там же 1844, LXIII, отд. VI, 11—12.
54 «Маяк» 1840, ч. IV, 217—218.
55 П. Анненков, цит. соч., 275.
56 Белинский, Полн. собр. соч., IV, 470.
57 Там же, V, 299.
58 П. Анненков, цит. соч., 249.
59 Чернышевский, цит. изд., 404.
60 Белинский, Полн. собр. соч., V, 336.
61 П. Анненков, цит. соч., 250—251.
62 Белинский, Полн. собр. соч., V, 347.
63 Белинский, Письма, II, 129—130 (письмо к Боткину от 13 июня 1840 г.).
64 Белинский, Полн. собр. соч., V, 364.
65 Белинский, Письма, II, 144.
66 Чернышевский, цит. изд., 404.
67 «Маяк» 1840, ч. XII, гл. IV, 169—170.
68 Белинский, Полн. собр. соч., V, 426.
69 «Северная Пчела» 1840, № 246, 30 октября, 981—983.
70 В «Кратком очерке книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых» (Спб., 1883, 71—72) сообщается, что первое издание «Героя нашего времени», несмотря на критическую статью Белинского, не расходилось. Это побудило издателей обратиться к Булгарину с просьбой написать о романе фельетон в «Северной Пчеле». После появления фельетона издание якобы было раскуплено нарасхват. Об
796
этом факте говорит также и Л. Л. (В. Межевич) в рецензии на стихотворения Лермонтова в «Северной Пчеле» 1840, № 284. Есть и другая версия, — будто бабушка Лермонтова, без его ведома, отправила Булгарину два экземпляра романа, причем в одном экземпляре было вложено 500 рублей ассигнациями; см. об этом в «Историческом Вестнике» 1892, кн. XI, 387.
71 Белинский, Полн. собр. соч., V, 367.
72 «Москвитянин» 1841, ч. I, № 1, 291.
73 Там же, № 2, 514.
74 Там же, 515—538.
75 Чернышевский, цит. изд., 406.
76 Лермонтов, изд. «Academia», V, 487 (комментарии Б. М. Эйхенбаума).
77 Белинский, Полн. собр. соч., V, 338—339.
78 Там же, 369.
79 «Москвитянин» 1841, ч. Ill, № 6, 291—294. — Хомяков в письме к Н. М. Языкову летом 1841 г. объяснял появление «Спора» на страницах «Москвитянина» «местью» Лермонтова за статью Шевырева о «Стихотворениях Лермонтова». «В Москвитянине был разбор Лермонтова Шевыревым, и разбор не совсем приятный, по моему несколько несправедливый, — писал Хомяков, — Лермонтов отмстил очень благоразумно: дал в Москвитянин славную пьесу, спор Шата с Казбеком, стихи прекрасные». — А. Хомяков, Полн. собр. соч., М., 1904, VIII, 100.
80 «Новое Слово» 1894, № 2, 46—47.
81 П. Висковатов, М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество, М., 1891, 368—369.
82 «Библиотека для Чтения» 1840, XLIII, отд. VI, 1—11.
83 «Северная Пчела» 1840, № 284, 16 декабря, 1134—1135.
84 «Русский Вестник» 1841, кн. I, 234.
85 «Маяк» 1840, ч. XII, гл. IV, 149—171.
86 «Сын Отечества» 1841, I, 12—13.
87 «Москвитянин» 1841, ч. II, № 4, 525—540.
88 Белинский, Полн. собр. соч., VI, 313.
89 Белинский, Письма, II, 203.
90 Белинский, Полн. собр. соч., VI, 13.
91 Там же, 38.
92 Там же, 9—10.
93 Там же, 62.
94 Там же, 556 (комментарии С. Венгерова). Ср. «Избр. сочинения Белинского», М., 1934, I, 602 (комментарии Д. Благого).
95 «Московский Наблюдатель» 1835, кн. I; ср. А. Хомяков, Полн. собр. соч., М., 1900, IV, 215.
96 См. там же, 229—230; ср. И. Панаев, Литературные воспоминания, Л., 1928, 262—264.
97 Белинский, Письма, II, 227.
98 Его же, Полн. собр. соч., XII, 264 (вторая статья о «Деяниях Петра Великого» Голикова).
99 См. Лермонтов, изд. «Academia», II, 233—236 (комментарии Б. Эйхенбаума).
100 «Москвитянин» 1841, ч. I, № 1, 341—342.
101 Чернышевский, цит. изд., 385.
102 Белинский, Письма, II, 186 и 232.
103 Там же, 252. Ср. аналогичный отзыв о «Последнем новоселье» в письме к В. Боткину от 28 июня 1841 г. — там же, 249. Ср. А. Хомяков, Полн. собр. соч., М., 1904, VIII, 100.
104 Белинский, Полн. собр. соч., VI, 316.
105 «Исторический Вестник» 1892, № 4, 90.
106 Белинский, Полн. собр. соч., VI, 314.
107 Там же, VII, 304 («Речь о критике...» А. Никитенко, статья первая).
108 Там же, VI, 315—316.
109 Его же, Письма, II, 256—257.
110 Его же, Полн. собр. соч., VII, 424 («Речь о критике...» А. Никитенко, статья третья).
111 А. Герцен, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. Лемке, П., 1919, VI, 374 («О развитии революционных идей в России»).