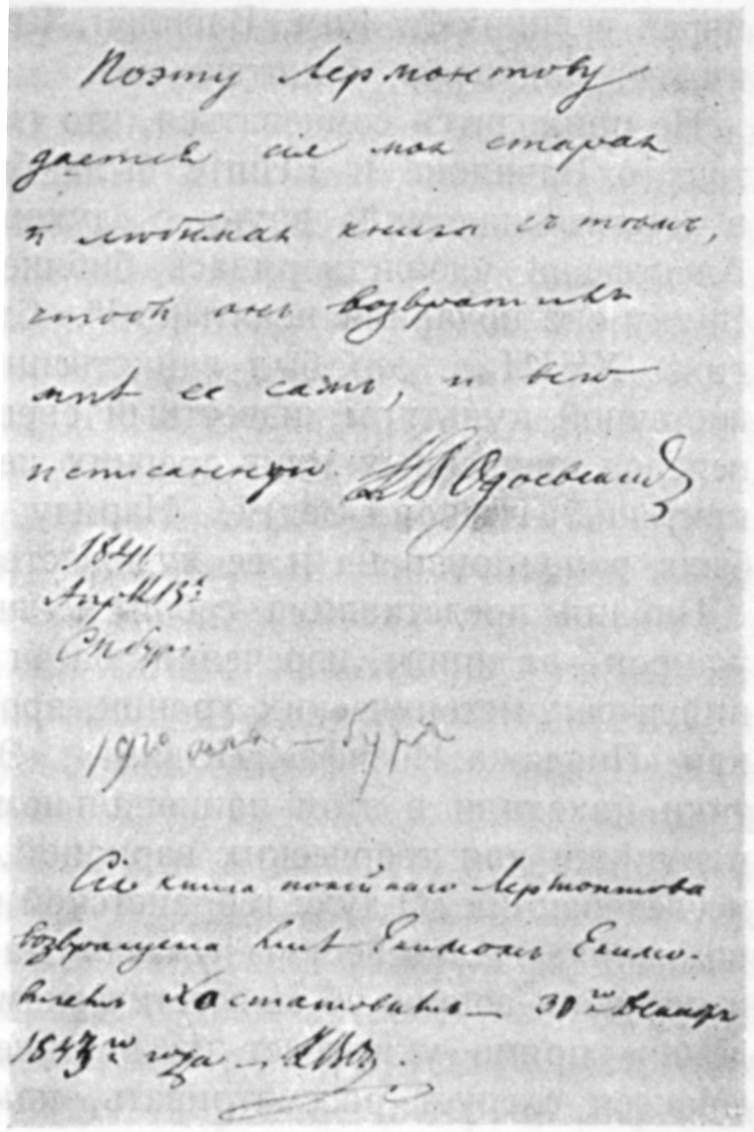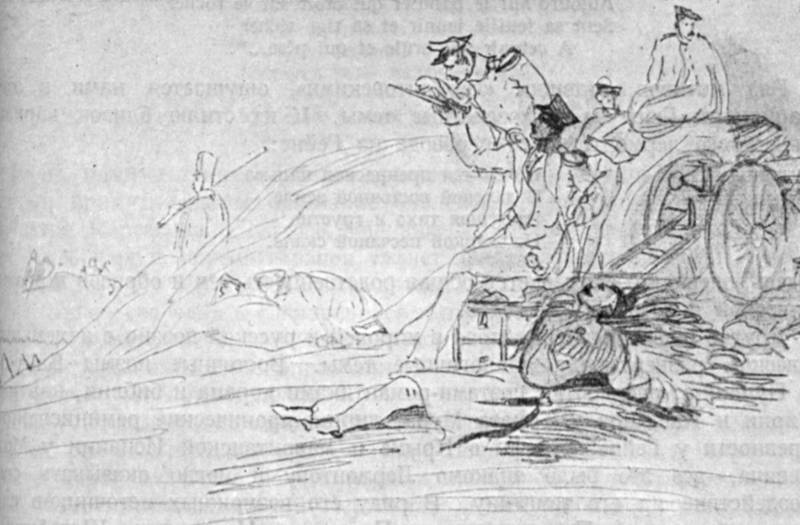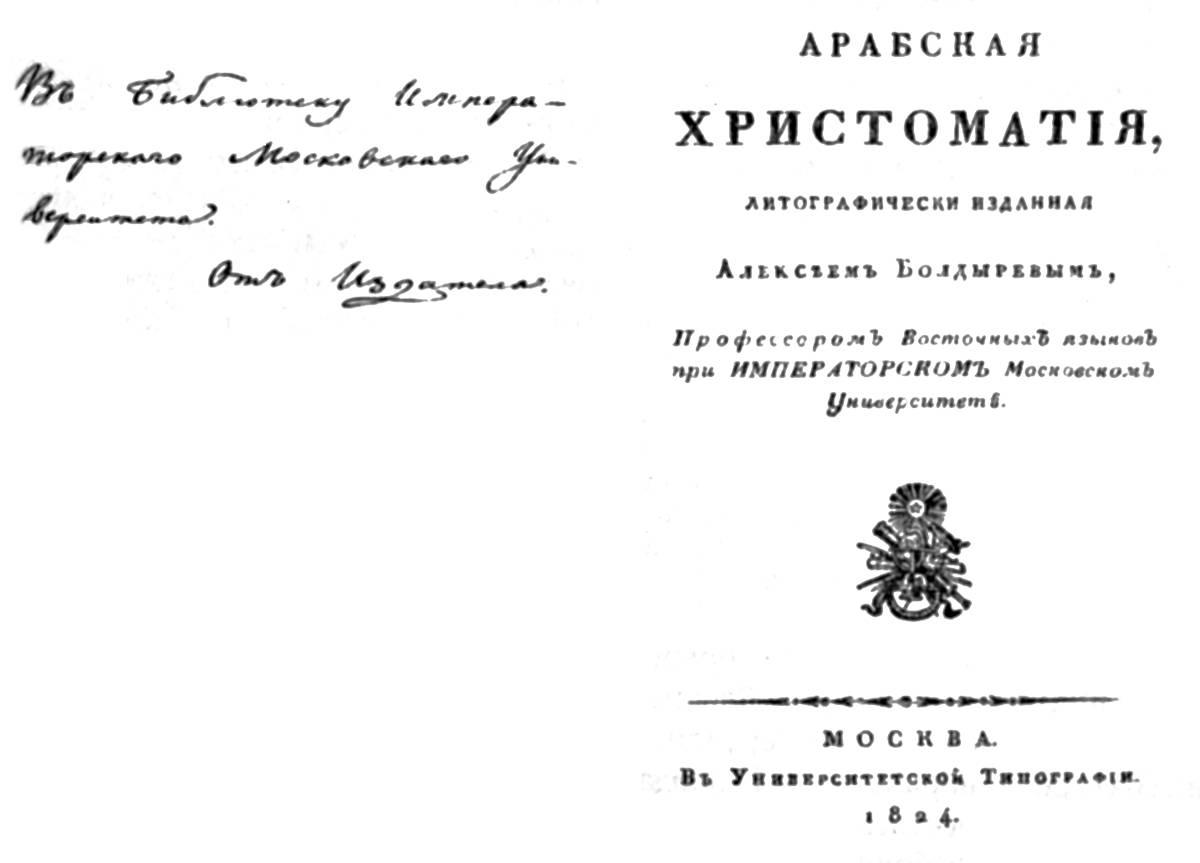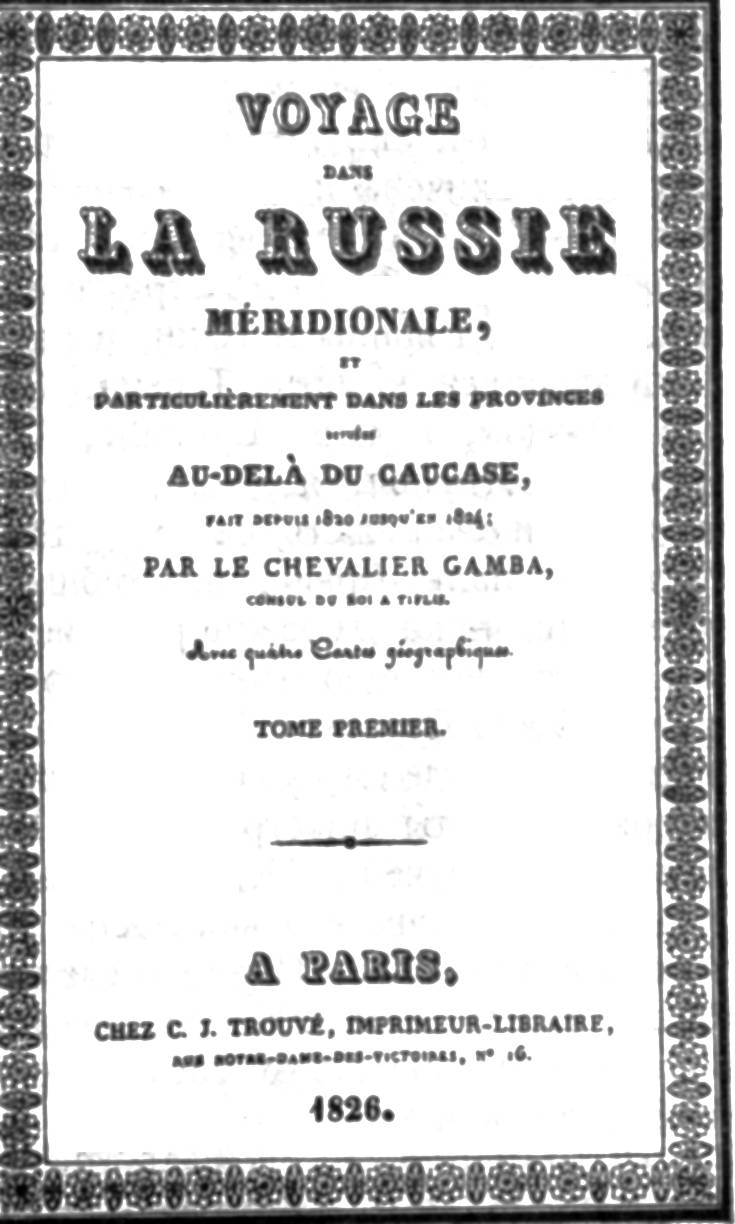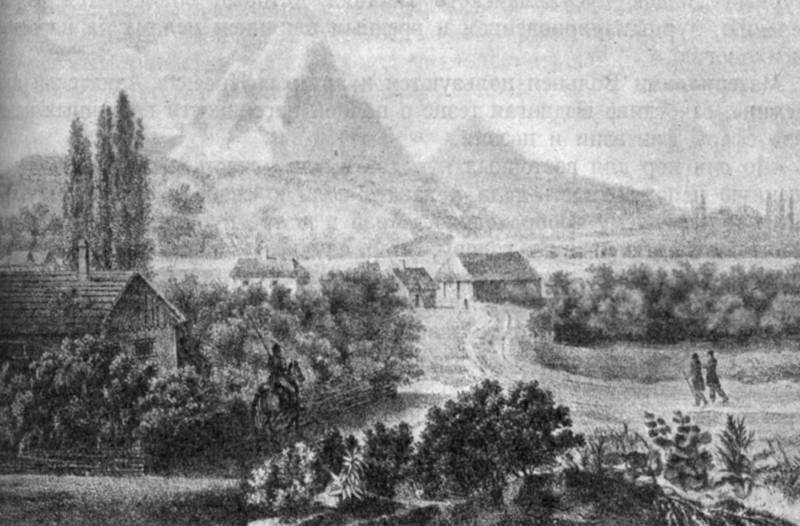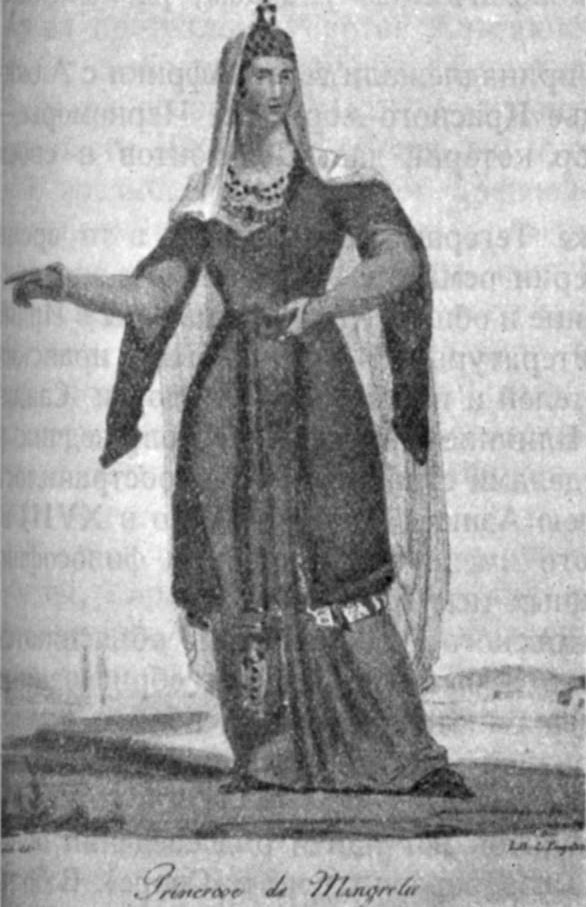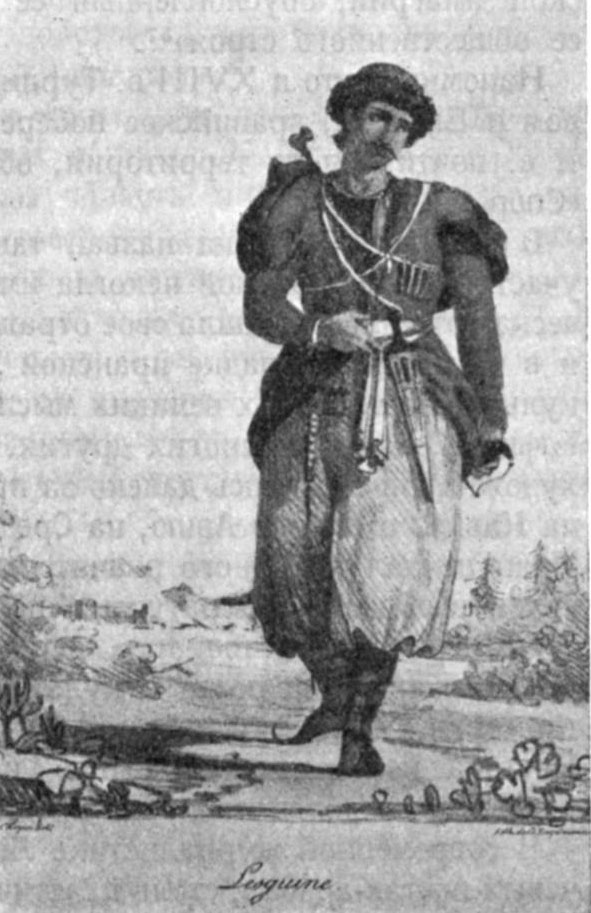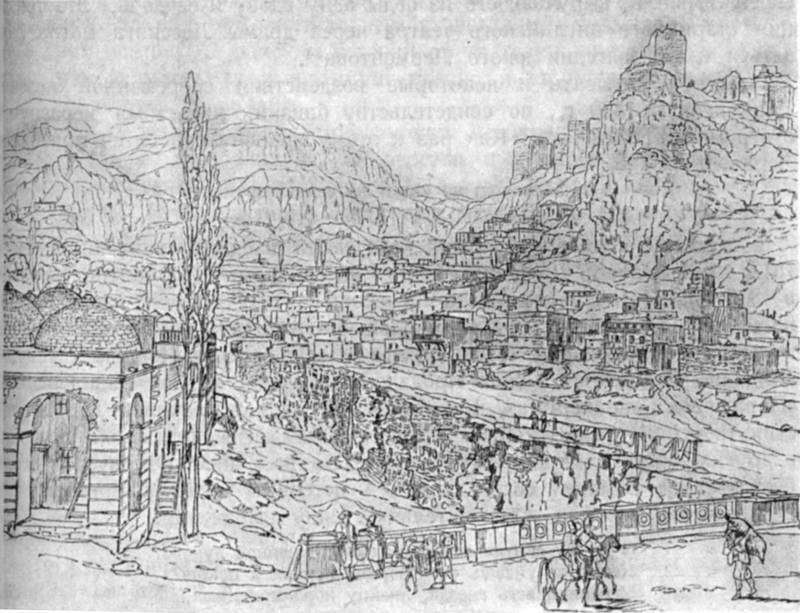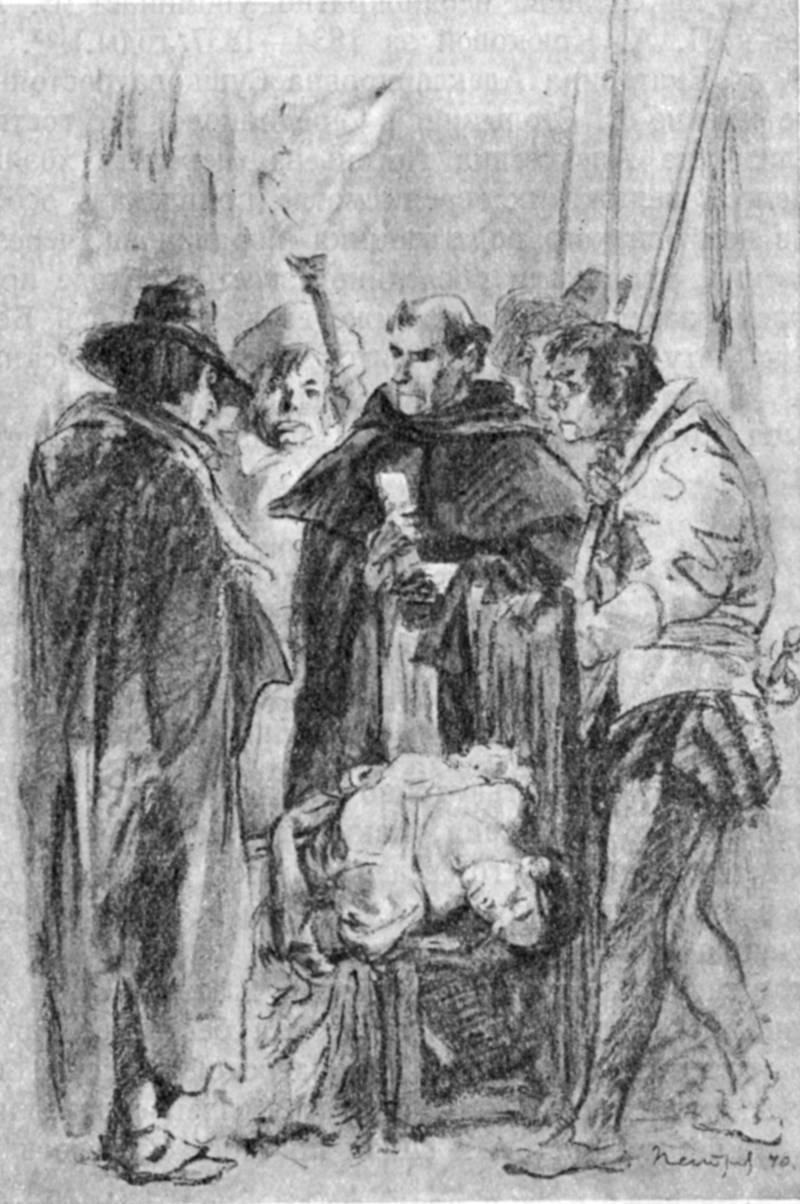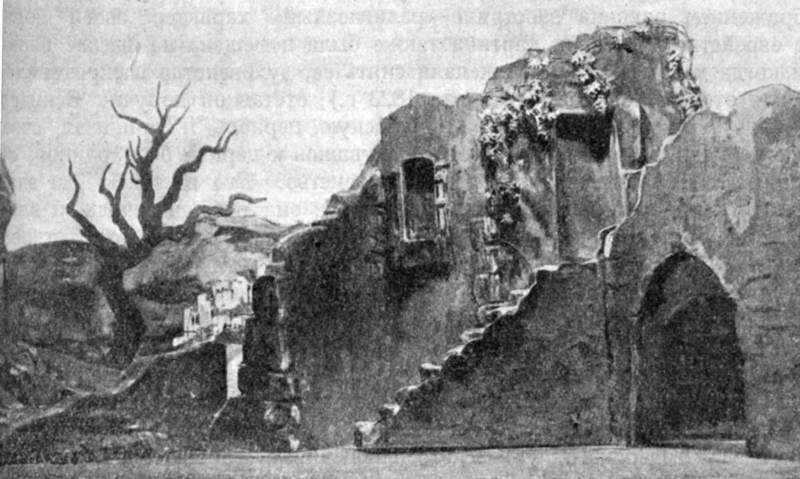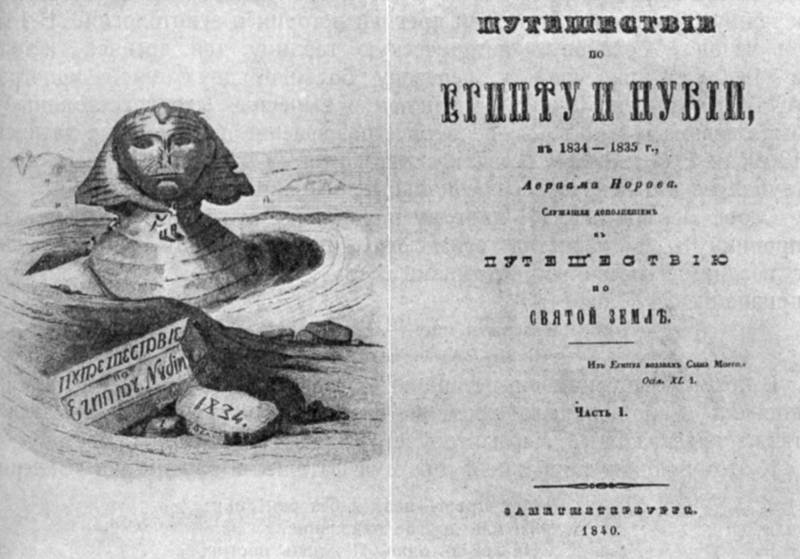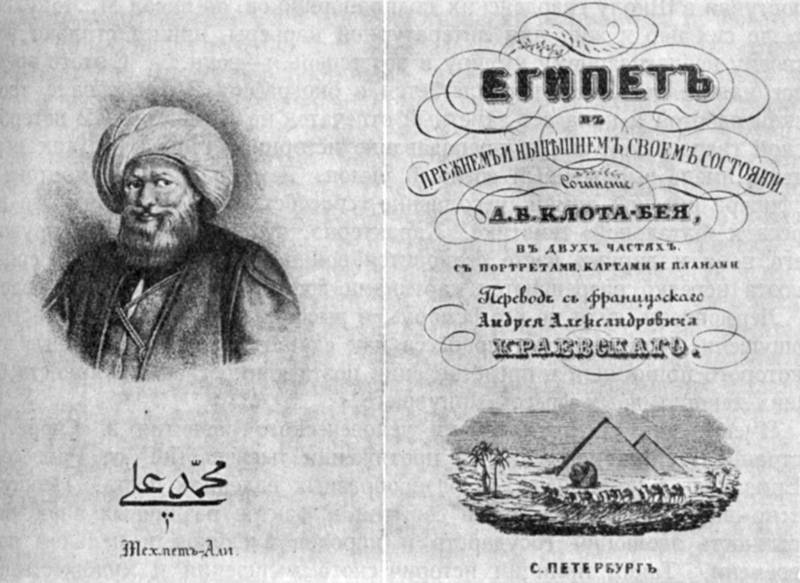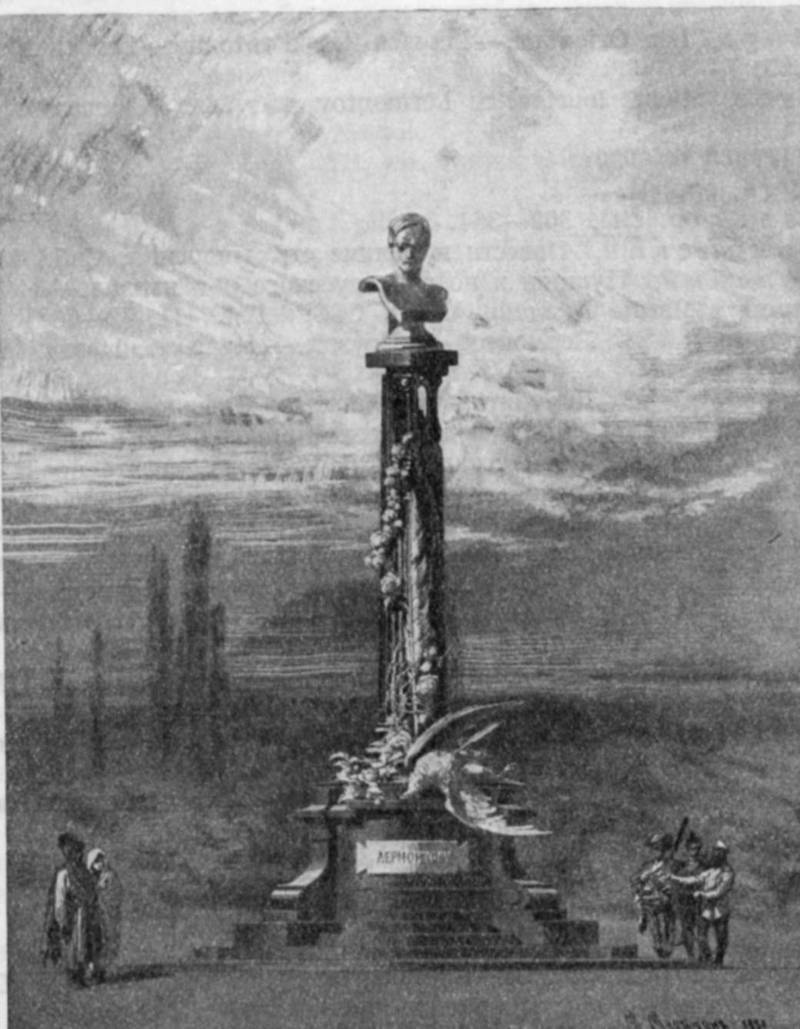- 673 -
ЛЕРМОНТОВ И КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА
Статья Леонида Гроссмана
I. ТРУД ЛЕРМОНТОВА
Когда Лермонтов впервые явился на занятия в Московский университет, он услышал лекцию об одном великом поэте-ученом. Профессор астрономии Перевощиков в докладе о Ломоносове-физике сообщил собравшимся студентам, что знаменитый «законоположник языка нашего» был и «первоклассным испытателем природы»; труды его по естествознанию свидетельствуют, что «гений его провидел истины, доказанные ныне многочисленными и точными наблюдениями». Глубокие познания Ломоносова в физической географии и метеорологии привели его к учению о причине тепла, возобновленному в самом конце XVIII в. Румфордом и утвержденному новейшими открытиями Гумбольдта и Араго. Наблюдения Ломоносова над явлениями грозы предвосхитили теории физиков XIX в. — Соссюра и Дальтона, а его объяснение северного сияния подтвердилось открытиями Эрштедта и наблюдениями Араго над магнитной стрелкой. Докладчик выражал свое глубокое преклонение перед «обширной мыслью» этого «поэта и естествоиспытателя», осуждая «несправедливое равнодушие русских ученых к трудам знаменитого соотечественника».
Так тема знания и творчества, науки и поэзии была поставлена перед Лермонтовым при самом вступлении его в университет. Она замечательно отвечала его рано сказавшейся наклонности сочетать свои поэтические замыслы с изучением классических образцов и подготовлять обширными чтениями свои лирические и драматические опыты. Если тема Ломоносова «о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», оставалась чуждой его ранней пытливости, то вопросы истории, политики, искусствознания, стиха и слова были всегда близки Лермонтову и глубоко захватывали его мысль. Беспримерно рано закончив свой творческий путь, он успел вступить в круг культурнейших русских поэтов и стать здесь рядом с Пушкиным и Тютчевым. Недаром сам он определял свой творческий метод как «вдохновенный труд».
Сюжеты и образы своих баллад и поэм Лермонтов любил строить на углубленном изучении исторических материалов и литературных источников. Ни военная служба, ни политические ссылки, ни петербургский «свет» никогда не отвлекали его от книги. В Московском университете он одинаково поражал своей необыкновенной начитанностью товарищей студентов и профессоров геральдики и нумизматики. Уже в эти годы он изучил античные мифы, Шиллера и Лессинга, Шекспира и Гёте, Руссо и Байрона, Шатобриана и Гюго, знал Жуковского, Грибоедова и Рылеева. В гвардейской школе он изумлял юнкеров своим умственным развитием и запомнился им как юноша, который «много читал, много передумал» и своим «опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой».
- 674 -
Вскоре военные походы приобретают для Лермонтова характер научных экспедиций. Ему в высокой степени было свойственно то новое понимание войны, которое впервые было установлено Бонапартом в его египетской кампании, имевшей не только военное, но и огромное научное значение. Походы, в которых принимал участие поручик Тенгинского полка Лермонтов, представляли для него несомненный познавательный интерес, сообщая ему обильный материал для творчества. Разъезды и экспедиции никогда не прерывали его умственного труда. Отправляясь в 1841 г. на Кавказ, он покупает Лафатера и Галя «и множество других книг». В пустом и рассеянном обществе Пятигорска Лермонтов, по свидетельству его секунданта, часть дня неизменно проводил в серьезных занятиях и чтении. К этому времени в круг его интересов уже вошли Жорж Санд и Бальзак, Гейне и Мюссе, летописцы, историки, слагатели народных сказаний, авторы старинных памфлетов и памятники русского средневековья. Все это чрезвычайно расширяло его эрудицию, разносторонне приобщало к основным проблемам мировой культуры, постоянно будило его глубокий интерес к прошлому человечества. Недаром его любимый и центральный герой так властно противопоставляет «жалкому свету» «пучину гордого познанья».
Как почти все великие поэты — как Данте и Шекспир, как Гёте и Пушкин — Лермонтов в своем поэтическом труде был также ученым, историком, филологом. Постоянная работа над словом и образом углубляла присущее ему творческое восприятие всемирной истории в ее наиболее характерных и драматических моментах. Лермонтов с поразительной силой и верностью схватывал и выражал целые эпохи мировой культуры. Сам он говорил, что часто «силой мысли» переживал века. Минувшие столетия выступали перед ним как периоды роста человечества, как вехи на пути его исторического развития, как образы и типы его богатой и сложной цивилизации. Идеи и стиль эпох — от древнего Востока до монархии Луи-Филиппа — Лермонтову удалось чутко уловить и творчески воссоздать в своей поэзии. Египет и Персия, Греция и Рим, Иудея и Кавказ; новейшая Франция, вышедшая из Великой революции XVIII в. и докатившаяся до бесцветного режима буржуазного королевства; наконец, могучие и трагические эпохи родной истории от вольной Новгородской республики через зловещее владычество Иоанна Грозного к бурным временам Пугачевского восстания и великой отечественной обороне 1812 г., — все это нашло пластически выразительные очертания в творческом слове Лермонтова.
На обширной и многообразной теме «Азии», которая так привлекала поэта своей глубиной и драматизмом, обнаруживается во всей полноте своеобразная черта его дарования — склонность переживать исторические темы в их соотношении с современностью: классический Рим обращает его к новейшему «европейскому миру», библейский Восток — к судьбам «сынов Солима» в XIX в., древние цивилизации — к протекающей борьбе колониальных империй с народами Леванта и закаспийских степей. Древний Восток оставался для Лермонтова живой и захватывающей темой. Образы доисторических культур перекликались в его сознании с текущей политической хроникой.
Проследим эти типы цивилизаций и облики столетий в незабываемой живописи «Спора», в напряженных монологах «Испанцев», в некоторых других «восточных» строфах поэта, замечательно сочетавшего свое творческое
- 675 -
видение исторического прошлого с острым ощущением современной международной драмы.
ЛЕРМОНТОВ
Бронза А. Голубкиной, 1900 г.
Санаторий „Мцыри“, СередниковоII. «СПОР» И ОРИЕНТАЛИЗМ НАЧАЛА ВЕКА
13 апреля 1841 г. Лермонтов выехал в свое последнее путешествие из Петербурга на Кавказ. В. Ф. Одоевский подарил ему на прощание записную книжку в кожаном переплете, надписав на первой странице: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. Кн. В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е. СПбург.»1. Оставив Петербург, Лермонтов стал заполнять карандашом листки переплетенной тетради Одоевского. Приехав 9 мая в Ставрополь, он сообщает С. Карамзиной (в письме от 10 мая, перевод с французского): «Не знаю, будет ли это продолжаться, но во время моего путешествия я был одержим демоном поэзии, idem, стихов. Я заполнил половину книжки, подаренной мне Одоевским — это верно он принес мне счастье; я даже стал писать стихи по-французски — о распущенность!»2.
- 676 -
Первым среди лирических шедевров, заполнивших тетрадь Одоевского, где записаны «Пророк», «Тамара», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Выхожу один я на дорогу...», «Сон», «Утес», «Свиданье», «Они любили друг друга...», «Дубовый листок...», «Морская царевна», оказалось стихотворение «Спор». Им открывается эта последняя сюита лермонтовской лирики. Написанное в апреле — мае 1841 г., в Москве, по пути на Кавказ, оно отразило обычное влечение Лермонтова к «синим горам» этого края и, вероятно, подвело итог размышлениям и разговорам, имевшим место в кружках обеих столиц. Оно является самым поразительным свидетельством необычайного дара Лермонтова схватывать в самой глубине и выражать в ослепительном образе сущность национальных культур и облики исторических эпох.
Колыбель человечества, Азия, и особенно юго-западная часть древнего материка, а с нею и весь бассейн средиземноморской культуры не раз привлекали внимание Лермонтова. Недаром его Печорин мечтает о путешествии в Индию и Аравию, а перед смертью едет в Персию. В «Споре» Лермонтов в нескольких строфах охватывает тысячелетние эпохи разноплеменных культур на обширном географическом поле от Кавказского хребта до Персидского залива и от Иранского плоскогорья до Гибралтара. Колхида с ее сладостными винами и расшитыми тканями, персидская монархия, сменившая воинскую мощь и волю к мировому господству на прохладу и наслаждения, гробницы фараонов — пирамиды в раскаленных песках Египта, бескрайные равнины Аравии, Сирии и Африки, где воинские подвиги бедуинов воспеваются в сказаниях и мифах цветистого арабского эпоса, — все это незабываемыми чертами запечатлено в поразительном монологе «угрюмого Казбека»:
Не боюся я Востока,
Отвечал Казбек,
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин;
И склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскалённые ступени
Царственных могил;
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров,
И поет, считая звезды,
Про дела отцов.
Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя...
Нет, не дряхлому Востоку
Покорить меня!Как удалось Лермонтову несколькими словами воссоздать эту пластическую и красочную картину античных культур, погрузившихся в дремотные
- 677 -
сумерки государственного упадка? Обращался ли он к историкам и географам древности — Геродоту, Страбону, Птоломею? Читал ли новейших исследователей, как знаменитый Шамполион, знал ли труды русских ученых — арабиста Сенковского, египтолога Гульянова? Во всяком случае несомненно одно: его гениальная интуиция прошлого питалась текстами и картами, преображая археологические реликвии всемирной истории в жемчужины мировой поэзии.
Для верной интерпретации этих строф Лермонтова их следует рассматривать на фоне того обширного научного и художественного движения начала XIX в., которое называют иногда «ренессансом Востока» в Европе. В эти годы развернулась новая отрасль культурно-исторических знаний — ориентализм. Изучение языков, надписей, памятников Египта раскрывало в отдаленной древности неведомую и богатейшую цивилизацию: прошлое отодвигалось в глубь тысячелетий, и христианский мир представлялся лишь песчинкой в вихре сменявшихся исторических эр.
«В последние годы XVIII в. произошел великий переворот во всех воззрениях на историю человеческой цивилизации, — писали в 1810 г. авторы петербургского «Проекта Азиатской Академии». — Восток, предоставленный до тех пор лживым рассказам нескольких авантюристов и запыленным рукописям горсти ученых, был единодушно признан колыбелью всей цивилизации мира. Случайными причинами такой „реабилитации“ были успехи англичан в Индии, завоевание священного языка браминов — творений Зороастра, исследования библии немецкими учеными и учреждение Азиатского общества в Калькутте»3.
Все это вызвало необычайное оживление в истории и филологии начала XIX в. Плеяда блестящих ученых открывает «ключи» к древнеперсидской клинописи, к ассиро-вавилонским текстам, к египетским иероглифам. По примеру Калькуттского общества (основанного в 1784 г.) учреждаются научные объединения для исследования Азии в Бомбее, Мадрасе, Лондоне, Париже, непрерывно издающие свои записки, журналы, монографии, лексиконы, грамматики.
Движение это получает заметный отзвук и в России. Уже в 1804 г. первый устав русских университетов устанавливал кафедру восточных языков. Коллегия иностранных дел вырабатывает в 1806 г. проект учреждения классов татарского, арабского и турецкого при Казанской гимназии, персидского, грузинского и армянского при Тифлисской и, наконец, японского, китайского и манчжурского при Иркутской. В 1809 г. выдвигается план образования при Казанском университете «восточного училища», по образцу существовавших в Париже и Вене. В 1810 г. выходит в Петербурге только-что цитированный нами «Проект Азиатской Академии». Он считается сочинением С. С. Уварова, но, повидимому, главное участие в его составлении принимал молодой ориенталист Клапрот, впоследствии знаменитый академик4. Наряду с научными целями проект не скрывает и своих политических задач.
В момент возрождения изучений Востока могла ли бы Россия отставать от народов Запада? — спрашивает автор «Проекта»; простой взгляд на карту указывает на ее государственную заинтересованность в этом вопросе: сухопутная граница необъятного протяжения ставит ее в соприкосновение со всеми народами Востока; интересы государства здесь сочетаются с задачами просвещения. Необходимо учредить академию для связи европейской цивилизации с мудростью Азии, нужно основать институт по изучению
- 678 -
восточных языков, в котором европейский критик встретился бы с азиатским ламой. Это открыло бы возможность проникнуть в тайны древней философии, изучить поэзию восточных народов, поражающую кипением идей и богатством слова; таковы Сакунтала, Фирдоуси, Гафиз; и, наконец, все это следует восполнить исследованием истории и статистики Азии.
Из таких соображений вырос план «Азиатской Академии», впервые выдвигавший необходимость изучения в России санскрита и отстаивавший для научных программ наряду с литературами индийской, китайской мусульманской, еврейской еще мало изученные — армянскую и грузинскую.
Проект «Азиатской Академии» не получил осуществления, но в 1817 г., по рекомендации главы европейских ориенталистов — знаменитого Сильвестра де Саси, в Петербурге начинают преподавать арабский и персидский языки два его ученика, Деманж и Шармуа. Перед открытием их курсов Уваров в торжественном заседании выразил надежду, что с обращением к Греции и Востоку произойдет обновление всей нашей поэзии. Но французские ориенталисты недолго пробыли в Петербургском университете. Вскоре на смену Деманжу, павшему при разгроме профессуры Руничем в 1822 г., явился молодой О. Сенковский, впоследствии основатель «Библиотеки для Чтения», где было опубликовано первое произведение Лермонтова «Хаджи Абрек». Не заслуживший признания в истории русской журналистики, Сенковский признан одним из крупнейших основателей русского востоковедения. Постоянная пропаганда им этой научной отрасли в его журнале не могла пройти бесследно для Лермонтова. Не лишено характерности, что в очень сочувственной рецензии на «Стихотворения М. Лермонтова» (Спб., 1840), помещенной в журнале Сенковского, приводятся полностью «восточные» опыты поэта: «Казачья колыбельная песнь», «Ветка Палестины», битва Мцыри с барсом, «Дары Терека» (по словам критика, «оно одно из самых блестящих во всем собрании, где столько блестит»5).
Таково было в первые десятилетия XIX в. движение в пользу изучения восточных языков и литератур. Одновременно организуются ученые экспедиции, производятся раскопки, издаются рукописи и надписи, обогащаются коллекции музеев и академий. В петербургский период своей биографии Лермонтов, имевший общение с художниками и учеными, мог знать об «Азиатском Музеуме Санкт-Петербургской Академии Наук», который в 1819 и 1825 гг. приобрел у французского генерального консула в Багдаде, а затем в Триполи драгоценное собрание арабских, персидских и турецких рукописей. В 1826 г. Академия наук получила собрание египетских древностей известного миланского коллекционера Кастильоне, долгие годы жившего в Каире и Александрии. В 1827 г. Академией были приобретены египетские саркофаги, а в 1840 г. — рукопись, найденная в Фивах. Большая часть этих коллекций поступила впоследствии в Эрмитаж, составив его египетский отдел6. Азиатский музей владел также богатейшим собранием восточных монет, китайских художественных изделий, монгольских, тибетских и японских рукописей.
Все это могло свидетельствовать о том, что в России, по современному сообщению, «сильно возбуждена склонность к изучению Востока и приобретению способов к успешному занятию сим предметом». По свидетельству «Энциклопедического лексикона» 30-х годов, «знание Востока составляет для многих европейцев, можно сказать, роскошь просвещения, плод
- 679 -
любознания и далеко распространенной ученой деятельности, которая достигла у них величайшего разнообразия; напротив, для России знакомство с Востоком есть предмет не простого любопытства, а насущной потребности»7. Россия — рубеж Востока и Запада, восточные племена входят в состав ее населения. «Азия часть света, к которой по силе обстоятельств и по народному инстинкту устремляется любопытство русского», — формулирует в 1840 г. общее положение вещей журнал Сенковского8.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ, ПОДАРЕННОЙ ЛЕРМОНТОВУ
В. Ф. ОДОЕВСКИМ 13 АПРЕЛЯ 1841 г.
На странице — надписи Одоевского и
Лермонтова (карандашом)
Публичная библиотека, ЛенинградК моменту литературных выступлений Лермонтова русский «ориентализм», как мы видели, уже насчитывал ряд значительных достижений. К 1829 г. относится замечательный проект Сенковского, Френа и Шармуа об учреждении при Петербургском университете «полного класса восточных языков» — мусульманского, кавказского, китайского и буддийского. Развивающаяся русская журналистика уделяет много внимания народам Азии. Выходят монографии, статьи и путешествия по Востоку, в некоторой части несомненно знакомые Лермонтову.
Попытаемся разобраться в необследованном вопросе об источниках и характере лермонтовского «востоковедения», давшего такое необычайное цветение в одном из его последних стихотворений.
III. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ ЛЕРМОНТОВА
Уже в отроческие годы Лермонтов интересовался Востоком и классической древностью. Его ранние описательные страницы обнаруживают познания в археологии, истории зодчества и искусств: он говорит в них о надписях «древнего римского кладбища», о «древнем Вавилонском столпе», о «могильном мавзолее, возвышающемся среди пустыни в память
- 680 -
царей великих»9. Рим, Вавилон, Египет уже знакомы ему по их памятникам, надписям, архитектуре.
Не приходится сомневаться, что главным источником сведений Лермонтова о Вавилоне и Египте была библия. Известно, что Е. Арсеньева в детстве знакомила внука с «духовной» литературой. Сама «Елизавета Алексеевна удовлетворялась библией, молитвенником и месяцесловом. Внуку она подарила псалтырь»10. Следует помнить, что до второй половины XVIII в. это был единственный литературный памятник древневосточной культуры, известный европейцам (только в 1771 г. появился перевод священных книг древних персов — Зенд-Авесты, а затем и санскритских гимнов — Вед)11. Наряду с историческим значением библии была рано признана и ее художественная ценность.
Библия представляла собой исключительное богатство литературных жанров — от притч, изречений, басен и мифов до народных песен, сказаний и саг, исторических хроник, эротических гимнов, новелл и романов, как «Продажа Иосифа», «Юдифь», «Эсфирь», «Руфь» и др. Поэты-романтики находили в этом национальном эпосе еврейского народа обильные источники для творческих вариаций. В конце XVIII в. Гердер в своих исследованиях «О духе гебраистской поэзии» (1782—1783), «О древнейшем памятнике человечества» указал на художественные богатства библии и поставил вопрос об ее эстетическом изучении. «Проект Азиатской Академии» прямо указывает на поэтическое значение ветхозаветных книг: «Моисея следует рассматривать, как главу поэтической школы, совершенно несхожей с другими поэтическими направлениями Востока... Писания Моисея, книга Иова и песнопения пророков достойны соперничать с совершеннейшими памятниками античности.
...Orateurs et poètes,
L’enthousiasme habite aux rives du Jourdain,
Au sommet du Liban, sous les berceaux d’Eden*.Fontanes»12.
В школе продолжалось знакомство Лермонтова с этим основным источником научного востоковедения XVIII в. В программах Благородного пансиона по классу красноречия, стихотворства и языка российского наряду с Вергилием и Овидием значилось: «отличительное свойство священных песнопений еврейской поэзии». В пансионском руководстве по всеобщей истории отмечалась художественная одаренность израильтян: «Псалмы Давида, книга премудрости и притчей Соломона, пророчества Даниила, музыка, употребляемая при их богослужении и построении храма иерусалимского, показывают, что они с успехом занимались науками и искусствами»13. Литературный наставник Лермонтова Мерзляков писал в духе поэтики XVIII в. подражания псалмам, оды, «выбранные из пророков», песни Девворы и Варака, славословия Моисея и пр.
Этот же путь указывала Лермонтову новейшая поэзия. В духе книги Иова пишет Гёте пролог к «Фаусту». Молодой Виктор Гюго находит в библии обильный источник для своих ранних баллад и поэм. Автор «Еврейских мелодий» Байрон писал в 1821 г.: «Я усердный читатель и почитатель этих книг, я их прочел от доски до доски, когда мне не было еще восьми лет; я говорю о ветхом завете, ибо новый всегда производил на
- 681 -
меня впечатление заданного урока, а ветхий доставлял только наслаждение». Пушкин ценил древний фольклор еврейского народа, положенный в основу «Гавриилиады», замысла «Юдифи» («Когда владыка ассирийский...»). Его обычные сопоставления: «Библия и Шекспир», «Библия и Вальтер Скотт», «Илиада и библия», лучше всего свидетельствуют о его художественном подходе к «священным» книгам. Неудивительно, что Лермонтов рано обратился к этому источнику, о чем свидетельствуют такие его замыслы, как «Азраил» или «Ангел смерти» («На гордых высотах Ливана / Растет могильный кипарис...»). В одной из лермонтовских тетрадей начала 30-х годов имеется запись:
«Демон». Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из библии). Еврейка. Отец слепой. Он в первый раз видит ее спящую. Потом она поет отцу про старину и про близость ангела — как прежде. Еврей возвращается на родину. Ее могила остается на чужбине»14.
Раннее знакомство с образцами «гебраистской поэзии» вызвало пристальный интерес Лермонтова к судьбам еврейского народа; эта необычная в русской литературе того времени тема характерна для творчества Лермонтова почти на всем его протяжении — от «Испанцев» и первых «Еврейских мелодий» до «Ветки Палестины» и «Спора» (где снова звучит тема «Иерусалима»). Мы еще вернемся к разнообразным причинам, вызвавшим интерес Лермонтова к древнему народу, судьбы которого на родине поэта не могли не вызвать в его благородном сердце глубокого сострадания.
Годы учения значительно углубили эти ранние интересы Лермонтова и открыли новые пути к их насыщению. Когда поэт писал «Спор», он, конечно, не обращался к своим школьным руководствам. Но характерно, что в них уже излагались сведения, которые легли в основу лермонтовского воссоздания античных культурно-исторических типов. Можно отметить, что первые познания о них, полученные Лермонтовым еще в школе, совпали с теми представлениями, какие сложились в нем через десятилетие и, может быть, отчасти были подготовлены первоначальными чтениями. В «Кратком начертании древней географии» Нича, по которому изучался этот предмет в Университетском благородном пансионе, уже дается картина выжженной пустыни, запечатленной в ослепительных строфах «Спора».
«Более всех областей плодоносна была Галилея; менее всех страна иерусалимская, о коей говорит Страбон, и особенно жаркая страна по ту сторону Иордана. Нынешнее бесплодие происходит от беспечности обитателей, кои или питаются подаянием от богомольцев, или грабежом... ...Больших судоходных рек в Аравии нет. Солнечный жар и песок снедают воды, текущие летом с гор». Аравия разделяется на Каменистую, Пустынную и Счастливую; «великие песчаные степи, жаркий климат, недостаток в воде отвращали от нее неприятельские нападения». Имеются сведения и о других странах, описанных в «Споре» Лермонтова. О Колхиде говорится: «Жители образованием, цветом и языком сходны были с египтянами». Об африканском царстве: «Древние причисляли к Египту только страну, орошаемую Нилом, т. е. небольшое пространство между Аравийскими и Ливийскими горами». Даются сведения и о «царственных могилах» древнего Египта: в Александрии было «царское кладбище soma»15.
Исторические познания Лермонтова значительно расширились в Московском университете. Здесь автор «Черкесов» слушал специалистов
- 682 -
по востоковедению — профессоров А. В. Болдырева и М. А. Каркунова. Последний был еще начинающим ученым (он преподавал арабскую грамматику и толковал арабскую хрестоматию по книгам проф. Болдырева), но его старший товарищ и учитель пользовался заслуженным научным авторитетом. Член Лондонского азиатского общества, Болдырев был учеником знаменитого французского ориенталиста Сильвестра де Саси; во время своей заграничной командировки молодой московский востоковед издал в 1808 г. в Геттингене два арабских текста («две му’аллаки»16). Вернувшись из Парижа, он с 1811 г. стал читать в Московском университете начальные основания еврейского и арабского языков, а с 1814 г. — «историю евреев и арабов, о религии, законах, науках, художествах, нравах и обычаях этих народов, проходил еврейские древности по руководству Яна, еврейскую грамматику, объяснял отборные места из ветхого и нового завета, обучал арабскому языку по своей литографированной хрестоматии и персидскому, объясняя избранные места из Тути-Намэ и цветника Садиева». Под последним термином имеется в виду знаменитый «Гюлистан» Саади. После 1826 г. Болдырев «преподавал основания арабского языка и объяснял арабскую хрестоматию по таблицам и книге, литографически им изданным, также правила персидского языка с объяснениями избранных мест из персидской хрестоматии, равно им изданной»17. Болдырев был ценим студентами: в качестве ректора Московского университета (в середине 30-х годов) он оставил по себе память человека «очень доброго и всеми уважаемого» (по отзыву Ф. Буслаева)18; в 1836 г. в качестве цензора Болдырев разрешил опубликование знаменитого «Философического письма» Чаадаева в «Телескопе», за что был уволен со службы и больше к университетскому преподаванию не возвращался (он умер в отставке в 1842 г.). «Составленные Болдыревым словари и хрестоматии по арабскому и персидскому языкам служили пособием для целого ряда поколений студентов»19. В истории русского востоковедения ему отведено довольно видное место: «Кроме лекций профессоров, приглашенных из-за границы, успехам изучения в России языков арабского, персидского и турецкого содействовала продолжительная преподавательская деятельность Болдырева в Москве, Сенковского в Петербурге... Болдырев был автором учебных пособий по арабскому и персидскому языкам, употреблявшихся в русских университетах до последних десятилетий XIX в.»20.
Как раз в университетские годы Лермонтова (1831—1832) Болдырев издал «Новую арабскую хрестоматию» и сборник древних арабских стихотворений: «Семь Моаллакат или стихотворения Амрулкаиса, Тарафа, Загаира, Лебида, Антары, Амру и Гарефа, переведенные иностранными ориенталистами (6 на латинском и 1 на французском). Изданы А. Болдыревым, профессором восточных языков при Имп. Московском Университете, М., в Университетской типографии, 1832» (цензурное разрешение 28 марта 1832 г.). В 1830/1831 учебном году Болдырев преподавал арабский и персидский языки (в следующем году только персидский); арабскую грамматику читал студентам Каркунов. В своем курсе Болдырев делал общий обзор арабской и персидской словесности, а на практических занятиях читал историков и поэтов древнего Востока: отрывки из Абдоллатифа21, Абульфеды, из жизни Тамерлана, описанной Ахмедом Ибн Арабша; в курс входили также Саади, Гафиз, Тути-Намэ, Мирхонд и другие поэты и историки; читались «Ферридедин
- 683 -
Аттара» Пенд-Намэ, персидские басни. По обеим древневосточным литературам давались сведения «о стопосложении и разных родах стихотворений»22.
Среди своих источников Болдырев называл и своего знаменитого парижского учителя Сильвестра де Саси (Isaac Silvestre de Sacy). Это был крупнейший арабист и персовед того времени, основатель в 1822 г. специального органа «Journal Asiatique», руководивший всем изучением ориентальной культуры во Франции и даже за ее пределами; Париж стал при нем научным центром востоковедения. Он издал арабскую грамматику, хрестоматию и «Грамматическую антологию» — ряд замечательных учебных монографий, которыми широко пользовались московские арабисты, как, вероятно, и его переводами из Абдоллатифа, Пенд-Намэ и Мирхонда (авторы эти, как мы видели, представлены в программах Болдырева). В русском ученом мире Сильвестр де Саси мог быть известен и как публикатор «Опыта об элевзинских таинствах» С. С. Уварова23.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. МАРЛИНСКОГО „АММАЛАТ-БЕК“
Рисунок пером Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 169)
Институт литературы, ЛенинградО. И. Сенковский отнесся, впрочем, критически к принципу буквального перевода поэтов-аравитян, установленному Сильвестром де Саси и принятому его школой. В своей статье «Поэзия пустыни» Сенковский писал: «Отличнейший арабист нашего времени, покойный Сильвестр де Саси более всех сделал известными в Европе произведения арабского поэтического гения, и более всех лишил эти произведения существенной их занимательности для европейского поэта. Переводы его, гладкие и точные, бледны до крайности: можно себе представить, какова должна казаться бурная, кипучая речь вдохновенного бедуина, когда ее переоденут в парижскую фразеологию! Школа, которую создал этот ориенталист во Франции и Германии, наследовала его любовь к арабской поэзии, и продолжает переводить нам ее творения, то-есть продолжает убивать
- 684 -
ее в своих переводах, в которых отчаянная буквальность истребляет всю красоту, всю силу, весь характер оригиналов», нарушает основные свойства «этой удивительной поэзии, которой нельзя уподобить никакой другой на свете» и которую невозможно выразить «ни на каком другом языке, образовавшемся вне пустыни, вне этой особенной природы и этой необычайной жизни...»24.
В «Арабской хрестоматии» Болдырева приведены восемь повестей из «Chrestomathie arabe» par Silvestre de Sacy («Продажа девушки», «Заклад драгоценных камней», «Великодушие Рашида», «Неожиданное посещение», «Подложное письмо», «Кончина Джафара», «Доброта Мостасема», «Подписанные просьбы») и три басни из Китаб Калила ва Димна, изданного Сильвестром де Саси («Царевич и его товарищи», «Путешественник и золотарь», «История Илаза, Белаза, Ирахты и мудрого Кибариуна»)25.
Можно полагать, что уже в эти годы возникает интерес Лермонтова к «восточным сказаниям» (таков, как известно, заголовок, данный им впоследствии «Трем пальмам»).
Во втором семестре 1831/1832 г. начал читать курс теории изящных искусств и археологии Н. Надеждин. Он произвел, как известно, сильнейшее впечатление на таких своих слушателей, как Белинский и Гончаров; можно полагать, что и Лермонтов не отнесся безразлично к его лекциям.
Новый искусствоведческий курс был тесно связан с культурой древнего Востока. По свидетельству слушателей Надеждина, он читал им «об искусстве индийском, персидском и других древнейших азиатских народов». «Начиная археологию, он счел нужным сперва раскрыть перед глазами слушателей сцену, где должна разыгрываться художественная драма искусств — индийского, вавилонского, персидского. Для этого он прочитал две лекции о быте, торговле, сношениях и пр. этих древнейших стран и в две лекции умел представить все это в прекрасной, яркой и вразумительной картине». По словам И. А. Гончарова, Надеждин был дорог студентам «своим вдохновенным горячим словом, которым вводил в таинственную даль древнего мира, передавая дух, быт, историю и искусство Греции и Рима... Он один заменял десять профессоров. Излагая историю изящных искусств и археологию, он излагал и общую историю Египта, Греции и Рима. Говоря о памятниках архитектуры, о живописи, о скульптуре, наконец, о творческих произведениях слова, он касался и истории философии...»26.
Курс художественной археологии, читанный Надеждиным, касался преимущественно восточных древностей. В сохранившихся студенческих записях лекций Надеждина имеются разделы «Об индийской архитектуре и ее памятниках», «О символике финикиян», «Об ассирийско-вавилонских памятниках изящных искусств», «О тоническом и сценическом искусствах у египтян», «О еврейских памятниках», «О греческих памятниках изящных искусств».
Лекции Надеждина, увлекая слушателей, побуждали их к самостоятельной работе, в частности к разработке вопросов ориентализма. «Студенты запасались теми философскими и историческими книгами, которые рекомендовал им профессор, усердно изучали его лекции и писали ему сочинения... Изучение археологии вызывало желание предпринять путешествие на Восток, — желание, сохранившееся и впоследствии». «Я совершенно с тобой согласен на счет Азии, — писал приятелю один из выдающихся
- 685 -
слушателей Надеждина, Станкевич. — Сирия, Палестина, Индия — вот куда стоит поехать. Но... вспомни, что мы более изучали эти земли по древней карте, нежели по новой, мы соображали их с древнею гражданственностью — но сколько воспоминаний и какая должна быть природа!..»27. Это вполне соответствует позднейшей восточной ностальгии Лермонтова.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. МАРЛИНСКОГО „АММАЛАТ-БЕК“
Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 165)
Институт литературы, ЛенинградВ Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров наряду со специальными военными дисциплинами он изучал и более обстоятельно историю и географию. Предметы эти преподавал юнкерам известный в то время своими учебниками профессор Арсеньев. Товарищ Лермонтова по кавалерийской школе, его будущий убийца, Н. С. Мартынов, в своих мемуарах отмечает интерес поэта к истории, который даже ставит рядом с его основным влечением к литературе. «Из наук Лермонтов с особенным рвением занимался русской словесностью и историей. Вообще он имел способности весьма хорошие, но с любовью относился только к этим двум предметам»28.
Что могла сообщить эрудиции и поэзии Лермонтова историческая кафедра гвардейской школы?
Согласно программам, утвержденным в 1827 г., было признано необходимым преподавать историю и географию преимущественно в военном разрезе: связь новейшей истории государств с военными происшествиями, «подробное описание всех главных походов с древних времен до наших», «изложение географии в военном смысле», — вот основные требования
- 686 -
курса29. Возможно, что такое направление преподавания оставило некоторый след на писаниях Лермонтова, где батальная тема представлена рядом произведений («Бородино», «Валерик») и где нередко, как в «Споре», исторические созерцания поэта разрешаются картинами вооруженной борьбы народов.
Пособием по истории воспитанникам школы служило шеститомное руководство аббата Миллота «Всеобщая древняя и новая история, содержащая повествование о всех народах мира и доведенная до 1815 года». Первый том был посвящен древнему Востоку и классической античности. Здесь имелись подробные главы об египтянах, ассириянах и вавилонянах, финикиянах, иудеях, мидянах и персах; затем следовала «история о греках». В разделе о персах имелась рубрика «Причины падения сего народа». Также излагалась история Египта. «Славные пирамиды, от многих писателей почитаемые до потопа сооруженными, и ныне еще противостоят стремлению времен, поглотившему столько империй. Из них не более трех осталось в нескольких милях от Каира, на месте коего некогда стоял Мемфис». Следуют подробное описание «ужасных сих зданий», их история и различные толкования ученых. «По самому общему ныне мнению, пирамиды были гробницы, в коих, как догадываются, цари, упоенные народными предрассудками, хотели получить себе вечную жизнь, дав своим трупам неприступное жилище, безопасное от едкости времен. К сему суеверию, как вероятно, присовокупилась еще побудительная причина предупредить возмущения чрез обложение народа долговременною работою... Плиний-натуралист и многие другие вооружаются противу безумного тщеславия, внушившего государям такие пагубные предприятия»30.
Из других учебных книг Лермонтова для нас представляют интерес пособия К. Арсеньева. Здесь имелось не мало сведений о восточных странах, граничащих с Россией или важных для ее внешней политики; не раз отмечался и упадок древневосточных империй. «Персия граничит с Россиею, Индиею, Турциею... Тегеран — резиденция шаха с ковровыми фабриками... Великие препятствия для внутренней торговли суть обширные степи и недостаток в больших реках... Персы и ныне принадлежат к просвещеннейшим народам Азии, хотя расстройство правления и опустошительные войны ниспровергли многие полезные заведения. Персы, особенно жители Ирана, имели славных стихотворцев, известных и в Европе, каковы: Фердузи, Сади и Гафиз». О Египте: «Сия земля, колыбель образованности и в глубокой древности уже благоустроенных гражданских обществ, некогда знаменитая во многих отношениях, считается доселе владением турецкого султана. Климат здесь жаркий, частые поветрия и преждевременная слепота жителей суть следствие чрезвычайного зноя и нездоровости воздуха... Александрия в Нижнем Египте, славный торговый город с крепостью, построен Александром Великим и процветал при Птоломеях; прежде имел до 800.000 жителей, а ныне около 20.000... ...Вся внутренность Аравии состоит из обширных песчаных степей, пересекаемых горами Эль-Аред... Растворение воздуха чрезвычайно жаркое; здесь свирепствует самум»31.
Выражение «песчаные степи» встречается в «Трех пальмах», где ощущение пустыни дано в описании «знойных лучей и летучих песков», т. е. раскаленного воздуха и изнурительного самума:
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы...
- 687 -
Аналогичное впечатление от Египта в «Воздушном корабле»: «...под знойным песком пирамид...». В «Последнем новоселье» африканские пустыни названы «египетскими степями»...
Таковы были общие сведения по литературе, истории, археологии и географии древнего Востока, которые могла сообщить старинная школа воспитаннику Университетского пансиона, студенту словесного отделения и юнкеру кавалерийского училища Лермонтову.
IV. «ОРИЕНТАЛИИ» ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЭТОВ
Ранний ориентализм Лермонтова питался и другими источниками. Новейшая поэзия, современная литература, европейская романтика — все это могло возбуждать его интерес к Востоку и одновременно насыщать этот интерес богатым запасом образов, тем и замыслов. Лермонтов выступал в литературе, когда творения поэтов Азии уже широко вошли в европейскую лирику и продолжали свое оплодотворяющее воздействие на ее дальнейшее развитие.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. МАРЛИНСКОГО „АММАЛАТ-БЕК“
Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 163)
Институт литературы, ЛенинградВ Европе интерес к восточной литературе заметно сказывается уже в XVIII в., когда выходят переводы индийских, арабских, персидских и китайских поэтов и в европейскую поэзию вступают имена Фирдоуси и Саади. Но настоящий расцвет восточная тема получает в первые десятилетия XIX в., когда выходят «Западно-восточный диван» Гёте и «Ориенталии» Виктора Гюго. Гётевский сборник, вышедший отдельным изданием в 1819 г., возник в 1814—1815 гг. и отчасти отразил бурную атмосферу конца наполеоновской эпохи. Сотрясению европейского мира здесь противополагаются краски, ароматы и звучания дальней Азии:
- 688 -
Nord und West und Süd zersplittern,
Throne bersten, Reiche zittern,
Flüchte du, im reinen Osten
Patriarchenluft zu kosten*.Следуют строфы о караванах с мускусом и кофе, о восточных стихах. «Диван» возник под влиянием знакомства Гёте с поэзией Гафиза, творения которого вышли на немецком языке в 1812—1813 гг.; Гёте пользовался также латинским переводом Саади (в немецком издании 1775 г.), «Достопримечательностями Азии» фон Дица (Берлин и Галле, 1811—1815), анонимными «Источниками по изучению Востока» (Вена, 1809—1816) и старинным путешествием «кавалера Шардена» в Персию (Лондон — Амстердам, 1686—1735). Текст своего сборника Гёте снабдил обширными научными комментариями, которые охватывают все основные области тогдашнего востоковедения и предвосхищают многие проблемы современной науки. Гёте не только дает яркие очерки истории Ближнего Востока с древнейших до новейших времен, но излагает и историю востоковедения33. Общее знакомство Лермонтова с Гёте допускает включение и этого источника в круг его «восточных» чтений («Диван» был перепечатан в изданиях сочинений Гёте 1820 и 1827 гг., которыми мог пользоваться Лермонтов).
В конце 20-х годов выходит знаменитый сборник Гюго «Les Orientales», как бы развивающий мотивы, уже прозвучавшие в его «Балладах» (1822):
Ma sphère est l’Orient, région éclatante...**.
В предисловии к своей книге автор как бы суммирует устремления новейшей европейской поэзии к ближней и дальней Азии. Как и некоторые другие «вводные статьи» Гюго, это предисловие имело значение «манифеста», прокламирующего последнее новаторское направление современного искусства. Для понимания поэтического развития Лермонтова статья эта представляет несомненный интерес.
«В наши дни (и это обстоятельство вызвано тысячью причин, неизменно способствовавших передовому движению) занимаются Востоком более, чем когда-либо раньше. Никогда еще изучение этой части света не достигало такого развития. При Людовике XV явились эллинисты, теперь нужно быть ориенталистом. Это шаг вперед. Никогда еще столько умов не устремлялось одновременно в такую глубокую пропасть, как Азия. Мы располагаем сегодня рядом исследователей, искушенных в каждом из наречий Востока, начиная с Китая и кончая Египтом. Из этого следует, что Восток как образ и мысль стал для нашего ума и воображения предметом всеобщего увлечения, которому, быть может, без собственного ведома отдался и автор этой книги. Восточные краски сами собой пропитали все его замыслы и фантазии, которые поочередно и почти непроизвольно становились иудейскими, турецкими, греческими, персидскими, арабскими, даже испанскими, ибо Испания — это тоже Восток: ведь Испания наполовину Африка, Африка же наполовину Азия. Автор
- 689 -
покорно отдавался этой поэзии, всецело захватившей его. Хороша ли она, нет ли, он принял ее и счастлив этим. Как поэт, он, впрочем, всегда питал живейшую симпатию к восточному миру. Ему издали мерцала оттуда возвышенная поэзия. Он издавна хотел утолить свою творческую жажду у этого источника. Там все величественно, богато, изобильно, как и в средневековье, этом другом океане поэзии... Быть может, до сих пор слишком упорно относили новое время к веку Людовика XIV, а древность к Риму и Греции; но не дальше ли, не глубже ли мы будем видеть, изучая новое время в средневековье, а античность в древнем Востоке?»35.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. МАРЛИНСКОГО „АММАЛАТ-БЕК“
Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 168)
Институт литературы, ЛенинградКак доказал Дюшен, Лермонтов читал «Les Orientales» Гюго36. Французский исследователь отметил ряд совпадений в «Прощании», «Измаил-бее», «Ауле Бастунджи», даже в описательных местах «Демона» с мотивами восточного сборника Гюго; в частности «Разгневанный Дунай» мог внушить Лермонтову смелый принцип олицетворения, положенный в основу «Даров Терека» и «Спора». В результате своего обследования Дюшен склонен отдать преимущество в жанре восточной живописи нашему поэту перед В. Гюго. Группа «романтических картин» у Лермонтова являет высшую степень поэтической зрелости: «риторика в них сдержаннее, чем в „Orientales“ Гюго, в них чувствуется непосредственное видение Востока»37.
Особенный интерес представляет для нас небольшая поэма «Небесный огонь», открывающая сборник «Ориенталий». Здесь дан ряд картин древнего Востока — Египет, Аравийская пустыня, Вавилон, Содом и Гоморра, гибель библейских городов, испепеленных «небесным огнем»:
- 690 -
Aujourd’hui le palmier qui croît sur le rocher
Sent sa feuille jaunir et sa tige sécher
A cet air qui brûle et qui pèse...*.Ряд мотивов, ставших «лермонтовскими», ощущается нами в этих вариациях Гюго на ветхозаветные темы. К их стилю близок вариант известного лермонтовского перевода из Гейне:
Ей снится прекрасная пальма
В далекой восточной земле,
Растущая тихо и грустно
На жаркой песчаной скале.Здесь, очевидно, сказывается общая родственность тем и образов в романтической экзотике 30-х годов.
Другие любимцы Лермонтова в мировой и русской поэзии с неменьшим блеском развертывали аналогичные темы. Восточные поэмы Байрона и Пушкина, разработки поэтами-романтиками корана и библии, картины Сирии и Кашмира у Томаса Мура, лирико-иронические реминисценции древности у Гейне, строфы о Крыме и мавританской Испании у Мицкевича, — все это было знакомо Лермонтову и могло оказывать свое воздействие на его тематику. В ряду его возможных источников следует отметить и «Путешествие из Парижа в Иерусалим» Шатобриана (Лермонтов, как известно, знал «Атала» и ввел в свою прозу некоторые образы и сравнения Шатобриана39). Он мог знать, наконец, ряд восточных мотивов в современной русской поэзии — библейские переложения Федора Глинки («Плач пленных иудеев» и др.), подражания псалмам Языкова, «Крымские сонеты» Козлова, «Гурию» и «Фирдуси» Подолинского:
Любимый гордым властелином,
В садах Гарема ходит он,
Одеждой пышной облачен,
В чалме, увенчанной рубином40.В статье «Пушкин и поэтика русского романтизма» Г. А. Гуковский приводит ряд малоизвестных образцов «восточного стиля» в русской поэзии начала века. Таков «Сонет» А. С. Хомякова, напечатанный в «Московском Вестнике» 1830 г.:
В тени садов и стен Ески-сарая,
При блеске ламп и шуме вод живых,
Сидел султан, роскошно отдыхая
Среди толпы красавиц молодых.
Он в думах был, главою помавая,
Шумел чинар, и ветер, свеж и тих,
Меж алых роз вздыхал благоухая,
И рог луны был в сонме звезд ночных...Не менее характерны своей «местной» колоритностью «Иран» Лукьяна Якубовича или «Клятва» Ал. Т—ва (последнее стихотворение, кстати сказать, вызывает невольную ассоциацию со знаменитой клятвой лермонтовского Демона):
Клянуся Меккою священной,
Клянусь оливой и конем;
Клянуся саблей обнаженной
И ятагана острием;
- 691 -
Клянусь пророком Магометом
И гурий — райских дев приветом;
Клянусь Азра́ила стрелой,
Клянуся розы милым цветом,
.................
Услышит всякий от меня:
Иль ты ничья — иль ты моя!Если, помимо таких образцов экзотического и эротического ориентализма, принять еще во внимание библейские трагедии А. Шаховского и Петра Корсакова («Дебора», «Маккавеи»), изображающие борьбу израильского народа против тиранов, станет понятным заключение Г. Гуковского о том, что в русской поэзии начала XIX столетия «восточный стиль стал стилем свободы» и сложившийся к этому времени в лирике и драматургии суммарный образ Востока «имел характер лозунга борьбы нации против тирании»41. Это направление следует учитывать и для понимания лермонтовского ориентализма.
Но уже задолго до знакомства Лермонтова с новейшими «Ориенталиями» его поэзия была тесно связана с Востоком, который стал ему близок и дорог в детстве по его первым кавказским впечатлениям. Уже в 1829 г. пятнадцатилетний Лермонтов делает приписку к своей «Грузинской песне»: «Слышано мною что-то подобное на Кавказе». А в полном расцвете своих сил он отмечает, что самый любимый и выразительный символ его поэзии, отчеканенный в знаменитом стихотворении 1838 г., — «клинок надежный, без порока» — неизменно хранит
...таинственный закал, —
Наследье бранного востока.«Птенцы Саади» или «восточные краснобаи», как называл их Пушкин, действительно сообщили несокрушимый закал своего творческого слова «железному» стиху Лермонтова.
V. КАВКАЗ И ОБРАЗ ПРОМЕТЕЯ
Разъезды замечательно служили Лермонтову для обогащения его эрудиции поэта-ориенталиста. Знаток современного быта Грузии, Дагестана, Чечни, Кабарды, которые стали местом действия его баллад и «южных поэм», он знал и песенную старину этого «сурового края свободы». Легенды Дарьяльского ущелья и черкесские песни его героев свидетельствуют о близком знакомстве автора с богатым фольклором кавказских народов, непосредственно изученным поэтом в его скитаниях. Он объездил и обошел, по его собственному свидетельству, огромный район — «от Кизляра до Тамани, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское...». Достаточно известно, что старый чеченец, водивший его по горным уступам Кавказского хребта, рассказал ему повесть об Измаил-бее, а в Мцхете горец-монах, некогда взятый в плен Ермоловым, сообщил поэту историю своей подневольной иноческой жизни, послужившей темой «Мцыри».
Первый биограф Лермонтова, П. Висковатов, объехавший Кавказ, пришел к заключению, что в «Демоне» отражены легенды и поверья старой Военно-Грузинской дороги. Окрестности полны сказаний о злом духе, полюбившем девушку-грузинку. На правом берегу Арагвы находятся
- 692 -
развалины монастыря, куда Гудал отвел свою неутешную дочку. Близ перевала над Койшаурской долиной осетины показывают пещеру, где был прикован горный дух; Лермонтов вспоминает стоны этого сказочного пленника, описывая рыдания Тамары. На вершине Казбека во льдах высится неприступная часовня — место последнего успокоения лермонтовской героини. В специальной исследовательской литературе широко разработана тема о связи баллады «Тамара» («В глубокой теснине Дарьяла...») с грузинскими легендами о мифической княжне Дарье и исторической царице Тамаре. Наконец, совсем недавно было указано, что на сцену битвы Мцыри с барсом «Лермонтова вдохновила старинная хевсурская песня о тигре и юноше — одно из наиболее распространенных и любимых в Грузии произведений народной поэзии»42.
Отсюда такая конкретность и жизненность кавказских описаний Лермонтова, одинаково поражающих обилием верных этнографических подробностей и смелой обрисовкой характеров. Боевое снаряжение черкеса в «Ауле Бастунджи» или «черный шелк витого кушака» на стане его подруги описаны с такой же точностью, как и новые народные типы: неустрашимые джигиты и лукавые муллы, заклинающие темным стихом из алкорана, поводыри-чеченцы, хранящие предания старины, и девушки-грузинки, поющие песни под аккомпанемент своих звонких ладоней. Лермонтов сумел запечатлеть во всем их динамизме и дикую скачку Хаджи Абрека, и плавную пляску Тамары. В своем «Свиданье» он показал драму ревности и мести на фоне старого Тифлиса, где под вечер грузинки в чадрах «выходят цепью белою» из бань. Но не до них измученному ревностью: «Кинжалом в нетерпении изрезал я ковер...». Мысленно он угрожает предательнице:
Я знаю, чем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал как бешеный
Татарин молодой.
Не даром он красуется
Перед твоим окном,
И твой отец любуется
Персидским жеребцом.Стихи поразительны по своему страстному драматизму и яркой локальной колоритности. Из таких беглых и четких зарисовок черты бытового жанра невидимо вплетаются в характерные психологические конфликты, выступает внутренний облик горных племен: их гордость, неустрашимость, верность долгу, страстная любовь к свободе, тонкая художественная одаренность — яркое искусство красок, песен и плясок на фоне чудесной природы.
Верный своей склонности к углубленному изучению заинтересовавшей его области, Лермонтов и здесь, видимо, обращался к истории, археологии, фольклору: «насколько можно судить по произведениям и сохранившимся письмам поэта, он читал сочинения по истории и географии Востока... интересовался древними памятниками Грузии, народными преданиями и легендами, в том числе легендой о Прометее в прообразе Амирани»43. Лермонтову уже была доступна обширная литература по кавказоведению — путешествия и исследования Клапрота, Броссе, Дюбуа де Монпере, Броневского, Зубова, Корфа, Нордмана, Усова, ряд журнальных статей, например «О языках страны кавказской» («Вестник Европы» 1828, ч. 158, № 7), краткая записка о горских народах, живущих внутри Кавказской
- 693 -
губернии («Северный Архив» 1826, ч. 22, № 13), «Страбоновы известия о Кавказе и Южной России» («Библиотека для Чтения» 1838, XXX). Сквозь рассказы путешественников, сквозь быт и чарующее искусство Кавказа Лермонтову мерцала древняя поэзия его любимого края. Кавказ мифологический навевал ему свои образы и фантазии. Легендарный герой, прикованный к кавказской скале, стал рано привлекать внимание поэта и, видимо, творчески волновать его44. Если упоминание античного богоборца в письме 1828 г. к Шан-Гирей из Благородного пансиона еще не дает материала для выводов, по-иному воспринимаются более поздние высказывания поэта — в его романе 1832 г.: «Вадим ехал скоро — и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце». Или в «Измаил-бее» строфа о душевных мучениях:
Века печали стоят тех минут...
.....................
Но мощный ум, крепясь и каменея,
Их превращает в пытку Прометея!
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ФОРЗАЦ „АРАБСКОЙ ХРИСТОМАТИИ“ А. БОЛДЫРЕВА
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА, 1824 г.
Библиотека Московского Государственного университета, МоскваОбраз скованного Прометея своеобразно преломился в центральных героях Лермонтова — Демоне, Печорине, Арбенине. Он мог знать разработки мифа у Эсхила и Гёте. Отметим, что в московской университетской библиотеке того времени имелось лейпцигское издание Эсхила: «Aeschile Tragoediae, Editio stereotypa, Lipsiae», 182945. Стихи Гёте, как известно, Лермонтов переводил («Горные вершины»), имя героини Вильгельма Мейстера, «гётевой Миньоны», он упоминает в «Тамани», Вертера
- 694 -
он противопоставлял героям Руссо как образ более человечный и жизненный; один фрагмент из «Страданий молодого Вертера» Лермонтов, как известно, переложил в своем стихотворении «Завещание»46. В эсхиловском Прометее на первый план выступает протестующий мыслитель, гордый и независимый борец, стремящийся освободить страдающее человечество от порабощенности богам и силам природы; ремесла, судоходство, наука чисел и букв, творческая память — вот что призвано освободить людей от оков. В похитителе священного огня Эсхил «зажег яркий и чистый огонь воодушевления, человечности, любви к свободе и ненависти к тирании»47. По-иному толкует Прометея Гёте. В его драматической поэме герой противопоставляет ограниченной власти богов свою безграничную творческую волю художника, преодолевающего в блаженстве вдохновения величайшую скорбь жизни. Заключительный монолог гётевской драмы как бы возвещает бунтарские мотивы лермонтовской лирики. Прометей в своей мастерской ваятеля бросает вызов Зевсу:
Мне тебя чтить? За что?
Боль улегчил ли когда
Ты страдальца болящего?
Слезы отер ли когда
Безутешно скорбящего?..
А я вот здесь сижу, людей ваяю,
По образу ваяю моему
Род, мне подобный, —
Страдать, скорбеть,
Усладу знать и радость,
О тебе ж и не думать,
Как я.48Начало «прометеизма», которым так проникнуто творчество Лермонтова, могло получить новое углубление от его соприкосновения с поэзией кавказских народов. «С тех пор, как легенда о Прометее подверглась впервые литературной обработке у Гезиода, прошло двадцать шесть веков, но она все еще могущественно действует на человечество. Прометей — один из немногих его избранников, сочувствие к которым сопутствует мировой истории, — и, благодаря тому, что еще в отдаленной древности греческий миф о нем слился с преданиями народностей Кавказа о скованных титанах-страдальцах, во множестве вариаций повторялась повсюду, как нечто неизбежное, завещанное веками, именно кавказская обстановка мучений титана. На почве локализации предания сближаются такие крайности человеческого творчества, как кабардинские, осетинские или иные поверья и народные сказки о скованном навеки богатыре и просветленные гуманною мыслью художественные произведения Эсхила и Байрона. Поразительная особенность Кавказа, которую можно бы назвать бессмертием народной памяти или поэтическим консерватизмом, — умение в течение тысячелетий сберегать то, что некогда поразило народный ум или воображение, и, точно схоронив его в глубине своих ущелий, за твердыней гор, неприкосновенно передать позднейшему потомству, — ставит и теперь лицом к лицу в мировой литературе обе эти противоположности, показывая в кавказских сказаниях, чем был в незапамятную пору первообраз предания, тогда как западно-европейская стихия отвечает и в новейшее время разнообразными примерами того, во что могут превратить несложную легендарную основу поэзия и мысль под глубоким культурно-историческим влиянием. Амиран,
- 695 -
о котором не перестают вспоминать грузин, абхазец, осетин, и проникнутые идеями XIX века Прометей и Прометиды стоят на двух концах эволюции мифа, — и в то же время они современники»49.
Веселовский приводит многочисленные и различные версии о богатыре-узнике, сохранившиеся в грузинских, армянских, кабардинских, сванетских сказаниях, в поэме XI—XII в. о Давиде Сасунском. Среди этих легенд о злом гении имеется также версия о прикованном богатыре, объяснявшая его страдания мученичеством за народное благо, за справедливость, за права людей. Его отвага и дерзость по отношению к божеству получают характер заступничества за человечество, «богоборство» становится героизмом. «В таких проблесках положительного понимания личности и судьбы титана заметно соединительное звено между кавказскими сказаниями и эллинским мифом о Прометее, похитителе священного огня ради блага людского»50.
Не лишено интереса, что миф о Прометее увлек еще на школьной скамье Байрона: «Когда в колледже Гарроу перед учениками впервые прозвучали стихи Эсхиловой трагедии, Байрон был потрясен величавою личностью ничем не укротимого титана. Это раннее впечатление сохранилось у него навсегда. Впоследствии, когда критика нашла в зрелых его произведениях, например, в „Манфреде“, следы влияния пьесы Эсхила, он не только не отрицал возможности его, но заявил, что „легко может представить себе влияние этой трагедии на все, что когда-либо он написал“. В личности и судьбе Прометея он чувствовал созвучие с своим призванием, со своею участью». В Женеве в 1816 г. под влиянием чтения Эсхила поэтом Шелли Байрон пишет стихотворение «Prometheus», в котором выражает свое поклонение великому предшественнику всех борцов за права человечества. «Байроновский почин слияния античной легенды с современною социально-политическою жизнью, сделанный в начале XIX в., указал путь всей последующей поэзии»51. По этому пути пошли Шелли, Леопарди и, наконец, наш Лермонтов, прикоснувшийся в своих странствиях по Востоку к самым истокам трагического мифа.
Ужасна ты, гора Шайтан,
Пустыни старый великан!
Тебя злой дух, гласит преданье,
Построил дерзостной рукой,
Чтоб хоть на миг свое изгнанье
Забыть меж небом и землей.
Здесь три столетья, очарован,
Он тяжкой цепью был прикован,
Когда, надменный, с новых скал
Стрелой Пророку угрожал...Так в своей ранней поэме Лермонтов дает поэтическую вариацию на древнее предание Кавказа о скованном и мятежном титане.
VI. ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ
Рост ориентальной поэтической тематики в эпоху Байрона и Пушкина стимулировался современным движением исторической науки и заметно оживлялся ростом этнографических изучений и географических описаний. В результате экспедиций и раскопок создается довольно обширная литература о Востоке, частично несомненно знакомая Лермонтову. В исследованиях, путешествиях и мемуарах подробно разрабатываются материалы
- 696 -
египетской экспедиции Бонапарта. На французском, немецком и английском языках появляются описания Верхнего и Нижнего Египта, Сирии, Турции. С начала XIX в. и на русском языке начинают публиковаться работы, посвященные различным странам Востока: «Путешествие в Индию грузинского дворянина Рафаила Данибегова» (М., 1815); «Записки о некоторых народах и землях Средней Азии Филиппа Назарова, отдельного сибирского корпуса переводчика, посланного в Коканд в 1813 и 1814 гг.» (Спб., 1821); «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг. гвардейского генерального штаба капитана Н. Муравьева» (М., 1822); «Описание киргизкайсацких степей» Левшина (М., 1830); «Путешествие по Египту и Нубии в 1834—1835 гг.» Авраама Норова (Спб., 1840) — по отзыву Сенковского, — «одно из лучших путешествий по Египту, изданных в Европе за последнее десятилетие» (отзыв об этой книге появился в «Библиотеке для Чтения» в одном томе с рецензией на «Стихотворения Лермонтова»).
Журнал, в котором дебютировал Лермонтов, был вообще чрезвычайно богат материалами по Востоку. Редактор-ориенталист Сенковский освещал на страницах своего издания самые разнообразные вопросы современного востоковедения. Здесь были опубликованы «Очерки Персии» Корфа, «Описания Российской Армении» Клапрота, «Аму-Дарья» самого Сенковского, статья о «Лекциях профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира», «Кавказские очерки» А. Марлинского; печатались обстоятельные отчеты о новейших «путевых записках» по странам Азии и Африки — «Путешествие Комба и Тамизие по Абиссинии», «Путешествие шерифа Махаммеда в Судан», «Новейшие сведения об экспедиции Ландера в глубь Африки», «Путешествия лейтенанта Вельстеда по Аравии и к берегам Черного моря»; давались отчеты о современном состоянии и политической жизни восточных стран: «Иерусалим в 1831 году», «Англия и Китай», «Египет в 1833 г.», «Япония», «Английская восточная Индия», «Ренджит-син, царь Лагорский и Кашмирский», «Аудиенция европейского путешественника у азиатского паши». Наконец, печатался ряд статей по истории, искусствам и быту древнего Востока: «Бальзамирование у древних египтян», «Науки, художества и искусство в древней Индии», «Астрономические розыскания о хронологии египтян», «Древние египетские картины», «Подлинная история древних царей персидских» и ряд других.
Отметим, что и в «Отечественных Записках» 1839—1841 гг., где постоянно печатался Лермонтов, помещались подробные обзоры путешествий по Востоку. В томе III журнала за 1839 г. даны рецензии на «Путевые записки, веденные во время пребывания на Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году Вл. Давыдовым» (Спб., 1839), «Живописное путешествие по Азии» Эйрие (М., 1839), «Путешествие через южную Россию в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку» Н. С. Всеволожского (М., 1839). Такие обзоры, несомненно, входили в читательский кругозор Лермонтова и не переставали расширять его эрудицию по Востоку.
Для характеристики общих интересов Лермонтова к Индии, Аравии и Персии (куда стремится его Печорин), к Средней Азии (куда несколько позже он сам собирался отправиться с Хивинской экспедицией Перовского), к вопросу о «глубоком сне» восточных цивилизаций (что получило такое яркое выражение в его «Споре»), наконец, и к напряженному
- 697 -
соревнованию по «восточному вопросу» великих европейских держав, которое не могло не волновать его как военного, представляет значительный интерес статья «Библиотеки для Чтения» под заглавием «Средняя Азия. Путешествия Муравьева, Мейендорфа, Конолли и Борнса». В ней завязаны узлы основных проблем современного востоковедения и борьбы за господство в Индии и Египте.
«Политическое и общественное состояние Средней Азии, остававшееся в небрежении со времен Марко Поло и Рубрукиса, с недавних пор обратило на себя то внимание, какого оно заслуживает по своей важности». Сенковский формулирует проблему соревнования России и Англии в этой области (к чему мы еще вернемся) и подчеркивает крупнейший интерес, какой представляют для русского читателя новейшие путешествия на Восток двух английских военных: Александра Борнса «Путешествие в Бухару и отчет о плавании по Инду и о переезде из Индии в Кабул, Татарию и Персию» и Артура Конолли «Путешествие на север Индии». Из последнего сочинения журнал печатает эпизод охоты за гиеной в афганских улусах.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ТОМА КНИГИ
Ж. ГАМБЫ „ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЮЖНОЙ РОССИИ“, 1826 г.
Государственная библиотека СССР
им. Ленина, МоскваЛермонтову, при его отличном знании иностранных языков, была широко доступна и западно-европейская литература путешествий по Востоку. С конца XVIII в. появляются «историко-политические и географические мемуары» о поездках в Турцию, Персию, Аравию, Египет, в глубь Африки и по Черноморью целого ряда странствующих исследователей и ученых туристов. Савари, Санини, Левайян, Лешевалье, Эльфинстон, Борнс, Конолли публикуют свои путевые описания Индии, Бухары, Афганистана,
- 698 -
Египта, Кавказа. В ряду этих книг особый интерес представляют для нас путевые записки француза Ж.-Ф. Гамбы, поскольку сам Лермонтов ссылается на них; упоминая в «Герое нашего времени» Крестовую гору, он отмечает: «...как называет ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe». Поэт имеет в виду книгу «Voyage dans la Russie Méridionale, et particulièrement dans les provinces situées au-delà du Caucase, fait depuis 1820 jusqu’en 1824; par le chevalier Gamba, consul du roi à Tiflis. Avec quatre cartes géographiques (2 vol. + un Atlas). A Paris, 1826». («Путешествие в Южную Россию и в частности в провинции, расположенные в Закавказье, совершенное с 1820 по 1824 год кавалером Гамба, королевским консулом в Тифлисе. С четырьмя географическими картами. Париж, 1826; (два тома + отдельный атлас с картами, зарисовками и пр.).
Жак-Франсуа Гамба, или «кавалер Гамба», как он любил подписывать свои сочинения, был французским коммерсантом и путешественником, окончившим жизнь на посту консула в Тифлисе (в 1833 г.). Получивший образование в Германии, где он изучил ряд языков «северных стран», Гамба воротился на свою родину, в Дюнкерк, и стал во главе коммерческого предприятия своего отца. Одновременно он построил в Вогёзах несколько крупных бумажных фабрик. События революционной эпохи заставили его отказаться от коммерческой деятельности и обратили к путешествиям. Объездив большую часть Европы, он опубликовал ряд брошюр о своих поездках, а в 1817 г. представил правительству мемуар о торговле европейских стран с Индией и другими областями Азии. Являвшийся тогда французским министром иностранных дел герцог Ришельё, известный строитель Одессы и знаток Южной России, направил Гамбу в Новороссию для выяснения вопроса о возможных торговых отношениях Франции с портами Черноморского побережья. Гамба совершил длительное путешествие; он жил в Одессе, Николаеве, Херсоне, посетил немецкие, меннонитские, татарские и греческие колонии, останавливался в Таганроге, Нахичевани и Новочеркасске, посетил прежнюю столицу донских казаков — Старый Черкасск, эту «подлинную Венецию среди вод» (по его выражению), побывал в Астрахани, которая поразила его смешением всех народностей Европы и Азии, и затем прикаспийскими песчаными пустынями добрался до устья Терека. Отсюда его маршрут шел по линии Кизляр, Моздок, Тамань, Еникале, Керчь, Феодосия, Симферополь, Одесса, откуда он отправился в обратный путь на родину. Вернувшись в Париж, он опубликовал часть своих путевых записок в новых «Анналах путешествий» Мальт-Брюна под общим заглавием: «Взгляд французского путешественника на южно-русские колонии». В 1819 г. Гамба вернулся в Грузию, которую Ришельё признал центральным узловым пунктом товарообмена Европы с Азией, а затем посетил Ширван, Дагестан, Москву и Петербург, где ему удалось убедить русское правительство предоставить широкие льготы иностранцам в Грузии. Для открывшейся обширной торговли с Индией и Персией Франция основала консульство в Тифлисе, поставив во главе его «кавалера Гамбу». В 1824 г. он совершил свою последнюю поездку в Париж и сдал в печать большое сочинение о Южной России (здесь, как известно, приведено предание о Дарьяльском замке, с высоты которого его средневековая владетельница бросала в Терек своих любовников).
«Сей остроумный и предприимчивый путешественник», как характеризует Гамбу «Северный Архив»52, ставит в своей книге вопрос о будущей
- 699 -
судьбе огромной территории «древнего Востока» от Средиземного и Черного морей до Инда: Турция, Персия, Грузия, Средняя Азия погрузились в состояние полного упадка; частью их земель уже владеет «русский император», который сможет в любую минуту покорить все среднеазиатские владения. Такова основная тема «Вступления» Гамбы, в которой не трудно заметить общий абрис «Спора»: Лермонтов дает в своих строфах очерк той же страны света — «Востока», также отмечая его упадок и бездеятельность, обрекающие его на милость русского оружия.
КАВКАЗСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Рисунок из атласа к книге Ж. Гамбы „Путешествие по Южной России“, 1826 г.
Государственная библиотека СССР им. Ленина, МоскваОдна из главных мыслей лермонтовского «Спора» — о непробудном сне восточных народов — как бы подводит в образах и картинах итог научным изысканиям двух столетий.
Уже в XVII в. в исследовательской литературе отчетливо формулируется положение об упадке и отсталости Востока сравнительно с успехами европейской культуры. В начале XVIII в. мысль эта подробно обоснована в труде французского путешественника Франсуа Бернье, натуралиста и медика, ставшего в Индии придворным врачом «великого могола» Ауренгзиба. Помимо Индии, Бернье странствовал по Сирии и Египту, собрав обширный материал для большого исследования, выпущенного им в 1711 г. в Амстердаме53. Здесь опубликован его доклад Кольберу о причинах упадка восточных стран — Египта, Индии, Передней Азии. Ту же мысль разрабатывает в конце XVIII в. другой французский автор, Франсуа Вольней, издавший в Париже свое «Путешествие в Сирию и Египет» (1783—1786)54. Вольней приходился родственником Виктору Гюго, который пользовался его «Путешествием» при написании своих «Orientales».
- 700 -
Этого раннего египтолога особенно интересует экономический и культурный упадок мусульманского Востока, который объясняется, по его мнению, дурным управлением и вредным влиянием ислама на народную психологию.
Материалами Вольнея пользуются и авторы «Проекта Азиатской Академии», отчетливо выдвигая тезис о полной пассивности восточных наций вне сферы фантазии и поэзии.
«До сих пор для восточных народов высшее счастье — сохранять совершенную неподвижность тела и давать полную свободу своему окрыленному и цветущему воображению. Араб в шатре пустыни еще приподнимает свою живописную голову, чтоб слушать говор сказочника. Он воспевает в жалобе память своего любимого скакуна. Его сопровождают воспоминания об отцах и предания их славы; и воинственный, подобно им, он только перестал быть завоевателем. Если персы не поклоняются ныне солнцу, они еще заимствуют у него жгучее сладострастие своей поэзии... Китай, чрезмерно возвеличенный и столько же осужденный, представляет странное зрелище народа покоренного, но подчинившего себе своих завоевателей и сохранившего в вихре столетий свою неподвижность».
Для иллюстрации этой мысли об оцепенении восточных стран приводится бытовое описание из «Путешествия по Египту и Сирии» Вольнея: «В самых оживленных городах, как Алеппо, Дамаск, Каир, все развлечения сводятся к посещению бань и кофеен, нисколько не похожих на наши. В большом дымном помещении, усевшись на разодранных цыновках, зажиточные люди проводят целые дни, куря трубку, перебрасываясь редкими краткими фразами о делах, а чаще всего погружаясь в полное молчание. Иногда эти безмолвные собрания оживляют танцовщицы, певец или один из рассказчиков, которого называют здесь нашидом: за несколько parâs он рассказывает сказку или декламирует стихи старинного поэта. Ничто не может сравниться с вниманием слушателей к такому оратору; стар и мал — здесь все охвачены предельной страстью к рассказам»55.
Учение тогдашних ориенталистов о своеобразном «декадансе» старой Азии нашло свое сжатое и выпуклое выражение в синтетических образах «Спора».
VII. СУМЕРКИ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР
Образность и красочность описания у Лермонтова нисколько не заслоняют планомерной точности географического обзора: перед нами развертывается центральный театр древневосточной цивилизации — Кавказ, Иран, Палестина, Аравия, Египет. В калейдоскопе картин показана судьба древних империй — их упадок, сумерки, дремотность. Лермонтов знал о «золотом веке» Грузии в XII столетии, при царице Тамаре, подчинившей своей власти ряд персидских провинций и покорившей своими чарами самого Шота Руставели; то был век воинской мощи, щедрого строительства замков и монастырей, блестящей национальной героики; деятелям этой могучей эпохи противопоставлен образ дремлющей страны, покорившейся в 1801 г. царизму. Такова же судьба соседствующих с ней областей. Персия, простиравшаяся до пределов Индии, вбиравшая в свои владения при Надир-шахе Бухару, Хиву, Белуджистан, замкнулась в своих внутренних провинциях, без воли к росту и борьбе. Могучий
- 701 -
древний Египет с его завоевательными походами и грандиозными сооружениями, с его величественным монументальным и декоративным искусством, лишенный творческой энергии своего прославленного прошлого, стал предметом вожделений новых колониальных держав. Следует строфа, допускающая различные географические толкования:
Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна...
КАВКАЗСКИЕ ТИПЫ
Рисунок из атласа к книге Ж. Гамбы „Путешествие по Южной России“, 1826 г.
Государственная библиотека СССР им. Ленина, МоскваНазванный здесь город естественно обращает мысль к Палестине, но такое обычное толкование следует несколько расширить. Палестина, лишь в некоторых частях «пустынная», славилась своей тропической растительностью, плодородными равнинами, богатейшей фауной, тучными пастбищами, виноградниками и апельсиновыми рощами, чем и оправдывались ее легендарные прозвания «страны обетованной», «текущей млеком и медом». То, что Лермонтову были хорошо знакомы эти свойства библейской страны, свидетельствует его «Ветка Палестины», где дан очерк живописного края с холмами, долинами, широколиственными кронами пальм, прохладными ливанскими вершинами и «чистыми водами Иордана». Речь в занимающей нас строфе «Спора», очевидно, идет и об Аравии (Палестина здесь названа мимоходом — в упоминании ее исторического центра). Именно на это указывает окончательный вариант: первоначальное «вокруг Ерусалима»
- 702 -
отменяется, так как Сирия и Палестина не подходят под определение выжженных, «мертвых стран», безглагольных и недвижимых; поэт имеет в виду пустынные пространства, описанные в «Трех пальмах»: «В песчаных степях аравийской земли...». Окончательный вариант «у ног Ерусалима» правильно указывает, что на юг от этого города тянется пустыня Нефуд, а еще южнее — пустыня Дахан, поистине «сожженные богом». В историческом обзоре древнего Востока странно было бы опустить богатое Аравийское царство с его цветущей культурой, пышностью и блеском, низведенное в XIX в. к плачевному прозябанию под властью бесчисленных завоевателей56.
Новейшие изыскания вполне подтверждают правильность лермонтовской картины распада «многолюдного и могучего Востока».
«Разложение Османской империи вызвало в XVIII веке глубокий упадок ее культуры. Арабская литература, выдвинувшая в средние века ряд замечательных ученых, поэтов, историков, географов и философов, теперь влачила жалкое существование. Такой же упадок испытывала турецкая литература. Если в XVII веке в Турции были выдающиеся поэты, историографы, публицисты и сатирики, горячо обсуждавшие общественные и политические проблемы, то XVIII век ознаменовался упадком всех видов турецкого литературного творчества. Турецкая архитектура, достигшая высокого расцвета в XIV—XVII веках, также клонилась к упадку. Религия налагала свой отпечаток на быт, узаконяла многие гнусные обычаи средневековья, в частности бесправие женщин, их заточение в гаремах и чадру... На рубеже XVII и XVIII веков начался территориальный распад Османской империи, обусловленный ее экономическим упадком, разложением ее общественного строя»57.
Напомним, что в XVIII в. Турции принадлежали север Африки с Алжиром и Египтом, аравийское побережье Красного моря, все Черноморье — т. е. почти вся та территория, обзор которой дает Лермонтов в своем «Споре».
В монологе Казбека назван также Тегеран, разделявший в то время участь могущественной некогда империи османов: «Общественно-экономическая отсталость нашла свое отражение в общем упадке культуры в Иране и в частности в упадке иранской литературы. В средние века иранская культура дала таких великих мыслителей и поэтов, как Фирдоуси, Саади, Гафиз, Джами, и многих других. Влияние иранских поэтов, зодчих и художников сказалось далеко за пределами страны: оно распространилось на Кавказ и Малую Азию, на Среднюю Азию и Индостан. Но в XVIII в. Иран не дал ни одного значительного имени как в области философии, так и в области литературы и изящных искусств»58.
Уверенность и точность лермонтовского изображения объясняются осведомленностью поэта в культурной и бытовой истории обрисованных им стран. С тонким знанием вопроса он отмечает среди общего упадка Востока неиссякающую струю народной поэзии: бедуин продолжает воспевать подвиги славных предков.
В современной журналистике Лермонтов мог найти ряд сведений о кочевых поэтах-арабах, столь пластично изображенных им в «Споре». В большой статье «Поэзия пустыни или поэзия аравитян до Магомета», в которой Сенковский анализирует два новейших исследования по культуре арабов: «Lettres sur l’histoire des Arabes» Френеля и «Die Poesie der Araber» Вейля, он дает живую характеристику стихотворцев пустыни: «Первые
- 703 -
арабские поэты были простые кочевые бедуины (подчеркивает Сенковский); бо̀льшая часть кочевых племен грамотна, имеет книги, литературу и не чужда даже искусств... Бедуин — стихотворец от природы и по превосходству импровизатор». Сенковский ссылается на опыт своих личных наблюдений: «Те, которые бывали в улусах арабов Аназе и хорошо знают их язык, могут засвидетельствовать, что и теперь, при всем унижении бедуинов, встречаются у них маленькие, оборванные или совсем голые гении, которые на всякий вопрос ваш отвечают двустишием. Если вспомним всю трудность правил арабского стихосложения, до сих пор совершенно эллинического, основанного на точной просодии слогов, и притом сопряженного с условным окончанием слов, чуждым языку разговорному, то этот дар импровизации в неученых юношах покажется почти чудом, и мы легко поймем, почему арабские писатели всегда ему так сильно удивлялись и с таким удовольствием приводят стихи, слышанные от степных Саннафров и Коринн. И до сих пор бедуины с презрением отзываются о стихах оседлых аравитян, утверждая, что горожане неспособны к поэзии»59.
Высокая культура ритмической речи еще чудом сохранилась среди нищеты и унижений, в какие погружена современная Аравия. Эта тема об упадке арабской культуры становилась в то время общим достоянием поэтов. Почти одновременно с написанием «Спора» и накануне его напечатания появляется в «Библиотеке для Чтения» стихотворение «Бедуин» (подписанное Л—в). На вопрос: «Не снова ли будет из стран Алжезира / Властитель Багдада светильником мира?» — поэт дает отрицательный ответ: «...смолкла слава халифата»; «Арабов сила позабыта, Гарунов время протекло»; «Чертог Альгамбры золотой / Стоит безмолвный и пустой»; свободные бедуины стали грозой караванов60.
Ту же основную мысль о кризисе и «сумерках» великих цивилизаций древности Лермонтов нашел и в путевых записях Ж.-Ф. Гамбы. «Странное зрелище представляет древнейшая область мировой цивилизации, колыбель человеческого рода, место расположения первых известных нам империй, обширная часть земного шара, имеющая своими границами Средиземное море, южное и восточное побережья Черного моря до устья Кубани, Кавказ, Каспийское море, пустыню к северу от Бухары до истоков Инда, правый берег этой реки до ее впадения в море, Индийский океан с его побережьем, Персидский залив до устья Евфрата, пустыню, ведущую к Суэцкому перешейку, и, наконец, восточный берег Средиземного моря до Дарданелл.
С одной стороны, Турция, долго покоившаяся на развалинах Ассирии, Иудеи, Сирии, Понта и Армении, попирающая своей пятой землю, прославленную Семирамидой, Селевкидами, Митридатом и другими великими властителями, в свою очередь распадается под игом своих самовластных пашей, истощенная внутренними раздорами, финансовым расстройством и своим фанатическим невежеством.
С другой стороны — древнее Персидское царство, видевшее исчезновение владычества мидян и парфян и многих прославленных династий, присутствует теперь при постепенном падении своего могущества благодаря росту кочующих орд и действиям своего правительства, чьи принципы и методы управления страной противоречат интересам как властителей, так и народа; тому же способствует его соприкосновение с двумя единственными грозными властелинами Азии — Англией и Россией; на восток
- 704 -
от Персии оторванный от нее Кабул лишается ныне своих богатейших областей, отходящих у Инда к шейхам Раджи Синга, у Индийского океана — к восставшему Белуджистану.
И, наконец, вся Средняя Азия, где была расположена Бактриана и столица безбрежных владений Тамерлана, откуда вышли едва ли не все завоеватели Индии, разделенная теперь на мелкие ханства, обладает весьма хрупким существованием...
Сохранит ли навсегда Европа безразличие к настоящему состоянию и к будущей судьбе этой прекрасной части Азии? Безвозвратно ли осуждена эта прославленная земля оставаться ареной кровавых опустошений и бесчисленных преступлений?..»61.
Такими многозначительными вопросами, обращенными к европейским политикам, заканчивает Гамба свое изучение «древнейшей области мировой цивилизации», погрузившейся в глубочайшую летаргию. Лермонтов переключает эти размышления ученого путешественника в план своих чудесных поэтических видений; очерку экономической географии Гамбы противопоставлена беседа двух горных колоссов Кавказа, как бы развертывающих сухую аргументацию коммерческого консула в картины поразительной живописности и чарующего пластицизма. Беспомощный Восток, обреченно принимающий неуклонное наступление русского оружия, выступает здесь во всем богатстве своей полихромной узорности. Колоритной статике его омертвелого быта противопоставлено бодрое и стремительное движение регулярных войск с волнующей динамикой их знамен, доломанов, султанов и ярко расцвеченных батальонов. Но здесь поэт-созерцатель и живописец отходит на второй план уступает место Лермонтову-баталисту.
VIII. ВОЙНА НА ВОСТОКЕ
«Я буду к тебе писать про страну чудес — Восток, — сообщает Лермонтов С. Раевскому перед своим отъездом в 1837 г. на Кавказ. — Меня утешают словами Наполеона: „Les grands noms se font à l’Orient“». A с Кавказа к концу года он сообщает тому же корреспонденту: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой; а, право, я расположен к этому образу жизни»62.
Мы видим, что Лермонтова к концу 1837 г. начинают привлекать ученые путешествия, связанные для него, по роду его деятельности, с военными походами. С конца XVIII в. завоевательные кампании приобретают подчас и некоторый исследовательский характер, тесно связанный с успешным выполнением колонизационных целей; такие «культурные» задачи выдвигает уже в 1797 г. правительство республиканской Франции, приступая к осуществлению грандиозного плана борьбы с Великобританией в Африке. Когда Талейран и Бонапарт убедили Директорию, что «для сокрушения Англии французам нужен Египет», был разработан обширный проект военной экспедиции с полным учетом ее научного значения. «Я вижу там неисчерпаемые источники для нашей торговли и подлинное сокровище для наук», — заявил Талейран прусскому послу. Директория
- 705 -
придает предстоящей кампании наряду с политическими целями и культурно-исторический характер: недостаточно нанести сокрушительный удар Англии, завладев лучшим путем в Индию, — необходимо создать цветущую колонию для разработки неистощимых богатств египетской почвы и одновременно подготовить научное обследование древнего и нового Египта. Центр предприятия, по заявлениям его инициаторов, не столько в завоевательной операции, сколько в открытии новых источников для будущего роста человеческой культуры.
Но каковы бы ни были подлинные цели политиков, руководивших египетской экспедицией, несомненным фактом остается ее широкая научная организованность. В распоряжение главнокомандующего экспедиционной армии генерала Бонапарта предоставляется особый «генеральный штаб ученых» из ста двадцати двух исследователей, инженеров, художников. Среди них Монж, Бертоле, Жофруа Сент-Илер. К ним присоединяются студенты политехнической школы («экспедиция обещает быть научной не в меньшей степени, чем военной», — замечает один из политехников). Особый корабль был предназначен для переправы научных инструментов; он был захвачен англичанами, но это не остановило работ ученой экспедиции: инженер Контэ, способный, по выражению Наполеона, «воссоздать французское искусство среди аравийских пустынь», быстро восстановил ряд утраченных оптических приборов, хирургических инструментов, машин для дубления кож; он установил воздушный телеграф, открыл фабрики сукна, бумаги, пороха. Ученые разработали план прорытия канала между Средиземным и Красным морями (послуживший впоследствии Лессепсу), подготовили материал для точной географической карты Европы, собрали ряд сведений об этнографическом составе, быте, нравах, управлении, медицине, естественных богатствах, художественных памятниках, искусстве, агрикультуре и промышленности страны. Основы для египтологии были заложены прочно, развалины Мемфиса, Фив, Гелиополиса, Абидоса тщательно изучены, описаны и зарисованы. Современный Египет был сопоставлен с Египтом Рамзеса, страна мамелюков — с древней цивилизацией фараонов. И, наконец, в результате этих неутомимых разысканий и напряженных трудов маленькая прямоугольная плита из черного гранита с греческими, иероглифическими и демотическими63 письменами, найденная в Розетте в августе 1799 г. офицером французских инженерных войск Бушаром, послужила позднейшему великому открытию, положившему началом новой эры в развитии египтологии: ученик Сильвестра де Саси Шамполион-младший расшифровал в 1822 г. иероглифы64.
Лермонтову, окончившему специальное военно-учебное заведение, такие новые задачи войны были хорошо знакомы. Покорение восточных народов невозможно без изучения их истории, быта, языка. Если Лермонтов, попав в 1837 г. в военную обстановку Кавказа, сейчас же «начинает учиться по-татарски», он, несомненно, учитывает при этом практическое применение таких познаний во время азиатских походов. Ген. Ермолов, посылая в Хиву Н. Муравьева, между прочим писал ему в своей инструкции: «От ловкости в обхождении нашем можно обещать немалые успехи, и знание ваше в татарском языке много способствовать вам будет»65. К изучению восточного языка Лермонтов обращается, как мы видим, готовясь к путешествию «в Мекку, в Персию и проч.». Самый маршрут его чрезвычайно характерен, — это был
- 706 -
с начала XIX в. театр беспрерывных войн. В 1803 г. Мекка была взята воххабитами66, несколько позже ее завоевал египетский паша Мехмед-Али, в 1840 г. — Турция. Крупнейший рынок Востока, средоточие многолюднейших ярмарок, город с особой большой гаванью на Красном море был одновременно важнейшим историческим центром всего мусульманского мира. Родина Магомета славилась своей древней мечетью, неоднократно перестраивавшейся халифами и султанами и представлявшей собой множество архитектурных наслоений — арок, сводов, колонн, минаретов. Описанная видными учеными-путешественниками — Зеетценом в 1809 г. и Буркгардтом в 1811 г., Мекка представляла исключительный интерес для поэта-военного, которого боевые или дипломатические задачи кавказской армии могли легко перебросить в ближнюю Азию.
К этому времени русские штабы и академии вполне усвоили новую концепцию войны в духе египетского похода Бонапарта. Чтобы успешно воевать, нужно основательно знать противника, а для оправдания военного кровопролития не худо выдвинуть большие культурные задачи, разрешение которых якобы требует вооруженного вмешательства. Уже в 1800 г. в Ташкент были посланы горные чиновники Бурнашев и Поспелов в целях «удовлетворить настояние тамошнего владетеля в рассуждении рудных приисков». В 1823 г. снаряжается сухопутная экспедиция полк. Берха для осмотра побережий Аральского моря и Каспия и для определения в них уровня вод. Такой же потенциально-завоевательный, а по существу разведывательный характер носят путешествия Назарова в 1813 г. и хорунжего Потанина в 1830 г. в Коканд, Муравьева в 1819 г. в Хиву, Мейендорфа и Эверсмана в 1820 г. в Бухару, которую в 1834 г. посещает и русский ориенталист Демезон. Любознательность ученых и туристов подготовляет будущие кампании. Характерно новое явление и неведомый прежде термин — «ученые трофеи»: в результате персидской и турецкой кампаний в Петербург привозят две богатые библиотеки из Ардебиля и Ахалцыха. Это было в значительной степени заслугой О. Сенковского. По его инициативе Петербург обогатился драгоценным собранием восточных рукописей, перешедших к России по Туркманчайскому договору 1827 г. «Русская наука обязана Сенковскому таким неоценимым приобретением, как ардебильское собрание персидских рукописей, ныне находящееся в Ленинграде в публичной библиотеке. Ардебильская библиотека обязана своим происхождением шаху Аббасу Великому (в начале XVII в.); после взятия города Ардебиля русскими войсками (в начале 1828 г.) Сенковским было обращено внимание на ценность библиотеки, и по его настоянию она была перевезена в Петербург»67.
Такому новому пониманию войны, сочетающему ее прямые задачи с «культурными» целями, отвечает желание Лермонтова «проситься в экспедицию в Хиву с Перовским». Амударьинское ханство лишь незадолго перед тем было предметом военно-научного обследования. В 1819 г. главнокомандующий в Грузии А. Ермолов организовал экспедицию к восточным берегам Каспийского моря, «дабы склонить туркменов к приязненным сношениям с Россией». В основном это предприятие сводилось к осуществлению плана Петра I, стремившегося «установить через обширные степи, называемые нами Татариею, постоянную торговлю с Индией» (что привело, как известно, к гибели в 1717 г. в Хиве экспедиции кн. Бековича-Черкасского, которой было поручено восстановить водный путь
- 707 -
в Индию и приобрести золотые россыпи). В своей инструкции начальнику новой военно-политической разведки Н. Н. Муравьеву (впоследствии Муравьеву-Карсскому) Ермолов прямо указывал на те «полезные исследования о народе почти совершенно нам неизвестном», которые входят в круг обязанностей руководителя отряда. Муравьеву удалось впервые после Бековича-Черкасского высадиться у старого русла Аму-Дарьи и достигнуть Хивы; но здесь он был заключен в тюрьму и, помня о своем предшественнике в XVIII в., ожидал мучительной смерти. Общая политическая ситуация все же спасла его от гибели; он даже был принят ханом и вернулся на Кавказ в сопровождении хивинских послов. Вскоре (в 1822 г.) он выпустил свое «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардейского генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. С картинами, с чертежами и проч.» (М., 1822, две части).
Книга эта была тотчас же переведена на французский и немецкий языки (долгое время, по свидетельству Бартольда, она оставалась для европейских читателей почти единственным источником сведений об этом узбекском владении).
«Путешествие в Туркмению и Хиву» Муравьева могло служить характерным примером нового военного донесения, в котором задачи колонизации и действия экспедиционного отряда своеобразно сочетаются с научным описанием быта туземцев, их архитектуры, художественных памятников, обычаев, нарядов, легенд и пр. Города, крепости, дворцы, караван-сараи, бани, мечети, развалины, усыпальницы — все это описано Муравьевым с такой же тщательностью, как и уборы туркменских женщин или поэтические народные предания, связанные с древними сооружениями (например, о царь-девице Лютре, строительнице цитадели в Когнашаре, или дочери бакинского хана, построившей на берегу Каспийского моря Девичью башню). Не ограничиваясь путевыми наблюдениями, Муравьев предпринимает археологические раскопки, рассчитывая определить по найденным в кургане монетам «древность бывшего города». Описание путешествия «в прибрежную Туркмению» и в ханство Хивинское дополняется подробным историко-географическим и бытовым изучением восточных стран (монетная система, промышленность и торговля хивинцев, военное состояние ханства, нравы, вероисповедание, обычаи и просвещение узбеков и пр.). С большой степенью вероятия можно предполагать, что это ученое путешествие, пользовавшееся широкой известностью у нас и за границей, особенно в военных кругах, было известно Лермонтову и могло стимулировать его желание участвовать в новой Хивинской экспедиции. Личность ее инициатора, оренбургского военного губернатора В. А. Перовского, располагала к такому сотрудничеству.
Василий Алексеевич Перовский окончил курс в Московском университете, много читал, оставил обширные «Записки» и письма крупного историко-военного и географического значения (впоследствии при нем было впервые обследовано Аральское море). Перовский был другом Жуковского, знал Карамзина и Пушкина; впоследствии он привлек пристальное внимание Л. Н. Толстого, находившего, что «фигура Перовского одна может наполнить картину из времени 20-х годов» и намечавшего его одним из главных действующих лиц своего романа «Князь Федор Щетинин». В письмах конца 70-х годов Толстой сообщает: «У меня давно бродит
- 708 -
в голове план сочинения, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время — Перовского». Записками Перовского о 1812 г. Толстой пользовался в работе над «Войной и миром»68.
Главной целью хивинского похода было обеспечение спокойствия и торговли в степных областях и смещение хивинского хана, но особая комиссия, состоявшая из вице-канцлера Нессельроде, военного министра Чернышева и самого Перовского, решила сохранять в тайне цель похода, назвав его научной экспедицией для исследования оазисов среднеазиатских пустынь. В походе Перовского приняли участие литераторы и ученые: несколько офицеров генерального штаба для геодезических и этнографических работ в Хиве, писатель В. И. Даль («Казак Луганский»), известный ориенталист В. В. Григорьев (в то время профессор восточных языков в Ришельевском лицее) и др.
Кампания эта, несомненно, открывала широкие возможности культурному слою тогдашнего русского офицерства изучить памятники древнего Хорезма, видевшего над собой господство Тимура и чингизидов, подчинившего себе некогда весь Иран, восточный берег Аравии и центральную область Азии (Мавераннахр). Какие широкие просторы истории, искусства, этнографии и восточной поэзии могли бы раскрыться здесь такому поэту, как Лермонтов!
«Хивинское ханство, вследствие новейших событий, особенно должно интересовать нас, русских», — писали несколько позже «Отечественные Записки», печатая извлечения из книги Гельмерсена «Известия о Хиве, Бухаре и Коканде» (изданной на немецком языке). Хивинское ханство изображено здесь как «маленькое разбойническое государство», которое должно будить бдительность европейских держав. Этим как бы заранее оправдывались будущие военные экспедиции в Среднюю Азию69.
План Лермонтова примкнуть к хивинскому походу Перовского остался неосуществленным, как и проекты поэта ехать в Мекку и Тегеран. Намечавшийся им стихотворный отдел «Восток» остался недописанным, путевого журнала по странам Передней Азии Лермонтов не оставил нам. Но какие-то черты военно-путевых записок имеются и в «Герое нашего времени», и в «Валерике», и в «Споре». В последнем стихотворении особенно ощущается та напряженная международная атмосфера 1839—1841 гг., когда по воспаленному «восточному вопросу» ежеминутно грозила разразиться война между крупнейшими европейскими державами.
IX. БАТАЛЬНАЯ ТЕМА В «СПОРЕ»
В знакомых Лермонтову «Orientales» уже предвещалось будущее значение «восточного вопроса» для всей европейской политики.
«Не только в литературной, но и в государственной жизни Запада вскоре, быть может, Восток призван сыграть свою роль, — писал Гюго в предисловии к своему сборнику. — Уже памятная война за освобождение Греции обратила на Восток взгляды всех народов; и вот теперь европейское равновесие готово сорваться: status quo западного мира, подгнившего и расползающегося, трещит со стороны Константинополя. Весь континент склоняется к Востоку. Мы будем свидетелями великих событий. Быть может, старое азиатское варварство не настолько лишено выдающихся личностей, как это полагает наша цивилизация».
- 709 -
Так определял в 1829 г. Гюго угрожающую шаткость европейского равновесия. Общие впечатления поэта от международной обстановки 20-х годов вызывались сложным и долголетним историческим процессом, принявшим к этому моменту весьма явственные очертания.
В ГОСТЯХ У ЧАВЧАВАДЗЕ
Акварель неизвестного художника, 1830-е гг.
Литературный музей Грузии, ТбилисиПервые десятилетия XIX в. — время заметного оживления «колониальных» интересов в политике крупнейших европейских держав. Это время борьбы Франции за Алжир, блокада которого началась в 1827 г. и которым уже владела через двадцать лет от Марокко до Туниса (не лишено характерности, что свои «Ориеталии» Гюго первоначально предполагал назвать «Алжирские поэмы» — «Les Algériennes»); Англия, начиная с 1829 г., аннектирует юго-западное побережье Австралии, расширяет свои владения в Африке, сливает в единую колонию Британскую Гвиану (исследованную в 1835—1840 гг. Шомбруком). Царская Россия продолжает начатое еще в XVIII в. планомерное завоевание Кавказа, ведет борьбу за северные провинции Персии, приступает к первым наступлениям на Среднюю Азию. С конца XVIII в. идет колонизация Аляски, которая в 1821 г. объявляется владением России. Характерным документом эпохи остается составленный в 1828 г. Грибоедовым проект «нового хозяйственного и коммерческого общества по сю сторону Кавказа». Это подписанная им в Тифлисе 7 сентября 1828 г. «Записка об учреждении Российской Закавказской компании» «для заведения и усовершенствования в изобильных провинциях, по сю сторону Кавказа лежащих: виноделия, шелководства, хлопчатой бумаги, колониальных, красильных, аптекарских и других произведений»70.
- 710 -
Знакомый Лермонтову Гамба начинает свое исследование прямым заявлением: «Западная Европа живо ощущает потребность в колониях; исходит эта нужда из самой организации обществ». Берега Средиземного и Черного морей были некогда покрыты колониями — египетскими, греческими, тирскими и карфагенскими... Галлы распространяли свои завоевания на Италию и Малую Азию, крестовые походы преследовали завоевательные цели, открытие Америки, Индии, мыса Доброй Надежды открыло морским державам пути к мировым рынкам. Только в начале XIX в. в Европе, и в частности во Франции, вместе с ростом народонаселения стала ощущаться настоятельная нужда в новом расширении прежних владений. На это, по свидетельству Гамбы, с неопровержимой убедительностью указывал Талейран. Франции необходимо достигнуть успехов ее соперницы Великобритании в деле овладения нужными ей территориями. Уравновесить мощь Англии можно лишь одним путем: сосредоточить торговлю Европы с Азией на Черном море, т. е. в случае морской войны иметь возможность сохранить торговые сношения между двумя древними частями света, как это было до открытия Америки и мыса Доброй Надежды. Отсюда исключительный интерес Гамбы к Черноморскому бассейну и ближней Азии. Стремясь наладить отношения Франции с русским правительством, Гамба воздерживается от недружелюбных отзывов о политике Петербурга, но все же отмечает, что «мощь России безраздельно тяготеет над Азией и европейской Турцией»71.
Такое возбуждение международных интересов вокруг вопросов о расширении оборотов мировой торговли, о добывании новых ценностей в дальних странах, о караванных путях и восточных рынках, наконец, и о подчинении туземцев воле и планам завоевателей ощущается в предостережении Эльбруса своему южному соседу:
Берегись! сказал Казбеку
Седовласый Шат:
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор:
В глубине твоих ущелий
Загремит топор.
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь!
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
Первый был скачок,
Берегися! многолюден
И могуч Восток!Девственная природа экзотических стран подчинена неумолимому топору и железной лопате колонизаторов. Неприступные снеговые хребты стали верблюжьими тропами.
В качестве русского военного и писателя Лермонтов был превосходно осведомлен об этих новых устремлениях мировой политики, которые привели в 30-х годах к резкому обострению взаимоотношений России с западными державами — Францией и особенно Англией. Это была еще
- 711 -
отдаленная, но уже грозная прелюдия будущей Крымской кампании. В русских военно-правительственных кругах было известно, что в глазах англичан «Персия представляла наибольшую важность для нас, как единственный будто бы путь в Индию...; вот причина той раздражительности, соперничества, наконец, всей политики Англии, которая тщетно усиливается (в 20-х годах) приобрести то же влияние в Тегеране, как и в Константинополе, тех щедрых субсидий, которые расточала она Персии во время ее частых войн с нами»72. Взаимоотношения европейских государств осложняются в 30-х годах «восточным кризисом»: борьбой мятежного египетского паши Мехмеда-Али со своим сувереном, султаном Махмудом. Лермонтов следил за этим восточным конфликтом, столь взволновавшим европейские кабинеты. В вариантах «Сказки для детей» (1839) имеются строки о Мехмеде-Али и позиции поощрявшего его французского правительства:
С Египтом новый сладил ли султан?
Что Тьер сказал — и что сказали Тьеру?«Вопрос о Востоке, в последнее время занимавший и теперь еще более занимающий образованную Европу, обратил взоры всех на Египет — не как на мистическую страну чудес неразгаданных, но как на современного политического двигателя. Приближающееся, повидимому, решение этого вопроса заставляет европейские журналы говорить только о Египте и о его правителе, которого одни сравнивают с Махмудом, другие с Наполеоном, а иные называют просто неукротимым властолюбцем...»73.
Публикуя переводную статью из английского журнала «Bibliotheca Britannica», посвященную характеристике «человека хитрого, но гениального» — египетского паши Мехмеда-Али, журнал Сенковского дает к статье «Египет в 1833 году» редакционную заметку о роли России в турецких событиях начала 30-х годов. «Один из пашалыков Турецкой империи, Египет — кто бы это подумал лет десять тому назад! — составляет теперь важнейший предмет политических соображений Европы. Только великодушие России спасло Оттоманскую державу от честолюбия властелина, утвердившего в нем <в Египте> свое владычество, и Европу от неминуемого и опасного потрясения. Кто из русских не пожелает узнать покороче характер и средства человека, дерзнувшего так недавно спорить о престоле Востока со своим законным государем и доставившего нам случай присовокупить к отечественной истории одну из прекраснейших черт прямоты и бескорыстия, одно из лестнейших доказательств славы российского оружия, когда присутствия 15.000 наших воинов было достаточно, чтоб остановить стремление завоевателя, страшнейшего, нежели как обыкновенно полагают?»74.
Но когда 8 июля 1833 г. во дворце Ункиар-Искелесси был подписан оборонительный трактат между Россией и Турцией, предоставлявший Петербургу полное преобладание в Константинополе (вплоть до закрытия Дарданелл для военных судов всех держав, если бы Россия вела войну), Англия и Франция отказались признать этот договор. Вскоре Сенковский довольно открыто формулировал в своем журнале причины англо-русского соперничества.
«Распространение российских владений с одной стороны и английских с другой естественным образом открыло новые виды для деятельности обеих держав, а превосходные Гереновы исследования о больших путях древней торговли пробудили и в ученом и политическом свете мысль
- 712 -
о возможности открыть их снова и оживить мертвую бездейственность тех стран, где процветали Вавилон, Тир, Бактрия и многочисленные города греческие. Два предмета подвергнуты были изысканиям и разбору: в России с жаром надежды на государственную пользу заговорили о способах учредить по сухому пути прямую торговлю между Астраханью и Индиею; в Англии, с горечью зависти к нашим успехам, стали рассматривать средства защиты Ост-Индских владений от вторжения тем же путем русского штыка. Тогда как барон Мейендорф, французский консул Гамба и здешняя коммерческая газета много писали в пользу и против первого вопроса, неотступное приближение победоносной армии, скачущей на верблюдах из глубины севера к берегам Гангеса, терзало беспрестанно воображение лондонских журналистов и политиков»75. Сенковский предлагает перейти от химерических «страхов» английских публицистов к реальным задачам русской политики: восстановлению прямого торгового пути между Европой и Индией через Среднюю Азию.
В конце 30-х годов положение еще резче обостряется из-за русского покровительства Персии в ее борьбе за «ключ к Индии» — Герат. Вспыхнувшая к этому времени с новой силой борьба султана Махмуда с его мятежным египетским вассалом Мехмедом-Али привела в 1839 г. Оттоманскую империю к катастрофе: турецкая армия была разбита, турецкий флот предался врагу, на престол султанов вступил шестнадцатилетний юноша. «Всю Европу охватило волнение. Еще никогда восточный вопрос не стоял перед ней в такой острой форме»76.
Опасаясь выступления России, английский и французский флоты появились в Дарданеллах. Опасность войны приобретала угрожающую реальность. В течение двух лет Европа стояла перед мировым пожаром. В «Отечественных Записках» 1839 г. (где был напечатан ряд значительнейших вещей Лермонтова) появляется патриотическое стихотворение Хомякова с грозными предсказаниями по адресу Британской империи:
И что́ же Рим? и где Монголы?
И, скрыв в груди предсмертный стон,
Кует бессильные крамолы,
Дрожа над бездной, Альбион77.Только 1/13 июля 1841 г. (т. е. накануне смерти Лермонтова) державы пришли, наконец, к соглашению в египетском вопросе и гарантировали нейтралитет проливов.
В такой напряженной предвоенной атмосфере создавался «Спор». Именно этим и объясняется не вполне обычный для Лермонтова воинствующий тон заключительной части стихотворения. Он перекликается отчасти с такими «патриотическими» строфами Лермонтова, как его стихотворение 1835 г. («Опять, народные витии, / За дело падшее Литвы / На славу гордую России / Опять шумя восстали вы...»). В «Споре» узорному «жанру» и солнечному пейзажу дремотного Востока противопоставлена развернутая картина движения русских войск. Достигнув середины своего построения, стихотворение переламывается на предостерегающей реплике «старого Шата» («Вот на Севере в тумане / Что-то видно, брат!»). Казбек, по его указанию, переводит свои взоры с юго-востока на северо-запад, где движется волна неуклонного наступления на его твердыни.
Здесь во всей силе ощущается Лермонтов-баталист, великий мастер «Бородина» и «Валерика». Трудно не отметить мастерство описания, достигающего исключительной силы в динамическом показе вооруженных
- 713 -
ВИД ТИФЛИСА
Рисунок пером Н. Чернецова, 1831 г.
Русский музей, Ленинград
- 714 -
масс. Здесь не картина борьбы, а только изображение похода; это почти-что музыка, почти-что военный марш, провожающий отряд на приступ. Он возвещается двумя впечатлениями — зрительным: «странное движенье», и слуховым: «звон и шум». Затем развертывается полная картина войскового движения:
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая
Движутся полки.
Веют белые султаны
Как степной ковыль,
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль.
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут;
Впереди несут знамены,
В барабаны бьют.
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И испытанный трудами
Бури боевой
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны как поток,
Страшно-медленны как тучи,
Прямо на восток.Без звукоподражательных эффектов здесь дана не только зрительная, но и слуховая картина движущихся войск: бой барабанов, медный грохот батарей и глухой шум отдаленного людского потока. В самом стихе слышатся какая-то бодрость, стремительность и грозящая непреклонность стройного массового движения, — это темп похода и ритм наступления. Только поэт, принимавший участие в сражениях, может создавать такие по существу своему военные строфы. Положительно кажется, что декламация «Спора» могла бы сообщить тот ритмический порядок ходу войск, который достигается обыкновенно хоровым пением или оркестровой музыкой. Эта баллада Лермонтова могла бы стать народной солдатской песнью, как это произошло уже со многими другими его стихотворениями78.
Но, помимо изобразительной силы, заключение «Спора» обращает на себя внимание и своим патриотическим подъемом. В последних строфах подчеркиваются непреклонность и неотразимость наступающей армии: она неисчислима, Казбек при виде ее охвачен «черными снами», он отказывается от сопротивления и принимает свою неумолимую участь («Грустным взором он окинул / Племя гор своих, / Шапку на̀ брови надвинул / И навек затих»). Спор горных массивов о «восточной опасности» разрешается бодрым военным наступлением русской армии, за двадцать лет перед тем воспетым Пушкиным в эпилоге «Кавказского пленника». Седой генерал в «Споре», грозящий очами и бестрепетно ведущий в огонь свои боевые батальоны, вызывает в памяти пушкинское обращение:
Но ce — восток подъемлет вой...
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
- 715 -
Образ знаменитого полководца чрезвычайно занимал Лермонтова, хотя и в несколько ином разрезе, чем Пушкина. Через два месяца после написания «Спора», отправляясь на свой последний поединок, Лермонтов рассказывал своему секунданту о двух задуманных им романах: один «из кавказской жизни с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране»79. Усмирение Кавказа Ермоловым представлялось Лермонтову захватывающей драматической темой. Историческая деятельность кавказского «проконсула» была ему хорошо знакома по военным преданиям. В лагерях, в кавказских походах Лермонтов слышал не мало рассказов о ермоловских временах:
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне:
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам...Завоеватель Кавказа правильно представлялся поэту неумолимым и грозным. «Ермолов не питал большого уважения к человечеству вообще и к персиянам в особенности; он их глубоко презирал, и это чувство не могло не выражаться в его действиях во время управления краем и способствовать хотя частью к той катастрофе, которая впоследствии разразилась» (убийство Грибоедова)80.
В 1826 г. отношение к Ермолову в Петербурге резко меняется: «В министерстве иностранных дел упрекали его в крутых и жестких мерах с персиянами, а равно и с владетелями покоренных народов»81. Но в беглом военном портрете, набросанном Лермонтовым, наряду с грозной силой показана и мощь опытного и зоркого полководца, заслужившего ему почетное признание: «Начав военное образование в школе Суворова, из рук которого получил георгиевский крест, он окончил его у Кутузова и Барклай де Толли, при которых уже нередко являлся сам учителем. Кутузов очень любил его, особенно вначале, и оставил в нем следы своего воспитания не только военного, но и нравственного. Однажды, глядя с высоты на отступление французов и несущегося за ними, как гнев небесный, Ермолова, Кутузов с самодовольством указал на него многочисленной свите своей: „еще этому орлу я не даю полету“. Несколько раз потом он повторял: „Il vise au commandement des armées“»82. Некоторая героизация Ермолова, ведущего русскую армию на осуществление исторических заданий государства, ощущается и в последних строфах «Спора».
Она вполне соответствует финальной, патриотической патетике стихотворения, понятной на фоне весьма сложных международных событий того времени. Именно они актуализируют размышления Лермонтова о народах древнего Востока. Но и некоторые внутренние события николаевской России обращают его к аналогичным темам и вызывают глубокие отзвуки уже в его раннем творчестве.
X. «ИСПАНЦЫ» И ВЕЛИЖСКОЕ ДЕЛО
Один из восточных народов по высоте своей древней культуры и трагизму своих исторических судеб рано привлек внимание Лермонтова. Уже в шестнадцатилетнем возрасте ему удается замечательно передать драму еврейского народа в своей первой трагедии «Испанцы». К 30-м годам
- 716 -
и в России устанавливается точка зрения на современное еврейство как на живую связь с древним миром. Свою статью «Судьбы еврейского народа», напечатанную в «Библиотеке для Чтения» в 1835 г., Т. Грановский начинает словами одного английского ученого: «С удивлением и почтением смотрю я, говорит Ватсон, на народ еврейский, рассеянный по земной поверхности: я вижу в нем звено, которое соединяет нас с колыбелью рода человеческого».
Грановский в общих чертах излагает «чудную историю народа, который, утратив все условия отдельной народности, неизменно пронес через длинный ряд веков и переворотов свои религиозные верования, свой первобытный характер, свои предания о минувшем и надежды на будущее»83.
Если такой сочувственный тон вполне понятен в статье молодого ученого, искушенного во всех новейших течениях исторической и философской мысли, он труднее объясним в первом произведении шестнадцатилетнего поэта, выросшего в дворянской среде. А между тем в «Испанцах» Лермонтова уже резко противопоставлены жестокая среда испанских грандов и инквизиторов высокому гуманизму и моральной озабоченности затравленного еврейства.
Начинающий поэт обратился к необычной в тогдашней русской поэзии большой и драматической теме — о характере и судьбах еврейского народа. И не только выбор этой темы, но и самая разработка ее у Лермонтова должна быть признана необычной: в «Испанцах», а несколько позже в балладе 1832 г. («Куда так проворно, еврейка младая...»), в «Еврейской мелодии», в «Ветке Палестины», в некоторых других стихотворениях молодой поэт высказывает свое глубокое сочувствие к «бедным сынам Солима» (по его собственному выражению). Эти неожиданные ноты симпатии и заступничества, свидетельствующие о подлинной человечности его дарования, поднимают ряд вопросов, до сих пор не поставленных в лермонтовской литературе. Откуда шли эти симпатии питомца усадеб, а затем и гвардейской школы, к мало знакомому ему народу? Где почерпнул он основные сведения о его истории, воззрениях и нравах? Кто подсказал или навеял ему разрешение возникшей перед ним исторической и моральной проблемы в том духе справедливости и правды, которым дышит уже его первая юношеская трагедия?
Здесь прежде всего естественно обратиться к художественной литературе и, в частности, к созданиям эпохи Просвещения. Вопрос о влиянии Лессинга на Лермонтова («Натан Мудрый»,«Эмилия Галотти») обстоятельно разработан исследованиями, но еще не исчерпан. В лермонтовской литературе не отмечена некоторая близость «Испанцев» к первому драматическому произведению Лессинга «Die Juden» («Евреи»), написанному в 1749 г., когда ее автору едва минуло двадцать лет; уже по типу своего заглавия пьеса эта напоминает юношескую трагедию Лермонтова (которая по существу своей идеи и темы должна была бы тоже называться скорее «Евреи», чем «Испанцы»). В драме Лессинга имеется эпизод спасения богатого барона от разбойников неизвестным путешественником, который оказывается евреем; среди всеобщей вражды к еврейству всех окружающих его, в том числе и самого барона, путешественник оказывается единственным благородным человеком, способным на самопожертвование. В духе идей просветительной философии Лессинг устами своего героя протестует против такого порядка вещей, «когда со стороны одной нации преследование другой считается религиозным
- 717 -
догматом и чуть ли не заслугой...». Он высказывает ряд воззрений, полных широкой терпимости по вопросу о браках между евреями и христианами. Мотив этот довольно отчетливо звучит и в трагедии Лермонтова: «Еврейка у тебя целует руку, испанец!», — обращается к Фернандо полюбившая его девушка Ноэми. Весьма характерен их диалог: «Я буду для тебя сестрой». — «Ты для меня сестрой не будешь!..».
— Зачем же отвергать так своенравно
Того, кому ты можешь вверить горесть
Души твоей — ужель различье веры?
ВИД МИНЕРАЛЬНЫХ БАНЬ В ТИФЛИСЕ
Рисунок пером Н. Чернецова, 1830 г.
Русский музей, ЛенинградТа же тревога и в ее расспросах старой Сары: «Любила ль ты, как я? любила ль чужеземца? Любила ль христианина?..». Тема эта со всей силой прозвучала через два года в превосходной балладе Лермонтова о трагедии еврейской девушки:
Отец мой сказал, что закон Моисея
Любить запрещает тебя.
Мой друг, я внимала отцу, не бледнея,
Затем, что внимала любя.Одна эта строфа с ее глубокими перспективами национальной и личной трагедии уже свидетельствует о гениальности ее автора.
Следует отметить также, что драмы Лессинга примыкали в своей основной тенденции к некоторым образам английской драматургии. Уже современники Шекспира Бомонт и Флетчер вывели в одной из своих
- 718 -
комедий еврея Забулона, заявляющего: «Мы люди, и так же как и вы, питаем сострадание к тем, которые достойны его». В XVIII в. Ричард Кемберлэнд выводит в своей комедии «Жид» еврея Шеву, бежавшего из Португалии от инквизиции; он живет впроголодь и раздает все свои деньги бедным. «Что может еврей ответить, если христианину угодно его обидеть?» — формулирует он свое философское отношение к оскорбительным и «жестоким кличкам». С таким же сочувствием в другой пьесе Кемберлэнда «Жид из Могадора» изображен еврей Нахаб, отдающий все свои деньги на выкуп пленных из Марокко; для него равны христиане, мусульмане и евреи. Другой английский драматург XVIII в., Дибдин, изображает в пьесе «Еврей и доктор» выходца из голландского гетто, который воспитывает христианскую девочку, а в «Школе предрассудков» — бедного еврея Эфраима, выручающего из беды одну вдову и ее дочь. Эта традиция старинного английского театра через драмы Лессинга могла сказаться и на трагедии юного Лермонтова84.
Следует учитывать и некоторые воздействия современной поэзии. Лермонтов в 1830 г., по свидетельству близких лиц, «был неразлучен с огромным Байроном». Как раз к этому времени относится признание Лермонтова:
Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел...В собрание сочинений английского поэта входили написанные им в 1814 г. «Еврейские мелодии» (одну из которых Лермонтов перевел в 1836 г.). По предложению композитора Натана Байрон, как известно, написал ряд стихотворений на библейские темы для переложения их на музыку; в цикл вошли: «Дочь Иевфая», «На берегах Иордана», «Саул», «Видение Балтасара», «Плач Ирода о Мариамне», «У вод Вавилонских», «Поражение Сеннахерима», «Все суета», «Душа моя мрачна» и др. В ряде стихотворений разработаны трагические моменты еврейской истории, в других — лирика скорби и отчаяния. Во всех них чувствуется столь свойственное Байрону сострадание к угнетенным народам, принимающее в некоторых строфах исключительную силу выражения:
О племя скитальцев, народ с удрученной душою!
Когда ты уйдешь от позорной неволи к покою?
У горлиц есть гнезда, лисицу нора приютила,
У всех есть отчизна, тебе же приют — лишь могила...На этот мотив написан монолог лермонтовского Фернандо:
У волка есть берлога, и гнездо у птицы —
Есть у жида пристанище; —
И я имел одно — могилу! —...Байрон широко вводил в свои стихи древний термин Солим, под которым подразумевался Иерусалим: «Разрушен храм; Солима трон поруган...»; «И хоть плачет Солим за меня, / Не смущайся, будь твердый судья...»; «Как враг разъяренный, по стогнам Солима...». Лермонтов ввел этот термин в русскую поэзию в своих ранних «Еврейских мелодиях» и в знаменитой «Ветке Палестины»:
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны...Как раз в 1830 г., в духе байроновских библейских мотивов, Лермонтов пишет свою первую «Еврейскую мелодию»:
- 719 -
Плачь, Израиль! о, плачь! — твой Солим опустел!...
Начуже в раздольи печально житьё...«Неразлучный с Байроном», Лермонтов мог проникнуться горячей симпатией английского поэта к народу, лишенному в то время равноправия даже в «либеральной» Англии. Знакомый с биографией творца «Корсара», Лермонтов мог знать, что Байрон выступил защитником еврейства в своей знаменитой речи 1812 г. в палате лордов и что в творчестве своем он постоянно отмечал непоколебимую стойкость евреев в их тяжких несчастиях. Все это могло оказать свое воздействие на создание первых трагических образов Лермонтова, в которых не перестает звучать, как и у Байрона, сквозь поэтическую защиту древнего народа тревога за его современную участь.
Между тем изучение лермонтовского байронизма в «Испанцах» ограничивалось до сих пор текстуальным сопоставлением «Еврейских мелодий» двух поэтов. В поисках источников трагедии внимание исследователей направлялось здесь преимущественно в сторону старинной драматургии и отчасти романа.
Помимо Лессинга, среди литературных источников «Испанцев» были названы также «Разбойники», «Коварство и любовь» и «Дон Карлос» Шиллера, «Айвенго» Вальтер-Скотта, «Тартюф» Мольера, «Эрнани» Виктора Гюго85. В пьесе готовы были видеть «пеструю мозаику заимствований из выдающихся западно-европейских образцов». Но общественная среда, в которой зародилась и создавалась первая драматическая поэма Лермонтова, еще не была принята во внимание его исследователями. Между тем драма шестнадцатилетнего поэта была тесно связана с современной жизнью и уже являлась в своеобразном плане романтической трагедии живым отголоском на борьбу и жестокую неправду окружавшей его среды.
Лермонтов был восьмилетним мальчиком, когда возникло знаменитое в свое время «ритуальное» дело об убийстве в городе Велиже Витебской губернии «малолетнего Федора Иванова». Но он был уже автором «Измаил-бея», «Хаджи Абрека», «Вадима» и четвертой редакции «Демона», когда этот процесс, наконец, завершился — через двенадцать лет после своего возникновения — в январе 1835 г. полным оправданием всех обвиненных. Не все из них, правда, дождались такой полной реабилитации от взведенных на них обвинений, не все дожили до этого последнего и окончательного решения Государственного совета — несколько арестованных умерло в тюрьме. Но и остальные, дождавшиеся освобождения после долгих лет заточения, вышли на свободу непоправимо надломленными пережитой трагедией.
Напомним основные моменты этого громкого в свое время дела. Оно возникло весной 1823 г., когда произошла обычная в таких случаях инсценировка ритуального убийства: малолетний сын велижского солдата был найден за городом без признаков жизни, «чем-то в нескольких местах пронзенным». Последовали гадания какой-то пьяной и распутной нищенки Марьи Терентьевой и «больной девки» Еремеевой, вполне совпавшие с заявлениями тетки убитого — местной мещанки, что «по всем замечаниям в пронзении племянника доказывается, что загублен евреями». Этого было достаточно, чтобы следственные власти предали суду несколько еврейских семейств — Аронсонов, Берлинов и Цетлинов. Несмотря на грубое нарушение следственных правил и полное отсутствие правовых
- 720 -
гарантий, беззащитные евреи были все же освобождены поветовым судом от взыскания, но двое из них оставлены при этом в «сильном подозрении», а остальные «в сомнении». Витебский главный суд, куда перешло дело, постановил освободить евреев «от всякого подозрения», а Марью Терентьеву «за ворожбу и блудное житье» приговорить к церковному покаянию. Дело было прекращено.
Но осенью 1825 г. Александр I, совершая свое последнее путешествие, проезжал через Велиж и на жалобу «вдовы-солдатки» Терентьевой, обвинявшей евреев в умерщвлении ее сына, приказал произвести строжайшее расследование. В дело вступили ставленник Аракчеева, белорусский генерал-губернатор Хованский, чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Страхов («злой гений велижской драмы, веривший в кровавый миф») и несколько позже флигель-адъютант полковник П. Шкурин. Все они были настроены против евреев. Началась жестокая антисемитская агитация с помощью сапожника Азадкевича, священника Петрашкевича и учителя Петрицы. Обвинение чудовищно разрасталось, начинались ссылки на старинные аналогичные процессы, всевозможные несуществующие еврейские книги о кровопролитии, последовало возбуждение новых доносов и ложных показаний, полных противоречий и явной бессмыслицы. Из частного обвинения нескольких велижских евреев дело принимало официальный характер осуждения целого народа, учение которого якобы требует «невинной крови». Чтобы лишить велижских подсудимых всякой возможности защищаться, Страхов и кн. Хованский выступили с «всеподданнейшим докладом», пытающимся доказать, что обвинение в ритуальных преступлениях может быть предъявлено ко всем евреям и что велижское событие представляет собой «преступление, содеянное евреями по требованию их религии».
Такие религиозно-националистические тенденции придавали велижскому делу особенную остроту и сообщали открывшейся травле еврейства исключительную напряженность. В 1823 г., когда возникло это мрачное дело, еще «не прошло пятидесяти лет, как, по первому разделу Польши, город Велиж из-под польского владычества перешел к России. Воинствующий католицизм еще не успел здесь окончательно сдать своих позиций, православное благочестие (по официальной тогдашней терминологии), несмотря на то, — а, может быть, и вследствие того, — что насаждалось очень твердой рукой, не успело еще завладеть сердцами только-что присоединенного христианского населения. Очень слабо выдерживавшая эту двустороннюю атаку, уния, которую поголовно исповедывали все почти так называемые „коренные“ местные жители, делала последние отчаянные попытки к самообороне, главным образом, в сторону официального православия, постепенно, однако, сглаживая последние грани, отделявшие ее от Рима. От острого столкновения этих враждующих сил неизбежно должна была родиться искра. И, упав на благодарную, хорошо разработанную почву вековой злобы и ненависти к тем, которые стояли совершенно в стороне от всего этого спора и менее всего заинтересованы были в его исходе, искра эта очень скоро разгорелась в яркое кровавое зарево. Евреи были первыми брошены на тот костер, которым побежденные вздумали задержать наступление победителя... Но и побеждавшие, и побежденные делали одну и ту же работу: с одинаковой ревностью и те и другие подбрасывали в огонь все то, что могло бы давать ему новую пищу, что должно было разжечь его во всееврейское пожарище.
- 721 -
Каждый давал то, что мог. Воинствующий католицизм принес сюда свой тонкий политический расчет, уния отдала сюда накопленный за два столетия в темных народных массах невежественный и злобный фанатизм измученного, полуголодного „быдла“; официальная, ложно понятая в административных низах пропаганда господствующего „благочестия“ выгрузила тут весь несложный багаж своего полицейски-крепостнического правосознания. И двенадцать лет кровавый отблеск зажженного соединенными усилиями пожарища озарял ярким пламенем перед лицом всего мира всю глубину еврейского бесправия, всю безнадежность борьбы с прочно въевшимся в сознание широких масс бездушным кровавым призраком»86.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ИСПАНЦАМ“
Рисунок Ю. Оболенской, 1939 г.
Литературный музей, МоскваТакая подлинно историческая трагедия разыгрывалась в маленьком провинциальном городке Российской империи в 20-х годах прошлого столетия. Различные этапы «велижской драмы», как ее называли впоследствии, живо занимали общественное окружение Лермонтова. Известие о процессе нашло широкий отклик в губернских бюрократических сферах, а когда аналогичные дела возникли тогда же в Гродно и Вильне, — «известие о том, что евреи привлечены к ответу, быстро распространилось в народной массе». Велижский процесс вызвал интерес и за границей. Официальная записка об этом деле была переведена на еврейский язык и впоследствии издана в Лейпциге87. Наконец, по участию в рассмотрении этого сложнейшего дела некоторых знакомых и родственников Лермонтова можно заключить, что юноше-поэту оно было хорошо знакомо.
- 722 -
Сыгравшая столь заметную роль в биографии Лермонтова Е. А. Сушкова сообщает в своих «Записках», что в конце января 1829 г. дядя ее, Николай Сергеевич Беклешов, был командирован в Витебскую губернию «производить следствие об убиении жидами христианского ребенка»88. Николай Сергеевич Беклешов, служивший в кавалергардах, был с 1819 г. мужем Марьи Васильевны Сушковой (родной тетки «лермонтовской» Екатерины Александровны Сушковой). Он пользовался уважением и доверием товарищей и общества — кавалергарды избрали его полковым казначеем; в 20-х годах он был уездным предводителем дворянства, в 40-х годах — губернским. У него было довольно почетное военное прошлое — он совершил в 1813 г. поход в Париж и участвовал в сражениях под Кульмом и Фершампенуазом. В 1830 г. он внес крупное пожертвование в фонд «богоугодных заведений»89. Это был, по характеристике его племянницы, «человек до невероятности застенчивый и неразговорчивый», отличавшийся большой добротой и совершенной бесхарактерностью. Этим в значительной степени объясняется и его позиция в велижском деле. Он вступил в процесс уже на шестом году следствия. К этому времени безобразия и полный произвол следователей вызвали «высочайшее» повеление командировать в Велиж надежного чиновника для проверки действий следственной комиссии; министр юстиции остановил свой выбор на статском советнике Н. С. Беклешове как на одном из наиболее культурных и порядочных чиновников. «И именно благодаря присутствию Беклешова, надо думать, в протокол стали заноситься заявления евреев, бросавшие тень на действия комиссии»90. Впрочем, судя по материалам дела, Беклешов, по своей бесхарактерности, вскоре стал послушным орудием в руках Хованского. Во всяком случае это был один из главных следователей процесса, и все обстоятельства этого громкого дела были, несомненно, хорошо известны членам его семьи.
Вскоре — в сентябре 1829 г. — и сама Екатерина Александровна Сушкова, в то время семнадцатилетняя девица, отправилась со своей теткой и воспитательницей Марьей Васильевной Беклешовой в Велиж, где они пробыли до конца декабря. Это был как раз момент высшего напряжения процесса. 5 августа 1829 г. начальник императорского штаба извещал Хованского об опасении своего шефа, «что комиссия, увлеченная своим усердием и некоторым предубеждением против евреев, действует пристрастно и длит без пользы дело». Хованскому предлагалось представить свое мнение «о причинах, кои он имеет полагать, что преступление, евреям приписываемое, действительно учинено». 2 октября 1829 г. Хованский отправил «на высочайшее имя» обширную записку, составленную, по его поручению, Н. Беклешовым. Несколько десятков оговоренных евреев в это время томилось уже четвертый год в велижском остроге.
Е. А. Сушкова вращалась в самой гуще толков и обсуждений столь громкого дела. Обратимся к ее «Запискам». «Тетка <М. В. Беклешова>, взяв меня с собою в Велиж, имела в виду жениха, флигель-адъютанта Шкурина. Он вместе с дядей <Н. С. Беклешовым> производил следствие над жидами. Как на зло Шкурин влюбился в меня, а мне он очень, очень не понравился, но в Велиже он был единственный порядочный кавалер, и я очень благосклонно с ним разговаривала» и пр. Независимо от мотивов, воздадим должное чутью девушки, которой так не понравился петербургский карьерист, всячески пытавшийся доказать мнимые преступления евреев.
- 723 -
Другим поклонником Сушковой был князь А. Друцкой-Соколинский, исправник велижского нижнего земского суда, также близко осведомленный во всех обстоятельствах дела (он принимал ближайшее участие в расследовании ритуального убийства). Вне всякого сомнения, молодую девицу интересовали танцы и цветы несравненно больше «следствия над жидами». Но также несомненно, что она постоянно слышала об этом деле от всех окружающих, а при своем уме, впечатлительности, начитанности и даже оказавшихся впоследствии литературных способностях не могла вполне безразлично отнестись к этому жестокому делу.
Через три-четыре месяца после отъезда из Велижа Е. А. Сушкова познакомилась с Лермонтовым. Дядя ее, Беклешов, продолжал в это время следствие в Велиже, куда снова отправилась и тетка Марья Васильевна, оставив свою воспитанницу на попечении московской сестры. Дело о «ритуальном» убийстве продолжало оставаться главной заботой семьи Беклешовых, естественно возбуждая интерес в среде московских родственников, т. е. Прасковьи Васильевны Сушковой и ее близких знакомых — Верещагиных, Столыпиных и Арсеньевых.
Бабушка Лермонтова, Е. А. Арсеньева, находилась в ближайшем свойстве с видным государственным деятелем александровского времени — адмиралом Н. С. Мордвиновым, который сыграл важнейшую роль в разоблачении велижской инсценировки. Родной брат Е. А. Арсеньевой, обер-прокурор сената А. А. Столыпин (скончавшийся в 1825 г.), был женат на дочери Н. С. Мордвинова Вере Николаевне, которой посвящено стихотворение Рылеева «Не отравляй души тоскою»; оно заканчивалось хвалебным афоризмом, обращенным к молодому поколению семьи: «знайте: им отец Столыпин, дед Мордвинов». Учившийся в Англии, Н. С. Мордвинов был последователем Адама Смита и Бентама, сторонником политического либерализма, единомышленником Сперанского; несмотря на отсталость его взглядов на крестьянский вопрос, он пользовался широкой популярностью в передовых кругах дворянского общества за смелость и прямоту своих высказываний; в верховном суде над декабристами единственный голос против смертной казни был подан Мордвиновым; в политической атмосфере 1826 г. такое поведение свидетельствует об исключительном мужестве и стойкости. Пушкин считал, что «Мордвинов заключает в себе одном всю русскую оппозицию». В стихотворном посвящении этому «новому Долгорукому» Пушкин приветствует его за «мощный труд» и высокую справедливость:
Вдовицы бедный лепт, и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою.В кругах декабристов решено было передать после переворота верховную власть Мордвинову и Сперанскому. Неудивительно, что отдельное издание «Дум», вышедшее в 1825 г., было посвящено Рылеевым этому российскому «Аристиду» и «Цицерону», которому поэт незадолго перед тем посвятил оду «Гражданское мужество» («Кто этот дивный великан...»). Наряду с такими блестящими стихами, прославляющими Мордвинова, следует отметить еще одну малоизвестную похвалу ему. Когда велижские евреи вышли из заточения, они ввели в свою молитву, прославляющую патриархов и пророков, дополнительный стих: «W’gam Mordwinow sochur ltow...» («И да будет Мордвинов помянут к добру»). Эта смиренная похвала может сохраниться среди других почетных званий славного адмирала как память об одном из его самых благородных дел.
- 724 -
Свойственное Мордвинову стремление к справедливости побудило его выступить на защиту велижских евреев, а вместе с ними и всей еврейской нации от ложных кровавых наветов. В противовес высокопоставленным фанатикам, усиленно занимавшимся подтасовкой фактов и фальсифицированием улик и свидетельских показаний, Мордвинов в 1827 г. представил Николаю I записку велижских евреев, обратившихся к нему за помощью и поддержкой. В этой записке излагался весь ход мрачнейшего процесса и сообщалось о таких закулисных фактах, как трагическая смерть в кандалах заключенного подростка, арест которого поражал своим произволом и бессмысленностью. После этого выступления Мордвинова Николай I оказался вынужденным послать одного из своих флигель-адъютантов «для смотрения за порядком следствия», но выбор оказался неудачным, и полковник Шкурин (о котором пишет в своих воспоминаниях Е. А. Сушкова) полностью солидаризировался с чиновными и сановными антисемитами, руководившими до него ходом следствия. Между тем Мордвинов, владевший имением вблизи Велижа и хорошо знавший характер и нравы местных евреев, продолжал настаивать на их полной невиновности, стремясь ввести этот безобразный и преступный процесс в рамки законности.
Но выполнить такое задание Мордвинову удалось лишь к самому концу процесса — в 1834 г., когда дело поступило на рассмотрение в Государственный совет; в качестве председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного совета Мордвинов со всей категоричностью заявил, что «евреи пали жертвою заговора, жертвою омраченных предубеждением и ожесточенных фанатизмом следователей с кн. Хованским во главе».
По свидетельству биографа Мордвинова, он «подал в Государственный совет замечательный реферат от департамента гражданских дел, составленный им самим, по делу о велижских евреях, обвиненных в умерщвлении христианских детей... Мордвинов не допускает даже мысли о возможности подобного преступления, а происхождение самого обвинения он объясняет отчасти корыстною целью, отчасти религиозным фанатизмом. В заключение же своего мнения он ходатайствует не только об освобождении подсудимых, но даже о вознаграждении их, как потерпевших убытки, а доносительниц предлагает сослать в Сибирь, чтобы устранить таким образом на будущее время самую возможность подобных обвинений»91.
«При настоящем состоянии просвещения, — писал в своей записке Мордвинов, — дело сие не долженствовало бы входить в круг предметов судебного рассмотрения, но как по оному подвергнуты тюремному заключению 42 человека евреев разного пола и возраста, а притом оное является в таком свойстве, в каком подобных не представляет и древняя судебная практика, то гражданский департамент вменил себе в обязанность рассмотреть все обстоятельства оного с подробностью и полным вниманием, дабы таким образом положить конец предубеждению, наносящему укоризну просвещенному веку»92.
Приведя целый ряд обстоятельств, рисовавших действительную картину навета, Мордвинов пришел к твердому заключению, что «обвинение евреев в ужасных преступлениях имело источником злобу и предубеждение и было ведено под каким-то сильным влиянием, во всех движениях дела обнаруживающимся».
- 725 -
Записка Мордвинова сыграла решающую роль. Общее собрание Государственного совета стало на точку зрения Мордвинова, подчеркнув, что в докладах Хованского «древнее против евреев предубеждение решительно уже признается достоверным и принимается в основу всего мнения»93. Государственный совет постановил: «евреев-подсудимых от суда и следствия освободить; доносчиц-христианок — крестьянку Терентьеву, солдатку Максимову и шляхтянку Козловскую — сослать в Сибирь на поселение». Так как общее собрание отвергло постановление департамента гражданских и духовных дел о вознаграждении невинно томившихся в темнице евреев, то Мордвинов внес в протокол особое заявление, в котором доказывал, что «правительство, карающее виновных, обязано вознаграждать невинных»94.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ИСПАНЦАМ“
Рисунок Г. Петрова, 1940 г.
Собственность художника, ЛенинградРоль и позиция Мордвинова в велижском процессе, определившиеся уже в 1827 г., были хорошо известны в кругах тогдашнего общества
- 726 -
и не могли не вызывать особого интереса в ближайшей родственной среде, к которой принадлежали Е. А. Столыпина и Е. А. Арсеньева.
«Николай Семенович Мордвинов, воспетый русскими поэтами, был для Лермонтова просто „дедушкой Мордвиновым“. Столыпины его любили и уважали. А Елизавета Алексеевна всякий раз, когда бывала в Петербурге, по-домашнему навещала старого графа и очень дорожила этой родственной связью. Через Мордвинова впоследствии хлопотала она о Лермонтове, когда за стихи на смерть Пушкина он был выслан на Кавказ. (Н. С. Мордвинова неоднократно упоминает Е. А. Арсеньева в письмах ее к П. А. Крюковой за 1834—1837 годы.)»95.
Летом 1830 г. Екатерина Александровна Сушкова постоянно посещала подмосковное имение Е. Столыпиной Середниково, где гостила с внуком Мишелем Елизавета Алексеевна Арсеньева (невестка хозяйки). В эту среду, где дело о велижских евреях могло привлекать особое внимание по участию в нем близкого родственника Мордвинова, через Е. А. Сушкову, естественно, проникали последние известия о ходе процесса, который в это время задерживал в Велиже ее воспитателей Беклешовых.
Как раз к лету 1830 г. относятся первые наброски к трагедии «Испанцы»96. Тогда же были написаны Лермонтовым замечательные строфы, смысл которых раскрывается лишь на фоне подлинных событий эпохи:
Плачь! плачь! Израиля народ,
Ты потерял звезду свою;
Она вторично не взойдет —
И будет мрак в земном краю;
По крайней мере есть один,
Который все с ней потерял;
Без дум, без чувств среди долин
Он тень следов ее искал!..Мы не обладаем возможностью точно определить, что́ именно знал Лермонтов из велижского следствия, какие факты и обстоятельства этого сложного процесса дошли до его сведения, какое освещение они получили в толках его ближайшего окружения. Но мы не сомневаемся в том, что чуткому сознанию начинающего поэта здесь впервые во всей глубине раскрылся тот мир ужасающих страданий, в какой были ввергнуты ни в чем не повинные люди, и что именно эта бесчеловечная жестокость, официально осуществлявшаяся в николаевской России, пробудила в шестнадцатилетнем Лермонтове то чувство высшей справедливости, которое с такой юной горячностью и силой протеста сказалось в его первой трагедии.
Нам остается поэтому наметить главное направление и обрисовать руководящих деятелей велижского процесса, чтобы лучше понять основные темы и центральных героев «Испанцев». Здесь важны не отдельные соответствия или частные совпадения старинного следствия с драматической поэмой, а та общая атмосфера мук и скорби, организованной неправды и всенародной обреченности, которая раскрылась в русской действительности той поры и могла сообщить тон глубокой безнадежности первой трагедии Лермонтова.
С одной стороны, жестокое беззаконие всевластных и безответственных чиновников, с другой — невиданная мука и героическая стойкость безвинных жертв этой смертельной травли. «Велижские евреи пали жертвою заговора, — сообщает в своем исследовании об этом деле Ю. Гессен. —
- 727 -
Над трупом несчастного ребенка составился молчаливый союз врагов евреев. До нас дошли лишь несколько имен, но и по ним видно, как суеверие, жестокость и злоба сплотили воедино людей разнообразного служебного положения, различных общественных классов» — от пьяного сапожника до генерал-губернатора трех губерний97.
Душой же этого сплоченного заговора был ближайший сотрудник кн. Хованского, Страхов. Именно он подвергал евреев, по словам старинного судопроизводства, «разным истязаниям и угнетениям». Так, в ночь с 18 на 19 ноября 1826 г. прохожие слышали доносившиеся из дома следователя «чрезвычайные вопли и ужасные стоны»; оставшиеся на свободе родственники арестованных решились обратиться с жалобой в сенат. Как выяснилось вскоре, «Страхов противозаконно заковал в кандалы евреев сейчас же по взятии их под стражу», не сделав исключения даже для тяжело больных; одного из больных он «содержал в самом изнурительном месте, а сначала и в кандалах, от чего тот лишился жизни». Согласно записке, поданной евреями Мордвинову, «жертвы невинные томятся в оковах и даже так, что не только в жесточайших своих болезнях, но и последние минуты своей жизни не имеют от оных освобождения; один ужас и отчаяние остались им в удел и мучительные пытки владеют их сердцами. Сострадание не имеет места в сердце ожесточенного следователя, он неумолим и человечество перед ним — ничто».
Некоторые факты, приведенные в записке, указывают на возмутительные насилия, чинимые Страховым над арестованными женщинами: «несколько времени он содержит в своей комнате молодую, отвлеченную от мужа евреянку, дочь витебского еврея Зейлика Зейликсона... ни единая из женщин к ней не допускается, он сам <состоит> ее стражею и никто не известен о приготовленной ей участи».
«Из числа же одержимых болезнью, — повествует далее записка, представленная Мордвинову, — Янкель Гирш Аронсон, бывший во время несчастного происшествия не более 13 или 14 лет отроду, приближался к минутам смерти; просили следователя облегчить наложенные на него оковы, ибо он и без них не был подвижен с места; умоляли его дозволить ему исполнить долг покаяния, неотъемлемый даже и в самых грубых нациях от подсудимых, и допустить по крайней мере родную его мать принять последний вздох измученного ее сына, но никакие убеждения, ни слезы родственников, ни даже самое отчаяние раздираемой прискорбием матери не были сильны тронуть следователя: он ничего не дозволил, велел прогнать с жестокостью мать и родственников, и злополучный Янкель 21 апреля скончался, заключенный в оковах, как изверг природы и убийца жесточайший. Сей самой участи ожидают и другие, чрезвычайною болезнью одержимые».
Невольно вспоминаются негодующие строки из лермонтовской драмы:
И люди заставляют демонов краснеть
Коварством и любовью к злу!..По словам Фернандо, благородные испанцы особенно беспощадны к иноверцам: если только «нет креста на шее бедняка», он обречен на погибель.
Но такая обреченность не могла поколебать решимости велижских подсудимых не принять на себя вины даже для спасения жизни. Так, один из них — Ицка Нахимовский, измученный пребыванием в тюрьме,
- 728 -
разоренный, с совершенно расшатанным здоровьем, говорил на допросе грозному Шкурину, что у него, Нахимовского, остались три вещи в полном здравии — память, язык и душа: «память его будет помнить, язык будет говорить, душа чувствовать правду о пережитых обидах и мучениях», ибо эта правда послужит спасению множества людей — быть может, всего его народа.
Такую же полную достоинства и благородства позицию занял и другой арестованный — бедный «меламед» Хаим Хрипун; согласно его показанию, «он просит бога, чтоб Марья Терентьева <главная «обвинительница» евреев> была жива, ибо настанет время, когда она скажет правду»; пока же он готов итти на виселицу, но никогда не признает правильности показаний Терентьевой, «как и все без изъятия живущие в разных государствах евреи», предпочитающие смерть подтверждению ложного навета на их народ. О себе он не беспокоится, острога не боится, принимает в жизни одинаково и хорошее и худое, и единственно, что его беспокоит, это его недостаточное знание русского языка, которое может помешать комиссии правильно записывать его показания и тем служить раскрытию правды.
По свидетельству историка велижского дела, «почти все обвиняемые проявили во время мучительного процесса героическое самообладание, особливо Славка Берлин, достойная быть увековеченной рукою художника»98. «Гордая, властная, непоколебимая, она и в тюрьме сохранила в себе все черты своей чисто библейской красоты. Тюрьма у нее отняла все. Один за другим умерли и были „выкинуты, как падаль“, ее ближайшие родственники. Муж, жена сына, муж дочери, — все они ушли в лучший мир, предоставив ей одной все ужасы темницы. Далеко от нее сидел закованный в кандалы ее единственный сын Гирш. Из братьев не спасся никто. А между тем какая-то невидимая внутренняя мощь одухотворяла ее и тогда, когда неизвестные ей темные пьяные бабы в лицо называли ее своей соучастницей в ужаснейшем по своей обстановке убийстве невинного младенца, и тогда, когда Страхов грубым прикосновением рук „вразумлял“ ее, как стоять перед комиссией, и тогда, когда генерал-губернатор Хованский останавливался у двери ее камеры... В последние годы своего тюремного заключения она совершенно отказалась давать показания, никого не удостаивая ответа, даже и тогда, когда комиссия во главе с Шкуриным и Беклешовым, приходила допрашивать ее в ее камеру»99.
Такова была обстановка велижского дела. В одиночных камерах неповинные люди гибли в кандалах или замыкались от грубых оскорблений в свою молчаливую скорбь. А где-то рядом, в залах дворянского собрания, гремела музыка и сановные следователи развлекались от докучного «следствия над жидами» модными танцами с приезжими девицами.
Одной из них вскоре пришлось познакомиться с Лермонтовым и даже внушить ему первое сильное чувство. Одновременно с любовными элегиями, обращенными к Кате Сушковой, Лермонтов начал писать и своих «Испанцев».
«...я, испанский дворянин, могу тебя суду предать»; «...кто мать твоя?.. — Верно уж жидовка...»; «Бродяга... плут, найденыш!..»; «Итак смирись, жидовское отродье, / Чтоб я тебя из жалости простил!..» — так обращается знатный гидальго дон Алварец с молодым Фернандо, чуя
- 729 -
в нем представителя еврейского народа. По словам доминиканца, «жид все равно, что еретик», а еретиков «лишают жизни и повергают в прах...». Неудивительно, что старик Моисей умоляет юношу Фернандо: «Спаси меня от инквизиции...». И на слова Фернандо: «я хочу тебя спасти», Моисей восклицает: «Клянусь Иерусалимом, что он не христианин».
ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ К „ИСПАНЦАМ“
Акварель Р. Фалька, 1940 г.
Еврейский театр, МоскваДевушка Ноэми говорит о счастье, несправедливо отнятом у евреев, словно они «не люди»; их гонители превозносят кротость и любовь к ближним только для того, «чтоб в гибель повергать друг друга...». Они забывают о великом начале равенства людей: «И их пророк рожден в Ерусалиме», подлинная человечность — в среде презренных и гонимых. Когда воспитанник испанских аристократов Фернандо кидается свершать страшный акт мести («О! как я отомщу...»), Моисей умоляет «бога Израиля» хранить юношу от преступления. В заключение трагедии происходит глубоко знаменательный диалог между старой прислужницей Сарой и одним из испанцев у дома Алвареца:
Испанец (сухо).
Жидовка умереть одна не может? —
Пускай она издохнет!.. И Фернандо,
Как говорят, был сын жида. —Сара.
Он сын
По крайней мере человека — ты же камень!
- 730 -
Другой лейтмотив трагедии — характерная тема жестокого расследования и беззаконного суда. В отчаянном возгласе Фернандо: «Где суд в Испании? Есть сборище разбойников!..»; в его горьком недоумении: «как странно: — без пытки спрашивает он меня!..»; в безнадежном стоне несчастной Ноэми: «Закон — тиран!» — как бы слышатся прямые отголоски чудовищной велижской юстиции.
Тема инквизиционного суда начинает звучать в первой же сцене «Испанцев»: это рассказ Соррини об одной романтической истории в Мадриде, взошедшей на рассмотрение «инквизиции святой»:
...Но так как бедный сей испанец
Служил при инквизиции писцом,
То в дело все вошли по праву мщенья:
Преступницу наказывали долго,
Именье в пользу церкви обратив, —
И наконец замучили до смерти!(Все содрогаются.)
Самую сущность этого беспримерного суда выражает главный инквизитор в сцене ареста Фернандо:
Ты на костре пылающем увидишь,
Что хочет инквизиция святая!И ту же неразрывность суда, пытки и казни отмечают люди из толпы на улицах Кастилии:
Он в город приведен сегодня, взят
В тюрьму; уж суд над ним окончен;
Костер стоит готов — я видел сам;
У нас не любят очень долго мешкать,
Когда какой-нибудь монах обижен; —
Сейчас сожгут, хотя не виноват...Можно полагать, что действия следователей, предпринимавших в глуши Витебской губернии сложнейшую организацию грубых подлогов, ложных доносов и бесчеловечных оговоров, нашли художественное отражение в сцене сговора Соррини с доминиканцем:
Я напишу, как ты мне говорил,
А там и в суд с убийственной бумагой!Замечательна и заключительная сцена четвертого действия:
Доминиканец
Донос готов!
Соррини (подписывает)
Я подписал!
Доминиканец
И я!..Следует обсуждение выбора мучительнейшей казни: костер, четвертование, расплавленный свинец в горло?
Доминиканец
Пойдем!
И с помощью святого Доминика
Еретика без жизни в прах повергнем!(Уходят в радости.)
С этой темой инквизиционного суда, доносов, подлогов и пыток тесно связана у Лермонтова другая господствующая тема его трагедии — воинствующий
- 731 -
католицизм, объявляющий непримиримую войну еврейству. События, разыгравшиеся в Велиже, могли дать достаточно богатый материал для разработки этой темы. Борьба за отторжение униатов от католицизма заставляла духовенство обоих этих исповеданий заботиться об усилении своего авторитета в народе любыми средствами. «Путь религиозного воздействия на массы посредством возбуждения ритуальных процессов против евреев — это был путь старый, испытанный и дававший очень хорошие результаты. И было бы странно, если бы в поисках за средствами к созданию в массах известного настроения, частные ревнители унии упустили из виду и этот случай... Весною 1823 года Святодухов униатский собор <в Велиже> был закончен постройкой и освящен, и тогда же был в Гуторовом Крыже случайно найден труп младенца»100. Начался ритуальный процесс, приведший вскоре к закрытию еврейских школ в Велиже, развернувший широкую антисемитскую пропаганду католического и униатского духовенства.
МАКЕТ ДЕКОРАЦИИ К „ИСПАНЦАМ“
Художник Р. Фальк, 1940 г.
Еврейский театр, МоскваВлияние католичества разнообразно сказывалось на ходе процесса. В нем фигурировал польский памфлет «Злость жидовская», написанный ксендзом Гауденцием Пикульским в 1760 г. Из судебных архивов были извлечены акты старинного «ритуального» дела — ленчицкого процесса 1639 г. Судебное следствие николаевской эпохи обратилось к истории преследований евреев в XVII в. (т. е. в эпоху, близкую ко времени действия «Испанцев» Лермонтова). Ленчицкое ритуальное дело было организовано местными монахами-бернардинцами в целях привлечения внимания верующих к новым «святыням» — костелу и монастырю, основанным
- 732 -
в Ленчице в 1632 г. После четвертования двух оговоренных евреев, отрицавших под жестокой пыткой свою вину, отцы-бернардинцы поместили «мощи замученного ребенка» в ризнице костела.
Обвинение 1639 г. тщательно сохранялось католическим духовенством в народной памяти. В 1822 г., т. е. накануне велижского дела, местный костел заказал живописцу Орловскому написать большую картину, изображающую, как евреи выцеживают кровь из тела замученного ребенка; выполняя заказ, живописец придал одному из изображенных лиц сходство с известным в Ленчицах евреем. «Картина эта, будившая в народе ненависть к евреям, была помещена бернардинскими монахами на фасаде их церкви. По жалобе евреев русские власти предписали ее снять. Но в следующем году Орловский написал такую же картину в увеличенном размере, изобразив на ней в качестве мучителей ребенка ленчицкого раввина и другого ленчицкого еврея». Католическое духовенство изображением раввина заостряло «религиозный» характер своей борьбы с еврейством. «Новая картина также была помещена на фасаде церкви, и когда местные власти пожелали снять ее, духовенство воспротивилось. Видя это столкновение <в марте 1823 г.>, отставной поручик Венцеслав Дунин-Скржино бросился в приходскую церковь и приказал своему лакею ударить в набат, а затем, вернувшись к церкви бернардинов, стал призывать народ заступиться за духовенство. Его возгласы „да здравствует вера“ увлекли сбежавшуюся толпу; она разбушевалась, и власти должны были отступить перед ней». Католические монахи торжествовали победу.
Вот какие странные события, словно вырванные из средневековых хроник, происходили в России 1823 г., где уже творил Пушкин и подрастал Лермонтов.
Когда поэт обратился в 1830 г. к теме борьбы христиан с евреями, он выдвинул на первый план фигуру иезуита, придав ей особенно резкие черты бесчеловечности. Исторические фигуры монахов-бернардинцев, ксендза Паздерского, униатского священника Тарашкевича, киевского митрополита Евгения, ксендза Луковича, каноника Гауденция Пикульского, выступившие такими зловещими тенями в велижском деле, словно возвещают лермонтовские типы «ревностных служителей веры» — служащего при инквизиции итальянца-иезуита патера Соррини и его единомышленника — доминиканца:
Должно быть, ты узнал
Пристанище богатого жида
Или, что все равно, еретика,
Веселье на лице твоем блистает! —говорит один из этих «святых служителей божиих» другому. В их образах Лермонтов не перестает вскрывать противоречие их духовного звания с их разнузданными инстинктами. «Старый сластолюбец» Соррини ходит всегда под маской, прикрывая смирением неукротимые вожделения своей алчности и похоти. Под пером Лермонтова его фигура вырастает до огромного обобщения идеи Ватикана и сущности «святейшего престола»:
Великий Инквизитор обещал
У нашего отца святого выпросить
Мне шапку кардинала, если я
Явлюсь ее достойным — то есть,
Обманывать и лицемерить научусь!
- 733 -
Овладев в совершенстве этой наукой, Соррини собирается «прямо в папы»...
С католическим духовенством тесно связаны интересы испанского дворянства. Гранд Алварец гордится своим предком, который служил «при инквизиции священной»:
Три тысячи неверных сжег и триста
В различных наказаниях замучил...Такими служителями алтаря и престола возмущается Фернандо:
У них, чтоб угодить вельможе или
Монаху, можно человека
Невинного предать кровавой пытке! — — —
И сжечь за слово на костре...Трудно не расслышать в таких стихах живых отголосков поэта на длившуюся в то время следственную трагедию, трудно не почувствовать отражения подлинной власти князей Хованских и флигель-адъютантов Шкуриных в заносчивой реплике лермонтовского дона Алвареца: «я, испанский дворянин, могу тебя суду предать...».
Дворяне — испанские или русские, в XVI или в XIX в., в блестящей Кастилии или в убогом Велиже — были одинаково всемогущи над теми, кто не мог, подобно им, «пятнадцать прадедов» назвать. В первую очередь эта неограниченная власть распространялась на еврейское население испанских провинций и российских уездов. Лермонтовский Моисей бежал от инквизиции; он селится, как зверь, в горах, в дикой местности, подальше от испанцев. Стон вековых гонений и отголосок длящейся жестокой травли звучат в возгласе лермонтовского старца:
О Израиль!
Израиль!.. ты скитаться должен в мире,
Тебя преследуют стихии даже...
И бог твой от тебя отворотился.В таких душераздирающих воплях страдания наряду с отголосками тысячелетних жалоб, отозвавшихся и в «Еврейских мелодиях» Байрона, позволительно расслышать ноты, с такой глубиной и силой прозвучавшие в записке велижских евреев Мордвинову или в их показаниях Беклешову.
В последней сцене «Испанцев» с особенной силой звучит мотив героической стойкости одного из осужденных «святой инквизицией» на мученическую смерть:
Все кончилось! я был в суде, Фернандо
Ведут на казнь, его пытали долго,
Вопросы делали — он всё молчал, ни слова
Они не вырвали у гордого Фернандо —
И скоро мы увидим дым и пламя.Все это в романтической трагедии Лермонтова отзывается исторической современностью. С таким живым чувством справедливости разрабатывает юноша-Лермонтов тему о народе, который, по слову историка, соединяет новый век «с колыбелью рода человеческого». Не станем все же скрывать, что в писаниях Лермонтова можно встретить и другие ноты; их можно расслышать в «Преступнике», в «Сашке», где они являются, видимо, отзвуком мнений той аристократической среды, в которой вращался Лермонтов, той гвардейской школы, в которой он воспитывался;
- 734 -
они менее всего соответствуют основному тону мысли и чувств автора «Кинжала» и «Мцыри». Так, юнкерские поэмы не способны ни на мгновение затмить в наших глазах чистоту и прелесть «Ветки Палестины», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Ангела» и других шедевров лермонтовской лирики. Непоколебленной остается в творчестве Лермонтова и страстная защита в его ранней драме древнего народа, обреченного и в новое время на историческую трагедию. Первым героем Лермонтова остается юноша-еврей, сохраняющий среди оскорблений испанских грандов и преследований католических монахов свое героическое мужество и высокое человеческое достоинство.
Юношеская трагедия Лермонтова полна борьбы и отзвуков современной истории. «Жизнь скучна, когда боренья нет», — пишет Лермонтов в 1831 г., вскоре после окончания «Испанцев», уже предвосхищая руководящий догмат своей зрелой поэтики, навсегда отчеканенный в знаменитых стихах: «Бывало, мерный звук твоих могучих слов / Воспламенял бойца для битвы...». Таким борцом за справедливость, за человеческие права, за угнетенный и оклеветанный народ, против всех тиранов в мундирах и сутанах выступил в своем первом создании этот ранний почитатель Шиллера. Знаменитый эпиграф «Разбойников» — «In tyrannos!» мог бы возвещать и лермонтовские протесты против гнета тайного суда и преступной власти иезуитов и грандов. Эту патетику начинающего Лермонтова зорко почувствовал Белинский, писавший в известном письме к Боткину: «Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме, „Боярину Орше“ и т. п. ...Все это детски, но страшно сильно и взмашисто. Львиная натура! Страшный и могучий дух!»101.
Перед таким мощным интеллектом в 1830 г. встала во всем своем объеме и глубине проблема справедливости, и притом не в отношении отдельных людей, а в жизни целых наций, в историческом прошлом и в политической современности.
Велижское дело ставило перед пытливым сознанием и чуткой совестью начинающего поэта не просто уголовный случай, а огромную и мучительную проблему обвинения целого народа в неслыханном изуверстве и бесчеловечности (именно так, как мы видели, формулировал в Государственном совете сущность дела Н. Мордвинов: «общий вековой вопрос...», «древнее против евреев предубеждение...»). В своих «Испанцах» Лермонтов, как бы отвечая на эти вековые обвинения, выступает с оправданием целого народа, изображая его на всем протяжении драмы морально чистым и душевно возвышенным, несмотря на жестокие унижения, каким он подвергается со стороны христианского общества и государства.
Таково было подлинное творческое событие, незаметно совершавшееся в России 1830 г. В момент тяжкого обвинения евреев в диком фанатизме и кровожадности, пока еще длился зловещий процесс и никто не мог предугадать его исхода, молодой поэт обратился к теме еврейского народа, чтобы возвести образы его представителей в трагические типы высокой человечности и подлинной нравственной просветленности. В этом неумирающее значение «Испанцев». Изучение трагедии на конкретном историческом фоне не только углубляет ее смысл, не только проясняет её образы и раскрывает в юном Лермонтове те черты поэта-борца и мыслителя-гуманиста, которые во всей глубине раскрылись в его позднейшем творчестве. Оно показывает всю актуальность трагедии для наших дней, когда фашистские человеконенавистники, воскрешая самые мрачные стороны
- 735 -
средневековья, возводят расовую нетерпимость в принцип, оправдывая им свои чудовищные злодеяния. «Испанцы» Лермонтова дороги нам как произведение с исключительной силой разоблачающее расовые теории современных каннибалов и мобилизующее на борьбу с ними.
Но к началу 40-х годов Восток предстает перед Лермонтовым в других аспектах и проблемах: борьба Египта с Турцией, столкновение интересов крупнейших западных государств вокруг путей в Индию, противоречия в мировой политике Англии и России, непосредственное соприкосновение с народами Востока — все это обращает его мысль к текущей международной хронике и с новой силой пробуждает в нем желание «проникнуть в таинства азиатского миросозерцания».
ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ А. НОРОВА „ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕГИПТУ
И НУБИИ“, 1840 г.
Библиотека Московского государственного университета, МоскваXI. ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЕРМОНТОВА
Участник военных действий на юго-восточной окраине России, Лермонтов часть зимы 1841 г. провел в Петербурге, умственном и правительственном центре страны, где события на Кавказе и перспективы дальнейшего наступления на Азию строились теоретически и разрабатывались в плане государственной философии. В политических салонах и литературных кругах столицы тема Востока широко дебатировалась в связи с текущими международными событиями. Об этом свидетельствует сохранившийся отрывок весьма значительных высказываний Лермонтова в беседе с редактором «Отечественных Записок» А. А. Краевским в феврале — марте 1841 г.
- 736 -
«Он мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направления „Отечественных Записок“. — „Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским? Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, — обращался он к Краевскому, — там на Востоке тайник богатых откровений“»102.
Беседы на такие темы с Краевским могли представлять некоторый интерес для Лермонтова. В 30-х годах Краевский еще не вполне пожертвовал своими первоначальными научными заданиями в пользу журналистики. Историк и популяризатор философских доктрин, член археологической комиссии и автор монографии о Борисе Годунове, он заинтересовался к концу 30-х годов вопросами древней истории и египтологии. В 1836 г. он издал «Образцовую историческую таблицу для древней истории», в 1840 г. приступил к переводу большой двухтомной монографии А. Б. Клота-бея «Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии» (она была издана в 1843 г., но цензурное разрешение первого тома датировано 18 июня 1841 г.)103. К беседам с Лермонтовым о Востоке Краевский приступал не без некоторых специальных познаний.
Слова Лермонтова: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания», перекликаются с поздними восточными мотивами Лермонтова. Именно так звучит его признание в «Сашке»:
Не веры я ищу, — я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Восток...В этом отношении представляет особенный интерес заключительная новелла «Героя нашего времени» — написанный в 1839 г. «Фаталист», также подсказанный Лермонтову его общим интересом к Востоку»104.
К этому можно прибавить, что тема фатализма звучит и в «Валерике»:
Мой крест — несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?
Не всё ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе как турок иль татарин
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили...Здесь уже не народные поговорки, вставленные в реплики казачьего есаула и Максима Максимыча («своей судьбы не минуешь», «так у него на роду было написано»), а выражение личного умонастроения поэта. Эти строки «Валерика» дают основание считать, что под конец жизни Лермонтов усвоил некоторые черты восточного учения о предопределении и новелла «Фаталист» выражала какой-то характерный уклон его мировоззрения.
«Лермонтов, при близком знакомстве с мусульманским Кавказом, не раз отмечал веру в судьбу как важную черту в мировоззрении и характере своих героев. Так, в „Турецкой сказке“ — „Ашик-Кериб“ есть эпизод: богач Куршуд-бек обманом женится на невесте бедняка Ашик-Кериба, но в самый разгар свадебного пира является Ашик-Кериб, и невеста
- 737 -
бросается к нему в объятия. Брат Куршуд-бека кинулся на них с кинжалом, но Куршуд-бек остановил его, промолвив: „Успокойся и знай; что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует“»105.
Приехав из Петербурга в Москву, Лермонтов постоянно встречается с Юрием Самариным, которому и вручает вскоре свое новое стихотворение о древнем и новом Востоке. «Вечером часов в 9 я занимался один в своей комнате, — записал Самарин в своем дневнике. — Совершенно неожиданно входит Лермонтов. Он принес мне свои новые стихи для „Москвитянина “ — „Спор“».
ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ А. КЛОТА-БЕЯ „ЕГИПЕТ В ПРЕЖНЕМ И НЫНЕШНЕМ СВОЕМ СОСТОЯНИИ“, ПЕРЕВЕДЕННОЙ А. КРАЕВСКИМ В 1840—1841 гг.
Библиотека Московского государственного университета, МоскваВ первой половине мая 1841 г.106 Ю. Ф. Самарин писал к М. П. Погодину: «Посылаю вам приношение Лермонтова в ваш журнал. Он просит напечатать его просто, без всяких примечаний от издателя, с подписью его имени. Радуюсь душевно и за него, и за вас, и за всех читателей „Москвитянина“». Как указывает публикатор, «при этом письме было приложено превосходное стихотворение Лермонтова под заглавием „Спор“, которое было напечатано еще при жизни Лермонтова, то-есть в июньской книжке „Москвитянина“»107. К тому же «Спору» издатели относят и другое свидетельство Юрия Самарина (перевод с французского): «Никогда не забуду нашу последнюю встречу за полчаса до его отъезда. В самый момент расставания он передал мне стихотворение — последнее свое произведение. Все это возникает в моей памяти с невероятной подлинностью. Он сидел на том самом месте, с которого теперь пишу вам. Он говорил
- 738 -
о своем будущем, о своих литературных планах, и вдруг бросил несколько слов об ожидающем его близком конце; это было принято мною за обыкновенную шутку. В Москве я был последним, кто пожал ему руку»108.
Все это дает возможность довольно точно определить время и место написания «Спора». 13 апреля в Петербурге Лермонтов получил от Одоевского тетрадь, в которую вскоре стал записывать это стихотворение; в самых первых числах мая он выехал из Москвы, вручив автограф Самарину. Написание «Спора» датируется второй половиной апреля 1841 г., когда Лермонтов находился в Москве.
Историческая философия Лермонтова носит некоторые следы пройденной им школы и отчасти его профессиональной среды. Еще в 1832 г., поступая в Школу гвардейских подпрапорщиков, он писал М. Лопухиной: «...до сих пор я жил для литературной карьеры, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вот теперь я — воин...». С этого времени военная деятельность переплетается в биографии Лермонтова с творческой работой и налагает заметный отпечаток на его поэзию. В петербургской гвардейской школе преподавание истории и географии, как мы видели, имело выраженный военный уклон. Деятельность Лермонтова как офицера русской армии, несомненно, способствовала усилению его интереса к «батальной» тематике. Характерно, что драматической пружиной его поэм и лирики часто становится война, а исторические созерцания поэта нередко разрешаются картинами вооруженной борьбы народов.
Лермонтову, судя по его «Спору», в высокой степени было свойственно ощущение исторического процесса как единого целого, отдельные этапы которого принимали в представлении поэта конкретность и яркость больших декоративных фресок минувшего.
Именно так раскрыты эпохи человеческого развития в «Споре», где страны Востока показаны на протяжении тысячелетий — от Рамзесов до Ермолова — в живописных и разнообразных видениях поэта. Неощутимо вскрываются глубокая связь событий и фактов различных эпох, неразрывность эволюции государств и народов в едином и цельном потоке времени. Такой принцип исторического мышления и художественного воссоздания прошлого Лермонтов мог вынести из своих занятий историей еще в Московском университете (его интерес к истории, как мы видели, точно засвидетельствован современниками). Вот почему есть основание предполагать, что исторические курсы профессора Ю. Ульрихса возбуждали его интерес и удерживали его внимание. Читая в 1831—1832 гг. специальные курсы, лектор развивал перед слушателями и свои методологические принципы. Они знакомы нам по его «Лекции о сущности, образе представления и цели истории».
Обширность и многообразие предмета требуют, по его мысли, «такого образа представления», который объединял бы события и факты веков «в одно целое»: внутренняя связь явлений и их хронологическая последовательность — вот основные задачи исторического изложения. Раскрытие причин эволюции народов, умение представить в цельной картине последовательные этапы их роста и сопоставить в едином обзоре разные эпохи для общего вывода и суждения о современном человечестве — таков путь подлинного историка. «Такой синхронистический образ представления, разделяя историю на части, составляет разные картины, из коих каждая относится к определенному для нее пространству времени; но беспрерывный ход времени приводит сии части в столь тесную связь, что все
- 739 -
они составляют одно целое, относящееся ко всему пространству времени, которое история обнимает...». Для полнейшего же раскрытия причин, связей и следствий требуется помощь философии, географии и хронологии. Такой метод, или «образ представления», Ульрихс определяет как «соединение прагматического изложения с синхронистическим». Без этого история «лишится единства в системе, она перестанет быть наукой», утратит общую цель109.
Некоторые следы такого исторического метода ощущаются в том творческом раскрытии многих культур на одном отрезке земного шара в течение целой эры, какую дает поистине «картинно» и «синхронистично» Лермонтов в живописной прагматике своего «Спора». География, хронология и философия здесь даны в едином поэтическом синтезе.
«Спор» — одно из самых зрелых стихотворений Лермонтова по богатству своего культурного содержания, по красочной экспрессии национальных характеристик и смелой постановке всемирно-исторической темы под знаком боевых проблем современной международной жизни. Оно раскрывает с особенной полнотой размах и глубину лермонтовской эрудиции. Если новейшая европейская поэзия формировала подчас лирическое дарование Лермонтова, творчество его в не меньшей степени питалось народными преданьями Кавказа, историческими монографиями о Востоке и Западе, литературой ученых путешествий и, наконец, современной журнальной публицистикой. Это сообщало особенную прочность и достоверность его поэтическим картинам, придавало глубокую уверенность его рисунку, внушало неотразимую познавательную силу его описательным страницам. Недаром немецкий переводчик Лермонтова Боденштедт считал, что русский поэт выполнил в своих стихотворениях задание, выдвинутое Гумбольдтом в его «Космосе»: приложить к области поэзии результаты современных научных открытий и исследований природы. «Пусть назовут мне хоть одно из множества толстых географических, исторических и других сочинений о Кавказе, — писал немецкий критик, — из которого можно бы живее и вернее познакомиться с необычайной природой этих гор и бытом их населения, чем из какой-нибудь кавказской поэмы Лермонтова»110.
Мы видели, что фольклорные богатства южных народов, литература о Востоке, ориентальные темы современной поэзии, как и ряд словесных памятников древней Азии, были близко знакомы Лермонтову и творчески восприняты им. Тема древнего Востока принимала в сознании Лермонтова новое значение трагически напряженного современного вопроса. Проблемы доисторической цивилизации переключались в план текущей политической и национальной борьбы. Вавилон и Египет фараонов вели к битвам мятежного паши Мехмеда-Али, поддержанного правительством Луи-Филиппа, с султаном Махмудом, опиравшимся на военные силы Николая I. Библейские сказания о Иосифе и Эсфири как бы освещали трагедию велижских подсудимых, вызвавшую глубокий отзвук в «Испанцах» юноши-Лермонтова. Ориентализм в таком разрезе принимал характер острой актуальности. Древняя Азия помогала понять современный Восток и освещала судьбы тысячелетних народов в условиях государственной цивилизации Европы XIX в. Под конец жизни Лермонтова тема Востока стала слагаться для него в целый поэтический цикл111, к осуществлению которого он приступил в момент политического обострения «восточного вопроса», весной 1841 г. Текущая международная ситуация
- 740 -
обнаружила всю глубину его восприятия и понимания темы Востока, с новой силой раскрыв в гениальном лирике поэта-мыслителя, имевшего право заявить незадолго до смерти о своем «всеведении пророка». Недаром в это время Лермонтов готовился стать руководителем русской литературной жизни, мечтал о своем журнале, задумывал большие эпические полотна об исторических судьбах русских поколений на рубеже двух столетий. Перед великим поэтом, к этому времени окрепшим для огромного творческого труда, открывался «гётевский» путь художника — путь знания и мудрости, на который он только начинал вступать. Смерть Лермонтова, подобно смерти Пушкина, — быть может, одна из самых бессмысленных и жестоких по непоправимому ущербу, нанесенному ею человечеству, — оборвала рост его замыслов и навсегда отняла у мировой мысли того поэта-мудреца, который уже явственно проступает в поэмах его молодости, отмеченных таким пытливым вниманием к древней прародине европейской культуры, раздираемой жестокими битвами современной истории.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Лермонтов, Полное собрание сочинений, Акад. изд., V, 36.
2 «Литературное Наследство» 1935, XIX—XXI, 514.
3 «Projet d’une Académie Asiatique», Saint-Pétersbourg, 1810.
4 «Материалы для истории факультета восточных языков», Спб., 1909, IV, 35.
5 «Библиотека для Чтения» 1840, XLIII, отд. VI, 1—11.
6 W. Golenischeff, Ermitage impérial. Inventaire de la collection égyptienne, Leipzig, 1891, p. V (préface).
7 А. Шенин, Предисловие к IX т. «Энциклопедического лексикона», Спб., 1837, стр. IV.
8 «Библиотека для Чтения» 1840, XLI, отд. V, 51.
9 Лермонтов, Акад. изд., IV, 345—348.
10 В. Мануйлов, Семья и детские годы Лермонтова. — «Звезда» 1939, IX, 113.
11 В. Бартольд, История изучения Востока в Европе и России, изд. 2-е, Л., 1925, 23.
12 «Projet d’une Académie Asiatique», 44—45.
13 Басалаев, Начертание всеобщей истории, изданное при Университетском благородном пансионе, М., 1822, 14. — О библейских мотивах в поэзии Лермонтова писал Л. Семенов: «О том, как глубоко, как тонко понимал Лермонтов поэзию библии, проникался этой поэзией, с каким совершенством претворял библейское в современное, может свидетельствовать поэма „Демон“... Все основное в поэме влилось сюда или непосредственно из библии или из произведений, близких к ней (как „Потерянный рай“ Мильтона, „Фауст“ Гете, „Каин“ Байрона, „Элоа“ Альфреда де Виньи и др.)... Тяготея более к сумрачной ветхозаветной поэзии, Лермонтов создал такие шедевры, как „Пророк“ и „Демон“». — Л. Семенов, Лермонтов, М., 1915.
14 Лермонтов, Акад. изд., IV, 356.
15 Нич, Краткое начертание древней географии. Издано при Университетском благородном пансионе, М., 1825, 154—157, 165.
16 Объяснение этого термина находим в статье О. И. Сенковского, Поэзия пустыни: «Антар, один из семи поэтов, которых творения, возбуждавшие всеобщий восторг, повешены были на золотых цепях в меккском храме Каабе, пантеоне древних аравитян, и оттого получили название моаллака (привешенных)...». — «Библиотека для Чтения» 1838, XXXI, отд. I, 103.
17 С. Шевырев. История Императорского Московского Университета, М., 1855, 449, 553.
18 Ф. Буслаев, Мои воспоминания. — «Вестник Европы» 1890, X, 662.
19 «Материалы для истории факультета восточных языков», IV, 31—32.
20 В. Бартольд, цит. соч., 282—283.
21 Абдоллатиф, или Абдуль-Латыф, — арабский врач и писатель (1161—1231 гг. н. э.), оставивший замечательное «Описание Египта»; оксфордская рукопись этого сочинения была издана по-арабски и по-латыни в 1800 г. Джозефом Уайтом, а в
- 741 -
1810 г. Сильвестером де Саси по-французски; последним изданием пользовался Болдырев.
22 Ср. также: «Краткая арабская грамматика в таблицах, изданная Алексеем Болдыревым, профессором восточных языков при Имп. Московском Университете. Москва, в Университетской типографии», 1827.
23 «Essai sur les mystères d’Eleusis par Ouvaroff», 1816, in-8о.
24 «Библиотека для Чтения» 1838, XXXI, отд. I, 93, 99—100.
25 «Арабская хрестоматия, литографически изданная Алексеем Болдыревым, профессором восточных языков при Имп. Московском Университете, М., в Университетской типографии», 1824. — Отметим, что в хрестоматии Болдырева помещены также арабские изречения и стихотворения из «Anthologie arabe» par Humbert («Несчастье», «Вопросы любовника», «Любовь женщины», «Зефир»).
ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ЛЕРМОНТОВУ
Акварель М. Микешина, 1883 г.
Русский музей, Ленинград26 Н. Козьмин, Н. И. Надеждин, жизнь и научно-литературная деятельность, Спб., 1912, 256, 264.
27 Там же, 350.
28 «Русский Архив» 1893, II (8), 586—588.
29 «Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища, бывшей Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1823—1898)», Спб., 1898. — Отметим, что среди рукописей Лермонтова (Ленинградской публичной библиотеки) имеется тетрадь «Лейб-гвардии гусарского полка юнкера Лермонтова» с записями лекций: «География. В военном отношении европейских государств». — Лермонтов, Акад. изд., V, 35.
- 742 -
30 «Всеобщая древняя и новая история аббата Миллота, содержащая повествование о всех народах мира и доведенная до 1815 г. Новейшее издание. С присовокуплением атласа древней и новой географии (шесть частей). Иждивением Матвея и Ивана Глазуновых. Санкт-Петербург. В типографии Ивана Глазунова, 1820 года», I, 54—56.
31 «Краткая всеобщая география Константина Арсеньева. Тринадцатое издание, исправленное. Москва. В Университетской типографии», 1835, 211—213, 233—234, 208—209.
32 Перев. С. Шервинского. — Гёте, Соч., I, 338.
33 Там же, 605.
34 «Ballades», XV, «La fée et la peri». — Баллада эта считается как бы первой «ориенталией» Гюго.
35 Victor Hugo, Les Orientales — Les feuilles d’automne — Les chants du crépuscule, Paris, 1865, 7—8.
36 Duchesne, Michel Iouriévitch Lermontov, sa vie et ses oeuvres, Paris, 1910, 307.
37 Op. cit., 111.
38 Victor Hugo, op. cit.
39 Duchesne, op. cit., 362—364.
40 А. Подолинский, Повести и мелкие стихотворения, Спб., 1837, II, 134.
41 Г. Гуковский, Пушкин и поэтика русского романтизма. — «Известия Отделения Литературы и Языка Академии Наук СССР» 1940, II, 72—78.
42 И. Андроников, Лермонтов в Грузии. — «Красная Новь» 1939, X—XI, 248.
43 И. Ениколопов, Лермонтов на Кавказе, Тифлис, 1940, 60.
44 Лермонтов и Байрон «оба были люди высокой породы, оба принадлежали к племени Прометея» (В. Д. Спасович); страдания Лермонтова — «нечто вроде мук Прометея, у которого печень вновь вырастает по мере того как ее клюет коршун» (Н. К. Михайловский). Образ Прометея должен был «много говорить его душе: ведь мы привыкли, под влиянием Эсхила, соединять с этим образом и гуманную идею, и начало духовной свободы личности, и что так любил изображать Лермонтов — воплощение гордого страдания». — А. Кравков, Сборник в честь акад. Бузескула, Харьков 1913—1914.
45 С. Клименков, Список книг библиотеки казенных студентов Московского университета, М., 1838 (отдел II: книги словесные и политические).
46 И. Эйгес, Перевод М. Ю. Лермонтова из «Вертера» Гете. — «Звенья», сб. II 1933.
47 Алексей Веселовский, Прометей в кавказских легендах и мировой поэзии. — «Этюды и характеристики», М., 1903, 733.
48 Гёте, Соч., II, 95.
49 Алексей Веселовский, цит. соч., 727—728.
50 Там же, 731.
51 Там же, 741.
52 «Северный Архив» 1826, IX, 98 — «Путешествие кавалера Гамбы в Южную Россию и преимущественно в Кавказские области».
53 François Bernier, Voyages, Amsterdam, 1711.
54 Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, nouv. éd., Paris, 1792.
55 «Projet d’une Académie Asiatique», 7.
56 Л. Семенов указал на сходство картины восточных стран в «Споре» с таким же изображением у Альфреда де Виньи: «Описание грандиозной панорамы необъятного Востока, отдельные страны которого обрисованы поэтом немногими, но самыми меткими характерными чертами, не уступает аналогичной знаменитой картине изображенной А. де Виньи в поэме „Моисей“» (Л. П. Семенов, Лермонтов на Кавказе, Пятигорск, 1939, 139). Следует признать возможность знакомства Лермонтова с этой поэмой, опубликованной в 1826 г., но обзор Востока у Виньи чисто географический, построенный исключительно на описательных моментах, у Лермонтова же за пейзажем раскрывается характеристика народа или страны.
57 «Новая история колониальных и зависимых стран», М., 1940, 106.
58 Там же, 117—118.
59 «Библиотека для Чтения» 1838, XXXI, отд. I, 96.
60 Там же, 1841, XLVI, отд. I, 6 (цензурное разрешение тома 30 апреля 1840 г.).
61 «Voyage dans la Russie méridionale», Introduction, LV—LVII.
62 Лермонтов, Акад. изд., IV, 330. — «В условиях Кавказской войны азербайджанский язык был связующим для многих национальностей и необходим для
- 743 -
писателя, работавшего над кавказскими темами. Недаром Бестужев-Марлинский в течение нескольких лет брал уроки азербайджанского языка и использовал свое знание в романах». Так и Лермонтову нужно было знание местного языка для осуществления его замысла о романе из эпохи кавказской войны (И. Андроников, Лермонтов и Грузия. — «Красная Новь» 1939, X—XI, 256).
63 Иероглифы — письмо жрецов, демотические письмена — распространенные в народе.
64 Louis Bréhier, L’Egypte de 1798 à 1900, Paris, s. a., 29—32, 65—82.
65 «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардейского генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. С картинами, с чертежами и проч.», М., 1822, 5.
66 Воххабиты, или веггабиты, или веггабие, — мусульманская секта, основанная в XVIII в. шейхом Мохаммед-ибн-Абд-эль-Веггабом; она произвела в Аравии религиозно-политический переворот, объявила войну официальному исламу и успешно сражалась с армией султана; только в 1812—1813 гг. египетский паша Мехмед-Али вытеснил воххабитов из Медины и Мекки.
67 В. Бартольд, цит. соч., 283; см. также «Материалы для истории факультета восточных языков», IV, 41.
68 И. Захарьин-Якунин, Граф В. А. Перовский и его зимний поход в Хиву. Спб., 1901, стр. VII. — «Красная Новь» 1935, XI, 153—163; Л. Толстой, Князь Федор Щетинин, с послесловием П. С. Попова: «Неизданный роман Толстого из жизни В. Перовского». Ср. Л. Толстой, Полн. собр. соч., XVII, 689.
69 «Хива в нынешнем своем состоянии». — «Отечественные Записки» 1840, VIII.
70 И. Ениколопов, А. С. Грибоедов в Грузии и Персии, Тифлис, 1929, 201.
71 «Voyage dans la Russie méridionale», Introduction, XIII.
72 Е. Ковалевский, Восточные дела в двадцатых годах. — «Вестник Европы»
1868, III, 148—150.
73 «Отечественные Записки» 1840, XII, Библ. хроника, 60.
74 «Библиотека для Чтения» 1834, IV, Науки и художества, 63.
75 Там же, X, Науки и художества, 105; Е. К., Средняя Азия. Путешествия Муравьева, Мейендорфа, Конолли и Борнса.
76 Лависс и Рамбо, История XIX века под ред. Е. Тарле, М., 1938, IV, 346.
77 «Отечественные Записки» 1839, VI, 144.
78 См. выше статью Георгия Виноградова «Произведения Лермонтова в народно-поэтическом обиходе».
79 «Исторический Вестник» 1892, IV, 90.
80 Е. Ковалевский, цит. соч. — «Вестник Европы» 1868, III, 152.
81 Там же.
82 «Вестник Европы» 1868, III, 158.
83 «Библиотека для Чтения» 1835, XIII, отд. III, 57—92.
84 René de Chavagnes, Le juif au théâtre. — «Mercure de France» 1910, №№ 305, 306.
85 П. Висковатов, М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество, М., 1891, 60—61; Н. Котляревский, Лермонтов, Спб., 1912, 92—93; Б. Нейман, «Испанцы» Лермонтова и «Айвенго» Вальтер-Скотта. — «Филологические Записки» 1915, V—VI, 709—721; М. Яковлев, Лермонтов как драматург, Л. — М., 1924, 80—125.
86 М. Рывкин, Велижское дело в освещении местных преданий и памятников. — «Пережитое», 1911, III, 60—61.
87 «Anklagen der Juden in Russland wegen Kindermords. Gebrauch von Christenblut und Gotteslästerung», Leipzig, 1846.
88 Е. Сушкова, Записки, Л., 1928, 89.
89 С. Панчулидзев, Сборник биографий кавалергардов, Спб., 1906, 209—210.
90 Ю. Гессен, Из истории ритуальных процессов. Велижская драма, Спб., 1906.
91 В. Иконников, Граф С. Н. Мордвинов, Спб., 1873, 532.
92 «Архив графов Мордвиновых», Спб., 1903, VIII, 478.
93 «Еврейская энциклопедия», V, 397 (статья Ю. Г. «Велижское дело»).
94 «Архив графов Мордвиновых», VIII, 470—471.
95 В. Мануйлов, Семья и детские годы Лермонтова. — «Звезда» 1939, IX, 136. Полностью публикуются во втором полутоме Лермонтовского сборника «Литературного Наследства».
96 Лермонтов, изд. «Academia», III, 555.
97 Ю. Гессен, цит. соч., 21.
744
98 «Еврейская энциклопедия», V, 397.
99 М. Рывкин, цит. соч. — «Пережитое», 95.
100 Там же, 77.
101 Пыпин, Белинский, Спб., 1903, II, 139.
102 П. Висковатов, цит. соч., 368.
103 «Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии. Сочинение А. Б. Клота-бея, в двух частях, с портретами, картами и планами. Перевод с французского Андрея Александровича Краевского», Спб., 1843.
104 Э. Герштейн, Лермонтов и «кружок шестнадцати». — «Литературный Критик» 1940, №№ IX—X, 236—237.
105 С. Дурылин, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, М., 1940, 248.
106 A не в середине июня (как обыкновенно указывают); цензурная помета июньской книжки «Москвитянина» с лермонтовским «Спором»: «Москва. Маия 31 дня, 1841 года»; если бы Самарин послал Погодину «Спор» в середине июня («ровно за месяц до кончины Лермонтова», по указанию Н. Барсукова), стихотворение не могло бы появиться в июньской книжке журнала, еще при жизни Лермонтова.
107 «Жизнь и труды М. П. Погодина», Спб., 1892, VI, 236.
108 Из письма Ю. Самарина к И. Гагарину 3 августа 1841 г. — «Сочинения Ю. Самарина», XII, 55—56.
109 «Лекция о сущности, образе представления и цели Истории, читанная в Имп. Московском Университете Ю. Ульрихсом при вступлении его в должность ординарного профессора всеобщей истории и статистики 31 октября 1823 года, Москва, в Университетской типографии», 1823.
110 Фр. Боденштедт, Заметка о Лермонтове. — «Современник» 1861, LXXXV, отд. II, № 2.
111 Как сообщил Б. Эйхенбаум, «в записной книжке, где находится автограф „Спора“, на чистом обороте предшествующего листа написано (как название отдела): «Восток». — Лермонтов, изд. «Academia», II, 250.
СноскиСноски к стр. 680
* Ораторы и поэты, вдохновение обитает на берегах Иордана, на вершинах Ливана, в рощах Эдема.
Сноски к стр. 688
* Север, Запад, Юг — в крушенье;
Тронов трепет, царств паденье;
На Восток ты скройся дальний
Воздух пить патриархальный32.** Моя сфера — Восток, сверкающее царство34.
Сноски к стр. 690
* И ныне пальма, растущая на скале, чувствует, как желтеет ее лист и сохнет ствол в этом жгучем и душном воздухе38.