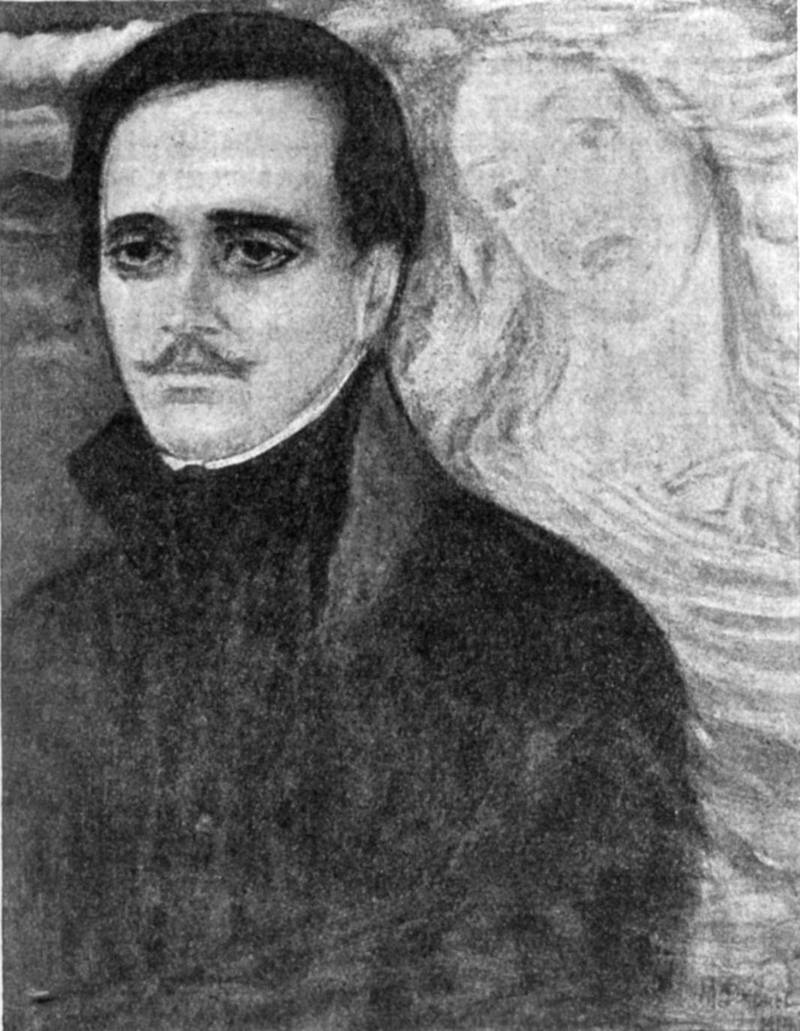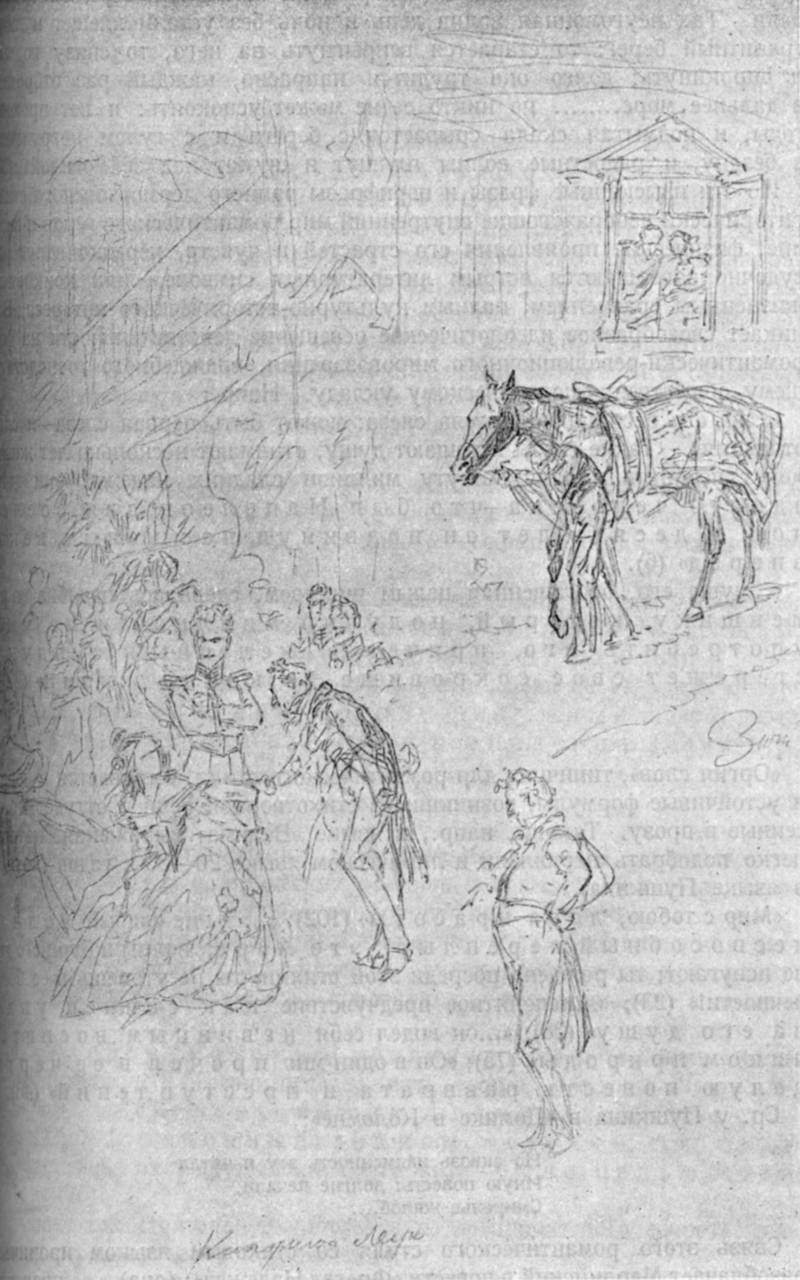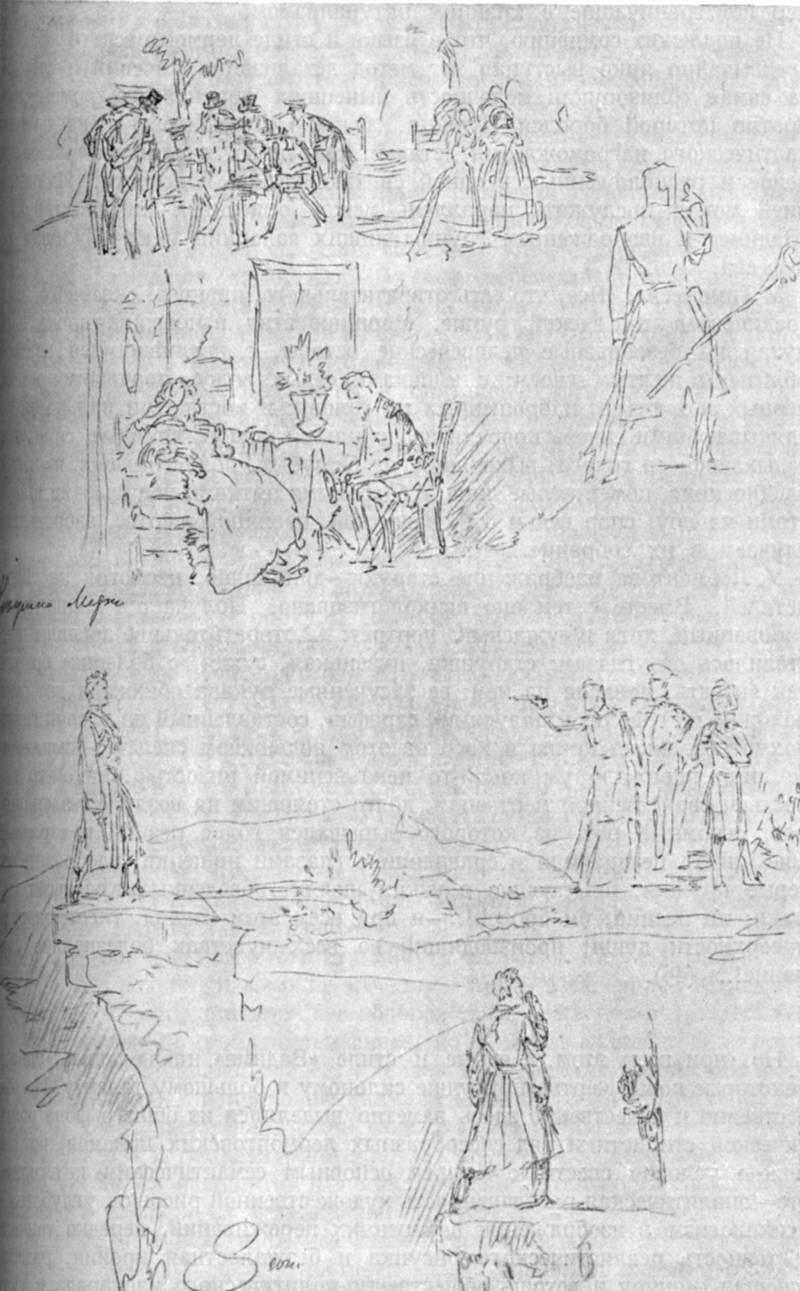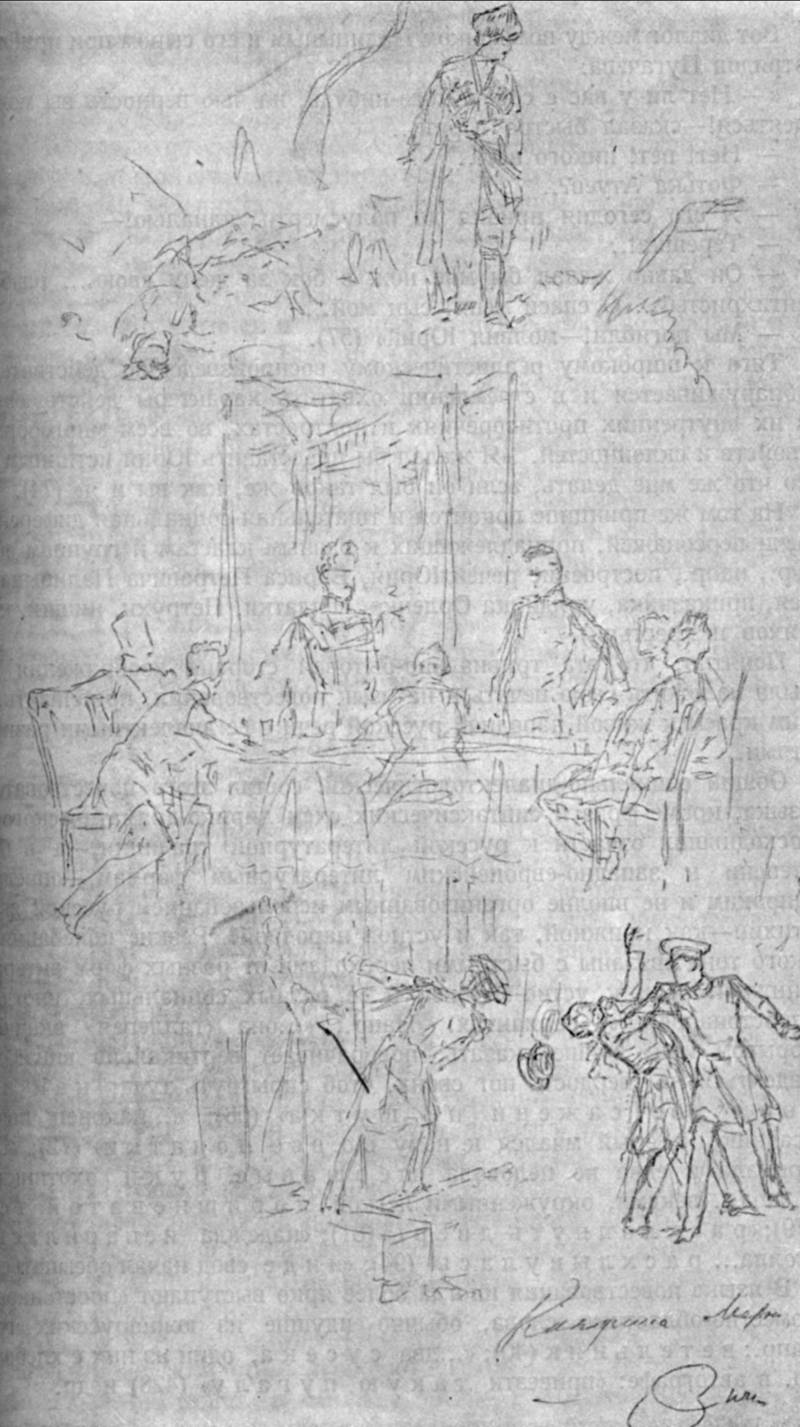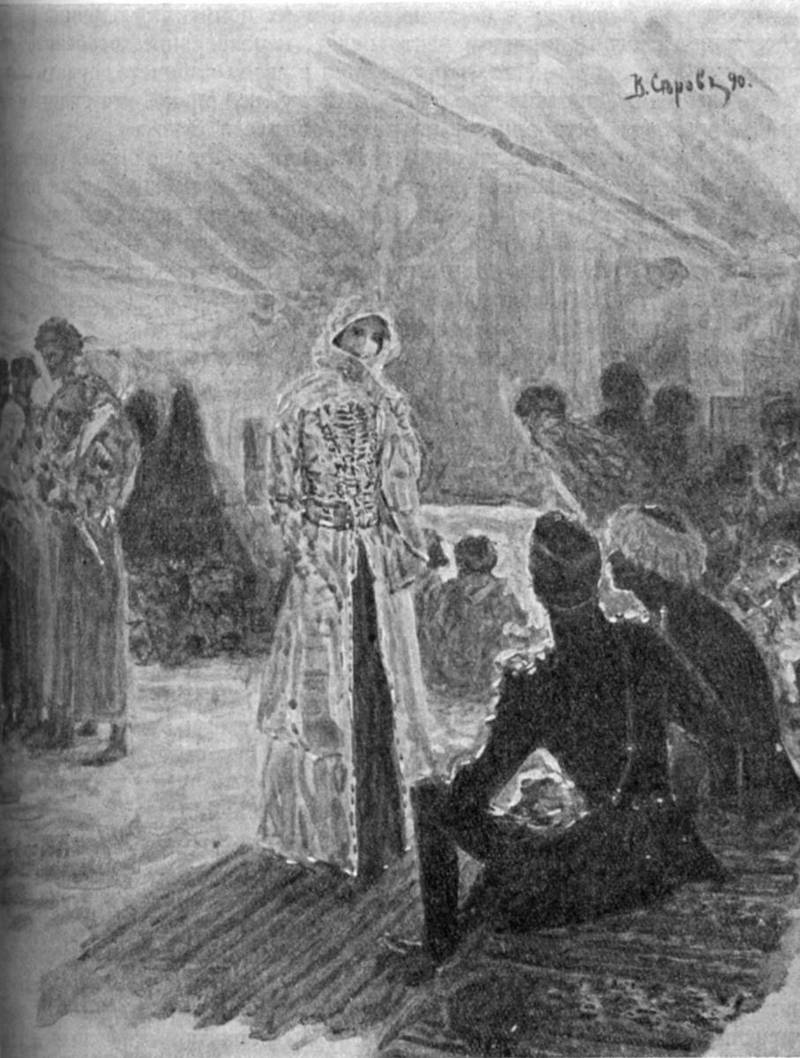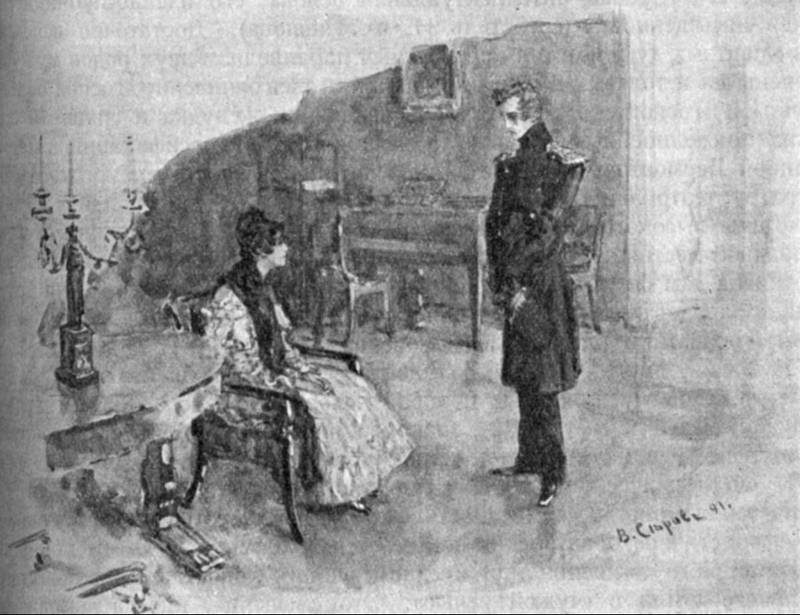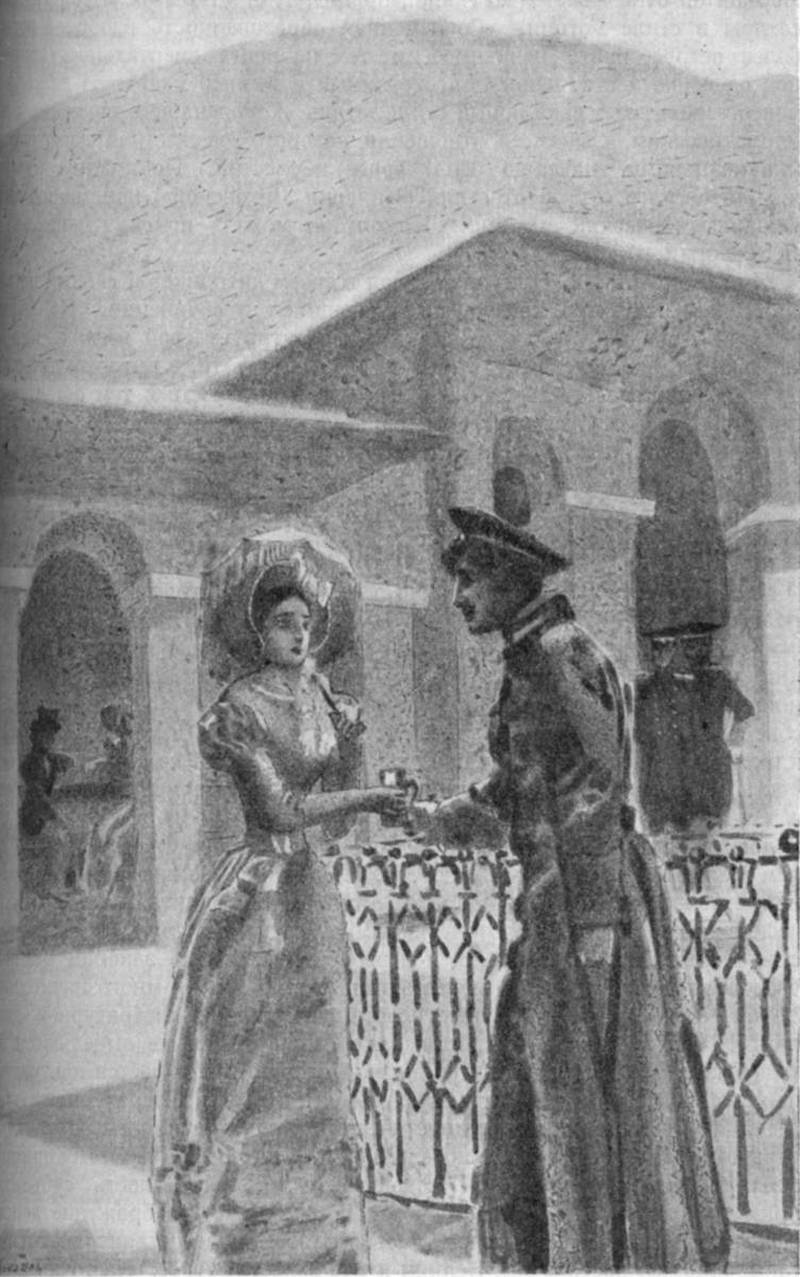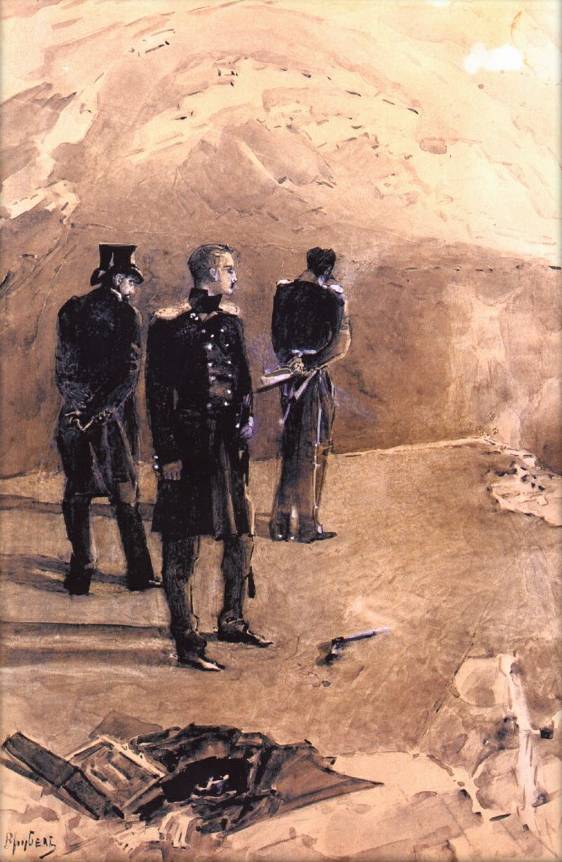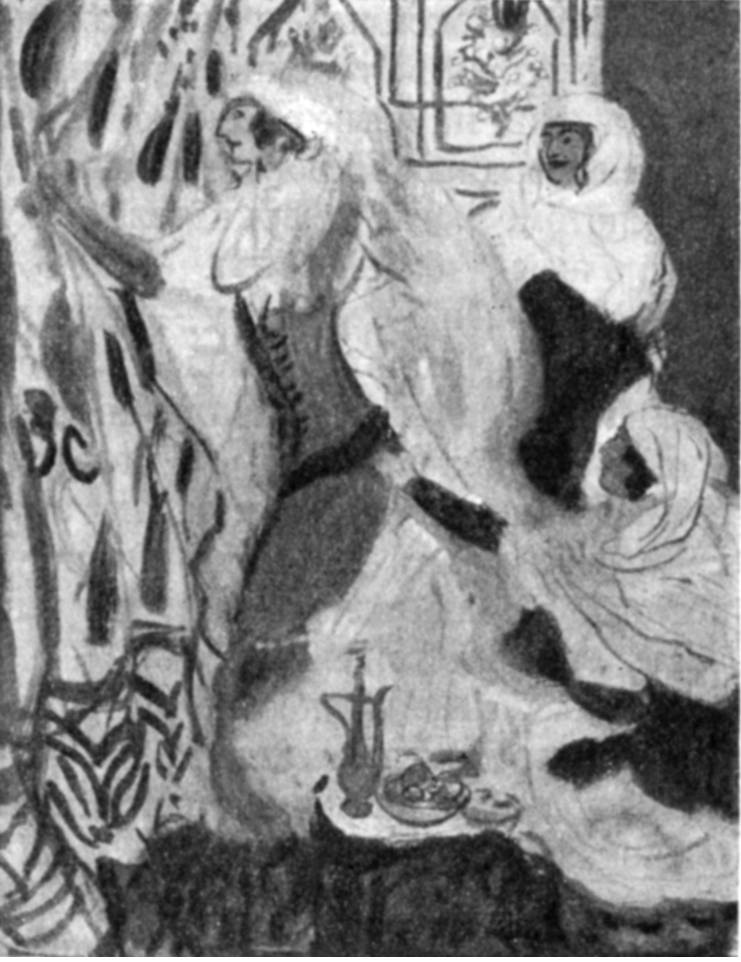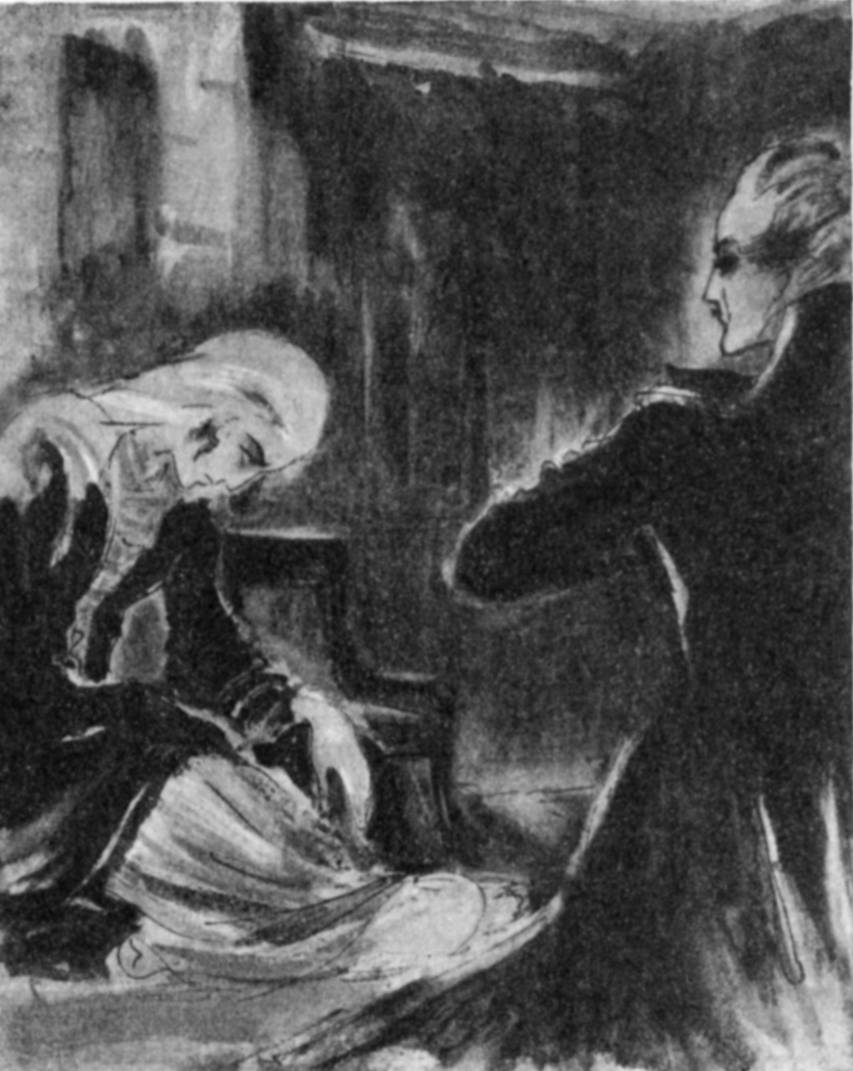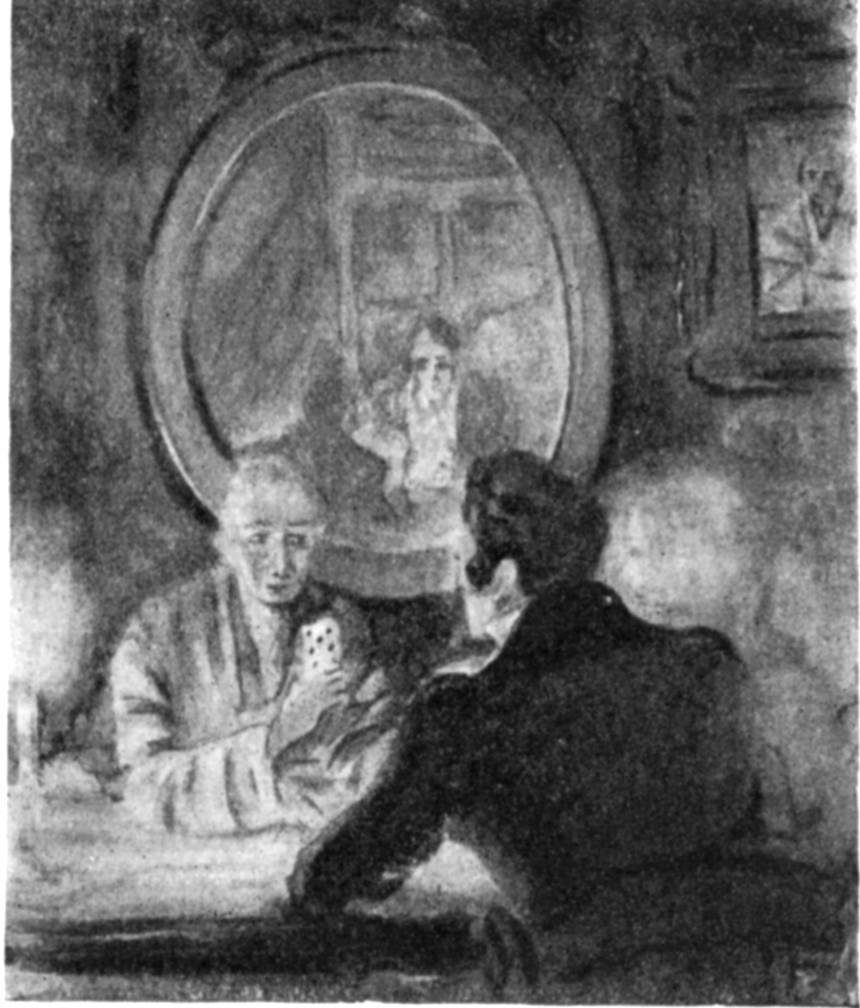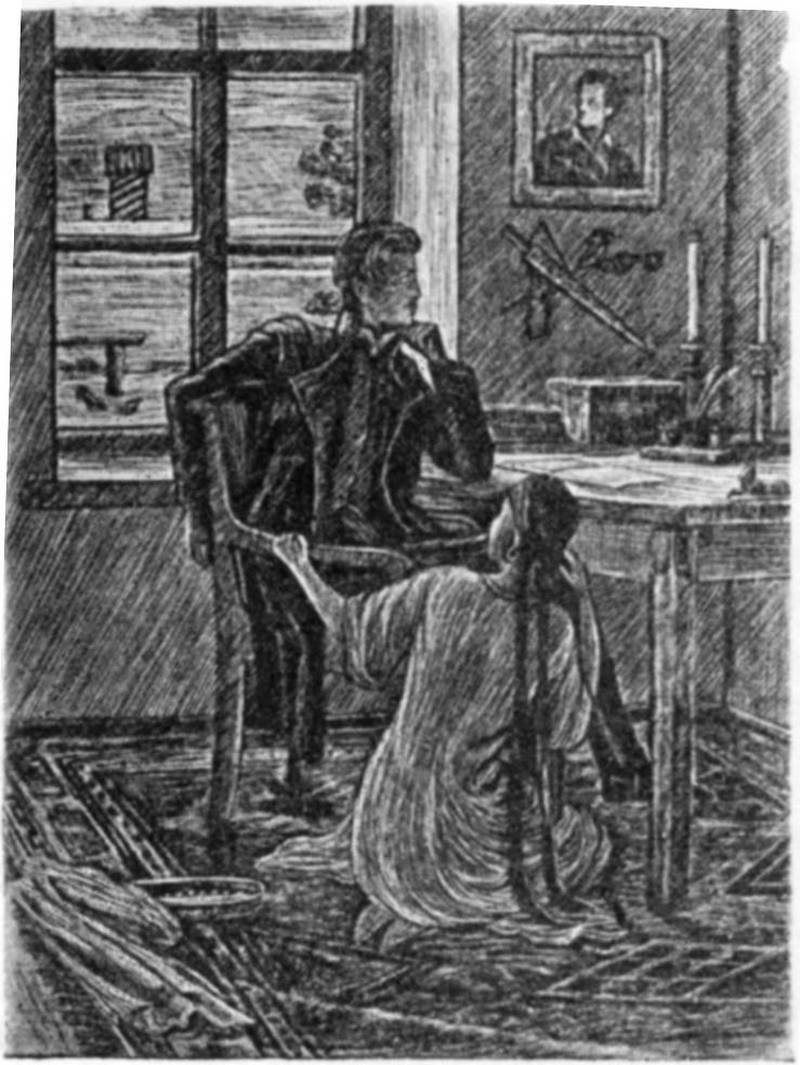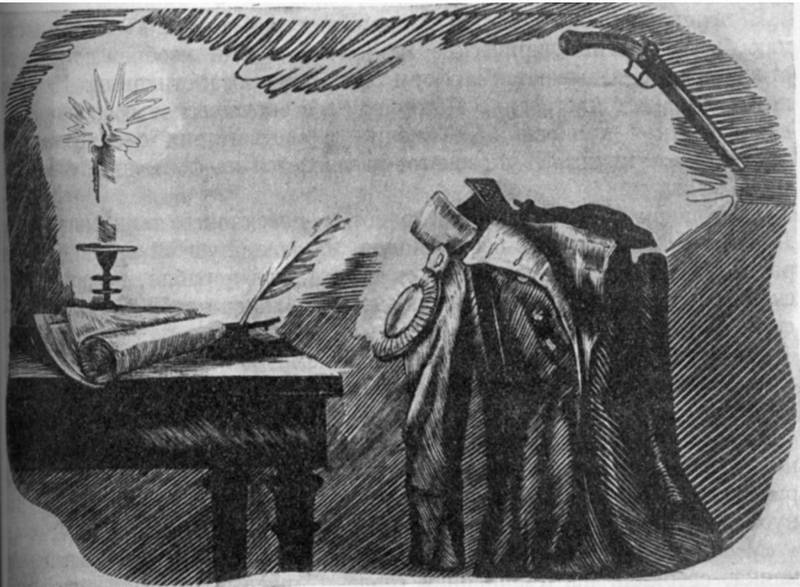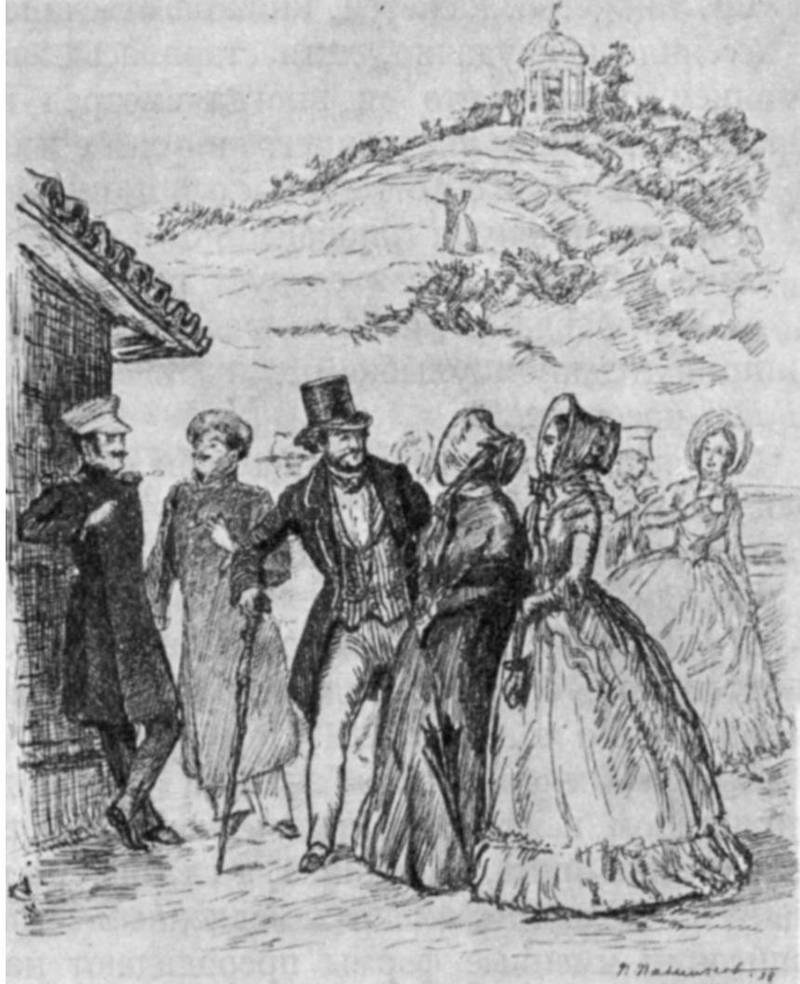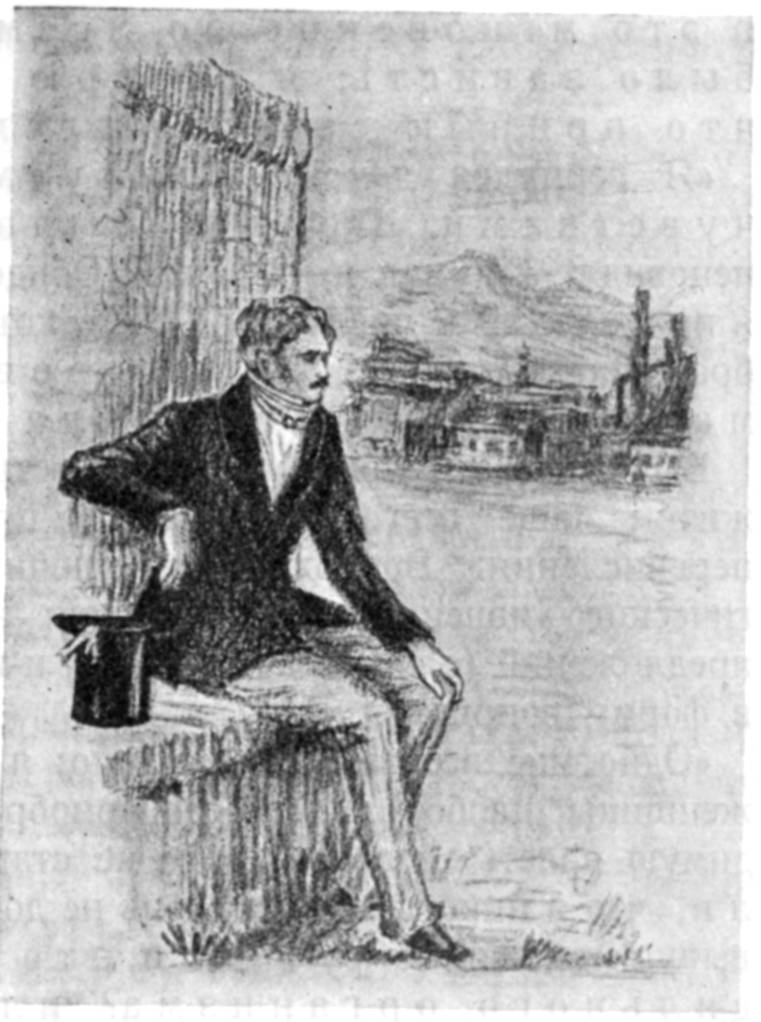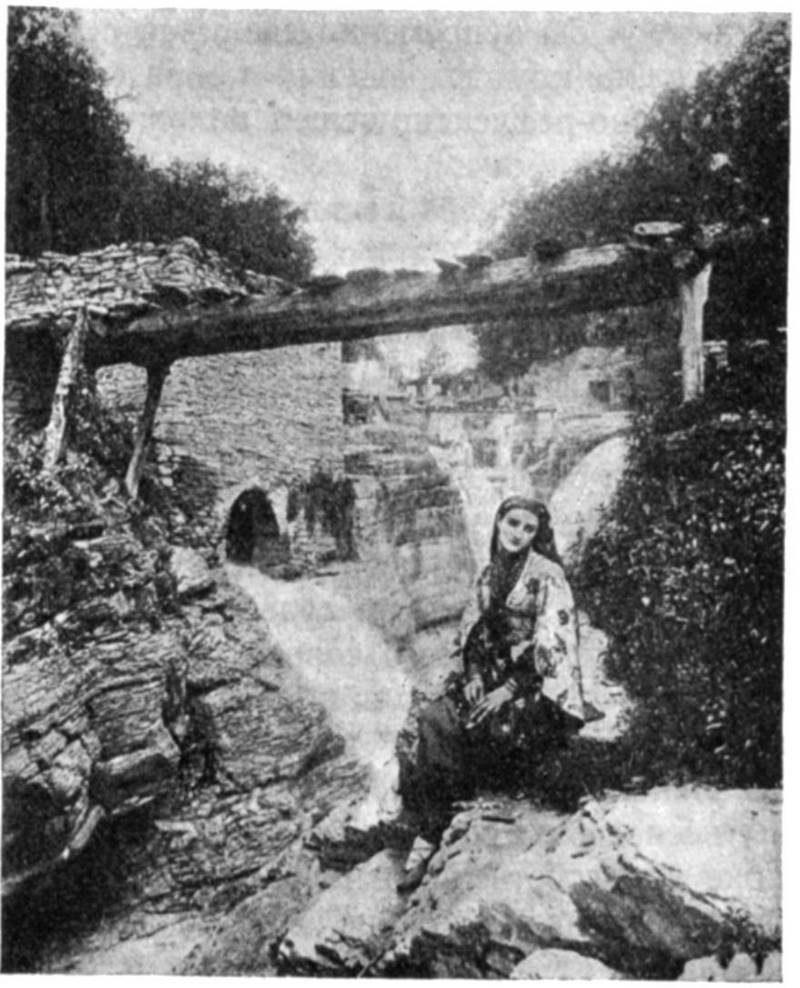- 517 -
СТИЛЬ ПРОЗЫ ЛЕРМОНТОВА
Статья Виктора Виноградова
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
В истории русского литературного языка конца XVIII — начала XIX вв. стихотворное искусство господствует над прозой. Стиховой стиль занимает центральное место в системе средств литературного выражения. Стихи являются той художественной лабораторией, в которой выковываются нормы и формы нового национального русского литературного языка.
В «Обзоре российской словесности за 1827 г.» О. М. Сомов констатировал, что «у нас легче сделалось писать стихами, нежели прозою»; что «у нас было гораздо более отличных поэтов, нежели прозаиков». «Наша русская проза представляет более трудностей... Главнейшая из них состоит в том, что проза требует у нас обширнейшего и основательнейшего знания языка, большей точности, большей отчетливости в выражениях, которые писатель должен почти беспрестанно творить сам...». Между тем «для стихов у нас уже составился какой-то язык условный, в котором придуманы обороты и даже подобраны многие выражения, принятые или не принятые здоровым вкусом»1.
Расцвет стиховой культуры в первой четверти XIX в. содействует быстрому развитию повествовательных стилей ритмической или поэтической прозы, т. е. тех стилей, которые формируются и эволюционируют в тесной зависимости от стихотворного языка. Карамзин, Батюшков, Жуковский, Ф. Н. Глинка, А. А. Бестужев-Марлинский стремятся пересадить на почву прозаической речи всходы и ростки новой сентиментально-романтической поэзии. Но и тут проза очень отстает от быстро развивающегося и усложняющегося мастерства стиха. В области прозы нормы литературного выражения были еще очень зыбки и неопределенны.
А. А. Бестужев в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» указывал на неразработанность прозаического языка. «Гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов, и не терпит повторений»2.
Язык прозы в тех случаях, когда он был оторван от техники стихотворного стиля, обнаруживал свою зависимость от официально-канцелярской стилистики и церковной риторики или же сбивался на перевод с чужого (французского и немецкого) языка. Стили прозаической речи были мало диференцированы. Пушкин с горечью заявлял: «Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический (т. е. отвлеченно-прозаический, книжно-теоретический. — В. В.) язык находится у нас еще
- 518 -
в диком состоянии». В статье «О предисловии г-на Лемонте» Пушкин еще решительнее подчеркивал культурно-общественное значение работы писателей над созданием стилей прозаической речи: «наш язык, не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, должен ожидать европейской своей общежительности». Ведь неорганизованность литературной прозы не могла не отражаться и на состоянии живой разговорной речи образованных слоев общества, а также на общей культуре языка и мышления. Стили литературной прозы, питаясь устным творчеством народа, в то же время сами оказывали цивилизующее влияние на бытовую речь читателей, определяли содержание и изобразительные средства разговорного языка интеллигенции. Баратынский пишет Вяземскому, жаловавшемуся на трудность передать в русском переводе все тонкости французского стиля романа Бэнжамена Констана «Адольф»: «Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительных выражений. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык». По словам Баратынского, образованные читатели его времени «говорят языком Пушкина, Жуковского, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику»3.
Понятно, что вопрос о языке русской прозы встает с необычайной остротой на рубеже 20-х и 30-х годов. В связи с процессом образования общенациональной нормы русского литературного языка обозначается перелом в культуре художественного слова. Проза, более близкая к общему литературно-разговорному языку, заявляет свои притязания на равноправие со стихами и затем становится основным орудием борьбы реализма с романтической идеализацией и поэтизацией жизни.
Еще раньше (в письме от 9 сентября 1821 г.) декабрист М. Ф. Орлов убеждал Вяземского: «Займись прозою, вот чего недостает у нас... Стихов уже довольно... Пора предпринять образование словесности нашей в большом виде, в философическом смысле, строгими сочинениями или полезными переводами»4.
А. А. Бестужев в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России» так подводит итоги литературному развитию: «У нас такое множество стихотворцев (не говорю поэтов) и почти вовсе нет прозаиков, и как первых можно укорять бледностью мыслей, так последних погрешностями противу языка. К сему присоединилась еще односторонность, происходящая от употребления одного французского и переводов с сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на безделки»5.
Даже академик П. И. Соколов, автор толкового словаря русского языка, проникся распространившимся убеждением: «Нам нужны не поэты, а люди, которые умели бы писать в прозе правильно и ясно: у нас нет ни эпистолярного, ни делового слога, о котором хлопотать непременно следовало»6.
На этом фоне становится понятной тяга русских писателей 30-х годов к прозаическим жанрам и стилям. Сам Пушкин с конца 20-х годов все более и более склоняется к «низкой прозе». Рост журнальной прессы и ее значения был неразрывно связан с формированием разных стилей прозы, которые и образуют потом ядро новой системы русского литературного языка. Пушкин, Вяземский, Бестужев-Марлинский, Погорельский, Н. Полевой, Даль, Загоскин, Вельтман, Лажечников, Н. Ф. Павлов, В. Ф. Одоевский, Гоголь, Сенковский напряженно работают над языком
- 519 -
русской прозы. В этом общенациональном литературном деле с начала 30-х годов принимает участие и М. Ю. Лермонтов.
ЛЕРМОНТОВ
Акварель М. Дурнова, 1914 г.
Частное собрание, Москва2
Язык ранних, дошедших до нас прозаических опытов Лермонтова органически связан с традициями той «поэтической» прозы, которая развивалась на основе стихотворных стилей. Еще до Лермонтова вступили на тот же путь А. А. Бестужев-Марлинский и Гоголь. Романтическая проза этого типа слагалась из двух контрастных языковых стихий. «Метафизический» стиль авторского повествования и речей романтических героев (в отличие от тривиально-бытовых) был близок по образам, фразеологии и синтаксису к стилям романтической лирики. Напротив, в стиле бытовых сцен, в стиле реалистически-жизненного изображения и описания отражалось все многообразие социальных различий повседневной устной речи. Так и в «Вадиме» Лермонтова персонажи из «простонародья» имеют каждый свой склад речи. Напр., в сцене пугачевской расправы
- 520 -
с приказчиком речь казака Орленко, речь приказчика и язык мужиков социально диференцированы.
«Ваше превосходительство! — сказал приказчик, привстав с большею уверенностию, — извольте спросить у всех мирян, любил ли я господ своих... Приказчик бросил отчаянный взгляд кругом — но, не встретив нигде сожаления, прикусил губу, — и не зная, что делать, закричал: „ах, вы нехристи, бусурманы... — что вы молчите, разве я не приказчик, Матвей Соколов, — разве в первый раз вы меня видите... ...что это вы морочите честных людей. Ах вы каналии — разве забыли, как я вас порол... или еще хочется“ —
Лукавые мужики покашливали — наконец, один из них, покачав головой, молвил: „пороть-то ты нас, брат, порол... — грешно сказать, лучшего мы от тебя ничего не видали... ...да теперь-то ты нас этим, любезный, не настращаешь!.. ...всему свое время, выше лба уши не растут“...».
И дальше мужики говорят тем же языком народных пословиц:
«— Барин-то он не совсем барин... да яблоко от яблони недалеко падает; куды поп, туда и попова собака».
Тут образная, живая народная речь основана не только на литературных образцах и впечатлениях романтика, но и на жизненных наблюдениях реалиста.
Резкая противоположность языка возвышенных и «простонародно»-тривиальных героев в «Вадиме» подчеркивается каламбурным сопоставлением стилей двух реплик как двух совсем разных семантических систем:
«„...он мой, мой, на земле и в могиле, везде мой, я купила его слезами кровавыми, мольбами, тоскою, — он создан для меня, — нет, он не мог забыть свои клятвы, свои ласки...“.
— Я этого ничего не знаю, — прервал хладнокровно Федосей, — уж вы там с барином согласитесь, как хотите, купить или не купить, а я знаю только то, что нам пора... ...если уж не поздно!..» (81)7.
Вступив на путь реалистического, а иногда даже и натуралистического воспроизведения низкой действительности, повествователь сам объясняет и иронически оправдывает необходимость «пошлых сцен»: «...солдатка била своего сына! — Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, пошлую сцену, если б она не служила необходимым изъяснением всего следующего; а так как я предполагаю в своих читателях должную степень любопытства, то не почитаю за необходимость долее извиняться. —
— Ах ты лентяй! чтоб тебе сдохнуть... собачий сын!.. — говорила мать, таская за волосы своего детища.
— Матушки, батюшки! помилуй!.. золотая, серебряная... не буду! — ревел длинный балбес, утирая глаза кулаками!.. — я вчера вишь понес им хлеба да квасу в кувшине,... вот, слышь, мачка, я шел...... шел..... да меня леший и обошел... когда я проснулся... мне больно есть захотелось... я всё и съел.....
— Ах ты разбойник... экого болвана вырастила, — запорю тебя до смерти,..... — и удары снова градом посыпались ему на голову» (103).
- 521 -
Так в языке лермонтовского романа осуществляется романтическое сплетение или чередование стилистических контрастов, смешение высокого с тривиальным, патетического с комическим.
Все же в «Вадиме» стиль лирического монолога возобладал над языком прозаического повествования.
«Чистого повествования нет — оно заменяется эмоционально-риторическим комментарием в стиле поэм»8. Близость к языку поэм особенно ярко обнаруживается в развернутых метафорических формулах и многочисленных сравнениях, которыми часто замыкаются главы или отдельные части глав, а также лирические отступления, и которые играют громадную роль в стиле портрета или характеристики.
Эта двойственность языкового состава и стилистических красок была заметна и в прозе Марлинского и Гоголя. Пушкин писал в 1825 г. А. А. Бестужеву-Марлинскому о его повести «Изменник»: «...полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами — это хорошо для поэмы байронической. Роман требует болтовни; высказывай все на чисто. Твой Владимир говорит языком немецкой драмы, смотрит на солнце в полночь, etc. Но описание стана литовского, разговор плотника с часовым — прелесть; конец так же».
«Язык немецкой драмы», смешанный язык Шиллера и романтической поэмы, в прозе Марлинского одинаково характерен и для стиля автора и для стиля его возвышенных героев. Вот тирада Владимира из повести Бестужева «Изменник», мало отличающаяся от позднейших речей лермонтовского Вадима:
«Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурею! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею, для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..»9.
Между тем понравившийся Пушкину в «Изменнике» Бестужева-Марлинского диалог часового с плотником слагается из кусков живой народной речи, слегка окрашенной профессиональными оттенками плотничьего и военного жаргона (ср., напр., в речи плотника: «Бездельникам это надо на нос зарубить»).
Правда, Марлинский, увлекаясь все больше узорными рисунками и замысловатыми украшениями русского фольклора, уже в начале 30-х годов борется с грубым натуралистическим языком и стилем во имя романтических «цветов слога». Он призывает прозаиков быть «поскупее на подробности житейского быта»: «Пусть они будут попутчики, а не колодники ваши, и если уж необходимо обставить сцену декорациями, то распишите их цветами слога. Новы предметы — сделайте их оригинальными, стары они — обновите их мыслями, оборотите их не затасканною стороною, взгляните на них с нетоптанной точки и поверьте, что всякий горшок тогда найдет свою поэзию... Свидетели тому: Гоффман, Вашингтон Ирвинг, Бальзак, Жанен, Гюго, Цшокке. Несноснее всего мне писаки, заставляющие нас целиком глотать самые пустые разговоры самых ничтожных лиц... и все для того, чтобы сказать: это с природы. Помилуйте, господа! разве простота пошлость?.. Природа! после этого, тот, кто хорошо хрюкает поросенком, величайший из виртуозов, и фельдшер, снявший алебастровую маску с Наполеона, первый ваятель!! Искусство не рабски передразнивает природу, а создает свое из ее материялов... Дайте нам не условный мир, но избранный мир. Пусть ваш пастух
- 522 -
будет Гурт, ваш капрал Трим, ваш ветренник дон-Жуан — но все это в русском теле, в русском духе. Наши Иваны Гуртовичи, наши Кремневы Тримовичи, наши Лидины Жуановичи приторны. Пусть всякий сверчок знает свой шесток; пусть не залетают настоящие мысли в минувшее, и старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Так же смешно влагать неологизмы в уста ее, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли бы тогда, второго не поймут теперь»10.
Это была новая программа поэтики бытового и исторического романа, воспринятая позднее Полевым и Кукольником. «Вадима» Лермонтова она еще не могла задеть.
Таким образом, стиль лермонтовского «Вадима» примыкает к уже прочно установившейся традиции романтической прозы, хотя и не лишен ярких индивидуальных примет.
3
В кругу романтической прозы начала 30-х годов обозначились отдельные стилистические разновидности, обусловленные в той или иной мере художественно-идеологической борьбой между разными направлениями европейского романтизма. «Вадим» Лермонтова сближается с кошмарными жанрами французского романтизма, со стилем «неистовой словесности», предводимой Виктором Гюго. В «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду» (1835, № 7) так характеризуется эта разновидность «неистового» романтизма: «Одно из течений этого направления начинается Сбогаром <«Жан Сбогар» Шарля Нодье> и заканчивается в романах Гюго. Последователи сего рода фантастического — мизантропы, кои, бросив проницательный взгляд на человечество и на мир, ощутили непреоборимое презрение к нему. Они безжалостно влекут вас в темницу, в гошпиталь, в шайку негодяев, к утопленникам, на Гревскую площадь, в ад, повсюду, где льются слезы, раздаются вопли, проклятья, скрежет зубов»11. В этих произведениях объявляется «открытая брань общественному союзу», современному общественному строю. «Имя Викт. Гюго сделалось символом отвратительных ужасов, почерпнутых на дне души, опрокинутой и измученной бурею неистовых страстей», — сокрушалась «Северная Пчела» (1835, № 6). «Новейшая философия», связанная с революционными чаяниями и идеями, отражалась в романах и повестях этого течения12.
В. Ф. Одоевский писал об этой литературе с точки зрения аристократа-консерватора: «Демократический дух, составляющий особый колорит в европейском романе, также переселился в наши романы; но у нас обратился в безусловные похвалы черни и в нападки на высшее общество, большею частью недоступное нашим сатирикам» («О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе»)13.
И позднее, в 40-х годах, консерваторы роптали: «Нет теперь ничего нигде прекрасного, просто человечески, а все оценивается по отношению к господствующим в политике идеям. Роман, поэма, трагедия, даже история не должны сметь быть человечески-прекрасными, они должны стремиться к поддержанию французских политических идей... На этом и у нас выехал Лермонтов»14.
Итак, выбор языка и стиля в «Вадиме» Лермонтова диктовался склонностью юного поэта к революционной идеологии, сросшейся с некоторыми жанрами гражданского романтизма. Лермонтов для своего первого большого прозаического опыта выбирает форму социального романа из эпохи
- 523 -
пугачевского восстания (быть может, не без влияния «Шуанов» Бальзака). В романтическом стиле создавались новые формы литературной фразеологии, синтаксиса, приспособленные для воплощения сложных идей и чувств свободно мыслящей личности, новые приемы изображения характера, обновлялся «лексикон классической школы, умиравшей от анемии».
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Рисунок В. Верещагина, 1862 г.
Русский музей, Ленинград4
Стиль романтической прозы 30-х годов представлял собой сложное смешение приемов выражения, отчасти унаследованных от Карамзина и его школы, от романтической поэмы 20-х годов, от бытовых и нравоучительных очерков XVIII и начала XIX вв., от русской и переводной повести и романа предшествующей эпохи, отчасти вновь образуемых на основе влияния стилей западно-европейской романтической литературы и на основе расширяющегося знакомства с живой русской речью и ее диалектами. Гоголь в своей статье «Петербургская сцена в 1835/6 г.» находил, что романтизм «был больше ничего как стремление подвинуться ближе к нашему обществу». Ho, по мнению Гоголя, романтики «произрастили хаос», беспорядочное брожение ветхого и нового. Даже в романтической новизне нередко слышалось ветхое. С мелодраматическими эффектами романтического стиля, с его гремушками Пушкин с середины 20-х годов, Гоголь с середины 30-х годов ведут упорную борьбу. Стиль «Вадима» Лермонтова находится еще вне сферы этой борьбы.
В языке и стиле лермонтовского «Вадима» много «ветхого», много романтических трафаретов, традиционной декламации. Например: «...широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури» (2); «Кто часто бывал в комнате женщины, им любимой, тот верно поймет меня... он испытал влияние этого очарованного воздуха, который породнился с божеством его, который каждую
- 524 -
ночь принимает в себя дыхание свежей девственной груди» (33); «...о как он упитает кровью неверных свою острую шпагу, как гордо он станет попирать разрубленные низверженные чалмы поклонников корана!.. ...как страстно он кидался в шумную стычку, с каким наслаждением погружал свою шпагу во внутренность безобразного турка, который, выворотив глаза, с судорожным движением кусал и грыз холодное железо!..» (76).
Ср. ироническое разоблачение этого военно-романтического стиля в «Войне и мире» Л. Толстого: «Рассказать правду очень трудно; и молодые люди редко на это способны. Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня; как буря, налетал на каре, как врубался в него, рубил направо и налево; как сабля отведала мяса, и как он падал в изнеможении, и тому подобное. И он рассказал им все это».
Вместе с тем в «Вадиме» показательна мелодраматическая фразеология, выражающая чувства, настроения. Пушкин еще во второй половине 20-х годов решительно осудил и отверг мелодраматические приемы изображения внутренней жизни, поддержанные влиянием байронического стиля: «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама». Между тем в «Вадиме» господствует именно этот стиль изображения физических движений страстей: «Вадим упал на постель свою; и безотчетное страдание овладело им; он ломал руки, вздыхал, скрежетал зубами...» (22).
«...О провидение, — что мне делать, что мне делать, отвечай мне, творец всемогущий! — воскликнул он, ломая руки и скрежеща зубами» (53).
Ср. у Марлинского в рассказе «Латник»: «он опрокидывался назад и шептал невнятные слова... грозно скрежетал зубами, глаза его наливались кровью, ноздри вздувались, как у льва — он был страшен»15. (Ср. также в повестях: «Замок Венден», «Ревельский турнир» и др.).
В «Вадиме»: «Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою» (28).
У Марлинского: «Злобно хохотал он, взводя курок пистолета, и повлек Евпраксию привязать к дереву»16.
В «Вадиме»: «На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить — и не мог» (8).
У Марлинского в «Латнике»: «Пена била у него клубом, лицо горело кровью»17. (Ср. те же формулы у Тимофеева в «Чернокнижнике»).
В «Вадиме»: «Он поставил ногу на грудь мертвому так крепко, что слышно было, как захрустели кости» (82).
У Марлинского в «Латнике»: «Он выхватил палаш свой, наступил мертвецу на грудь так, что у него затрещали кости»18.
В «Вадиме»: «Губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением» (2).
У Марлинского в «Латнике»: «По трепетанию черных, длинных его усов видно было порой судорожное движение губ»19.
- 525 -
«Кровавый» стиль выражения чувств, типичный для крайних проявлений романтического стиля, так представлен в языке «Вадима»: «Вадим укусил нижнюю губу свою так крепко, что кровь потекла» (23).
«Итак, она точно его любит! — шептал Вадим, неподвижно остановясь в дверях. — Одна его рука была за пазухой, а ногти его по какому-то судорожному движению так глубоко врезались в тело, что когда он вынул руку, то пальцы были в крови... Он как безумный посмотрел на них, молча стряхнул кровавые капли на землю и вышел» (50).
Этот неистовый стиль как пережиток дожил до половины 40-х годов. Следы его можно найти в «Очерках света и жизни» Владимира Войта (Спб., 1844). Герой повести В. Войта «Новый Леандр», Страстин, именно таким «кровавым вычеркиваньем» страстей выражает свое горе. Получив отказ на брак с Еленой, сделавшись картежником, Страстин поражает всех хладнокровием, с каким проигрывает огромные суммы.
«Страстин вспыхнул. Он грозно посмотрел на банкомета, с своей обыкновенною пылкостью расстегнул жилет, рванул запонки, показал присутствующим исцарапанную, избитую грудь.
Все игроки ахнули.
— Вот каково мое хладнокровие — вскричал Страстин. — Я равнодушен здесь, между вами, в виду этих презренных денег... Здесь не унижусь я и до изменения в лице. Но вот где кроваво вычеркиваются мои чувства!..
И он отошел от стола...».
Характеризуя стиль и образ этого Страстина, Белинский писал: «Это целый котел клокочущих страстей, ярых чувствований, бешеных порывов, свирепых поступков, неистовых страданий, адских наслаждений, райских мук, ядовитых сцен, жгучих поцелуев, турецкой ревности, тигрового мщения и прочей тому подобной галиматьи»20.
В качестве иллюстрации можно еще привести из «Вадима» несколько типических фраз, изображающих внешние обнаружения чувства в том же напряженном риторическом стиле:
«И он сделал шаг, чтоб выйти, кидая на нее взор, свинцовый, отчаянный взор, один из тех, перед которыми, кажется, стены должны бы были рушиться» (37).
«Вадим стоял перед ней, как Мефистофель перед погибшею Маргаритой, с язвительным выражением очей, как раскаяние перед душой грешника» (63).
«...его волосы стояли дыбом, глаза разгорались как уголья, и рука, простертая к Ольге, дрожала на воздухе» (82) и т. д.
С этим мелодраматическим стилем изображения внешних проявлений чувств сочетались образы вампира, василиска, коршуна, в которых представлялся романтический герой.
Фразеологический цикл, связанный с образом вампира, довольно обычен для стиля «неистовой» романтической повести 30-х годов. Напр., в «Вадиме»: «Он похож был в это мгновение на вампира, глядящего на издыхающую жертву».
«...И глаза, если б остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска» (12).
- 526 -
«Он стоял неподвижно, смотрел на Ольгу глазами коршуна и указывал пальцем на окровавленную землю: он торжествовал, как Геркулес, победивший змея» (81). Ср. те же образы и формулы в языке «Повестей Безумного» (М., 1834).
К той же серии образов примыкает и образ демона. Чрезвычайно резко и настойчиво, хотя и однотонными словесными красками, в «Вадиме» обрисован демонизм героя. Уже в стиль портрета Вадима вводятся такие психологические детали: «Его товарищи ...уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастие, демона — но не человека...» (2).
«И горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское» (7).
«О! чудна природа; далеко ли от брата до сестры? — а какое различие!.. эти ангельские черты, эта демоническая наружность... Впрочем, разве ангел и демон произошли не от одного начала?» (14).
«Что делать! он не мог вырваться из демонской своей стихии» (29).
Ср.: «...он уносился мыслию в вечность, — ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим» (21).
В связи с романтическими принципами изображения внешних проявлений страстей находится и напряженно-метафорическая, богатая эмоциональными эпитетами, изысканными сравнениями, отвлеченно-риторическая фразеология, описывающая психологическую сложность или исступленность внутренних переживаний романтической личности. Напр.:
«Вадим ехал скоро — и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце» (43).
«...и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима всё заключалось в его сердце!» (44).
«...но что ему осталось от всего этого? — воспоминания? — да, но какие? горькие, обманчивые, подобно плодам, растущим на берегах Мертвого моря, которые, блистая румяной корою, таят под нею пепел, сухой горячий пепел! и ныне сердце Юрия всякий раз при мысли об Ольге, как трескучий факел, окропленный водою, с усилием и болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось в груди его как ягненок под ножом жертвоприносителя» (78 и 79) и т. п.
Критик из романтического лагеря так характеризовал эти приемы выражения чувств:
«Новые поэты, какою-то средостремительною силою, заключают все внутри себя, и потому мы видим в их произведениях необыкновенную глубокость чувств, где сосредоточиваются все силы душевные»21. «Совершенное углубление внутрь себя» и отвлеченный символизм риторической исповеди чувств — основная черта этого романтического стиля.
Общим символом внутренней жизни романтического героя чаще всего служил образ грозного, бушующего моря, бурных волн.
- 527 -
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Лист набросков М. Зичи, 1880-е гг.
Институт литературы, Ленинград
- 528 -
Так в «Вадиме»: «...но непоколебимая железная воля составляла всё существо его, она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели. Так неугомонная волна день и ночь без устали хлещет и лижет гранитный берег: то старается вспрыгнуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть; долго она трудится напрасно, каждый раз отброшена в дальнее море........ но никто ее не может успокоить: и вот проходят годы, и подмытая скала срывается с берега и с гулом погружается в бездну, и радостные волны пляшут и шумят над ее могилой» (83).
Но эти изысканные фразы и перифразы раннего лермонтовского стиля, риторически изображающие внутренний мир романтического героя и внешние, физические проявления его страстей и чувств, нередко вдруг рассудочно завершаются острым литературным символом или конкретным жизненным сравнением, полным культурно-исторического интереса. Возникает своеобразное идеологическое освещение действительности на фоне романтически-революционного мировоззрения, враждебного господствующему общественно-политическому укладу. Напр.:
«...на его ресницах блеснула слеза: может быть первая слеза — и слеза отчаяния!.. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека — что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед» (6).
«...душа его, обогащенная целым чувством, сделалась подобна временщику, который, получив миллион и не умея употребить его, прячет в железный сундук и стережет свое сокровище до конца жизни» (22).
5
«Оргия слов», типичная для романтического стиля, выливается в образы и устойчивые формулы, возникшие в стихотворной речи и оттуда перенесенные в прозу. Таковы, напр., в языке «Вадима» выражения, которым легко подобрать параллели в лирическом языке 20—30-х годов (хотя бы в языке Пушкина).
«Мир с тобою, дева красоты» (102); «...ты не слабый челнок, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугают; ты рождена посреди этой стихии; ты не утонешь в ее бесконечности!» (23); «...непонятное предчувствие как свинец упало на его душу» (28); «...он видел себя невинным воспитанником природы» (75); «Он в один миг прочел в ее чертах целую повесть разврата и преступлений» (46).
Ср. у Пушкина в «Домике в Коломне»:
Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб....Связь этого романтического стиля со стиховым языком иронически разоблачает Марлинский в повести «Фрегат Надежда»: <она> «„...прелестна, как сама задумчивость... каждый взор ее черных глаз блестит грустью, будто слеза; каждое дыхание вырывается вздохом — и как нежно ластятся черные кудри к ее томному лицу, с какою таинственностью обвивает дымка ее воздушные формы“. — Не на Варшавском ли приступе, mon cher, набрался
- 529 -
ты этого романтического дыму? Изруби же его поскорее в стихи; поставь внизу прапорщицкую звездочку, отошли в Молву, и будь уверен, что если ты спрыснешь свою новинку полдюжиной шампанского, — приятели прокричат тебя поэтом»22.
В кругу стиховой речи и примыкающей к ней «высокой прозы» изобретаются новые слова и выражения. Напр., в «Календаре муз на 1826 г.» приводился список «новейших слов и выражений, изобретенных российскими поэтами в 1825 году»: безрассветные души, безлюдье сильных характеров, забавный сгиб ума и т. п.
В этом романтическом стиле экспрессивная порывистость речи стирала предметно-смысловые различия между значениями слов, способных выражать душевные волнения или эмоциональные впечатления. Возникало множество экспрессивных синонимов, преимущественно в области глаголов, имен прилагательных и качественных наречий. Конкретные значения слов тонули в волнах напрягающейся экспрессивности, в словесном море романтического исступления. Метафоры и сравнения сочетаются в противоречивые, семантически не согласованные фразовые серии. Напр., в «Вадиме»:
«...все ее слезы превратились в яд, который неумолимо грыз ее сердце; ржавчина грызет железо — а сердце 18-летней девушки так мягко, так нежно, так чисто, что каждое дыхание досады туманит его как стекло» (79).
«...не далеко от них стояло существо, им совершенно чуждое, — существо забытое, но прекрасное, нежное, — женщина с огненной душой, с душой чистой и светлой как алмаз» (89).
«...ни одно рыдание, ни одно слово мира и любви не усладили отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца» (101) и т. п.
6
По остроумному определению Бестужева-Марлинского, язык русских нравоописательных и исторических романов и повестей 30-х годов напоминал «мумию русской старины во французской обвертке».
Язык «Вадима» переполнен синтаксическими и фразеологическими галлицизмами. Его связь с французским романтизмом слишком очевидна. Напр., в области синтаксиса — конструкции именительного самостоятельного:
«— и человек, который ненавидит всё, и любит единое существо в мире, кто бы оно ни было, мать, сестра, или дочь, его любовь сильней всех ваших произвольных страстей» (22); «...преданный зимним метелям, как южная птица, отставшая от подруг своих, долго жить — было целью моей жизни» (26).
Ср. также самостоятельное употребление деепричастного оборота, вне отнесения его к субъекту предложения:
«Пройдя таким образом немного более двух верст, слышится что-то похожее на шум падающих вод» (67).
«...взойдя в середину между них <курганов>, мнение наблюдателя переменяется при виде отверстий, ведущих под каждый курган» (67).
- 530 -
Отпечаток французского синтаксиса (с точки зрения норм русской грамматики того времени) лежал на таком употреблении предлогов:
«...он был... довольно ловок для деревенского жителя того века» (16); «...кажется вдвое обширнее для бедного путника» (исправлено: «бедному путнику», 32 и 435); «была в этом желании» (434) и т. п.
Ср. еще более яркие синтаксические галлицизмы в языке Марлинского: «Один душой, в стороне дикой, между людьми незнакомыми, которых чувства и образ мыслей не по мне, наконец утрата минувшего, неизвестность будущего, все это смешалось в одно смутное, тяжелое ощущение и налегло на грустное сердце, будто заброшенное на край света» («Еще листок из дневника гвардейского офицера»)23.
Не менее очевидна струя французского влияния и в словаре и фразеологии «Вадима». Напр.: «молчание смерти» (101); «дева красоты» (102); «жилища мрака» (исправлено: «мрачного жилища», 88 и 445) и т. п.
Ср.: «...где Борис Петрович со своей охотой основал главную свою квартиру, находя ее центром своих операционных пунктов» (54—55); «...гладкое плечо..., освободясь из плена, призывало поцелуй» (80) и т. п.
Масса фразеологических осколков стихового лирического стиля в составе «Вадима» непосредственно отражала влияние французского романтического языка.
7
В фразеологическом строе лермонтовского «Вадима» выделяются из этого общеромантического фона образы и выражения живописного искусства. Они гармонируют в стиле «Вадима» с изобразительными приемами романтической фантастики, основанными на игре красок, на контрастах яркого света и тени, на «особой системе рембрандтовского освещения»24. Автор смотрит на изображаемые события глазами художника и представляет их в виде картин:
«...на ней [глухой стене] изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой» (5).
Ср.: «Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука, с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!» (5).
«...больше всех кричали и коверкались нищие... озаренные трепетным, багровым отблеском огня, они составляли первый план картины; за ними всё было мрачнее и неопределительнее, люди двигались как резкие, грубые тени; — казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьям приличное место, казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины...» (51—52).
Тому же влиянию живописного искусства, повидимому, приходится приписывать в стиле «Вадима» разнообразие зрительных, между прочим и цветовых, эпитетов, пластичность изображения, выходящую далеко за
- 531 -
ИЛЛЮСТРАЦИИ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Лист набросков М. Зичи, 1880-е гг.
Институт литературы, Ленинград
- 532 -
пределы романтической нормы, и приемы тщательной рисовки деталей, нередко граничащие с крайним натурализмом.
Не подлежит сомнению, что в языке и стиле лермонтовского «Вадима» чрезвычайно ярко выступал тот метод детализации явлений и событий, та самая «близорукая мелочность нынешних французских романистов», против которой боролся Пушкин. Однако Лермонтову чужд принцип хаотического нагромождения деталей, собранных в одно синтаксическое целое и расположенных в одной синтаксической плоскости. Иллюстрацией может послужить параллель между описанием нищей старухи в «Вадиме» и изображением группы нищих салопниц в «Художнике» Тимофеева.
У Тимофеева: «Все, что есть отвратительного, низкого, скверного, было соединено в этой адской группе. Морщиноватая, изношенная кожа, натянутая на безобразные человеческие остовы, с ввалившимися глазами, облитыми желтым гноем; с клочками седых волос, торчащими из под черных лохмотьев, наброшенных на голову; и костяными пальцами, выглядывающими сквозь прорехи изодранных салопов; хриплые, сиповатые, задыхающиеся голоса, выходящие из беззубых, полусгнивших челюстей; бледносиние, помертвелые лица, с багровыми пятнами под глазами и коростами на лбу; спор ведьм о беззащитной, невинной жертве, заброшенной случаем в их собрание...»25.
У Лермонтова изображение старухи — динамично, несмотря на обилие деталей. Вместе с тем оно психологизовано. Получается индивидуализированный, хотя и «ужасный» портрет: «...отвратительное зрелище представилось его глазам: старушка, низенькая, сухая, с большим брюхом, так сказать, повисла на нем: ее засученные рукава обнажали две руки, похожие на грабли, и полусиний сарафан, составленный из тысячи гадких лохмотьев, висел криво и косо на этом подвижном скелете; — выражение ее лица поражало ум какой-то неизъяснимой низостью, какой-то гнилостью, свойственной мертвецам, долго стоявшим на воздухе; вздернутый нос, огромный рот, из которого вырывался голос резкий и странный, еще ничего не значили в сравнении с глазами нищенки! вообразите два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами; ни ресниц, ни бровей!.. — и при всем этом взгляд, тяготеющий на поверхности души; производящий во всех чувствах болезненное сжимание!..» (46).
8
Но, при всем этом, в языке и стиле «Вадима» наблюдались, однако, некоторые новые черты, присущие сильному и большому таланту. И количественно и качественно здесь заметно выделялся из общего фона романтической стилистики ряд своеобразных лермонтовских приемов, которые можно условно свести к четырем основным семантическим категориям: это — аналитическая расчлененность художественной рисовки, углубленный психологизм в изображении внутренних переживаний, нередко тонкость и точность реалистического рисунка и безжалостная ирония, разоблачающая мишуру и ветошь общественно-политического маскарада в эпоху крепостничества, ирония, накладывающая на некоторые картины быта яркие краски социальной сатиры.
Прежде всего бросаются в глаза лермонтовские принципы изображения изменчивых и напряженных переживаний мятежной романтической личности.
- 533 -
Острота художественного чутья Лермонтова сказалась в том, что он (так же как и Гоголь) для углубления психологической перспективы повествовательного языка прибегал к новому, только-что утвердившемуся в русской художественной системе приему чужой или несобственно прямой речи.
В «Вадиме» Лермонтов широко использовал принцип смешения повествовательного стиля с «чужой речью», с языком «внутренних монологов» главных героев. Этот прием был впервые применен Пушкиным в романтических поэмах, начиная с «Кавказского пленника», видоизменен и тщательно разработан в языке «Евгения Онегина», «Графа Нулина», «Домика в Коломне», «Медного всадника». Он был перенесен и в композицию пушкинской художественной прозы. Стиль автора вбирает в себя формы драматического переживания и осмысления событий со стороны центральных персонажей. Образуются экспрессивная волнистость и смысловая многопланность фразеологического и синтаксического движения. Она обусловлена смешением и пересечением разных сознаний, разных субъективных категорий понимания и выражения. Углубляется перспектива изображения. В «Вадиме» этот принцип смысловой многопланности речи развивается в том направлении, какое предуказано было «байронической поэмой». Стиль автора постоянно соскальзывает с плоскости повествовательного изложения в сферу внутренних монологов и эмоциональных раздумий персонажей. Личность автора становится в один ряд с центральными героями романа как образ их спутника и разоблачителя, говорящего с ними на общем языке, совместно с ними переживающего, осмысляющего и оценивающего их речи, действия и события их жизни. Напр.:
«Она слышала, как стучало ее испуганное сердце, и чувствовала странную боль в шее; бедная девушка! немного повыше круглого плеча ее виднелось красное пятно, оставленное губами пьяного старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! сколько ненависти родилось от его поцелуев!.. встал месяц» (21).
Внутренние монологи героев внедряются в повествование и окрашивают его разными экспрессивными красками. Возникает яркая, но несколько однообразная драматизация изложения.
Напр.: «И бог знает отчего в эту минуту он вспомнил свою молодость, и отца, и дом родной, и высокие качели, и пруд, обсаженный ветлами... всё, всё... и отец представился его воображению... и вспомнил Вадим его похороны: необитый гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел вперед... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом... и прохожие снимали шляпы..... вот стали опускать в могилу, канат заскрыпел, пыль взвилась......» (15).
Образы автора и романтического героя становятся двойниками. Стиль их речи, формы их восприятия и понимания действительности сплетаются. Синтаксис и словарь их языка обнаруживают тесное родство.
В реплики и монологи возвышенных героев, полные романтической патетики и красивых фраз, построенные по правилам синтаксической симметрии, Лермонтов вносит эмоциональную прерывистость. Диалог героев пестрит многоточиями, символизирующими глубокие паузы. Он подчинен темпу судорожной, аффективной речи задыхающегося от волнения человека (особенно — язык Вадима). Тот же строй передается чужой речи и в составе самого повествования. Напр.:
- 534 -
«Кровь кинулась Вадиму в голову, он шопотом повторил роковую клятву и обдумывал исполнение; он готов был ждать..... он готов был всё выносить... но сестра! если... о! тогда и она поможет ему..... и без трепета он принял эту мысль: он решился завлечь ее в свои замыслы, сделать ее орудием... решился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели понимало...... странно! он любил ее, — или не почитал ли он ненависть добродетелью?» (16).
«Вадим встал, подошел к двери и твердою рукою толкнул ее; защелка внутри сорвалась, и роковая дверь со скрыпом распахнулась..... кто-то вскрикнул.... и всё замолкло снова... Вадим взошел, торжественно запер за собою дверь и остановился...... на полу стоял фонарь.... и возле него сидела, приклонив бледную голову к дубовой скамье.... Ольга!» (62).
Тот же прерывистый синтаксический строй иногда внедряется в сердцевину авторского повествования, свободного от примеси чужой речи, и здесь содействует экспрессивной изобразительности рассказа. Напр.: «...глаза налились кровью, все кулаки сжались,.... все сердца забились одним желанием мести; сколько обид припомнил каждый! сколько способов придумал каждый заплатить за них сторицею... Вдруг толпа раздалась, расхлынулась, как некогда море, тронутое жезлом Моисея.... и человек уродливой наружности, небольшого роста, запыленный, весь в поту, с изорванными одеждами, явился перед казаками,...... когда урядник его увидал, то снял шапку и поклонился» (94).
Лермонтов в «Вадиме» перенапрягает манеру прерывистого, эмоционально приподнятого повествования. Она здесь — основное синтаксическое ядро изложения. Между тем в языке других романтических писателей 30-х годов этот синтаксический строй является лишь в местах высшего напряжения при описании мучительных, сложных, как бы конвульсивных переживаний.
Эмоционально-прерывистый синтаксис рассказа, опиравшийся на традиции карамзинского стиля, встречается и в языке Марлинского. Напр., в повести «Страшное гаданье»: «Звук его <колокола> потряс меня до дна души... я дрожал, как в лихорадке, а голова горела — я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод... и наконец желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма мелькнула в нее Полина... Еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его... „Забудь, — сказала она, — что я существую“»26.
Ср. в повести «Фрегат Надежда»: «Ужас оледенил нас, когда увидели, что спаситель изнемогает под тяжестью: он стал кружиться на месте — окунулся — опять всплыл, опять ушел — и долго, долго не было видно его!... вот, золотой эполет блеснул из седой пены, но это было на два мгновения... я уж не могла ничего видеть, и когда раздирающий душу крик: утонул! раздался кругом меня — я потеряла чувство»27.
Эта повышенная экспрессивность речи, отражающая отношение автора к изображаемому миру, его оценку характеров, явлений воспроизводимой действительности, сказывается и в стиле идеологического комментария. Повествование часто пересекается и напрягается эмоционально окрашенными восклицаниями и вопросами, освещающими точку зрения рассказчика. Напр.:
- 535 -
ИЛЛЮСТРАЦИИ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Лист набросков М. Зичи, 1880-е гг.
Институт литературы, Ленинград
- 536 -
«...у каждого на челе было написано вечными буквами нищета! — хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!» (2); «...из вольного он согласился быть рабом — ужели даром? — и какая странная мысль принять имя раба за 2 месяца до Пугачева» (4); «...столько страданий за то, что одна собака обогнала другую... как ничтожны люди! как верить общему мнению!» (12—13) и т. п.
Понятно, что в эту систему экспрессивного синтаксиса широко вовлекаются синтаксические формы, выработанные в стихотворном лирическом и повествовательном стиле, в стиле романтических поэм.
Влияние стихового синтаксиса обнаруживается, напр., в развитии цепи эмоциональных присоединений (с помощью союза и). Напр., в речи Вадима: «...его седая голова неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти... и мне она осталась в наследство; и его проклятие живо, живо и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год всё более окружает своею тенью семейство злодея» (11).
В авторском стиле:
«И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, — и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея... и, казалось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания...» (12).
«Постепенно мысли его становились туманнее; и он полусонный лег на траву — и нечаянно взор его упал на лиловый колокольчик» (15).
Ср. в повести «Последний сын вольности»:
И на колена он упал,
И руки сжал, и поднял взор,
И страшно взгляд его блестел,
И темнокрасный метеор
Из тучи в тучу пролетел!
И встали и пошли они
Пустынной узкою тропой.Этот прерывистый синтаксис, опиравшийся на экспрессивные формы сентиментального стиля, хотя и в резко измененном, усложненном виде, должен был внушать иллюзию, что перед читателем воссоздавалась во всем ее беспорядочном и иррациональном течении эмоциональная пульсация речи и мысли бурно чувствующей личности.
Это была как бы «стенограмма» души романтического героя. И паузы и многоточия здесь символизировали не выраженный словесно, бурлящий под текстом поток чувств и мыслей.
Вместе с тем в «Вадиме» уже намечается типично лермонтовский, перешедший затем к Л. Толстому метод аналитического расчленения переживания. Герой, как бы экспериментируя, предается самонаблюдению, и автор раскрывает противоречивый и сложный поток его душевной жизни. Лермонтов и при таком описании пользуется теми же приемами синтаксической и фразовой симметрии, как и в повествовательном стиле.
Изображается сцена расправы пугачевцев над помещиком и его дочерью.
«А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт, он, чье неуместное слово было всему виною...
- 537 -
Погодите, это легко объяснить вам.
Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих — и нашел, что душу ничего не волнует.
Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека......... и нашел, что есть испытания, которых перенесть никто не в силах... — это ему подало надежду увидать слезы, раскаяние Палицына — увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха... — надежда усладительная, нет никакого сомнения» (102).
9
Романтический субъективизм, пронизывающий речь автора и отражающийся в близости ее к речи героев, придает стилю «Вадима» резкую целеустремленность. Оценки автора, его идеологическая позиция, его моралистические сентенции, его симпатии, его мировоззрение, выражаясь в подборе слов и образов, в синтаксических особенностях речи, напрягают экспрессивную действенность повествования. Быстрая смена красок, острые контрасты освещения накладывают на стиль изображения отпечаток глубокой личной заинтересованности автора. Образ автора не менее ярко обрисовывается в языковой ткани, чем образы главных героев романа.
Вот несколько иллюстраций, характеризующих едкую иронию автора, его отрицание современной действительности, его сатирическое отношение к разным явлениям русского быта изображаемой эпохи:
«Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность» (1); «...большие глаза ее были устремлены на лик спасителя, это была ее единственная молитва, и если б бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно» (49) и т. п.
С этой публицистической заостренностью авторского комментария в «Вадиме» органически связан стиль отточенных афоризмов, нередко основанных на парадоксальных несоответствиях и контрастах. Напр., о нищих и увечных: «создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления» (1—2); «...власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их» (8); «...что такое величайшее добро и зло? — два конца незримой цепи, которые сходятся удаляясь друг от друга» (21); «...люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их» (24) и т. п.
Отношение автора к миру изображения сказывается в острых сентенциях, дидактических выводах, обобщающих комментариях: «...это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой)» (1); «...подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника» (4) и т. п.
- 538 -
Иногда целые картины и сцены, вся характеристика персонажа рисуются в стиле эмоционального авторского раздумья, в которое сразу же переходит повествование. Напр.:
«Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. жиреть, зевать, бранить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! и все это продолжается сорок лет, и продолжится еще столько же..., и будут оплакивать ее кончину...... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть..... чудо что за жизнь! особливо как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее — обрывающие чувства человека, как листы с дерева, одно за другим» (5).
Нередко такая внутренняя характеристика осложнена включением несобственно прямой речи самого персонажа: «...здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! каждый день видят новый берег — и новые надежды! — песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание — кто едет, купец? барин? почта? — но на что ей!.. не всё ли равно..... и всё-таки не худо бы узнать. — Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?» (9—10).
От романтического языка Лермонтова в этом направлении намечается путь к языку идеологического романа Достоевского. Но путь этот трудный и длинный. У Лермонтова в «Вадиме» еще нет ясных и точных контуров индивидуального образа; нет тонкой речевой диференциации сложных характеров; нет оттенков в словесных красках, нехватает разнообразия в переливах светотени.
10
Романтический индивидуализм в стиле «Вадима» (так же как и в романах В. Гюго) сочетался с реалистической манерой воспроизведения сцен и картин народного или профессионального быта.
Лермонтов выбирает типично русскую незатейливую местность, Пензенскую губернию, как фон исторического действия. И этот художественный интерес к скромному русскому пейзажу вместе с сюжетом из эпохи Пугачева, вместе с увлечением юного писателя широкими картинами народного движения отражается в точном и тонком рисунке ландшафта, в характерном подборе историко-бытовых деталей (напр., при описании внутреннего убранства дома Палицына, при изображении помещичьей жизни, нравов дворни и т. п.), в социально-языковых различиях драматического диалога, иногда отзывающихся натуралистической фонографичностью.
Реализм изображения сказывается в типической наготе драматических сцен помещичьего и крестьянского быта. Тут нет стилизации, нет литературной изысканности. Тут — явный уклон к сатирической жанровой живописи, к «натуре», сближающий диалоги «Вадима» с соответствующими явлениями лермонтовских драм.
- 539 -
ИЛЛЮСТРАЦИИ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Лист набросков М. Зичи, 1880-е гг.
Институт литературы, Ленинград
- 540 -
Вот диалог между помещиком Палицыным и его сыном при приближении отрядов Пугачева:
« — Нет ли у вас с собою кого-нибудь, на чью верность вы можете надеяться! — сказал быстро Юрий...
— Нет! нет! никого нет!..
— Фотька Атуев?..
— Я его сегодня прибил до полусмерти, каналью! —
— Терешка!..
— Он давно желал бы мне нож в бок за жену свою.... разбойники, антихристы!... О спаси меня! сын мой...
— Мы погибли! — молвил Юрий» (57).
Тяга к широкому реалистическому воспроизведению действительности обнаруживается и в стремлении охватить характеры действующих лиц в их внутренних противоречиях и контрастах, во всем многообразии их свойств и склонностей. «Я желал бы представить Юрия истинным героем, но что же мне делать, если он был таков же, как вы и я» (74).
На том же принципе покоится и тщательная социальная диференциация речи персонажей, принадлежащих к разным классам и группам общества (ср., напр., построение речей Юрия, Бориса Петровича Палицына, Федосея, приказчика, урядника Орленко, солдатки, Петрухи, нищих, казаков, ляхов и крестьян).
Понятно, что эта тривиально-бытовая сторона изображения должна была наложить свою печать и на язык повествования, приблизить его одним краем к живой народной русской речи с ее диалектными разновидностями.
Общий социально-диалектологический состав этого повествовательного языка, кроме фраз и синтаксических схем лирико-драматического стиля, восходивших отчасти к русской литературной традиции, — а в большей степени к западно-европейским литературным формам, — определяется широким и не вполне организованным использованием русской языковой стихии — как книжной, так и устной народной. Резкие колебания авторского тона связаны с быстрыми переходами от разных форм литературно-книжной речи к устно-бытовой в ее разных социальных, иногда даже «простонародных» вариантах. Напр.: «...она <галлерея> оканчивается обрывом или, лучше сказать, поворачивает вертикально вниз: должно надеяться на твердость ног своих, чтоб спрыгнуть туда; как ни говори две сажени не шутка» (68); «...наконец показался всадник, который мчался к нему во все лопатки» (72); «...и она прыгала и едва не целовала шершавые руки охотника» (81); «...под... веками, окруженными легкой коришневатой тенью» (79); «расхлопнуть дверь» (81); «надежда испарилась» (80); «толпа... расхлынулась» (94); «инде свод начал обсыпаться» (68).
В языке повествования иногда более ярко выступают «простонародные», поместно-областные слова, обычно идущие из южнорусских говоров, напр.: ветельник (40); «...два сусека, один из них с хлебом» (58); ср. в автографе: «привезти такую пугалу» (428) и др.
11
В начале 30-х годов назревает кризис русской романтической культуры. Происходит переоценка достижений романтизма. Постепенно отмирают формы «неистового» изображения. Напротив, расширяются
- 541 -
и преобразуются методы психологического раскрытия личности. Все острее и глубже внедряются в русскую литературу новые принципы пушкинского реализма. Под неотразимое влияние Пушкина попадает Гоголь.
В своей статье о картине Брюллова «Последний день Помпеи» Гоголь так писал о романтических приемах художественного изображения: «В них заря так тонко светлеет на небе, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблеск вечера; деревья, облитые сиянием солнца, как будто покрыты тонкою пылью; в них яркая белизна сладострастно сверкает в самом глубоком мраке тени... Весь этот эффект, который разлит в природе, который происходит от сражения света с тенью, весь этот эффект сделался целью и стремлением всех наших артистов. Можно сказать, что XIX век есть век эффектов. Всякий, от первого до последнего, топорщится произвесть эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, XIX век, по странной причуде своей, наконец, обратится ко всему безъэффектному... В руках истинного таланта они верны и превращают человека в исполина; но когда они в руках поддельного таланта, то для истинного понимателя они отвратительны, как отвратителен карло, одетый в платье великана, как отвратителен подлый человек, пользующийся незаслуженным знаком отличия»28.
Общий кризис романтической поэтики отражается и на Лермонтове. Не отказываясь от художественных ценностей романтизма, Лермонтов вступает на новый путь, на путь бытового психологического романа.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Стиль лермонтовской прозы от «Вадима» до «Героя нашего времени» переживает сложную эволюцию. В нем заметно слабеет пристрастие к кричащим краскам «неистового» романтизма. Лермонтов освобождается от гипноза красивой риторической фразеологии. В его прозе сужается область применения эмоционально-прерывистого синтаксиса, восходящего к стилю романтической лирики. Из великих русских прозаиков 30-х годов Пушкин и Гоголь в равной мере влияют на направление творческой эволюции Лермонтова. Но реалистические искания Гоголя кажутся Лермонтову более родственными. Они были острее насыщены духом романтического отрицания и общественной сатиры. Увлечение «Невским проспектом» Гоголя сказывается в языке и стиле «Княгини Лиговской», в работе над которой принимал участие С. А. Раевский. Культивируемый Пушкиным метод национально-исторического реализма, свободного от неорганической примеси современного авторского субъективизма и направленного на широкое и вольное воссоздание духа и стиля разных культур и эпох, не вполне отвечал лермонтовскому представлению об «образе автора».
Но и путь Гоголя Лермонтову кажется односторонним. Лермонтова привлекает сатирический стиль психологической повести, разрабатываемой В. Ф. Одоевским (напр., в «Княжне Мими», в «Княжне Зизи», в «Пестрых сказках»). Однако мистический идеализм Одоевского и согласованные с ним формы фантастического изображения совсем чужды Лермонтову.
Лермонтов явно отходит и от романтической манеры Марлинского. Ап. Григорьев верно заметил, что ранний стиль Лермонтова находится
- 542 -
в тесной связи со стилем Марлинского и вместе с тем окончательно отменяет и вытесняет его. То, что так «дико бушевало» в претенциозном стиле Марлинского, частью совсем отброшено Лермонтовым, частью «сплочено могучею, властительною рукою художника».
Таким образом, в стиле Лермонтова намечаются смешение, сплав разнородных романтических тенденций с приемами психологического реализма.
Об этом неорганическом смешении реалистических и романтический форм выражения еще в 1830 г. писал И. В. Киреевский: «Такое борение двух начал: мечтательности и существенности, должно необходимо предшествовать их примирению»29.
2
Стиль «Княгини Лиговской» характеризуется большой сложностью. Элементы «неистовой» стилистики, идущей от французского романтизма, тут или ограничены и ослаблены или переосмыслены, преобразованы. Особенно заметны изменения в словаре и фразеологии. В выражении и изображении чувств совсем потускнели мелодраматические краски. Только на образ чиновника Красинского они ложатся несколько более густо, но совсем не с той напряженностью, как в «Вадиме». Напр.:
«— Милостивый государь, — голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели: — милостивый государь!... вы меня обидели! — вы меня оскорбили смертельно» (121). «Он остановился, глаза его налились слезами и кровью...» (122).
Вокруг образа Красинского изредка мелькает и отвлеченно-романтическая фразеология: «В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно как буря» (121).
От этой абстрактной, беспредметной романтической фразеологии, конечно, следует отличать отражения стихового стиля, которые очень сильны и в языке «Княгини Лиговской»: «По временам она еще всхлипывала, и грудь ее подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море пролетевшим ураганом» (150).
Повествовательный стиль «Княгини Лиговской» включает в себя многие из тех элементов романтической речи, которые были характерны для «Вадима», но в ином соотношении и в ином окружении. Экспрессивный синтаксис, окрашенный колеблющимся, многоцветным личным тоном автора, продолжает играть большую роль в композиции повествования, но подвергается существенным изменениям. Прерывистые конструкции, отделяемые эмоциональными паузами (многоточиями), заметно сокращаются в составе повествования. Между тем функции их усложняются.
1) Прерывистые конструкции применяются лишь в тех местах, где внедрение «чужой речи» в авторский стиль принимает особенно острый, напряженный характер. Прерывистыми формами синтаксиса передается глубокое эмоциональное волнение персонажа. Напр.:
«С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям... перед ним человека за четыре мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки... лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба, дверцы хлопнули, — на Морскую! пошел... — Интересную карету заменила другая, может быть не менее интересная —
- 543 -
только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть... Княгиня сидела в ней» (124).
Формы прерывистого синтаксиса воспроизводят сложное событие, исполненное внешних коллизий и внутренней борьбы, отражают ритм переживаний самого действующего лица. Синтаксис тут является косвенным отражением чужой мысли и речи. Его строем символизируется внутреннее волнение героя, его восприятие. Напр.: «...несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтоб разглядеть хоть глаз, хоть щечку; напрасно, — раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза... но как на зло ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица... — у него заболела шея, — он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу... — первый акт кончился» (118).
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЕ“
Рисунок И. Репина, 1887 г.
Русский музей, ЛенинградВ иных случаях глубокая пауза обозначает смену одного субъектного плана речи другим. «Печорин à propos рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта, и умчался от погони............. Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись» (119); «...глаза ее беспокойно бегали кругом, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо..... и упали на Лизавету Николавну.... узнав друг друга, соперницы очень ласково обменялись приветствиями......... (170).
2) Эмоциональные, прерывистые конструкции разнообразят течение повествовательного стиля, свидетельствуя о резких переменах авторского тона, о драматизации изложения. Повествователь становится в позу конферансье, комментирующего события или действия своих героев. Напр.: «Лизавета же Николавна.... о! знак восклицания...
- 544 -
погодите!.. теперь она взошла в свою спальну и кликнула горнишную, Марфушу... толстую, рябую девищу!... дурной знак!.... Я бы не желал, чтобы у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных...» (125).
3) Синтаксическая прерывистость повествования говорит об умолчаниях, о пропусках промежуточных сюжетных звеньев, создавая иллюзию глубокой психологической перспективы — и многозначительности субъективных сопереживаний автора. Напр.: «...бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается, — и наконец... увы...... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты» (128).
«Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман — Марфуша вышла.... тишина воцарилась в комнате... книга выпала из рук печальной девушки» (126).
4) Наконец, прерывистый синтаксис может символизировать отсутствие внутренней связности в последовательном движении фраз, раздробленность самих воспроизводимых явлений или событий, которые выхватываются из потока жизни как наиболее типичные, характерные, но между которыми предполагается сложное жизненное движение. Тут Лермонтов, пользуясь художественными приемами пушкинской сдвинутой композиции, усиливает их экспрессивность графическим приемом многоточия. Напр.: «...в год она кончила курс французского языка..... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слыхал, чтоб она играла... танцовать она выучилась на детских балах.... романы она начала читать как только перестала учить склады.... и читала их удивительно скоро.... между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место — и стал жить открытее.... 15 лет ее стали вывозить, выдавая за 17-летнюю, и до 25 лет условный возраст этот не изменялся» (127).
Уже из этих иллюстраций видно, насколько значительны были перемены и в общем ритмико-синтаксическом рисунке лермонтовского повествования (сравнительно с патетической декламацией «Вадима»). Расстояние между языком повествователя и речью всех действующих лиц, даже высокого романтического строя, увеличивается. В повествовательном стиле синтаксические традиции стихового языка подвергаются ломке и преобразованию. Количество периодов, построенных по правилам анафорического нагнетания однородных частей и симметричной группировки элементов внутри синтаксического целого, явно сокращается. Происходит быстрое сближение повествовательного стиля с бытовой речью. Автор не допускает резких отклонений от норм языка «хорошего общества». Пушкинская работа над прозаическими стилями сказывалась в ограничении романтического «извития и плетения словес» даже у писателей, далеких от основных принципов пушкинской языковой реформы.
3
Повествовательный язык «Княгини Лиговской» гораздо сложнее, чем в «Вадиме». Прежде всего в композиции «Княгини Лиговской» рельефно выделяется стиль устно-бытового рассказа (или «сказа»). Он характеризуется более разговорной лексикой и более заметной примесью синтаксических конструкций живой устной речи с ее бытовыми интонациями.
- 545 -
Сближение повествования с живой речью предоставляет автору широкие возможности стилистического смешения литературно-книжного и устно-бытового языка. Экспрессия сказа разнообразнее, изменчивей и гибче, чем язык книжно-описательных отрезков повествования.
Открывается повесть канцелярски-деловой фразой: «В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни...». Со стремительной иронией она растворяется в потоке устно-бытового повествования: «...по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник». Рассказчик непринужденно обращается к своей аудитории, выступая на сцену как первое лицо: «...заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы, — итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента». Этот метод устно-литературного сказа, разрывающего прямое изложение событий ироническими отступлениями, был типичен для гоголевской манеры 30-х годов. Но в творчестве Гоголя он проявляется более резко и непринужденно. Начало «Княгини Лиговской» по своему стилю напоминает зачин гоголевского «Носа» (напечатанного в № 3 пушкинского «Современника» за 1836 г.): «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цырюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: и кровь отворяют, — не выставлено ничего более), — цырюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано». Ср. начало гоголевской «Шинели» (напечатанной в 1842 г.): «В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий... Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник...».
Сравнение этих зачинов повестей говорит о том, что стиль Лермонтова лишь сближается с гоголевским стилем, но по существу остается в почтительном отдалении от него. Гоголевский слог в языке «Княгини Лиговской» не пестрит очень резкими синтаксическими переходами и изломами. Он лишен явных вульгаризмов и профессионализмов. Он далек от романтической риторики «Невского проспекта». Напр., описание бала в «Княгине Лиговской» построено по той же композиционной схеме, что и описание Невского проспекта в два часа дня у Гоголя («Невский проспект»). В языке Гоголя ироническая патетика изображения, окутывающего обманчивым лиризмом все низкое и комическое, рассекает повествование на размеренные строфы. При одинаковом зачине, при симметрии основных форм синтаксического построения эти строфы все же очень различны и по своему лексическому составу и по вариациям своего синтаксического стиля. «Все, что̀ вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и щегольских шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным
- 546 -
искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы! принадлежащие только одной иностранной коллегии... Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью неизобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни...» и т. д. и т. д.
Гоголь рисует невскую панораму сначала как калейдоскоп движущихся предметов — частей человеческого тела и уборов, в образе которых метонимически представлены разные категории лиц петербургского среднего и высшего общества. Но неожиданно в тот же вещной ряд вдвигаются (с начала новой строфы) прямые обозначения лиц: «Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте!»30.
И весь цикл строф завершается обобщенной сентенцией, смыкающей конец картины с началом.
В стиле «Княгини Лиговской» нет той яркой игры лексических и грамматических, главным образом синтаксических, красок, как у Гоголя. Нет комического нагромождения эпитетов и определительных конструкций. Нет метонимического перемещения образов лиц и предметов; вообще нет романтического алогизма. Напротив, сама ирония Лермонтова заострена логически. Она неумолимо рассудочна. Лермонтовская лексика более отвлеченна. Она включает в себе элементы публицистического языка. Но гоголевский метод иронических присоединений и сопоставлений, общая композиционная схема связи параллельных синтаксических отрезков при посредстве одного и того же или синонимического зачина («тут было всё, что есть лучшего в Петербурге...»; «тут было пять или шесть доморощенных дипломатов...»; «тут могли бы вы также встретить...») извлечены из «Невского проспекта» Гоголя и воспроизведены Лермонтовым без всякой маскировки (ср., впрочем, также описание светского бала у Пушкина, в восьмой главе «Евгения Онегина», строфы XXIV—XXVI).
«...Тут было всё, что есть лучшего в Петербурге, два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что впрочем вовсе неудивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах, несколько генералов и государственных людей, — один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу bluestockings и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стеклы двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское, и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове» (166—167).
Серия этих сатирических картин в «Княгине Лиговской» завершается обнажением гоголевского стиля:
«Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением
- 547 -
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЕ“
Рисунок В. Серова, 1890 г.
Русский музей, Ленинград
- 548 -
этого бала, как и всех возможных балов!... сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые на прокат из лавки... — я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете, судить о душе и уме женщины, протанцовав с нею мазурку, всё равно, что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью».
Здесь не только прерывистый, эмоционально приподнятый синтаксис (ср. в «Невском проспекте» Гоголя: «А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект»), но и контрастно-иронический параллелизм парных сопоставлений и соединений, мнимая беспорядочность и стройная согласованность перечисления, симметрия смежных синтаксических и фразеологических рядов, обобщающие комментарии и эпиграмматическая концовка — все это ведет к «Невскому проспекту» Гоголя.
Приемы выбора и подбора вещных деталей, приемы рисовки лиц и обстановки также свидетельствуют о приближении лермонтовского стиля к поэтике гоголевского натуризма. В «Княгине Лиговской» тщательно вырисовываются непривлекательные подробности костюма и внешности. См., напр., описание костюма и внешности чиновника Красинското: «...на нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником» (109). Особенно показателен портрет горничной, набросанный в кричащих гоголевских тонах:
«Я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой, и (что всего хуже) четвероугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху...... такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья — приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ.... о, любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горнишная» (125—126).
В стиле «Княгини Лиговской» намечаются новые приемы рисовки лиц, носящие печать влияния то пушкинской, то гоголевской манеры. Таков, напр., прием портретного изображения, основанный на неожиданном, лишенном внешней последовательности, но характеристическом и остро ироническом перечислении свойств и действий персонажа. Этот стиль портрета от Пушкина (ср., напр., изображение бригадирши Лариной в «Евгении Онегине») переходит к Гоголю, который усложняет его комическим нагромождением бытовых деталей и придает ему черты романтического гротеска. Так, Гоголь иногда обнажает алогизм сочетания разных свойств характера, представляя шаблонную личность механическим конгломератом типических качеств и действий.
У Лермонтова этот стиль портрета иногда приобретает лаконическую точность фактически исчерпанного указания признаков. Отсюда — ослабленность
- 549 -
комической игры, но большая едкость сатирического воспроизведения. Достаточно сопоставить стиль гоголевской характеристики поручика Пирогова в «Невском проспекте» с лермонтовским портретом Горшенкова, «одного из характеристических лиц петербургского общества». У Лермонтова с пластической выразительностью и живописной точностью выписана наружность Горшенкова, между тем как у Гоголя изображение внешности Пирогова вовсе отсутствует. Длинный, остро, но как бы бессистемно подобранный перечень свойств Пирогова и вообще всех молодых людей его сорта Гоголем с внезапной резкостью обрывается. Автор иронически разоблачает потенциальную бесконечность такого перечня качеств: «Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно».
Лермонтовское портретное изображение не так многословно, как у Гоголя. Оно логически замкнуто. Лермонтов стремится к синтезу пушкинской и гоголевской манер портрета. Вот стиль портрета Горшенкова, основанный на пушкинском методе присоединительного перечисления, но гораздо более детализованный: «Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безымянные статьи в журналах, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб докончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко — он называл себя Горшенков»31.
В «Княгине Лиговской» использован и другой прием портретного изображения, еще более типичный для гоголевской манеры. Это — портрет, составленный из смеси чужих мнений. В этом стиле Лермонтов рисует Катерину Ивановну Негурову:
«Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа — женщина хитрая и лукавая, во мнении других старух; — добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи...... истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышесказанные мнения... и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь — слушать певчих!..» (125).
Легко выделить в стиле «Княгини Лиговской» и более частные стилистические приемы, отражающие глубокую заинтересованность Лермонтова художественной манерой Гоголя. Таков, напр., воспринятый Гоголем от Пушкина, но комически заостренный прием неожиданной присоединительной сцепки слов разных грамматико-семантических категорий:
«...черты лица его различить было трудно: причиною тому козырек, воротник, — и сумерки» (109); «...не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе, с помощию божией и хорошенького личика и блестящего воспитания» (112).
Особенно рельефно этот принцип проявляется в рисовке лиц: «возле нее на креслах в мундирном фраке сидел какой-то толстый, лысый господин
- 550 -
с огромными глазами, налитыми кровью, и бесконечно широкой улыбкой» (134); «...дама лет 30-ти, чрезвычайно свежая и моложавая, в малиновом токе, с перьями, и с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью...».
Большая свобода в употреблении разговорных конструкций, развившаяся под влиянием Гоголя, отражается на этих лермонтовских принципах присоединительного сцепления фраз. Иногда возникает иллюзия непосредственно импровизируемой устной речи с ее ассоциативными скачками. Это усиливает выразительность иронического подбора присоединений. Напр.:
«В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было двадцать три года, — и что у родителей его было 3 тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии, — последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность, во мнении строгих читателей! — виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, 16-тилетней девочки, которая была очень недурна собою и по словам маменьки (папеньки уж не было на свете) не нуждалась в приданом» (112).
Интерес к народным кличкам и прозвищам, к социально-диалектным искажениям имен в «Княгине Лиговской» также мог быть навеян Гоголем. Напр., вот как изображается и комментируется здесь тип кучера и его речь:
«— Ну, сударь, — сказал кучер, широкоплечий мужик с окладистой рыжей бородой, — Васька нынче показал себя! —
Надобно заметить, что у кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахила, Гектора... она всё-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, — а Васька» (110—111).
На фоне гоголевской манеры мог быть оценен и воспринят в 30-х годах XIX в. и принцип анафорического выравнивания начал и концов двух соседних кусков повествования:
«...самые же ужасные мучители его были извозчики, — и он ненавидел извозчиков; „барин! куда изволите? — прикажите подавать? — подавать-с!“ — это была пытка Тантала, и он в душе глубоко ненавидел извозчиков» (110).
Лермонтов видел в гоголевском стиле острое орудие социальной сатиры. Но он был далек от того, чтобы рабски копировать гоголевскую манеру художественного изображения. Отношение Лермонтова к поэтике Гоголя очень свободное. Элементы гоголевского стиля лишь примешиваются к основной аналитической и глубоко интеллектуальной стихии лермонтовского языка. Они как бы вкраплены местами в совсем иной стилистический план отражения действительности. Так, очень характерно, что в творчестве Лермонтова гоголевские приемы сближаются с отражениями стиля В. Ф. Одоевского, при сатирическом изображении светского общества. На диалогической речи «Княгини Лиговской» и сопровождающих ее ремарках автора заметно влияние не только Гоголя, но и В. Ф. Одоевского, с его излюбленным приемом куклы-автомата32. Напр.:
- 551 -
«Дипломат взбеленился.
— Какие ужасные клеветы про наш милый город, — воскликнул он, — а всё это старая сплетница Москва, которая из зависти клевещет на молодую свою соперницу.
При слове „старая сплетница“ разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею» (146).
Еще более машинизирован в духе В. Ф. Одоевского образ «молчаливой добродетели», уморившей двух мужей.
«Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколыхались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с терпением молча ожидали ее ответа. Наконец она открыла уста...» (147).
В том же сатирическом стиле, восходящем к манере В. Ф. Одоевского, набрасывается портрет длинного дипломата, «говорившего по-русски хуже всякого француза», в таком роде: «„Эти здания, которые с первого взгляда вас только удивляют как всё великое, со временем сделаются для вас бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и когда увидите, что оно в них уживается легко и приятно.... здесь всё, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе“....
Так высокопарно и мудрено говорил худощавый дипломат, который имел претензию быть великим патриотом».
Таким образом, сатирически рисуя высший свет, Лермонтов прибегает к гофмановскому приему изображения людей в виде манекенов и кукол, с явной ориентацией на стиль В. Ф. Одоевского.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЕ“
Рисунок В. Серова, 1890 г.
Местонахождение оригинала неизвестно
- 552 -
В. Ф. Одоевский в своих «Пестрых сказках» ссылается на такие строки из письма Вертера («Страдания Вертера» Гёте в переводе Рожалина, M., 1829):
«Мне все кажется, что я перед ящиком с куклами; гляжу, как движутся передо мною человечки и лошадки; часто спрашиваю себя, не обман ли это оптический, играю с ними, или лучше сказать, мною играют, как куклою; иногда забывшись, схвачу соседа за деревянную руку, и тут опомнюсь с ужасом»33.
Эти размышления Вертера ложатся в основу новеллы В. Ф. Одоевского «Деревянный гость или сказка об очнувшейся кукле и господине Кивакеле»34. Ср. также у В. Ф. Одоевского в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» (1833) разговор девушки-куклы, которая повторяла лишь вытверженные условно-светские фразы: «Кукла была очень рада своему новому приобретению; не проходило часа, чтоб она не кричала: есть добродетель, есть любовь, есть искусство, — и не примешивала к своим словам уверений в глубочайшем почтении: идет ли снег — кукла твердит: есть добродетель! принесут ли обедать — она кричит: есть любовь! — вскоре дошло до того, что это слово опротивело молодому человеку. Что он ни делал: говорил ли с восторгом и умилением, доказывал ли хладнокровно, бесился ли, насмехался ли над красавицею, — все она никак не могла постигнуть, какое различие между затверженными ею словами и обыкновенными светскими фразами; никак не могла постигнуть, что любовь и добродетель годятся на что-нибудь другое, кроме письменного окончания»35.
Итак, Лермонтов в работе над прозаическим стилем свободно комбинирует приемы наиболее оригинальных писателей своей эпохи. Поэтому интерес к Гоголю вовсе не отражал уклона Лермонтова к натуральной школе.
Насколько далеки эти жанровые тенденции лермонтовского стиля от складывавшихся в 30-х годах принципов натуральной школы, легко увидеть, сопоставив, например, описание петербургского двора у Лермонтова и позднее — у Некрасова. В «Княгине Лиговской»:
«Вы пробираетесь сначала через узкий и угловатый двор, по глубокому снегу, или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падением, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную и узкую как дверь в чистилище; поскользнувшись на пороге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх. Взойдя на первый этаж и остановившись на четвероугольной площадке, вы увидите несколько дверей кругом себя, но увы, ни на одной нет нумера; начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходит кухарка с сальной свечей, а из-за нее раздается брань, или плачь детей» (154—155).
Тот же уголок жизни рисуется Некрасовым в «Жизни и похождениях Тихона Тросникова» (1843—1845) так, что внешние детали грязной «натуры», как бы разбухнув, выступают во всей своей неприкрытой наготе: «Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен:
- 553 -
меня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнообразным криком и стуком: дом был наполнен мастеровыми, которые работали у растворенных окон и пели. В глазах у меня запестрели отрывочные надписи вывесок, которыми был улеплен дом изнутри с такою же тщательностью, как и снаружи: Делают троур и гробы и на прокат отпускают; медную и лудят; из иностранцев Трофимов; русская привилегированная экзаменованная повивальная бабка Катерина Брагадина; пансион; Александров в приватности Куприянов. При каждой вывеске изображена была рука, указующая на вход в лавку или квартиру и что-нибудь, поясняющее самую вывеску: сапог, ножницы, колбаса, окорок в лаврах, диван красный, самовар с изломанной ручкой, мундир... Но уважение к исторической истине заставляет сказать, что при вывеске повивальной бабки изображения никакого не было. Наконец в угловом окне четвертого этажа торчала до-красна нарумяненная женская фигура лет тридцати, которую я сначала принял за вывеску... На дворе была еще ужасная грязь; в самых воротах стояла лужа, которая, вливаясь на двор, принимала в себя лужи, стоявшие у каждого подъезда, а потом уже с шумом и журчанием величественно впадала в помойную яму; в окраинах ямы копались две свиньи, собака и четыре ветошника, громко распевавшие:
Полно, барыня, не сердись,
Вымой рожу, не ленись!Но то, что я видел здесь, было ничтожно пред тем, что ожидало меня впереди. Угол, как уведомляла записка, отдавался на заднем дворе: нужно было войти во вторые ворота. Я вошел и увидел опять двор, немного поменьше первого, но в тысячу раз неопрятнее; целые моря открывались передо мной; с ужасом взглянул я на свои сапоги и хотел воротиться; казалось, не было здесь аршина земли, на который можно было бы ступить, не рискуя увязнуть по уши. Я решился сначала держаться как можно ближе стены, потому что окраины двора были значительно выше средины; но то была обманчивая и страшная высота, образовавшаяся от множества всякой дряни, выливаемой и выбрасываемой жильцами из окон; ступив туда, нога вязла по колено, и в то же время в нос кидался неприятный и резкий запах. Я смекнул, что лучше последовать известной пословице, и, оставив в покое окраины двора, пошел серединою. Самоотвержение мое увенчалось полным успехом: через двадцать шагов, которые я по предчувствию направил к двери с навесом, прямо против ворот, я заметил, что нога моя с каждым шагом стала вязнуть менее, еще несколько шагов — и я очутился у двери, ведущей в подвал; поскользнулся и полетел... или, правильнее, поехал, — разумеется вниз, — в положении весельчаков, катающихся с гор на масленице; сапоги по ступеням лестницы застучали, как барабан. Я летел очень недолго; ударился обо что-то ногой; вскочил, всмотрелся; темно, пахнет гнилой водой и капустой; дело ясное: сени»36.
Трудно сомневаться в том, что лермонтовский натуризм ближе к французским истокам (напр., к стилю Бальзака), чем русская натуральная школа. В «Княгине Лиговской» автор не стремится к нагромождению и обнажению грязных деталей быта. Он не замедляет действия, не застывает на микроскопическом анализе окружающей натуры, а побуждает читателя охватить быстрым взглядом наиболее типичные особенности раскрывающейся
- 554 -
картины. При этом повествователь сохраняет ту же позу иронически философствующего скептика-разоблачителя, что и в отношении высшего света. Описание «петербургских углов» заострено афоризмом Лермонтова: «Чем выше вы взбираетесь, тем хуже. Софист наблюдатель мог бы заключить из этого, что человек, приближаясь к небу, уподобляется растению, которое на вершинах гор теряет цвет и силу» (155).
4
Гораздо труднее учесть и воспроизвести пушкинское начало в стиле «Княгини Лиговской». Пушкинский прозаический стиль здесь ощущается как та литературная основа, к которой восходит индивидуальное творчество Лермонтова, и вместе с тем как та художественная норма, к преодолению которой оно стремится. В «Княгине Лиговской» можно отметить ясные отзвуки мотивов «Пиковой дамы». Так, Красинский у подъезда дома баронессы Р* (гл. IX) несколько стилизован под Германна, и в лермонтовском языке здесь очень заметны отражения пушкинской повествовательной манеры.
«С 11 часа вечера кареты, одна за одной, стали подъезжать к ярко освещенному ее подъезду: по обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопытством и опасностью быть раздавленными. В числе их был Красинский: прижавшись к стене, он с завистью смотрел на разных господ со звездами и крестами, которых длинные лакеи осторожно вытаскивали из кареты, на молодых людей, небрежно выскакивавших из саней на гранитные ступени, и множество мыслей теснилось в голове его. „Чем я хуже их? — думал он; — эти лица, бледные, истощенные, искривленные мелкими страстями, ужели нравятся женщинам, которые имеют право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одни деньги, на что им красота, ум и сердце. О, я буду богат непременно, во что бы то ни стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость“».
Вообще отдельные части «Княгини Лиговской» почти без остатка могут быть сведены к приемам пушкинской художественной прозы, к ее синтаксису и даже к ее словарному строю. Но отпечаток иной индивидуальной экспрессии и идеологии очевиден и в этих частях. В них гораздо больше дробности, расчлененности и вместе с тем описательного психологизма. Они менее динамичны и менее обобщены, чем пушкинская проза. Вот иллюстрации:
«Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха; он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь прийти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны; —
Между тем белый султан и гнедой рысак пронеслись вдоль по каналу, поворотили на Невский, с Невского на Караванную, оттуда на Симионовский мост, потом направо по Фонтанке, — и тут остановились у богатого подъезда с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой».
Ср. у Пушкина в «Станционном смотрителе»: «В этот самый день, вечером,
- 555 -
шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо».
Однако в стиле «Княгини Лиговской» пушкинский строй повествования нередко нарушается отчасти влиянием гоголевской манеры, но еще больше отвлеченно-аналитическими замечаниями и комментариями автора, его обобщающими сентенциями.
«Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека, видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости» (111).
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Рисунок В. Серова, 1890—1891 гг.
Местонахождение оригинала неизвестно«...но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона» (117).
«...но я догадываюсь, что эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и сердца — если оное налицо имеется, ибо натуральная история нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ — именно классом женщин — без сердца» (126).
«...ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и эксельбантам,
- 556 -
не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение» (139).
Вне круга описаний, рассуждений и психологических медитаций Лермонтов чаще всего остается верен пушкинскому принципу быстрого повествования, основанного на смене коротких, глагольных синтагм (не больше 15—18 слогов). Напр.:
«Он побледнел, вздрогнул, глаза его сверкнули, и карточка полетела в камин. — Минуты три он ходил взад и вперед по комнате, делая разные странные движения рукою, разные восклицания, — то улыбаясь, то хмуря брови; наконец он остановился, схватил щипцы и бросился вытаскивать карточку из огня: — увы! одна ее половина превратилась в прах, а другая свернулась, почернела, — и на ней едва только можно было разобрать Степан Степ..... Печорин положил эти бренные остатки на стол, сел опять в свои креслы и закрыл лицо руками» (112—113).
Впрочем, нетрудно заметить и тут отклонения от пушкинской системы повествования, состоящие в усилении отвлеченно-эмоциональных элементов словаря и синтаксиса.
Сложность стилистического состава языка «Княгини Лиговской» отражается в системе употребления основных грамматических категорий. Восприняв пушкинский принцип сжатой фразы, Лермонтов, однако, чередует короткие глагольно-повествовательные конструкции с распространенно-описательными. Глагол не имеет в стиле Лермонтова такого явного стилистического преимущества перед качественными именами, как в языке Пушкина. Лермонтов более часто и более разнообразно пользуется разными видами именной фразы. Кроме того, он не скупится на характеристические определения предметов речи. Напр.:
«...кто из нас в 19 лет не бросался очертя голову вослед отцветающей кокетке, которых слова и взгляды полны обещаний и души которых подобны выкрашенным гробам притчи» (140).
«...эта книжка, как пустой лотерейный билет, была резкое изображение мечтаний обманутых, надежд несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную существенность» (156).
Пушкинское влияние сильнее всего отражается в принципах группировок и соединений слов и словесных единств, в «иерархии предметов». Утвержденный Пушкиным прием «сдвинутых», присоединительных сочетаний слов, фраз, синтагм не только воспринимается Лермонтовым, но и развивается им еще дальше в разных направлениях (быть может, под воздействием Вельтмана и Гоголя). Напр.:
«...дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду — и улыбались знакомым» (123).
«...она с досадою и вместе тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия — и вскоре они уверились, что она непобедимая и чудная женщина» (128) и т. п.
Ироническая окраска, изменчивая, то неуловимая, мимолетная, то выступающая резко и неожиданно, придает своеобразный колорит повествованию и тоже сближает лермонтовский стиль с пушкинским. Напр.:
«...наконец неожиданная мысль прилетела к нему свыше» (116); «...маленький Меркурий, гордясь великой доверенностию господина,
- 557 -
стрелой помчался в лавочку; а Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр; однако в этой поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника» (116) и т. п.
Пушкинское начало сказывается и в строе лермонтовского диалога. Короткие реплики, их логически стройное движение — при разнообразии экспрессии, индивидуальное, глубоко характеристическое соотношение слов с лаконическими обозначениями жеста и мимических движений, прозрачность и типичность устной речи, свободной от книжных примесей, — все это свидетельствует о продолжении и развитии пушкинской художественной системы (быть может, не без примеси влияния Грибоедова). Но затейливая игра светского остроумия и каламбуров в составе диалога, подчеркнутая афористичность реплик обнажают режиссерский замысел автора, стиль которого свободно врывается в речь персонажей. Этот прием афористической унификации диалога, отвергнутый Лермонтовым в «Герое нашего времени», еще очень ощутителен в «Княгине Лиговской». Вот, напр., иронический диалог между братом и сестрой Печориными:
«— А ты спал!............ ужасно весело!.....
— Я бы желал спать. — Оно покойнее!.....
— Это стыд! — отчего нам на балах, в обществах так скушно!..... вы все ищете спокойствия.... какие любезные молодые люди....
— А позвольте спросить, — возразил Жорж зевая, — из каких благ мы обязаны забавлять вас...
— Оттого, что мы дамы.
— Поздравляю. Но ведь нам без вас не скушно........
— Я почему знаю!........ и что мы станем говорить между собою;
— Моды, новости.... разве мало; поверяйте друг другу ваши тайны...
— Какие тайны? — у меня нет тайн... все молодые люди так несносны...
— Большая часть из них не привыкли к женскому обществу!
— Пускай привыкают — они и этого не хотят попробовать!...
Жорж важно встал и поклонился с насмешливой улыбкой:
— Варвара Александровна, я замечаю, что вы идете большими шагами в храм просвещения» (113).
Глубоко индивидуальное своеобразие лермонтовского стиля, его резкие отличия от пушкинского сразу же выступают там, где быстрое повествование переходит в характеристическое описание. Так, весь стиль изображения Печорина явно противопоставлен пушкинской манере характеристики. Характер, воспроизводимый Пушкиным, никогда не демонстрируется читателю в анатомическом разрезе. Быстро, немногими тонкими штрихами намечаются его общие контуры. А затем образ героя начинает двигаться по разным линиям сюжета, окутанный плотной атмосферой разнородных субъективных намеков, и является в разных ситуациях — в изменчивом освещении. Сложность и противоречивость психологической природы характера чрезвычайно ярко выступают в этом динамическом раскрытии образа с разных точек зрения. Но психологическое единство личности в пушкинском стиле остается незамкнутым и незавершенным. Между тем уже в стиле «Княгини Лиговской» намечается типично-лермонтовская манера детализованного индивидуального портрета, основанного на принципе психо-физиологическото параллелизма, на тонком психологическом анализе, иногда же и на парадоксальном истолковании отдельных примет как признаков характера.
- 558 -
Характер героя не только изображается, но и комментируется автором. Авторские комментарии чаще всего приобретают яркий отпечаток публицистического стиля. На них лежит колорит общественной сатиры. Стиль становится более отвлеченным, «метафизическим», как говорили в 20—30-х годах. Синтаксические формы меняются. Более свободно и разнообразно располагаются группы сложных предложений, однако всегда легко произносимых и семантически законченных. Афоризмы, иронические обобщения и эпиграмматические характеристики придают речи энергию и едкость. Идейная насыщенность стиля, тонкое остроумие переходов от одной мысли к другой подчеркивают логическую линию движения и соотношения синтагм и предложений. Синтаксическая симметрия контрастов и сопоставлений оказывается внутренне оправданной. Характерный для «метафизического языка» 30-х годов приподнятый и искусственно-книжный риторизм отвлеченного изложения Лермонтовым преодолевается уже в стиле «Княгини Лиговской». Напр.:
«...когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться, и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, — и в свете утверждали, что язык его зол и опасен..... ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: — свету нужны французские водевили и русская покорность чужому мнению» (111).
«...в коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек, не встречая чересчур строгих и неприступных дев, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона» (117).
Открытое вторжение публицистического стиля в строй повествования противоречило художественной манере Пушкина. В статье об «Истории русского народа» Полевого Пушкин старался оправдать и смягчить публицистические мотивы даже в «Истории» Карамзина: «Не должно видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели». Тенденция должна быть художественно замаскирована и нейтрализована. У Лермонтова — не то. Тут Лермонтов имел русских предшественников в лице Радищева, декабристов, в лице Гоголя, В. Одоевского, Н. Ф. Павлова, но едва ли не в большей степени опирался на французские традиции (Бенжамен Констан, Стендаль и др.).
5
Формы «метафизической», отвлеченно-теоретической или публицистической речи в стиле художественной прозы Лермонтова очень сложны и разнообразны. Их стилистическая диференциация обусловлена различием их функций, различием их семантики. Прежде всего в стиле Лермонтова углубляется язык психологических описаний.
Лермонтовский прием аналитически беспристрастного описания течения переживания во всей его наготе и противоречивых колебаниях опирается
- 559 -
на предположение, что нет чистых, несмешанных чувств. «Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием» (163). Здесь намечается тот метод психологического изображения, который потом ляжет в основу реалистического стиля Толстого 50—60-х годов.
Стиль психологических описаний, стремящихся охватить чувство во всей его противоречивой сложности, у Лермонтова основан обычно на неожиданном сплетении и сцеплении поэтической фразеологии, поэтических образов и выражений с отвлеченным языком почти научного, «метафизического» рассуждения. Так, внутреннее оцепенение Печорина после разрыва с Негуровой и перед свиданием с княгиней Лиговской изображается при помощи поэтической параллели петербургского неба и человеческой души.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Рисунок В. Серова, 1891 г.
Третьяковская галлерея, Москва«Многие жители Петербурга, проведшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от неблагодарной здешней земли, закрадывается в душу... Какое-то болезненное замирание, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которые подобно тяжелым облакам осаждали ум его, предвещали одни близкую бурю душевную» (133).
С другой стороны, тут же в повествовательный стиль внедряются выражения и формулы книжно-теоретического языка:
- 560 -
«...равнодушие... приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце неспособно к энтузиазму, ум к размышлению. В подобном расположении находился Печорин»37 и т. д.
Для стиля психологического изображения Лермонтов разрабатывает оригинальный принцип генерализирующей классификации в контрастном описании разных слоев общества или разных категорий людей. У Гоголя встречается однородный прием, но комически направленный, прием схематической классификации, покоящейся на чисто внешнем признаке (чаще всего это контрастное и притом чисто словесное раздвоение)38. При сопоставлении этих стилистических приемов Гоголя и Лермонтова особенно рельефно выделяются своеобразный психологизм лермонтовского стиля, его глубоко интеллектуальная основа, его идейно-публицистическая насыщенность (ср. стиль Н. Ф. Павлова). Достаточно вспомнить из «Мертвых душ» Гоголя контрастный параллелизм двух родов мужчин — тоненьких и толстых в описании бала или разграничение «господ большой руки» и «господ средней руки» на основании желудка и сравнить стиль этих прямолинейных и нарочито механических классификаций с нарисованной Лермонтовым «миниатюрной картиной всего петербургского общества» у театрального подъезда:
«Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, — и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные увы! гордости и блеску необыкновенных; —
У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, — кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями» (123).
В «метафизическом» стиле «Княгини Лиговской» сгущается и обостряется афористическая едкость сжатых лермонтовских формулировок.
Афористичность авторских комментариев здесь осложнена принципом иронического смешения или преднамеренного сопоставления повествовательного стиля с «чужой речью». Это смешение, иногда выражаемое внешне — знаками многоточия, усиливает контрасты экспрессивного освещения. Сатирические краски выступают резче, и автор, наконец, срывает с жизни покровы общественного лицемерия и разоблачает фальшь светской фразеологии.
«17 лет точка замерзания: они растягиваются сколько угодно как резинные помочи. Лизавета Николавна была недурна, — и очень интересна: бледность и худоба интересны.... потому что француженки бледны, а англичанки худощавы........ надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении, и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой „казармности“» (127).
«Как быть? в нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций — значит почти: он выиграл столько-то сражений» (129).
Таким образом, публицистический стиль Лермонтова нередко облекается в синтаксическую форму живого устного монолога, со всем разнообразием присущих ему интонационных средств и разговорных конструкций. Голос автора, то драматически напрягаясь до междометных выкриков, то иронически маскируясь пестрыми красками чужой речи, звучит, как
- 561 -
голос общественного трибуна, произносящего обличительную речь. Ораторская интонация, смешиваясь с повествовательной, придает лермонтовскому стилю яркую индивидуальную окраску. Тут явные истоки публицистического стиля Достоевского. Напр.: «О! история у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю... всё равно, вы теряете всё: расположение общества, карьер, уважение друзей..... попасться в историю! ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась! Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня — страдайте ж двадцать лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит однако у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе; в Англии, например, банкротство — бесчестие неизгладимое, — достаточная причина для самоубийства... а у нас?.... объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразою: и! кто этого не делает!... Трус обласкан везде — потому что он смирный малый, — а замешанный в историю! — о! ему нет пощады: маменьки говорят об нем: бог его знает, какой он человек, — и папеньки прибавляют: мерзавец!...».
В 1845 г. Белинский в рецензии на «Грамматические разыскания» В. А. Васильева (Спб., 1845) писал, что «Пушкиным не кончилось развитие русского языка... Поэзия природы, поэзия чувств и мыслей, не ознаменованных ни печатью абстракции, ни печатью общественности, навсегда установилась у нас Пушкиным, и язык для нее вполне выработался, — так что дальнейший процесс для языка будет уже не столько со стороны формы, сколько со стороны содержания... Каждый вновь появляющийся великий писатель открывает в своем родном языке новые средства для выражения новой сферы созерцания... В этом отношении, благодаря Лермонтову, русский язык далеко подвинулся вперед после Пушкина». Однако Белинский замечает, что и после лермонтовских открытий русский язык был еще очень беден «для выражения предметов науки, общественности, — словом, всего отвлеченного, всего цивилизованного, глубоко и тонко развитого, даже ежедневных, житейских отношений»39.
6
Социально-диалектный состав лермонтовского повествовательного стиля в «Княгине Лиговской» довольно однороден. Оставаясь в кругу установленных Пушкиным и его школой норм литературной речи, лермонтовское повествование лишь более широко и свободно объединяет и сочетает в своей структуре стилистические элементы художественной, публицистической и даже научной прозы со стихией живой устной речи. Более глубокому проникновению живого разговорного языка в строй повествования содействует и новое соотношение между повествовательным языком и формами «несобственно прямой речи» персонажей. Лермонтов расширяет струю чужой речи в составе повествовательного стиля и придает ей более непринужденную, просторечную окраску. Напр.:
«По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник; нечего делать: не миновать истории» (120).
«...у нас в России несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат... Агличанку нанимать ее родители были не в силах... агличанки дороги — немку взять было также неловко:
- 562 -
бог знает какая попадется: здесь так много всяких...» (127).
Широкое развитие этого приема — в рассказе от первого лица, свободном от актерских ухищрений, не мирилось с употреблением книжных архаизмов и славянизмов. Поэтому стиль прозы Лермонтова уже в «Княгине Лиговской», несмотря на заметную примесь элементов «метафизического» языка, в общем более далек от норм книжной речи, чем стиль пушкинской прозы, особенно в области синтаксиса.
Архаизмы и славянизмы появляются в языке повествования лишь с иронической окраской. Напр., в «Княгине Лиговской»: «Печорин положил эти бренные остатки на стол» (113); «и тот остался с отверстым ртом» (136); «она принуждена была сорвать с своих уст печать молчания» (168).
Из социально-групповых диалектов городского языка стиль лермонтовского повествования черпает лишь канцелярские выражения, обычно с ироническим их освещением, напр.: «...эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и сердца — если оное налицо имеется» (126); «мать передала ему препоручения Печорина» (157); военно-профессиональные образы и фразы: «офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли» (120); «слезы их оружие нападательное и оборонительное» (151) и др.; слова игрецкого-карточного и живописного жаргонов: «Лицо это было написано прямо безо всякого искусственного наклонения или оборота»; «платье было набросано грубо, темно и безотчетливо» и т. п.
Лермонтовский стиль даже в «Княгине Лиговской» не свободен от галлицизмов и вообще от влияния французской языковой культуры. Напр.:
«...Окинув взором комнату и всё в ней находящееся, ему стало как-то неловко» (156); «чтобы делать свою волю» (134); «между нами, девица Р** была очень проста» (130); «то, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви, — пренебрегал он часто как приметы обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать» (163); «...я бы скорей решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье» (164) и т. п.
7
Не подлежит сомнению, что причиной незавершенности «Княгини Лиговской» были пестрота и разнородность того стилистического сплава, который представляли собой язык и композиция этого романа. Частые и резкие переходы от одного стиля к другому сопровождались постоянными колебаниями позиции автора, его точки зрения. Эти изменения в образе автора мешали углубленной психологической перспективе изображения, нарушали идейное единство произведения. Конечно, еще можно было бы примирить с этим пестрым стилем, как это показал метод Гоголя, путь прямой социальной сатиры, связанный с принципом идеологической схематизации характеров. Принцип идеологической схематизации характеров, ведущий к жанру злободневной публицистической сатиры и развивавшийся Гоголем, а позднее Салтыковым-Щедриным, не вполне соответствовал художественным задачам Лермонтова. Характеристика современной публики в предисловии к «Герою нашего времени»
- 563 -
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Рисунок М. Врубеля, 1890—1891 гг.
Третьяковская галлерея, Москва
- 564 -
косвенно изображает художественный метод лермонтовского творчества; Лермонтов отказывается от «явной брани», т. е. открытой идеологической сатиры в стиле Гоголя. «Современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар». И далее Лермонтов сравнивает свой новый стиль, стиль «Героя нашего времени», с дипломатическим языком, в отношении которого «несчастная доверчивость к буквальному значению слов» вовсе неуместна. Пониманию мотивов лермонтовского отказа от стиля «Княгини Лиговской», пониманию дальнейших творческих исканий Лермонтова может помочь параллель с Л. Толстым.
24 октября 1853 г. Толстой записал в своем дневнике: «Главный интерес составляет характер автора, выражающийся в сочинении. Но бывают и такие сочинения, в которых автор аффектирует свой взгляд, или несколько раз изменяет его. Самые приятные суть те, в которых автор как будто старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается. Самые же бесцветные те, в которых взгляд изменяется так часто, что совершенно теряется».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Проблема «образа автора» и повествовательного стиля играет основную роль в композиции «Героя нашего времени». С этой проблемой органически связан вопрос о построении характера, об образе героя. В разрешении этих художественных задач Лермонтов опирается на пушкинский принцип субъектной многопланности повествования, но пользуется им совершенно оригинально. Возврат к пушкинской манере, нашедшей классическое выражение в «Повестях Белкина», был не только симптомом роста реалистических тенденций в творчестве Лермонтова, — он вместе с тем обозначал полемическую противопоставленность нового стиля психологического реализма старой романтической традиции, связанной с именем Марлинского и его эпигонов. В «Повестях Белкина» Пушкин рисует новые узоры по старой канве: характерные сентиментальные и романтические сюжеты наполняются живым культурно-историческим и общественно-бытовым содержанием и перерабатываются по законам реалистического стиля. За каждой повестью стоит знакомый и многозначительный сюжет, отражающий типичные особенности старой литературной стилистики. Новые формы реалистического стиля рельефнее выделяются благодаря этой своеобразной литературной пародии. Получается контрастный параллелизм литературного изображения: в строе литературного произведения сплетаются два стилистических плана — отрицаемый сентиментально-романтический и замещающий его реалистический. Этому принципу семантической двупланности содействует множественность субъектных призм, через которые преломляются понимание и изображение действительности. Как норма в стиле «Повестей Белкина» устанавливаются три такие призмы: рассказчик, Белкин и сам издатель А. П. Их точки зрения пересекаются, взаимно отражаются и объединяются в структуре целого произведения, а затем и всего цикла повестей. Художественная действительность вырисовывается в изменчивом освещении и в сложных отражениях. Стиль изображения многозначен и необычайно динамичен.
- 565 -
Образ автора, характеры Белкина и рассказчиков становятся основным конструктивным элементом повествовательного стиля, приобретая типическую выразительность и обобщенное символическое значение.
Но «Повести Белкина» не были, по существу своему, повестями о Белкине. Белкин — только собиратель устных новелл и их литературный «обработчик» (сказали бы мы теперь). Образ Белкина лишь как бы витает над повестями и в стиле повестей. Он литературно-идеологический стержень и средство их внешней циклизации. Лермонтов пошел по другому пути, по пути внутренней группировки повестей около образа основного героя, около типического образа «современного человека».
Образ Печорина рисуется в двух планах: с точки зрения постороннего наблюдения и в плане внутреннего его самораскрытия. Отсюда две части романа, каждая из которых обладает некоторым внутренним единством, но которые органически связаны друг с другом отношениями семантического параллелизма, не всегда прямого, в иных случаях даже контрастного. Кроме сложной системы сюжетных отражений и связей, их объединяет образ Печорина. В отдельных местах они скрепляются образом Максима Максимыча, который является не только персонажем романа, соединяющим концы двух частей, но и рассказчиком, вводящим в сюжет образ Печорина и характерно его освещающим. Авторское «я» и Максим Максимыч располагаются в одной плоскости по отношению к центральному герою — именно в плоскости внешнего наблюдения. Уже этим обстоятельством в корне нарушались старые законы романтической перспективы. Там образ автора был вечным спутником романтического героя, его двойником. Там стиль авторского повествования и стиль монологов самого героя не разнились заметно. В них отражались два лика одного существа. В стиле Лермонтова авторское «я» ставится в параллель с образом «низкого», т. е. бытового, персонажа.
2
Цикл новелл, относящихся к «Герою нашего времени», открывается кавказской повестью, рассказанной Максимом Максимычем.
«Современник» (1851, XXVI) так вспоминал о жанре кавказских повестей, типичном для 30-х годов XIX в.:
«Местность Кавказа, нравы населяющих ее разнообразных племен, жизнь русских посреди этих племен, самая природа Кавказа, — все это очень мало обращало на себя внимание тогдашних повествователей и поэтов... Недостаток фактических сведений, обыкновенно, пополнялся красотами цветистого слога, сделавшегося до того неизбежным в кавказских повестях, что одно время кавказская повесть и высокий слог были синонимами в русской литературе».
Но кавказская повесть, переданная Максимом Максимычем, очень далеко отходит от романтического канона. Романтический сюжет тут подвергается реалистическому переодеванию. Автор путевых записок характеризует манеру рассказа Максима Маскимыча как бытовую «болтовню» (ср. замечание Пушкина, адресованное Бестужеву-Марлинскому: «Роман требует болтовни; высказывай все начисто»): «...старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается; другой лет пять стоит где-нибудь в захолустьи с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет здравствуйте (потому что фельдфебель говорит: здравия желаю). А поболтать было бы о чем» (191).
- 566 -
Сюжет новеллы, рассказанной Максимом Максимычем, романтический. «Бэла» — это повесть о любви черкешенки к русскому. Тут развивается тема «Кавказского пленника» Пушкина и Лермонтова, но вывернутая наизнанку, — тема «кавказской пленницы». Она обставлена этнографическими описаниями: и «поэтическими преданиями народа воинственного», и картинами «нравов и обычаев горцев». Тут Максим Максимыч осуществляет один из заветов Марлинского, в то же время противопоставляя его «азиатской» романтике глубоко реалистический стиль воспроизведения. Марлинский в своем «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев» призывал русских офицеров к этнографическому изучению и к художественному описанию Кавказа: «Мы жалуемся, что нет у нас порядочных сведений о народах Кавказа... да кто же в том виноват, если не мы сами?.. для человека самое нужное, самая поучительная статья есть человек, и нам бы хотелось лучше знать настоящие нравы, обычаи, привычки горцев... Почему бы например вам и каждому не принести своего камешка на постройку здания славы и пользы?». Но нужно, «чтобы полезное было в плаще приятного. — Дайте же нам менее порядка, но более живости, менее учености, но более занимательности... облеките все в драматические формы»40.
Правда, по мнению Марлинского, трудно рассчитывать на литературные интересы и способности большинства кавказских господ офицеров. «Писать о Кавказе дельно — надо знать грамоте не по палочкам; даже рассказывать должно с умением, а уменье дается всякому от природы и никому от казны. При том же равнодушие товарищей ко всему близкому и окружающему невообразимо. Начни кто-нибудь описывать горцев, сейчас послышатся голоса: „Что, братец, про них толковать! Сказано, что Азия, так Азия и есть!“».
Не в пример прочим Марлинский приносит «свою лепту в казну сведений о Кавказе» в виде «Рассказа офицера, бывшего в плену у горцев». «Если в нем нет очень нового в описаниях, за то есть оно в способе воззрения». Этот новый «способ воззрения» выражается в стиле рассказа. «Я старался, — пишет Марлинский, — сохранить, сколько мог, разговорную простоту в слоге, со всеми выражениями рассказчика». Эта простота — относительна: она в общем не выходит заметно из границ романтической поэтики. Рассказчик — вернувшийся на родину «кавказский пленник». И его рассказ — это этнографически препарированные, расцвеченные бытовыми подробностями, психологическими переживаниями и каламбурами героя, переведенные с языка поэмы на язык романтического очерка вариации на тему пушкинского «Кавказского пленника». Горцы несколько низводятся с романтических высот: «Вообще мы, европейцы, всегда с ложной точки смотрим на племена полудикие. То мы их обвиняем в жестокости, в вероломстве, в хищениях, в невежестве, бог весть в чем! То кидаясь в другую крайность, восхищаемся их простотою, гостеприимством — и не перечтешь какими добродетелями. То и другое напрасно. Как люди, и горцы носят в себе циркулярные недостатки и добрые качества, свойственные человечеству.... Хищничество есть единственная их промышленность, единственное средство одеться и вооружиться. Горцы кавказские... это деревни, шайки, потерявшие даже свои родоначалия и племена...». В связи с таким пониманием выдвигается принцип образного сопоставления картин быта горцев с русским деревенским бытом. В этом плане истолковывается, напр., горское гостеприимство: «...Здесь как
- 567 -
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Рисунок М. Врубеля, 1890—1891 гг.
Третьяковская галлерея, Москва
- 568 -
в России, любопытство участвует более в гостеприимстве, чем доброта. Гость для русского барича и горского удальца есть странствующая книга; он обоим платит рассказами и баснями. Страсть к гостям мне кажется несомненным признаком невежества и скуки безделья». «Зима есть пора горских посиделок, т. е. попоек и сказок». «Их песни, их басни, их рассказы исполнены боевыми хитростями, и ни один острог России не может предъявить такого множества примеров воровства, которыми хвалятся мошенники, как всякий дом в горах».
Этот принцип стилистического приближения кавказского пейзажа и жанра к русскому быту и русской природе, заключавший в себе зерно реализма, затем отзовется и в стиле «Бэлы», в языке автора. Однако здесь он приобретает иную экспрессивную окраску, то лирическую, то ироническую. Напр.: «...и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика» (189). «Итак мы спускались с Гуд-Горы в Чертову-Долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, — не тут-то было: название Чертовой-Долины происходит от слова „черта“, а не „чорт“, ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества» (207).
«Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. „И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки“».
Самый же роман русского офицера с лезгинкой у Марлинского изображается совсем в иных тонах, чем в романтической поэме, в тонах натуралистического руссоизма. Сначала красавица предстает перед героем как горская русалка, затем она предоставляется ему хозяином дома как ночное угощенье.
«Я не взвидел свету, когда сжал в своих объятиях Шалиби: и можно представить себе восхищение человека, когда то счастье, о котором не смел он подумать, как голубь прилетело к нему на руку!..». «Мы не понимали языка друг друга — но сердца говорили тем понятнее». Из-за Шалиби погибают в схватке друг с другом два претендента на ее руку. А между тем русский пленник трое суток пользуется ласками Шалиби.
«Три дня провели мы между этими детьми природы, не знающими никакого начальства и потому никакого властолюбия; чуждыми почти всех страстей, всех пороков общества, но не знающими зато никаких его выгод; между людьми, так сказать, не покинувшими еще животного состояния: это была олицетворенная утопия Жан-Жака, только грязная, не нарумяненная, нагая». Незачем продолжать изложение рассказа Марлинского. Русский пленник должен, подчиняясь хозяину, уехать от своей лезгинки. «Не знаю, что бы ни отдал я, чтоб остаться в этой бесплодной пустыне, между народом почти бессмысленным, для ней и с нею». «Шалиби не хотела выпустить меня из объятий... она почти без чувств ухватилась за стремя». «Я ехал, бросив вперед повода, бесчувствен ко всем опасностям... подымаясь на противоположную
- 569 -
гору, я оборотил голову — Шалиби стояла на высоком камне с простертыми ко мне руками — не умею описать, как мне стало тяжко...». Но разлука совершилась. В заключение кавказский пленник бежит на родину.
Исполняя завет Марлинского и повинуясь автору, Максим Максимыч вводит в свой рассказ богатый этнографический материал. Однако роман Печорина с дикаркой он изображает совсем не в этнографическом плане. Ведь этот роман — прелюдия к исповеди Печорина. В женском вопросе Печорин спортсмен, охотник. Тип «современного человека», он увлекается руссоистской мечтой о любви дикарки лишь как последним средством от скуки.
«Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой».
Так история Бэлы ставится в психологическую параллель с повестью о Мери.
В повести о Бэле изображение всех перипетий любовного романа между черкешенкой и русским оправдано обычаями и нравами кавказцев. Оно отражает живой колорит местности. Этот колорит обострен и усилен контрастной параллелью между Печориным и Казбичем. Они до некоторой степени соперники. Но для Казбича, согласно народной песне, конь дороже красавицы.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.Естественно, что «азиату» Казбичу в изображении Максима Максимыча органически и непосредственно свойственны цельность и прямолинейность романтической натуры. Он является носителем романтического начала и романтического стиля в повести «Бэла». Его «восточный слог» расцвечен романтическими красками кавказской поэзии. Элементы стиля Марлинского в этом сплаве решительно преобразуются.
Белинский, познакомившись с «Бэлой», увидел в прозаическом стиле Лермонтова реалистическое «противоядие чтению повести Марлинского»: «Простота и безыскусственность этого рассказа — невыразимы, и каждое слово в нем так на своем месте, так богато значением. Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск, мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него. Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей Марлинского»41.
3
Язык Максима Максимыча был до некоторой степени предопределен литературной традицией, в русле которой воспринимались образы Белкина, Рудого Панька, Порфирия Байского, «старого инвалида» Вас. Ушакова и других рассказчиков вальтерскоттовского толка. Но Максим Максимыч — кавказец, «существо полурусское, полуазиатское». «Он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо... он одно время мечтал о пленной черкешенке»42. Эти мечты о пленной черкешенке и реализовались в истории Печорина и Бэлы43. Тут Максим Максимыч
- 570 -
как бы испытывает свои силы, вступив в литературное соревнование с самим Марлинским. Он рассказывает быль в духе Марлинского, но с точки зрения настоящего «кавказца», который «пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного», однако о горцах вот как отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы». (Ср. в «Герое нашего времени» отзывы Максима Максимыча: «Ужасные бестии эти азиаты!»; «Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки» — 190 и т. д.).
Все эти композиционные сдвиги ломают традиционный романтический стиль кавказской повести. Сказ Максима Максимыча основан на принципе непритязательного, безыскусственного фамильярно-бытового воспроизведения кавказских нравов и кавказских приключений. «Способ воззрения» Максима Максимыча на окружающую жизнь — скорее натуралистический, особенно в отношении «азиатов». Известно, в каком волшебном сиянии, с каким оперным блеском изображена была Марлинским джигитовка в «Аммалат-беке» (гл. I)44.
Между тем лермонтовский Максим Максимыч отнюдь не склонен расписывать перед своим собеседником чудеса джигитовки. Он просто называет вещи теми именами, которые находятся в арсенале его иронически-фамильярного просторечия: «потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию» (193).
В том же стиле — характеристики Азамата и Казбича: «А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги». О Казбиче: «...рожа у него была самая разбойничья; маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре» (194).
Таким образом, перед нами — устно-бытовой сказ, драматически построенный на основе фамильярного просторечия, на основе простой мещанской речи, по определению Белинского, с примесью выражений военного диалекта и местных экзотизмов. Синтаксический строй этого сказа полон отражений устной речи, тем более, что сказ Максима Максимыча композиционно вырастает из его реплик и местами переходит в диалог со спутником — автором путевых записок.
Напр.: «Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи...» (198).
«Ax, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку! Hy, да это в сторону...» (202).
«...а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни, иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был и в Москве в благородном собрании, лет 20-ть тому назад — только куда им! совсем не то!...» (209).
Военная окраска речи Максима Максимыча сказывается в употреблении выражений и образов из круга его профессиональной терминологии, в его служебной точке зрения на явления и предметы: «пришел транспорт
- 571 -
с провиантом» (191); «Девки и молодые ребята становятся в две шеренги...» (193) и т. п.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „АШИК-КЕРИБУ“
Гуашь Е. Лансере, 1914 г.
Третьяковская галлерея, МоскваС подчеркнутой комической остротой эта особенность языка штабс-капитана выступила в самом конце романа, когда Максим Максимыч, на вопрос Печорина о предопределении в связи с судьбой Вулича, «сказал, значительно покачав головою:
— Да-с, конечно-с! Это штука довольно мудрёная!.. Впрочем, эти азиятские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький, — того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!» (321).
Вместе с тем сказ Максима Максимыча носит отпечаток его знакомства с языком и бытом окружающей этнографической среды. Однако экзотическая лексика его не выходит за пределы наиболее характерных бытовых названий и формул: мирно̀й князь (192); кунак, кунацкая; джигитовка (193); сакля, духанщица, бешмет, гяур, калым и т. п.
В реплике самого штабс-капитана, а также в передаче речей Казбича и Азамата встречаются иногда кавказские фразы:
«Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему: — яман будет твоя башка!» (192). «...у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: якши тхе, чек якши!» (194); «Нет! Урус яман, яман! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс» (200 и др.).
Но иногда Максим Максимыч как бы затрудняется припомнить и выговорить соответствующее кавказское слово и обозначает предмет «по-нашему», т. е. подыскивает соответствующее русское название: «Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки» (193).
- 572 -
Максим Максимыч в изображении кавказской жизни то становится на точку зрения туземцев, то, напротив, переводит тамошние понятия и обозначения на язык русского человека. «Наше» и «ихнее» у него сплетаются, отражая мировоззрение и типические черты русского «кавказца».
«...потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по нашему сказать, бал» (193).
«Конечно, по-ихнему, — сказал штабс-капитан, — он был совершенно прав». Эта реплика снабжена обобщающим авторским комментарием:
«Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения».
Это смешение кавказской и русской точек зрения, по словам Лермонтова, типично для «кавказца». «Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес» («Кавказец»). Это свойство Максима Максимыча накладывает яркую печать на его стиль, на его отношение к событиям и лицам, на его «способ воззрения». Максим Максимыч многое представляет и изображает в образах «нравов и обычаев горцев».
Так, в его рассказе внимательного читателя не может не поразить одна необычайная формула описания внешних проявлений горестного чувства, чувства отчаяния: «ударил себя в лоб кулаком». В применении к Печорину она кажется особенно странной.
«Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: „поджалуста, поджалуста, не нада, не нада“. Он стал настаивать; она задрожала, заплакала. — „Я твоя пленница, — говорила она: — твоя раба; конечно ты можешь меня принудить“, — и опять слезы.
Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед» («Бэла»).
Любопытно, что в языке записок самого Печорина, точно и подробно изображающего внешние проявления чувства, не встречается указаний на такой способ выражения горя, душевного расстройства или отчаяния. Приходится искать объяснения этой формулы в индивидуальном стиле рассказчика — Максима Максимыча.
Можно предполагать, что Печорин в изображении Максима Максимыча, который очень неравнодушен к своему бывшему приятелю, ведет себя как горец, герой воображения «кавказца». И, действительно, Максим Максимыч непрочь сопоставлять Печорина с горцами. Напр.:
«Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца... — и туда; я за ним» (215).
Ср. о Казбиче: «С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал...» (200).
Таким образом, есть все основания думать, что, и ударяя себя в знак отчаяния, горя кулаком в лоб, Печорин действует согласно кавказским представлениям Максима Максимыча.
В самом деле, Пушкин в «Путешествии в Арзрум» отмечает эту бытовую деталь:
- 573 -
«Я... попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с горьким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб».
Повествовательная речь Максима Максимыча чужда бытового натурализма. Ее семантические границы художественно расширены. Ведь она выражает, правда искусственно, сквозь призму типического национального характера русского «кавказца», и авторское отношение к действительности. Расстояние между точками зрения Максима Максимыча и автора колеблется — то увеличивается, то уменьшается. Вместе с тем в восприятии, в воспроизведении и освещении событий и лиц Максимом Максимычем негативно, по контрасту или под известным углом преломления, отражаются необходимый автору выбор красок и подробностей, их композиционные связи и соотношения. Правда, объективная точность передачи рассказа Максима Максимыча всячески подчеркивается автором. Недаром авторское «я» выступает в роли собеседника и партнера Максима Максимыча. Автор не раз наталкивает и наводит рассказчика своими вопросами на новые детали, иронически подчеркивая правдивую точность своих путевых записок, выставляя себя не поэтом, а этнографом-бытописателем; один раз автор даже намекает на фонографический протоколизм своей записи:
«Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? — Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки: следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле» (207).
Все эти авторские приемы отражают и реалистический метод воспроизведения и новизну гибридного жанра — путевого очерка с вставной драматической новеллой. Они обостряют и усиливают оригинальность сказа Максима Максимыча, его динамическую связь с образом автора и его семантическую согласованность с общей композицией всего произведения в целом.
В одном месте, когда рассказ штабс-капитана коснулся песни Казбича, автор как бы встрепенулся, его поэтическая натура не выдержала. Он непосредственно и открыто заявляет в примечании о своем литературном вмешательстве в передачу рассказа Максима Максимыча. «Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура».
Все такие пояснения и примечания автора двузначны. С одной стороны, они поддерживают иллюзию реалистической «были», иллюзию соответствия изображения подлинной действительности. Но, с другой стороны, они открывают всю сложность той художественно-стилистической амальгамы, которая осуществлена поэтом в сказе Максима Максимыча.
Сказ Максима Максимыча по временам сближается со стилем автора, утрачивая свою просторечную фамильярность и ослабляя драматизм устного изложения. И фразеология и синтаксис его выходят за пределы устной безыскусственной беседы, обнаруживая литературный стиль самого автора. Но с необыкновенной быстротой и искусством эти отражения авторского языка снова растворяются в сказе кавказского офицера45. Напр.:
«Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные,
- 574 -
огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича» (194).
«Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.
Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает» (194).
«Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу...» (217).
Широта стилистических колебаний сказа устраняет необходимость повествовательной нивеллировки диалога. В передаче Максима Максимыча драматически сохранены яркие индивидуальные особенности речи всех действующих лиц. Тут стиль Лермонтова несколько отступает от пушкинской традиции, отчасти сближаясь с манерой Гоголя, но развивается в самостоятельном направлении. От стиля Максима Максимыча идут разветвления по разным направлениям — и к языку «Бедных людей» Достоевского и к языку «Маркера» Л. Толстого. Максим Максимыч в своем сказе драматически воспроизводит речи персонажей, как бы цитируя их по памяти. Воспроизведение печоринского монолога, представляющего психологическую самохарактеристику героя, сопровождается таким комментарием штабс-капитана: «Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-тилетнего человека, и, бог даст, в последний» (213).
Таким образом, Максим Максимыч тут рекомендует себя механическим репродуктором слов Печорина. И далее в форме комического диалога между штабс-капитаном и автором, говорящими на разных языках, изображается та интеллектуальная и социально-психологическая пропасть, которая отделяет Максима Максимыча от Печорина и подобных ему представителей современной разочарованной молодежи.
С той же фонографической точностью, как реплики Печорина, в рассказе Максима Максимыча воспроизводится манера речи Казбича.
Язык Казбича блещет яркими красками восточного слога. Ритмический строй, широкое употребление синтаксических форм литературного языка, восточные образы и выражения («поручил себя аллаху, и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети»; «и пророк вознаградил меня»; «а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях» и т. п.); примесь риторической фразеологии («сердце мое облилось кровью» и др.), — все это придает пространным речам Казбича яркую романтическую окраску. Те же стилистические черты еще красочнее выступают в патетическом монологе Азамата, посвященном коню (Ср.: «...когда он под тобой крутился и прыгал раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное... и ежеминутно мыслям моим являлся вороно̀й скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым как стрела хребтом» и т. п.).
Глубина и сила поэтического воссоздания образов Казбича и Азамата, с их кавказскими страстями, с окружающей их поэзией дикой воли, эффектно контрастируют с общей добродушно-презрительной, но полной тайного восхищения оценкой горцев, присущей типу старого кавказского
- 575 -
офицера. Это иронически-деловое отношение Максима Максимыча ко всему туземному, кавказскому, это сознание своего культурного превосходства, накладывающее на его облик своеобразные историко-бытовые штрихи «кавказца», вносит тонкие экспрессивные краски в стиль его повествования.
Ср.: «нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин» (192); «уж такая разбойничья лошадь!..»; «у этих азиатов всё так: натянулись бузы, и пошла резня!» (197); «верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком, или за Кубанью: туда и дорога!..» (200); «Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться!» (208) и т. п.
Это своеобразное понимание кавказской души вносит острый характеристический штрих в изображение отеческой любви Максима Максимыча к Бэле, когда в ней заговорило чувство родовой мести. «„Это лошадь отца моего“, — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала как лист, и глаза ее сверкали. — „Ага! — подумал я: — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!“» (211).
Таким образом, сказ Максима Максимыча, создавая оригинальное, характеристическое освещение кавказской действительности, содействуя более рельефному изображению событий и типов, оказывается необыкновенно емким. В него свободно вмещаются индивидуальные народно-поэтические стили горских удальцов — Азамата и Казбича. Он полон разнообразных семантически оправданных отражений стилей Печорина и самого автора.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЕ“
Рисунок В. Бехтеева, 1936 г.
Литературный музей, МоскваОбраз Печорина тщательно вырисовывается в сказе Максима Максимыча тонким и сложным подбором внешних деталей, которые получают здравую оценку и своеобразное истолкование от кавказского служаки,
- 576 -
привязавшегося всей душой к своему странному, загадочному товарищу и смиренно склонившегося перед ним как пред высшим существом.
«Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!» — эта фраза Максима Максимыча, служащая вступлением к рассказу о Бэле, в высшей степени знаменательна. Она находит себе отголосок в самом конце «Героя нашего времени»: «Фаталист» заключается сентенцией Максима Максимыча: «Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..».
Максим Максимыч, по отзыву Печорина, «вообще не любит метафизических прений». Однако бросается в глаза то обстоятельство, что на протяжении всего романа он спасовал лишь перед двумя метафизическими вопросами — перед вопросом о психологической природе и социальном генезисе разочарования как характерной психологической черты современного человека, и перед вопросом о предопределении, т. е. перед двумя центральными темами «Героя нашего времени», играющими основную роль в его композиции.
Вообще же сказ Максима Максимыча, в силу своей конкретной изобразительности, нередко тончайшим, но простодушным описанием внешних явлений открывает глубины индивидуальной человеческой психики. Вдруг одна экспрессивная деталь, тщательно, до мелочей выписанная Максимом Максимычем, отражает всю сложность того или иного характера. Этот новый прием изображения внутреннего мира личности внушен Максиму Максимычу его автором — Лермонтовым, который, в свою очередь, воспринял этот семантический принцип у Пушкина.
Вот изображение отчаяния Казбича, у которого украли коня:
«С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали, и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя» (200)46.
С этой картиной можно сравнить стиль изображения горя и отчаяния слепого в «Тамани» (т. е. в языке записок Печорина): «„Ну, вот тебе еще“ — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку...» Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой всё сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго...» (239).
Этот метод словесного изображения переживания восходит, к пушкинской системе. Впервые он применен был Пушкиным для описания горя отвергнутого отца в «Станционном смотрителе»:
«Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его — слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком, и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было».
Но сказ Максима Максимыча полон характеристических противоречий.
- 577 -
Он сочетает и тонкие стилистические открытия великого художника и наивное простосердечие штабс-капитана. И тот же Максим Максимыч, с его нерасположением к метафизическим размышлениям, дает такое, отражающее этнографическую оценку кавказца, пустое и безличное объяснение, почему Казбич хотел увезти Бэлу: «Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть: другое и ненужно, а всё украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась» (216).
Таким образом, при посредстве сказа Максима Максимыча достигаются необыкновенная широта, свобода и противоречивая многогранность в изображении действительности, в психологическом раскрытии образов.
Очень разнообразны и оригинальны в сказе Максима Максимыча приемы изображения Печорина. С одной стороны, Максим Максимыч дает от себя общую качественную характеристику Печорина: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен... Да-с, с большими странностями, и должно быть богатый человек...».
Эта общая характеристика затем пополняется тонкими замечаниями о противоречиях в характере Печорина, замечаниями, приспособленными к отдельным эпизодам его жизни, к изображению его внешних действий или поступков. Все этого рода замечания оканчиваются одним и тем же экспрессивным рефреном: «Таков уж был человек».
«...„прощай, я еду — куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня“. — Он отвернулся, и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает!» (203—204).
«Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи... Таков уж был человек: что́ задумает, подавай; видно в детстве был маменькой избалован...» (214).
Далее. Образ Печорина всесторонне обрисовывается посредством тщательного подбора и описания свойственных ему индивидуальных приемов выражения чувств и настроений, посредством подчеркивания странностей и неожиданностей в его речи, действиях и поступках. Напр.:
«...ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один-на-один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха» (192).
При агонии Бэлы: «Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во всё время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал» (217).
После смерти Бэлы: «...долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину47; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. — Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал
- 578 -
по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб» (218).
Наконец, сказ Максима Максимыча отражает реплики и речи Печорина, которые остро выделяются своим стилистическим строем, своей афористичностью и своим метафизическим психологизмом из общего потока речи штабс-капитана.
Это стилистическое своеобразие речи Максима Максимыча бросалось в глаза исследователям Лермонтова, но они не умели объяснить его.
В. М. Фишер в статье «Поэтика Лермонтова» так писал о языке и стиле «Бэлы»: «Несмотря на подмеченное Белинским естественное развитие повествования Бэлы, несмотря на то, что автор сдобрил его словечками и замечаниями, характерными для Максима Максимыча, Лермонтов не избежал здесь той опасности, которой подвергаются писатели, вкладывающие свой рассказ в уста одного из своих персонажей. Рассказ слишком художествен для штабс-капитана. В одном месте Лермонтов счел даже нужным извиниться пред читателем в том, что передал песню Казбича стихами. Невероятно, чтобы Печорин стал исповедываться перед Максимом Максимычем, и еще невероятнее, что последний запомнил от слова до слова его исповедь, которой не понял. Что уместно в романтической поэме в роде Мцыри, то рискованно в романе»48. На самом же деле Лермонтов преодолел все эти опасности и открыл новые пути художественного развития сказа, привлекшие внимание и Тургенева, и Л. Толстого, и Достоевского, и Салтыкова-Щедрина.
4
Сказу Максима Максимыча в «Бэле» противопоставлен стиль автора как литературная норма (ср.: «„Жалкие люди“ — сказал я штабс-капитану... — „Преглупый народ“ — отвечал он»). Различие их идеологического строя и стилистического состава демонстрируется в описании разговора между Максимом Максимычем и автором о социальной природе модного разочарования. Но в повести «Бэла» несколько затушеваны, завуалированы критерии и принципы перевода сказа Максима Максимыча на язык автора.
Субъективизм изображения и оценок кавказского штабс-капитана тут ничем не ограничен и не корректирован. Образ Печорина, нарисованный сочувственной кистью полюбившего его «простого сердца», выступает как психологическая загадка, не разгаданная малообразованным штабс-капитаном.
Мало того: самый образ Максима Максимыча гораздо рельефнее выделяется в его собственном сказе о Бэле, чем в авторских комментариях к нему.
Тем неожиданнее звучит ироническая и интригующая концовка «Бэлы»: «Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ».
Рассказ Максима Максимыча вставлен в путевые записки автора. Находясь в контрастной параллели со стилем автора, сказ Максима Максимыча в то же время является композиционным элементом самого авторского повествования. От этого двуязычия раздвигается смысловая перспектива изображения. Она меняется несколько раз на протяжении повести, в зависимости от субъекта речи. А так как рассказ Максима
- 579 -
Максимыча в общем не нивеллирует различий в манере выражения разных действующих лиц, а, напротив, воспроизводит их, то в самой структуре сказа смешиваются разные стили речи. Все эти стили, с одной стороны, образуют систему включенных один в другой и субъектно разграниченных контекстов. С этой точки зрения они несоизмеримы: они последовательно вдвигаются в более широкую композиционную раму.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К НЕОКОНЧЕННОЙ
ПОВЕСТИ „У ГРАФ. В....
БЫЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР“
Акварель В. Бехтеева, 1939 г.
Собственность художника, МоскваНо, с другой стороны, стиль автора не только всех их «держит в лоне своем», но и отражается в них, внедряется в них и приспособляет их к себе.
Необходимо разобраться в основных конструктивных свойствах этого авторского стиля. Он противопоставлен сказу Максима Максимыча и вместе с тем зависит от него. Противопоставление этих двух стилей выражается прежде всего в «способе воззрения» на кавказскую действительность. Автор — новичок на Кавказе. Его неопытность, подчеркиваемая бесстрастным протоколизмом описания, выглядит несколько комично рядом с деловой точностью Максима Максимыча и его глубоким знанием местных нравов и обычаев. В сухом и обстоятельном описании событий, характерном для стиля путевых записок, скрыт художественный умысел автора. Автор лишен позы. Он скромно изображает ход событий языком, близким к разговорному. Он избегает романтически приподнятого воззрения на вещи. Он подробно, деловито регистрирует обстоятельства путешествия, его трудности, отнюдь не способствующие романтическому пафосу изображения, а побуждающие к фактической точности их описания.
«...мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; по близости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, — а эта гора имеет около двух верст длины.
- 580 -
Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком» (187).
Трудно не увидеть связи этого стиля со стилем пушкинского «Путешествия в Арзрум». Ср. пушкинское описание подъема на Крестовую гору: «Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами?..
На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики, и увидели зрелище необыкновенное: осьмнадцать пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую, венскую коляску приятеля моего Ор...**. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился... ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет...
Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах...».
Лермонтов с тонкой иронией демонстрирует пушкинский метод отражения действительности в слове, уличая самого Пушкина в недостаточной точности изображения. Пушкинское слово отражает действительность через призму сознания повествователя, мышление и миросозерцание которого составляют органический элемент самой изображаемой действительности.
Естественно, что освещение одних и тех же предметов и действий будет различным у людей с разным жизненным опытом. Туристский характер кавказских впечатлений и описаний Пушкина разоблачает лермонтовский Максим Максимыч с его знанием кавказского быта.
На фоне пушкинской картины Лермонтов дает другое изображение подъема на Крестовую гору. В лермонтовском описании с беспощадным реализмом разоблачен иронический гиперболизм пушкинского стиля, прикрывающий, мы бы сказали, незнание функциональной семантики быта. Предметы, действия и обстоятельства поставлены Максимом Максимычем на их настоящие места и освещены с точки зрения подлинной кавказской натуры.
Максим Максимыч демонстрирует несоответствие поверхностных впечатлений путешественника с подлинным бытом Кавказа. Пушкин говорит о 18 парах волов, тащивших на Крестовую гору легкую венскую коляску, и далее иронически о целом стаде волов, впряженном в бричку графа Пушкина. В повести Лермонтова путешествующий офицер ограничивается только шестью быками.
«За моей тележкою четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин...
Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.
..........................................................
— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?
- 581 -
Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.
— Вы верно недавно на Кавказе?
— С год, — отвечал я.
Он улыбнулся вторично.
— А что ж?
— Да так-c! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А чорт их разберет, что̀ они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих...».
После этого сопоставления нет нужды прибегать еще к анализу стиля описания самого восхождения на Крестовую гору у Лермонтова. Тут противопоставление пушкинскому изображению еще ощутительнее.
Связь лермонтовского стиля путевых записок со стилем пушкинского «Путешествия в Арзрум» этим не исчерпывается. Так же как и Пушкин в «Путешествии в Арзрум», Лермонтов в повествовательном стиле «Бэлы» толкует названия, разрушая ложно-романтическую этимологию их, и дает точные исторические справки.
Напр., у Лермонтова: «...название Чертовой-Долины происходит от слова „черта“, а не „чорт“, ибо здесь когда-то была граница Грузии».
Ср. у Пушкина в «Путешествии в Арзрум»: «Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота».
Но лермонтовский повествовательный стиль сложнее пушкинского. Он тяготеет к сказовому многообразию интонаций. Он не только лиричнее, но и разговорнее, чем пушкинский. В нем больше «болтовни» и больше описаний, больше авторских признаний.
Достаточно привести одну параллель из Лермонтова и Пушкина, — это описание ожидания «оказии». Пушкин пишет с подчеркнутой деловитостью и предельным лаконизмом:
«С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется оказией. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в 9 часов мы были готовы отправиться в путь».
У Лермонтова «оказия» задерживается: надо было встретиться автору еще раз с Максимом Максимычем, как будто только они двое и путешествуют по Кавказу. Описание сразу приобретает характер сказовой иронической «болтовни»:
«Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. Но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей: видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы может быть не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград».
- 582 -
Стиль путевых записок в «Герое нашего времени» богат экспрессивными красками, которые по-разному чередуются и смешиваются в повести о Бэле и в очерке «Максим Максимыч».
В очерке «Максим Максимыч» резко изменяется экспрессивное освещение образов Максима Максимыча и Печорина. Они рисуются с новой, объективной («авторской») точки зрения. Понимание их взаимоотношений, внушаемое рассказом Максима Максимыча, разрушается. Новые формы их сюжетного взаимодействия дают возможность чрезвычайно эффектно оттенить трогательную фигуру штабс-капитана.
Максим Максимыч в «Бэле» почти не действует; он только обнаруживает свое тонкое знание кавказских нравов и «рассказывает об себе все, что было занимательного». Автором лишь набросан бегло его внешний портрет49 и отмечены его жесты, лишенные индивидуального своеобразия, но являющиеся типическими приметами русского «кавказца»:
«Он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма» (187); ср.: «он набил трубку, затянулся и начал рассказывать» (191); «Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался» (190).
Ср. в «Кавказце»: «Когда новичок покупает оружие или лошадь у его приятеля узденя, он только исподтишка улыбается» (323—324).
В очерке «Максим Максимыч» штабс-капитан, наоборот, ничего не рассказывает. Как рассказчик он был уже исчерпан («Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уже рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать»). Он делается лишь объектом авторского повествования и изображения. Его манера поведения, его позы, движения получают индивидуальный отпечаток. Автор утрачивает тон почтительного уважения к его спокойной опытности и впадает в тон иронического сочувствия и даже фамильярной жалости к смешному старику. Легко проследить на примерах это изменение повествовательной экспрессии. Напр.:
«Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на-манер улыбки. Такой чудак...» (220).
В беседе с лакеем: «Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: „я тебе говорю, любезный...“» (221); «„Мы с твоим барином были приятели“, — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться» (221).
Но основной рисунок реплик, действий и переживаний Максима Максимыча определяется линией его отношений к Печорину. Тонкие психологические детали изображения драматизованы. Стиль реплик Максима Максимыча, описание его поведения, краткие добродушно-иронические комментарии автора — все это полно сложных экспрессивных оттенков. «Что ты? что ты? Печорин?.. — воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость» (221).
Эта радость выражается в комически-беспорядочном, но словоохотливом, как бы захлебывающемся стиле беседы Максима Максимыча с лакеем Печорина.
«Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где ж он сам остался?..» (221).
Максим Максимыч от радости даже фанфаронствует: «— Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом» (222).
- 583 -
Автор затем иронически разоблачает борьбу чувств и комическое самообольщение Максима Максимыча:
«...явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе, и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя» (222).
Но с особенно трогательной, юмористической остротой горечь обманутого ожидания и горячее нетерпение увидеть прежнего приятеля представлены в изображении ночного возвращения Максима Максимыча домой со своего наблюдательного поста и в описании его утреннего поспешного бегства со службы для свидания с Печориным.
В этой манере драматического изображения намечается промежуточное художественное звено между стилем «Станционного смотрителя» Пушкина, между «Шинелью» Гоголя и ранним стилем Достоевского.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К НЕОКОНЧЕННОЙ
ПОВЕСТИ „У ГРАФ. В....
БЫЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР“
Автолитография А. А. Толоконникова
Собственность художника, МоскваПростой, почти сказовый стиль повествования прерывается коротким драматическим бытовым диалогом с характеристическими колебаниями экспрессии. В этом приеме динамического чередования драматических сцен с быстрым повествованием видна зависимость Лермонтова от пушкинской художественной системы. Но язык лермонтовского диалога прерывистее, богаче экспрессивными красками. Он более индивидуализирован, чем язык пушкинского диалога; он отражает острее внутреннюю борьбу чувств. Авторские ремарки, изображая сопровождающие речь жесты, движения и мимику, еще более подчеркивают сложность душевных волнений. Напр.:
«— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах: — конечно, мы были приятели, — ну, да что̀ приятели в нынешнем веке!.. Что̀ ему во мне? Я не богат, не
- 584 -
чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что̀ за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. — Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. — Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне — ну что вы об этом думаете?.. ну какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!.. — Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами».
Но у Лермонтова этот бытовой слой повествовательного стиля сплетается с другим, далеким от пушкинского и даже чуждым ему. Картины природы рисуются лирическим стилем, который сочетает лирические краски с этнографической точностью научного описания.
Физиологическая точность в описании чувств и ощущений, острый и трезвый анализ их происхождения или их сущности, иронический, а иногда и лирический скептицизм обобщений и философических комментариев, деловая простота изложения — все это представляло резкий контраст с экстатически-многословной, трескучей и однообразной декламацией Марлинского и его учеников, «восторженных рассказчиков на словах и на бумаге» (по едкой характеристике Лермонтова).
Вот описание психологии путника при подъеме на Гуд-Гору у Лермонтова в «Бэле»: «...снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять» (205).
В контрастную параллель с этим реалистически прозрачным и намеренно рассудочным повествованием следует поставить «восторженный рассказ на бумаге» о том же в романе П. Каменского «Искатель сильных ощущений» (Спб., 1839, ч. 1, 6—8). Искатель сильных ощущений, по фамилии Энский, на пути к перевалу через Гуд-Гору, мчась с шумом и грохотом, а не идя пешком сзади пяти худых кляч, как рассказчик лермонтовского «Героя нашего времени», декламирует в таком стиле:
«Грустно вступать в вечные пределы снегов... взбираться под самые вершины, видеть их развенчанными, попирать ногами главы исполинов, казавшихся издали недосягаемыми; но и отрадно в то же самое время вздохнуть чистым, как эфир, воздухом, тонким, легким, упоительным, как воздух небожителей; отрадно хотя на одну минуту стать в среднее, межующее звено цепи мира вещественного и духовного; весело душе, почуявшей свободу, вырваться из заклепов тела, смотреть, как замирает все чувственное, все, что теснило ее в этой жизни; она торжествует, взирая с убеждением, как раздольно, машисто, необъятно развивается ее будущее лоно, и лоно до-жизни; она реет, летит, устремляется с ним слиться...».
- 585 -
Не лишена иллюстративного значения одна контрастная параллель между кавказским стилем Лермонтова и школы Марлинского. В «Бэле» есть описание Койшаурской долины, переходящее в эмоциональное лирическое раздумье.
Герой из школы Марлинского не стал бы мечтать о долине: он иронически пригласил бы туда обывателей, чуждых романтическому стремлению ввысь. В романе П. Каменского «Искатель сильных ощущений» герой Энский «скачет, торопится в Тифлис». «За перевалом через Гуд-Гору быстро переменилась картина окрестностей. Благословенное солнце Грузии отогрело природу. Койшаурская долина, как преддверие Дантовского Paradiso после Purgatorio снеговых вершин и Inferno Дарьяла, вводила Энского в цветники Карталинии и Кахетии» (ч. 1, 9—10). Трудно представить себе что-нибудь более далекое от точного и живописного стиля лермонтовских пейзажей, чем это отвлеченно-литературное описание. Но далее контраст углубляется. Раздается громкая декламация героя, противопоставляющего себя простым людям: «Сюда, гг. Парголовские герои на чухонских лошадях, — воскликнул Энский, — сюда!.. Я вас не звал прежде: ужасы Терека и разверстые объятия горнего мира, сретаемые на снеговых вершинах, вам не понравились бы. Вы так любите, так дорожите вашей материальной жизнью... Но, взгляните, по крайней мере, на эти сады Эдема, которые раскрываются теперь перед моими глазами за рубежом уже стихийного и хаотического мира; тени ваших праотцев витают там» (10—11).
В повести «Бэла» лирико-романтические краски описания реалистически оправданы ссылкой на восприятие Максима Максимыча:
«Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке всё было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге».
Полемическая направленность этого стиля описаний против эмоционально-метафизического декламативного стиля Марлинского и его эпигонов дважды подчеркнута. В начале очерка «Максим Максимыч» автор лишь бегло перечисляет все те природные достопримечательности Кавказа, которые чаще всего служили предметом романтического изображения в байронической школе и в школе Марлинского.
«Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ» (219). Это указание на молниеносную быстроту передвижения мимо тех пунктов Кавказа, которые больше всего привлекали к себе внимание литераторов 30-х годов, многозначительно и глубоко иронично (ср. ту же тенденцию в пушкинском «Путешествии в Арзрум»). Комментарий автора обнажает этот смысл: «Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего
- 586 -
не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет».
Эта тирада, особенно в первой ее половине, метит в Марлинского и П. Каменского.
Необходимо подчеркнуть, что манера лирического пейзажа выступает резче в стиле кавказской повести о Бэле, чем в бытовом наброске, описывающем вторую встречу с Максимом Максимычем.
Однако и в очерке «Максим Максимыч» разговорный и быстрый строй повествования обычно пересекается или заключается стилем лирического раздумья автора. Этот стиль неоднороден. Так, лирическая концовка рассказа в «Максиме Максимыче» близка к стилю лирических отступлений Гоголя: те же перебои вопросительных и восклицательных интонаций, та же симметрия периодов, те же дактилические концы основных синтаксических групп. У Лермонтова иногда примешивается сюда едкая ирония: «Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности, или от другой причины, протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...» (228).
А в заключение резко вдвигается короткая повествовательная фраза, как «последний взмах кисти живописца»: «Я уехал один».
По-иному элементы лирического стиля вкраплены в портретное изображение Печорина. Сама эта манера психологического портрета представляет собой новое явление в истории русского искусства. Идет подбор внешних деталей, которые сразу же истолковываются автором в физиологическом, социологическом или психологическом плане как признаки разных свойств характера. Устанавливается своеобразный параллелизм внешних и внутренних особенностей личности, оправданный субъективным опытом наблюдателя. Язык становится отвлеченным, синтаксис распространенным. Резко увеличивается количество определений и определительных конструкций. Автор проявляет себя таким физиономистом, который, психологически осмысляя и обобщая характерные детали внешнего облика, своеобразия свойственных человеку жестов и движений, дает исчерпывающий психологический портрет личности. Последовательность перечисления примет и самый выбор их строго индивидуализированы. Композиция портрета строится как бы по схеме перехода от анализа телосложения, одежды, походки, поз к рисовке черт лица, от более внешнего и физиологического к психологическому, характеристическому, от типического к индивидуальному, личностному. Напр.: «...я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера... положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала» (224) и т. п.
Особенно тщательно вырисовывается лицо, и тут применяется тот же метод обобщения: «Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови
- 587 -
были черные, — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади».
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЕ“
Гравюра на дереве А. Журова, 1937 г.
Литературный музей, МоскваГлаза привлекают особенное внимание портретиста. В стиле Лермонтова выражение глаз является основным средством психологического разоблачения личности. Автор читает в них все движения души. Глаза Печорина служат темой импрессионистского стихотворения в прозе, вставленного в очерк. В глазах автору видится психологический стержень странной личности Печорина. «Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного, или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса, и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно-спокоен». Импрессионизм этого изображения, основанного на сложной гамме эмоционально подобранных, субъективных эпитетов, иронически обнажается: «Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и может быть на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением» (224).
В параллель портрету Печорина можно поставить портрет ундины (в «Тамани»), нарисованный самим Печориным. Правда, общее освещение
- 588 -
в этом портрете — ироническое, но метод изображения тот же. Лишь субъективизм воспроизведения ярче подчеркнут.
«Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, т. е. порода, а не юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье, казалось, не более 18 лет» (235).
В сущности, сказ Максима Максимыча, портрет Печорина, набросанный самим автором, драматическая сцена встречи с штабс-капитаном и отъезда Печорина исчерпывают все возможности внешнего изображения характера «Героя нашего времени», открытые русской литературой до Лермонтова. Оставался выход — в сферу автобиографии, в жанр записок самого героя. Лермонтов и тут выступает как разрушитель романтических традиций, разрешая животрепещущий вопрос литературы 30—40-х годов об «исповеди души» в плане психологического реализма.
5
Язык «Журнала Печорина» близок к языку автора путевых записок. Но в дневнике Печорина отсутствует один стилистический пласт, характерный для авторского повествования: замечания и комментарии писателя, которыми обнажались приемы и принципы нового литературного мастерства. В исповеди Печорина замаскирована полемика с литературной традицией. Она глубоко запрятана в строе сюжета и в манере выражения и изображения.
Внутреннее родство авторского стиля со стилем Печорина иллюстрируется однородностью приемов повествования, изображения и психологической характеристики, но особенно — общим методом парадоксального восприятия действительности50. С жизненных явлений скептиком сбрасывается внешний покров, как бы прибитый к ним традиционным пониманием их названий. Обнаженные явления предстают в контрастном, противоречивом составе и виде. «Печальное нам смешно, смешное грустно» (249).
Этот метод разоблачения переживаний и поступков превращает все так называемые положительные качества, чувства и действия в их отрицательные противоположности. В действии и переживании открываются полярные свойства. Достаточно нескольких иллюстраций.
В предисловии к «Журналу Печорина» автор пишет: «Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга — понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений» (229).
С этим парадоксальным описанием дружбы, контрастно ломающим привычное представление о ней, перекликаются соответствующие суждения
- 589 -
о дружбе Печорина и его однобокой копии — доктора Вернера: «...он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника» (247).
«...я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; — рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги!» (248).
Образ Печорина полемически противопоставлен абстрактным и фальшивым героям романтизма. Печорин, по словам автора, — портрет «современного человека». «...это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Автор настаивает на жизненной правдивости этого образа — в отличие от «ужасных и уродливых вымыслов» романтизма. «Ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина?».
Как боевой лозунг нового стиля психологического реализма звучит парадоксальный тезис: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собой».
Психология личности и приемы ее художественного выражения и изображения начинают с 20-х годов XIX в. особенно волновать русских писателей в связи с ростом романтической культуры51. Творчество Пушкина сыграло решающую роль в обострении общественного внимания к вопросу о внутреннем складе личности современного человека.
Проблема литературного выражения и изображения личности, проблема индивидуального образа, проблема социально-психологического портрета современного человека, проблема национально-русских типов и характеров становится центральной в русской литературе 30-х годов. Она по-разному понимается в разных поэтических школах, в разных литературных группах. С точки зрения этой проблемы происходит переоценка традиции.
Разбирая нашумевшие повести Н. Ф. Павлова, Белинский подчеркивает, что характеры в повестях Павлова «только-что очерчены, но не оттушеваны и потому лишены почти всякой личности». О герое «Ятагана» Белинский писал, что «все его действия и слова самые общие; по ним можно узнать касту, но не человека, не индивидуума» («О русской повести и повестях Гоголя»). Вопрос об индивидууме становится в центре художественных и общественно-политических интересов эпохи.
В 40-х годах проблема изображения личности становится лозунгом и знаменем реалистической школы. Она связана с исканиями новых стилистических форм социально типизированного или резко индивидуализированного выражения эмоционального и идейного мира личности. Любопытно, что из круга сторонников психологического реализма после смерти Лермонтова враждебная критика особенно выделяла Герцена и Некрасова как разрушителей старого стилистического канона. «Г. Искандер развил свой слог до чистого голословного искандеризма, как выражения его собственной личности. Некрасов то же самое производит над русским стихом»52. Литературные искания новых методов художественного
- 590 -
воспроизведения личных образов обострялись напряженным интересом общества 30—40-х годов к вопросу о роли личности в истории народа и его самосознания.
Кавелин в статье «Взгляд на юридический быт древней Руси» доказывал, что всякое «умственное и нравственное развитие народа невозможно без развитой, самостоятельной личности».
С. П. Шевырев писал: «Вопрос о личности, ее значении и действии в нашей литературе есть один из деятельнейших в ней вопросов. Никогда еще так много о личности не говорили — и никогда так не вызывали ее к действию. Замечательна перемена, последовавшая даже в значении этого слова относительно к его употреблению. Прежде под именем личности разумели оскорбление, наносимое лицу; в таком смысле говорили: „он сказал мне личность“. Теперь разумеют под именем личности все права человеческого лица на развитие и уважение»53.
«Из самой себя хочет современная личность почерпнуть всю жизнь, все содержание, все воззрение на мир, даже самый язык»54.
«Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя наводили на те же мысли о самосознании личности: «Не снискал ли Гоголь некоторого права на то, чтобы перед Россией сознать свою личность и говорить от ее имени?.. Кто же может обвинить его в гордости, когда он лицо свое употребляет оружием к обнаружению тех истин, которые глубоко сознал в себе и выстрадал в жизни? У нас много толкуют теперь о личности, о необходимости развивать и сознавать ее, о том, что личность была условием и двигателем успехов западного просвещения, о том, что недостаток ее сознания послужил нам во вред — и те же самые люди, с такими развитыми понятиями о личности, готовы попирать и топтать в прах такую личность, как Гоголева»55.
Таким образом, Лермонтов в «Журнале Печорина» разрешает одну из труднейших художественных и общественно-политических задач, стоявших перед русской интеллигенцией 30—40-х годов; он аналитически, в новых формах реалистического искусства раскрывает внутреннюю организацию личности современного человека.
«Эготизм Лермонтова, употребляя термин Стендаля, открыл для русской литературы новые пути... После Лермонтова нельзя было создавать характер действующего лица иначе, чем во всей сложности и противоречивости непосредственной душевной жизни. Лермонтов начал новую эпоху, за ним пойдет Лев Толстой, творчество которого также основывается на записных книжках и дневниках и кончается исповедью»56.
По характерному отзыву В. Д. Спасовича, «Герой нашего времени» представляется «анатомическим препаратом одного только сердца, одним из тех documents humains, о которых хлопочет новейший французский натурализм»57. «Я взвешиваю, — говорил Печорин, — записываю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия».
Лермонтов произвел решительный переворот в области художественного изображения душевной жизни. После Лермонтова пушкинская манера начинает казаться «голой». Л. Толстой в 50-х годах писал (в своем дневнике 31 октября 1853 г.) о «Капитанской дочке» Пушкина: «Теперь уже проза Пушкина стара — не слогом — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то».
- 591 -
6
Стиль записей Печорина представляется непосредственным выражением его душевного мнения. Его дневник как бы не предполагает постороннего читателя. Его интимные заметки лишь стенографируют его «душу», правда в процессе воспоминания (ср. употребление формы прошедшего времени). Печорин не раз подчеркивает, что он ничего не забывает из прошлого, даже мельчайших оттенков переживания: «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как над мной. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее всё те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю, — ничего!» (252).
«Как все прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время!» (297).
Стиль Печорина как бы непосредственно и просто отражает поток пережитых событий и навеянных ими мыслей и впечатлений. Отсюда вытекают его отличительные свойства: динамизм повествования, основанного на глагольных конструкциях, драматизм естественной, фонографической передачи чужой речи, лирическая поэтичность экспрессивных описаний природы как символическое выражение эстетически развитой и тонко чувствующей души, точное воспроизведение настроений и обнаженный протоколизм в раскрытии всех внутренних противоречий душевного мира личности, разъедаемой самоанализом.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЕ“
Гравюра на дереве В. Фербера, 1938 г.
Литературный музей, МоскваВ стиле печоринского дневника, отягощенном приемами микроскопического анализа души, не может быть полного господства принципа быстрого повествования, как в пушкинском стиле. Глагольный динамизм изображения чересчур конкретен. Он не отразил бы раздумья и анализа. Должны быть остановки в беге внешних впечатлений. Их образуют построенные
- 592 -
на совсем другой стилистической основе описания и рассуждения, которые замедляют действие, но раздвигают вширь и вглубь психологическую перспективу. Они составляют характернейшее отличие лермонтовского прозаического стиля от пушкинской художественной системы.
Основной поток печоринского повествования не нуждается в детальном описании. Тут много общего со стилем автора. Но несколько ослаблены те формы устной речи, которые предполагают постороннего слушателя (т. е. обращения, повелительные наклонения и тому подобные конструкции, служащие для беседы с чужим человеком). Простота повествования доведена до предела, так как для дневника был не всегда удобен пушкинский прием субъективно-экспрессивной многопланности. В автобиографических записках все рисуется в плане одной личности, хотя и противоречивой и склонной к внутреннему раздвоению. Но ведь это раздвоение, эта рефлексия направлены не в сторону повествования о внешних событиях, а в сторону внутренних коллизий и колебаний чувств, в сторону аналитического описания состояний и движений души.
Итак, прежде всего перед нами — субъективно выпрямленный, быстрый глагольный стиль повествования, включающего в себе короткие бытовые диалоги в их естественном экспрессивном течении, со всеми их речевыми особенностями. Напр.: «При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... Что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет 14-ти.
„Где хозяин?“ — „Не-ма“. — „Как? совсем нету?“ — „Совсим“. — „А хозяйка?“ — „Побигла в слободку“. — „Кто же мне отопрет дверь?“ — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы».
Однако этот быстрый повествовательный стиль иногда замедляется передачей впечатлений и заключений наблюдателя. Напр.: «...он шел так близко от воды, что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет; но видно это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин» (232).
«...то были большею частью семейства степных помещиков: об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сертукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей» (241).
Исповедь души современного человека осуществляется на фоне трех жизненных эпизодов, восходящих к боевым сюжетам предшествующей литературы, в совокупности своей определяющих отношение «героя нашего времени» к природе и «детям природы», к светскому обществу, к теме судьбы и смерти. Душа раскрывается с разных сторон в потоке переживаемых и заносимых в дневник событий. «Я» современного человека меньше всего похоже на шумный романтический водопад. Романтические страсти и позы с их трагической мишурой — удел Грушницких. В записках Печорина чрезвычайно остро обозначается отход от фразеологии и психологии романтического чувства, от сентиментальных прений и бешеных порывов романтизма. «Полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, —
- 593 -
лелеет и наказывает себя как ребенка». На этой почве развивается эготизм современного человека. Неспособный к страстям и бурям, он логически разлагает переживание на его составные элементы. В противоположность романтику, который не может вырваться из вихря страстей и бурных переживаний, современный человек радуется всякому проблеску живого трепетного чувства в своей душе.
«Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса» (256).
«Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уже не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок, — на память?..» (258).
Показательно, что и тут анализ чувства завершается вопросом недоумения, столь характерным для рефлексирующего сознания58.
История души как литературный жанр должна была опираться не только на стиль повествования и на драматический язык воспроизводимых диалогов, но в гораздо большей степени на метафизический язык, язык психологических наблюдений и интеллектуальных рассуждении, на язык мыслей, заметок и афоризмов.
Однако это психологическое раскрытие души современного человека, в связи с повествованием о трех значительных жизненных эпизодах, происходит как бы постепенно расширяющимися, концентрическими кругами. В «Тамани» лишь эскизно — и притом противоречиво — набросаны общие контуры психологии Печорина и принципы его отношений к природе и «простым воспитанникам природы».
7
«Тамань» в известном смысле является прямым ответом на «Бэлу». Тема «Тамани» — торжество иронии, обращенной к излюбленным романтическим сюжетам и иллюзиям 20-х годов. Все, кроме поступка самого рассказчика, прикрыто дымкой романтической полутайны, которая к концу новеллы реалистически разоблачается. Печорин невольно оказывается автором тонкой литературной пародии.
Новые принципы реалистического изображения рельефнее выступали на фоне старых романтических образов и приемов. Пушкин призывал писателей «чертить новые узоры на старой канве» и сам с поразительной глубиной и разнообразием применял этот творческий метод в «Повестях Белкина», в «Рославлеве», в «Истории села Горюхина», в «Дубровском» и «Капитанской дочке».
Романтические приемы, образы, вся система романтического понимания и отражения действительности в неожиданном реалистическом освещении повертывались к читателю другой стороной: они как бы выворачивались наизнанку59. Эта полемическая заостренность художественного стиля напрягала выразительность и смысловую энергию речи. Изложение становилось многозначным. В открывающейся глубине смысловой перспективы мелькали отражения образов, выражений и мотивов, которые уже успели приобрести большое обобщающее значение в духовной культуре. Но в новой реалистической композиции старые символы меняли свое содержание и получали новое культурно-бытовое обоснование. С романтических ходуль они спускались на почву реальной жизни. От этого лишь расширялась и обновлялась присущая им потенция обобщающего отражения
- 594 -
и изображения действительности. Так, Лермонтов воспользовался образами «Ундины» Жуковского и гётевой Миньоны в своей «Тамани». Легко найти параллели — прямые и контрастные — между «Ундиной» Жуковского («Старинная повесть. Подражание Ламотт-Фуке») и «Таманью» Лермонтова. Быт и образы мирных контрабандистов у Лермонтова сначала окутаны таинственной дымкой двусмысленных намеков. Уже в начале повести многозначительно звучит предупреждение: там нечисто. «„Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к чорту, только к месту!“ — закричал я. — Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок: — только вашему благородию не понравится; там нечисто!“. — Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря».
То же двусмысленное указание: «здесь нечисто», еще раз выступает в середине новеллы: «— Да, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем! — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шопотом:
— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знако̀м, — был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: „Здесь, брат, нечисто, люди недобрые...“».
В «Ундине» Жуковского тот же отзыв слышится о волшебном лесе:
...и слухи
Страшные были об нем в народе; там было нечисто:
Злые духи гнездилися в нем и пугали прохожих
Так, что не смели и близко к нему подходить.В реалистическом стиле «Тамани» таинственному лесу «Ундины» соответствует небольшая хата на берегу моря — жилище «ундины» и окружающих ее загадочных существ. В «Тамани» у героини нет имени. Она называется «моя ундина»: «И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина» (235); «...вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина!» (236); «Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою» (239).
Два раза к «ундине» применен образ русалки:
«Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая русалка» (234); «Я... не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь» (238).
Образ «Ундины» Ламотт-Фуке и Жуковского отражается в лермонтовской героине так же, как образ «Светланы» Жуковского в Марье Гавриловне из пушкинской «Метели». В образе сказочной «ундины», как известно, представлено существо, которое наполовину состоит из стихийных элементов, из волн, морской пены, свежей прохлады вод и необузданного движения и которое находится в таинственном союзе с беспокойным морем.
Тонкими штрихами Лермонтов поддерживает эту литературную параллель, которой усиливается контраст между реалистическим образом Лермонтова и сказочным символом романтизма. Вот образ ундины в переработке Жуковского:
- 595 -
...Вдруг растворилась настежь
Дверь, и в нее белокурая, легкая станом, с веселым
Смехом впорхнула Ундина как что-то воздушное.
Вдруг, встрепенувшись резвою птичкой, она подбежала...
...она гармонически, тихо запела...
Свежесть цветка, порхливость Сильфиды, изменчивость струйки...
...вертлявый, проказливый нрав и смешные причуды Ундины...
...вдруг, как будто волшебной
Силой какой, что ни было в ней и причуд и беспутных
Выдумок, все забродило и вспенилось...Те же черты причудливого, беспокойно-подвижного обворожительного образа повторяются и в лермонтовской «ундине».
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“
Гравюра на дереве А. Фербера, 1938 г.
Литературный музей, Москва«...целый день она вертелась около моей квартиры: пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо!».
«Она вдруг прыгнула, запела и скрылась как птичка, выпугнутая из кустарника».
Русалочий вид контрабандистки, ее связь с морем — все это ведет к образу «ундины». Да и во всей обстановке, окружающей лермонтовскую «ундину», есть явные точки соприкосновения и линии соотношения, иногда контрастного, с сюжетом «Ундины» Ламотт-Фуке и Жуковского. Уединенная избушка на берегу моря, отрезанный морем от цели путешествия странствователь, его роман с «ундиной», ее тяготение к морю, наконец, ее погружение в морскую пену — все это звенья, контрастно переосмысленные и по-иному, реалистически сочетающиеся звенья той же сюжетной цели, что и в «Ундине» Жуковского.
- 596 -
Но Лермонтов углубляет семантическую перспективу в образе своей контрабандистки новым, внушительным литературным сопоставлением с гётевой Миньоной. В иронической окраске этого сравнения очевидно стремление к сознательному разоблачению романтических образов, лукаво завуалированному женолюбивыми признаниями Печорина.
«Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения; — и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни»60.
В основной повествовательно-драматический стиль «Тамани» местами как бы вставлены лирические миниатюры. Они изображают фон действия. Они складываются из форм речи, близких к стиховым. Их поэтичность отражает настроение Печорина, его эстетическое восприятие. Так, вся сюжетная композиция «Тамани», в соответствии с символическими картинами «Ундины» Жуковского, развивается на фоне изменчивого морского пейзажа.
«...и внизу с беспрерывным ропотом плескались темносиние волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, на покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона» (230).
«Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить» (232).
«...предо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся...» (234).
«Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподнимая одинокую лодку, причаленную к берегу» (237).
Стиль пейзажа в записках Печорина органически слит с образами и драматической ситуацией.
Так, в отличие от «Тамани» действие повести «Княжна Мери» протекает на фоне горного пейзажа. Печорин импрессионистски вводит читателя в изображение своих настроений посредством своеобразной лирической интродукции, посвященной эмоциональному описанию природы.
Уже в самом начале повести намечен эмоциональный контраст между природой и человеком с его страстями.
«...там, дальше, амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сожаления?..» (240).
«...белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом его вились
- 597 -
и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством» (255—256). Это — интродукция к сцене первой встречи с Верой.
Пейзажный рисунок в прозе Лермонтова почти всегда символичен. Он не только лирически изображает фон действия, но и символически отражает чувства героя и его представления об ожидаемых событиях.
Именно в таком импрессионистском плане Печорин рисует в «Княжне Мери» картины окружающей природы на пути к месту дуэли. Характерен подбор двойственных образов и красок, символизирующих внутреннее раздвоение Печорина: «...слияние первой теплоты его <солнца> лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление; в ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня» и т. п.
На этом фоне еще выразительнее выделяется любовь Печорина к природе, обостренная возможной близостью смерти:
«Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль!».
И далее перспектива пути символизирует туманное, но, быть может, страшное будущее, ближайшее будущее Печорина. «Там путь всё становился у̀же, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемой стеной». И, как всегда у Лермонтова, этот эмоциональный символический пейзаж многозначительно обрывается краткой повествовательной фразой: «Мы ехали молча».
В том же субъективном символическом стиле рисуется пейзаж при повествовании о подъеме дуэлянтов на вершину скалы. Применен тот же прием контрастной двойственности освещения:
«Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи» (302).
И в том же импрессионистском стиле рисуется природа после дуэли. Субъективное восприятие и переживание природы отражают психическое состояние Печорина:
«Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели» (305).
Таким образом, уже в «Тамани» (так же как и в «Княжне Мери») иронические саморазоблачения современного человека, еще не вполне освободившегося из романтического плена, контрастно оттеняются лирической символикой природы, вводящей в понимание сложных противоречий и изменчивых настроений человеческой души.
«Тамань» — это реалистически перелицованная повесть о «деве на скале». «Тамань» не только противостоит повести о Бэле, но и служит контрастным введением к «Княжне Мери».
- 598 -
Тут Лермонтов от разоблачения романтических сюжетов переходит к переоценке «Евгения Онегина» как романа о современном человеке.
8
В ходе событий, в образах действующих лиц повести «Княжна Мери» отражается, как известно, несколько видоизмененный сюжет пушкинского «Евгения Онегина». Он перенесен в другое время и другую обстановку. Пушкинских героев сменили герои нового времени. Эти новые герои лишены той внутренней цельности, которой отличались люди пушкинской эпохи. Жестокая российская действительность николаевского режима выбросила их за борт общественной жизни. Потомок Онегина — Печорин разъеден рефлексией. Он уже не способен отдаться даже запоздалому чувству любви к женщине с той непосредственной страстностью, как Онегин. Пушкинскую Таню сменила Вера, которая все-таки изменила мужу, предавшись Печорину. После же смерти первого мужа она вышла замуж за второго, которого «уважает, как отца — и будет обманывать, как мужа... Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!». Ленские измельчали еще больше и, начитавшись Марлинского, превратились в Грушницких. Они уже не ездят в Германию за вольнолюбивыми мечтами, а из глуши поместья прямо направляются юнкерами на Кавказ. Пушкинской Ольге в лермонтовской композиции соответствует княжна Мери. Тут кисть Лермонтова углубила и контрастно оттенила бледный пушкинский силуэт. Даже потомка Зарецкого не забыл Лермонтов. Психологическая параллель Зарецкому — драгунский капитан, литературный предок капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского. Все эти образы, нарисованные в новой манере кистью Печорина, обосновавшего на началах скептицизма и материализма тонкий аналитический метод разоблачения своей и чужой душевной жизни, приобрели необыкновенную жизненную полноту и рельефность.
Форма интимной исповеди, излагающей «историю человеческой души», была органически связана с новым методом изображения сложного характера современного человека.
Ведь душа человека обращена одной своей стороной к жизни и ее впечатлениям, т. е. прежде всего к другим людям. Для Печорина это — область наблюдения и эксперимента. Отсюда — тонкая внимательность его к каждому слову, взгляду, к каждому душевному движению окружающих людей. Наблюдения эти и впечатления фиксируются в быстрых записях дневника и иногда подвергаются детальному психологическому исследованию. А драматические сцены, диалогические отрывки воспроизводятся в их естественном, но как бы сгущенном течении.
Другой своей стороной душа обращена к самой себе. И эта сторона ее подчинена психоанализу, самонаблюдению. Тут у Лермонтова выступает метод аналитического разложения чувства или метод драматического воспроизведения внутренней речи, однако в литературно-разговорной обработке ее эллиптического строя. Напр.:
«Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не видел ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!» (280).
Общие принципы изображения и психологического освещения других людей в стиле записок Печорина представляют дальнейшее развитие той манеры типически-обобщенного портрета, основанного на остром сочетании
- 599 -
внешних и внутренних характеристических примет, которая наметилась еще в «Княгине Лиговской». Но стиль записок Печорина более сжат и иронически открыт. Напр.:
«...особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом: они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодезь кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светлоголубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинцияльным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают» (241).
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
К „КНЯЖНЕ МЕРИ“
Рисунок П. Павлинова, 1938 г.
Литературный музей, МоскваПечоринские приемы изучения и изображения чужой душевной жизни гораздо более детализованы. Печорин свободно и быстро читает чувства и настроения на лице61. Он видит зерно каждого чувства сквозь тройную оболочку. Экспрессия голоса, лица и тела Печорину понятна во всех ее оттенках. Особенно близок и знаком ему язык глаз.
Напр.: «Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор немой, но выразительный, краткий, но сильный!..» (267).
«...несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...» (252).
«— Вы также переменились, — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки» (278).
- 600 -
Ср. также: «...кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...» (268).
«Она мне кивнула головой: во взгляде ее был упрек» (280).
За выражением глаз следует по силе экспрессии улыбка.
«— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой...
Мы расстались.
Она недовольна собой; она себя обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я всё это знаю наизусть — вот что скучно!» (274).
Нередко говорят о переживании движение, дрожь руки:
«Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала» (281).
Приемы печоринского анализа чужой душевной жизни определяются принципом психо-физиологического параллелизма и чтением в душе по выражению лица, по мимике, а главное по глазам. Соответствующие части записок Печорина имеют замедленный темп изложения. В анатомическом описании именные формы преобладают над глагольными. Вместе с тем постоянно подчеркивается субъективизм впечатлений и психологических заключений, основанных на силе предубеждений.
«Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто, с потерею члена, душа теряет какое-нибудь чувство.
Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что̀ прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?..».
Синтаксис печоринского стиля своими экспрессивными оттенками, порядком слов, сменой конструкций передает эмоциональное отношение повествователя к изображаемым явлениям. Аналитическое описание и рассуждение нередко переходят в драматическое изображение борьбы личных впечатлений и переживаний героя. Они замыкаются цепью вопросов, вызванных внутренней рефлексией.
«Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что̀ делать? я часто склонен к предубеждениям...» (231).
Регистрация внешних проявлений чужого чувства, приоткрывающая завесу над душевной жизнью наблюдаемых лиц, в то же время тонкими оттенками выражения передает эмоциональное отношение к ним самого Печорина. Напр.: «Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу».
- 601 -
Здесь местоимение этот в применении к Грушницкому носит явный отпечаток презрения, а выражение до сей минуты подчеркивает иронию Печорина.
Читая чувства людей на их лице и проникая в их мысли сквозь оболочку слов, Печорин экспериментирует над окружающими «экземплярами человеческой породы». Он постоянно подчеркивает свою роль внимательного наблюдателя. У тех, кого он «понял», он может по своему произволу вызвать любое чувство. Он играет на душах знакомых людей, как на привычном инструменте. Отсюда в признаниях Печорина — частые описания и разоблачения своей собственной игры, своего притворства. В таком стиле изображаются разговоры Печорина с Грушницким, с которым он играет, как кошка с мышью.
Печорин то поддерживает романтические иллюзии и позы Грушницкого, то по своей прихоти вызывает в нем непосредственные проявления искреннего, не заимствованного аффекта.
«— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.
Он покраснел до ушей и надулся.
О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!....
...Я принял серьёзный вид и отвечал ему...
Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.
Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил» (254—255).
Тот же стиль аналитического наблюдения за внешними проявлениями чувства и тот же метод психологического эксперимента применяются к княжне Мери.
«Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь!..
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ФАТАЛИСТУ“
Рисунок П. Павлинова, 1938 г.
Литературный музей, Москва
- 602 -
В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадой наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!..» (268).
Этим аналитическим методом изучения и понимания чужой душевной связи определяется стиль портрета в записках Печорина.
Портрет Грушницкого рисуется в манере обобщенной типизации, но с подбором ярких индивидуальных признаков. Сначала очень бегло перечисляются внешние приметы Грушницкого («...носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год»). Затем указывается характеристический жест («Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль»). Это прием внешней, жестовой или мимической, индивидуальной характерности впервые был найден Пушкиным в «Пиковой даме». От Лермонтова он переходит к Л. Толстому. Но Лермонтов, отметив индивидуализирующие признаки персонажа, вслед за тем иронически подводит его под категорию романтических фразеров. Критерий для включения Грушницкого в определенный класс людей отыскивается в склонности его к красивой фразе, в его упоении потоком собственного красноречия. «Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто-прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциялкам до безумия... Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, повидимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи» (242).
Этой общей характеристикой Грушницкого предопределены приемы его изображения. Он рисуется как драматический позер, в терминах актерского ремесла. Печорин иронически разоблачает его позы, его штампованную игру, лишенную внутреннего содержания, оторванную от искреннего, живого чувства. Наивный и простодушно-безвкусный, но «милый и забавный» по своему существу, Грушницкий становится жертвой своего «романтического фанатизма». В его лице Лермонтов задолго до «Обыкновенной истории» Гончарова отразил идеологически опустошенный, выродившийся в формальное искусство красивых поз и пышной декламации романтизм как общественную болезнь 30—40-х годов.
В этом направлении Лермонтов является предшественником Гончарова, Толстого и Тургенева.
Образ Грушницкого динамически раскрывается в печоринском наброске как тонкая портретная индивидуализация эпигонов романтизма, «...которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». Печорин шаг за шагом разоблачает приемы романтической «игры» Грушницкого:
«...я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил
- 603 -
с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно закрыв глаза рукою, продолжает так: „нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется“» (243); «...когда сбрасывает трагическую мантию...» (243); «В это время дамы отошли от колодца и поровнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощию костыля и громко отвечал мне по-французски:
— Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoutante» (244).
В тех случаях, когда мимика Грушницкого искрення, не фальшива, Печорин не упускает случая (как бы с удивлением) отметить этот факт.
«Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание» (245).
В этом стиле психологического изображения внешности особенности и детали костюма, характерные телодвижения приобретают острую выразительность. Достаточно сослаться на описание Грушницкого: «...в полном сиянии армейского пехотного мундира»; «эполеты неимоверной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрипели» и т. п.
Ироническое описание приемов игры Грушницкого выставляет еще рельефней его страсть декламировать, произносить «готовые пышные фразы» («фразы из повестей Марлинского», — как заметил Белинский). Грушницкий высказывается в патетических монологах, стилизованных под язык героев Марлинского. Его излияния полны вопросительных и восклицательных интонаций. Трафаретность этих излияний с самого начала обнажается общей оценкой Печорина и иронической демонстрацией в качестве примера монолога Грушницкого к хорошенькой соседке перед отъездом на Кавказ: «Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?..62 и так далее». Это «и так далее» прямо отсылает читателя за продолжением к ходячей романтической литературе. Речь Грушницкого прерывается эмоциональными паузами. Стиль его кишит острыми и красивыми антитезами: «...пьющие утром воду — вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру — несносны, как все здоровые» (243). «Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает» (266).
Пышная фразеология Грушницкого расцвечена поэтическими, эмоциональными сравнениями и приравнениями: «Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня».
Речь Грушницкого богата эпитетами-определениями, иногда с противоречивыми смысловыми оттенками. «Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей» (260).
Нельзя при описании актерства Грушницкого не отметить одной детали. Трагической мантией служит Грушницкому его солдатская шинель, официальная одежда юнкеров. Он щеголяет ею, как модным маскарадным костюмом, и гордо носит ее, хотя и делает вид, что ему мучительна эта «печать отвержения» и «тяжело, как милостыня» участие, ею возбуждаемое. Толстая солдатская шинель для Грушницкого — средство производить романтическое впечатление, внушать иллюзию, что он политический преступник,
- 604 -
борец за правду, разжалованный, сосланный на Кавказ, одинокий и обреченный продолжатель традиций декабристов. Толстая солдатская шинель символизирует социальную опустошенность переродившегося к 40-м годам романтизма. К жалкому щегольству «солдатской шинелью» свелась для романтического позера общественная трагедия политических изгнанников.
Печорин все это разоблачает, иронически прикрываясь фразеологией Грушницкого:
«Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель» (242—243).
Тема солдатской шинели как протекающий образ является в тех случаях, когда Грушницкий изображает себя политическим борцом или социальным отверженником.
«Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?
— Бедная шинель! — сказал я усмехаясь...» (244).
Для правильного понимания этих слов необходимо сопоставить реплику Грушницкого с собственным заявлением Печорина, намекающим, видимо, на ссыльных декабристов: «Жены местных властей, так сказать хозяйки вод... менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум» (241).
Ср.: « — И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.
— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер: — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...
— Напротив... — сказала княжна, покраснев» (259—260).
Обращают на себя внимание также частые иронические намеки Печорина на эмоциональный ореол, окружавший солдатскую шинель в сознании «русских барышень». Эти намеки подчеркивают позу Грушницкого.
«...Другое дело, если бы я носил эполеты... — Помилуй! да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением... Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.
Грушницкий самодовольно улыбнулся» (254).
«...она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное...» (255).
Печорин, прежде чем выступить активным соперником Грушницкого, намекает ему на то, что солдатская шинель содействует его романтическому
- 605 -
ореалу. «„Откуда?“ — „От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поет... “.
— Знаешь ли что? — сказал я ему: — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...
— Может быть! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно».
И затем в разговоре с княжной Мери Печорин развенчивает Грушницкого, объяснив, что он юнкер.
« — Он, конечно, не входит в разряд скучных...
— Но в разряд несчастных, — сказал я смеясь.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ВАДИМУ“
Рисунок Ю. Оболенской, 1939 г.
Литературный музей, Москва— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...
— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!
— А разве он юнкер?.. — сказала она быстро и потом прибавила: — а я думала...» (265).
Ср. также окончательное разоблачение Грушницкого в глазах княжны:
«А признайтесь, — сказал я княжне, — что, хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен в серой шинели?..
Она потупила глаза и не отвечала» (278).
Ср. также совет Печорина Грушницкому:
- 606 -
«— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее?» (279).
Трафарет романтической игры, воплощенный в образе Грушницкого, контрастно оттеняет предельную правдивость душевной исповеди Печорина.
Вообще в «Княжне Мери» разоблачение правды чувства, скрытой под театральными масками общественного актерства, связано с своеобразным печоринским взглядом на жизнь как на театральную арену и на людей как на действующих лиц жизненной драмы. Образы сценической игры внедряются в разные места художественной композиции.
«...это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении» (245).
«...княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет — и, может быть, не ошибается» (267).
Остроту внутреннего раскрытия образа Печорина усиливает образ его искаженного психического двойника — доктора Вернера. Правда, в образе Вернера несколько сгущены профессиональные краски («Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим и поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов»).
Но это — очень тонкая деталь, рельефнее обрисовывающая внутреннюю силу и последовательность печоринского нигилизма: медицинский скептицизм и материализм Вернера более теоретичен и бесплоден, чем идеологический скептицизм и материализм самого Печорина, оправдываемый его поведением. Печорин всегда, когда ему этого хочется, пользуется своим знанием людей. Вернер же «...изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием: так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки!» (247).
Психологизм Печорина физиологичен. Психические свойства, чувства и страсти выводятся им из анатомических и физиологических предрасположений. Так, дав яркую, основанную на контрастах психологическую характеристику доктора Вернера, Печорин, как всегда, ставит ее в параллель с описанием внешних анатомических признаков Вернера: «...в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей» (248).
Образ доктора Вернера играет сложную роль в композиции повести. Отражая и оттеняя демонический облик Печорина, он содействует живому, драматическому раскрытию внутренней логики печоринского психологического анализа. Печорин и Вернер как психологические двойники, как «умные люди» в разговоре друг с другом демонстрируют аналитический метод понимания сокровенных мыслей по одному слову.
«...мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово — для нас целая история» (249).
И далее в форме оживленного диалога дается примерный анализ скрытого «подтекста» одной реплики Печорина (психологически обоснованного предложения «рассказывать новости»). Этот анализ сводится к выделению
- 607 -
двух идей, скрытых в галиматье Печорина, и четырех психологических мотивов сделанного им предложения.
В самом перебое реплик, когда один из партнеров подхватывает и продолжает мысль другого или ироническими вопросами демонстрирует знание «всех живых струн человеческого сердца», отражается этот процесс чтения в душах друг друга.
Понятно, что эти новые приемы реалистического, углубленно психологического изображения, мотивированные мировоззрением Печорина, внутренним складом его личности, не вязались с привычным сентиментально-романтическим представлением о структуре личности. Кроме того, современников поражало своеобразие идейного освещения человеческих характеров и социальных отношений в «Герое нашего времени» Лермонтова. Все это воспринималось даже как сознательное разрушение пушкинской манеры изображения.
Характерно суждение П. А. Плетнева: «Признаюсь, никогда не ожидал я, чтобы человек с талантом, как Лермонтов, был до такой степени утомителен и даже несносен, как он в своей княжне Мери. Все тут лица ни на что не похожи, — из рук вон, как говорится. И все это сделано для того, что Лермонтов почитает за верх ума презрение к женитьбе»63. Сближая имена Лермонтова и Белинского, Плетнев в другом письме к Я. К. Гроту иронически заявляет, что лишь Лермонтов, по воззрению Белинского, «везде верен одной высоко-философской идее: ругать и презирать человечество в виде произвольно сотворенных им уродов»64.
В самом деле, скептический эгоизм современного человека в изображении Лермонтова побуждал его «смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую душевные силы». Отсюда вытекает парадоксальное применение тонкой наблюдательности Печорина. Он подмечает все проявления чужой душевной жизни для того, чтобы ими воспользоваться в нужный момент, чтобы испытать свои душевные силы или чтобы удовлетворить свое любопытство экспериментатора.
На этом фоне возникали парадоксальные и неожиданные контрасты в психологическом освещении чужих переживаний и страстей.
Так, экспериментальное отношение Печорина к чувствам той женщины, любви которой он добивается, совершенно ломало привычные эмоциональные представления о любовных сценах и о языке «страсти нежной». Описание же соответствующих психологических экспериментов в дневнике производилось изящным, но бесстрастно-деловым стилем изложения, протокольно регистрирующим слова и действия испытуемого субъекта. Эти тонкие психологические эксперименты и наблюдения парадоксально приурочивались к наиболее патетическим, трогательным ситуациям. Напр.:
«Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова — из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения».
Княжна Мери говорит взволнованно и прерывисто — то голосом, «в котором были слезы», то «голосом нежной доверенности» и, наконец, обращается
- 608 -
к Печорину с просьбой: «Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!..». «В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться... Я ничего не отвечал.
— Вы молчите? — продолжала она: — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..
Я молчал...» (285—286).
С образа женщины совлекается романтический ореол.
«...я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает».
Показательна ирония, облекающая романтическую метафору, прикрепленную к женщине, — ангел (ср. образ Ольги в «Вадиме»). Этот образ является в фразеологии Грушницкого:
«...это просто ангел!
— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.
— Разве ты не видал?
— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку» (246).
А от себя Печорин заявляет: «С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом» (284).
В записках Печорина дается теоретическое обоснование нового метода изображения женщины и ее психологии и излагаются основы парадоксальной диалектики женского ума, опрокидывающей все общепризнанные правила логики. Демонстрируются два типа логических связей — обыкновенный и женский.
«Я не должна его любить, ибо я замужем; но он меня любит, — следовательно...
Тут несколько точек, ибо рассудок уже ничего не говорит, и говорят большею частью: язык, глаза и, вслед за ними, сердце, если оное имеется».
Легко увидеть здесь явный полемический выпад против пушкинского метода изображения женской души. Пушкинская Татьяна чувствует и мыслит не по женскому, а по обыкновенному способу:
«Этот человек любит меня; но я замужем: следовательно, не должна его любить».
Эти принципы парадоксального понимания чужой душевной жизни, эти приемы аналитического изображения типических характеров современности не только открывали новую сторону живой действительности, не только способствовали более глубокому и непредубежденному ее осмыслению, но и ярче освещали центральный образ самого «Героя нашего времени».
9
В дневнике Печорина элегический стиль раннего романтизма превратился в свою противоположность. Как будто общие схемы господствующего настроения те же: рано увядшая молодость, охлажденная душа, живущая
- 609 -
«привычками сердца», воспоминания о «юности сердца». Но весь строй фразеологии и скрытой под ней идеологии чувства изменился.
Пышную романтическую фразеологию чувства заменяет стиль психологического писания, однако довольно своеобразного свойства. Душа зрелая, угасшая для страстей, живет чувствами-идеями. Сами «страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии». Новый стиль психологического описания воспроизводит диалектику развития и сочетания идей-чувств. Чувства развиваются парадоксально. Они сливаются в противоречивый сплав и вызывают друг друга по контрасту. «Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого» (271). Отсюда самый стиль психологического описания полон парадоксов и афоризмов, поражающих неожиданным сближением психологических понятий. Эти парадоксы и афоризмы облекаются чаще всего в форму вопросов. Ведь душа современного человека — цепь нерешенных или праздных вопросов. В ней рефлексия, анализ подавляют непосредственное переживание, и она по-новому определяет и классифицирует психические состояния. В языке психологических описаний это новое понимание сущности разных переживаний выражается обилием предложений, имеющих вид логического определения, номинативного суждения. Напр.:
«...честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость» (271).
В стиле Лермонтова (так же как и Стендаля) изображение чувства обусловлено той идеей, которая примешивается к его переживанию и ломает внутреннее единство и цельность эмоции. В зависимости от точки зрения субъекта любое чувство может быть сдвинуто со своих традиционных позиций и функционально сближено с другим рядом переживаний. Тогда меняется самое содержание переживания. Возникает своеобразный метод идеологического смещения эмоциональных понятий. Изображение чувства становится парадоксально-двойственным. В каждом переживании открывается примесь других, непосредственно не связанных с ним переживаний и точек зрения.
Двигаясь по той или иной цепи идей, чувство может или изменить свое прямое течение или даже превратиться в свой антитезис. Этот путь возможного развития чувства демонстрируется экспериментом Печорина над Вернером перед отправлением к месту дуэли.
«— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете над мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?
Эта мысль поразила доктора, и он развеселился» (297).
- 610 -
Душе, лишенной страстей и не находящей применения своим внутренним силам, необходимы сильные жизненные впечатления. В этом аспекте происходит переоценка ценностей и парадоксально меняются точки зрения на все то, что может взволновать кровь. Именно в атмосфере борьбы напряженнее всего могут проявиться внутренняя сила души и ее власть над другими. «...я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на стороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью» (280).
Обнажая свою душу, Печорин останавливается и на таких «неизъяснимых», демонических, контрастных переживаниях, интерес к которым впервые был пробужден поэтикой романтизма, как, напр., наслаждение всем тем, что гибелью грозит, упоение чужими страданиями и т. п. Тут Лермонтов подготовляет путь Достоевскому. Печоринский стиль в изображении этих переживаний намеренно далек от неопределенно-метафорической фразеологии романтизма. Он склоняется к живой фамильярной речи (иногда с отголосками галлицизмов), и его образы приобретают конкретную рельефность реалистического описания. «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет» (270).
Суммарное описание «необъятного» наслаждения иллюстрируется затем частным эпизодом из отношений Печорина к княжне Мери. Романтический образ Вампира здесь получает почти ироническое освещение, особенно от контрастного сопоставления его с репутацией доброго малого. Само изображение состояния Мери основано на контрасте между мнением поверхностного наблюдателя и точной медицинской диагностикой Печорина. «До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. — Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слыву добрым малым, и добиваюсь этого названия!» (286).
Этот метод бесстрастного анализа переживаний, рассудочной перегруппировки чувств, их идеологической переоценки раскрывается (это типично для лермонтовского приема обнажения диалектики души с ее категориями рассудка) самим Печориным в беседе с Вернером:
«Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его» (298—299).
- 611 -
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
К „ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“
Автолитография Д. Павлинова, 1940 г.
Собственность художника, МоскваСсылка на это внутреннее раздвоение подчеркивает, что к осмыслению и изображению собственных своих переживаний Печорин применяет тот же метод психологического эксперимента и идеологической переоценки, как и к чужим людям. Ведь тут принципиальной разницы в объекте психологического наблюдения и условиях его нет. Самонаблюдение для Печорина — тот же процесс объективного наблюдения над «другим человеком». Правда, себя Печорин знает, но ведь он так же хорошо «понял» Грушницкого, «разгадал» княжну Мери, знает, как своего двойника, доктора Вернера. Разница в одном: душевный мир этих лиц он рисует в профиль, свой же — en face.
При воспроизведении своих переживаний Печорин сначала точно называет поступок или чувство, иногда даже подчеркивает откровенную наготу своих признаний. Затем, подвергая их анализу, разъясняет их возникновение или их функции в строе своего характера. Иногда переживание сразу же определяется как сложное, чаще всего двойственное; тогда его состав непосредственно раскрывается в его противоречивой сложности. Иногда же в процессе дальнейшего анализа того же переживания оказывается, что оно неоднородно, что к одному чувству примешивается другое, более низменное, нередко даже вступающее в конфликт с первым. Предельная искренность этих самопризнаний, не рассчитанных на чужого человека, на «читателя», неоднократно обнажается. Вот типичный анализ чувств и внутренних мотивов поведения в стиле Печорина:
«Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка
- 612 -
в это мгновение по моему сердцу: это чувство — было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться» (246).
«Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. За что они все меня ненавидят? — думал я. — За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство? И я чувствовал, что ядовитая злость мало-по-малу наполняла мою душу» (288).
В связи с этим раздвоением чувств-страстей при объяснении душевной жизни чаще всего применяется прием вопросительно-разделительного перечисления. Возможные внутренние мотивы того или иного психологического явления выстраиваются в логическую цепь разделительных предложений (с союзами ли — или-или), которые затем и облекаются в форму вопросов.
«Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; наоборот, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?» (257).
«Из чего я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего?..» (270).
Наиболее полно лермонтовский метод изображения душевной жизни проявился в описании переживаний Печорина после получения письма Веры. Сначала Печорин представляет внутреннюю борьбу своих чувств, сочетая повествовательные фразы с отражениями своей внутренней речи. Эти эмоциональные колебания стиля выражаются отчасти сменой и перебоями синтаксических форм, отчасти подбором аффективной лексики. «Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце».
Повествование здесь резко перескакивает в область внутренней речи Печорина, воспроизводя как бы крик его сердца: «Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку...».
Вслед за этим опять переход к повествованию, однако обостренному эмоциональными восклицаниями, которые подчеркивают невыразимую сложность переживания.
«Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете, — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей...».
Затем с предельным лаконизмом изображаются гибель коня и отчаяние обессиленного Печорина. «И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий».
Силу этого аффекта символически выражает характерная по откровенности признания фраза:
- 613 -
«...и если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся».
Но «другой человек» в душе Печорина не умирает от отчаянья. Замолкший рассудок, освеженный ночной росой и горным ветром, приводит мысли в обычный порядок, и рефлексия снова вступает в свои права. Развивается цепь вопросов.
«...я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами?».
Понятно, что, доведя эту цепь идей до логического конца, рассудок эмоционально возвращается к анализу только-что пережитого аффекта:
«Мне однако приятно, что я могу плакать!».
Но голос другого человека, живущего в душе Печорина, тут же скептически подсказывает материалистически-медицинское, психо-физиологическое объяснение этому факту воскрешения живого чувства. «Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок».
В связи с этим возрождаются полное душевное равновесие и ирония рефлексирующей личности:
«Всё к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих».
И весь этот психологический пассаж заключается точной деловой отметкой, эффектно заостренной глубоко ироническим сравнением: «Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо».
Так как в печоринском понимании чувства — те же идеи, а форма идеи — действие, то анализ переживаний сразу же от определения чувств и их внутренних мотивов переходит к изображению побуждений, которые затем превратятся в действия. Уединенные монологи и внутренняя речь героя в связи с этим приобретают яркую аффективную окраску:
«Берегитесь, господин Грушницкий! говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате: со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!» (288).
Самыми поразительными страницами исповеди Печорина являются те, которые представляют собою «внутренний монолог», стенограмму душевной жизни. Правда, эта стенограмма в дневнике Печорина литературно обработана. Она далека еще от передачи той естественной хаотичности и символической глубины индивидуального внутреннего мышления, которую постиг и выразил Л. Толстой. Но в печоринском дневнике уже намечается принцип алогизма внутренней жизни, прикрытый терминами — предубеждение и предчувствие. Когда Печорин отдается непосредственному течению потока сознания и переводит на литературный язык своего дневника отдельные выхваченные из этого потока чувства и мысли, тогда его психологическая стенограмма становится самообвинением. Печорин перестает быть скептиком, материалистом и магнетизером. В темных волнах душевного потока начинается брожение предчувствий и предубеждений. Тут внутреннее раздвоение Печорина сказывается
- 614 -
особенно остро. Борются как бы два голоса. Один недоумевает, спрашивает, колеблется и обвиняет; другой логически расчленяет психологическую проблему, описывает ее идейную суть и побуждает к действию, т. е. предлагает решение. Эта борьба выражается в приемах перехода от одной мысли к другой, в характере синтаксических конструкций. Вот этот диалог внутренних голосов в записи от 25 июня:
«Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune».
Другой голос: «...но над мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам».
Первый голос: «Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?..».
Второй голос: «Когда я был еще ребенком...» и т. п.
В печоринской записи внутренней речи поражают крутые аффективные переходы, неожиданные сломы чувств и мыслей. Они должны были казаться особенно странными на фоне предшествующей традиции литературных монологов. Ведь у Гоголя алогические сломы и изгибы речевого движения были рассчитаны лишь на комическое впечатление и оставались психологически немотивированными. Напротив, в лермонтовском внутреннем монологе обостренный драматизм и повышенная аффективность речи должны были символизировать порывистое, беспокойное кружение уединенных мыслей, не искаженных и не приглаженных логикой искусственного литературного представления.
«Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха.» Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жеребий!.. и тогда... тогда... что если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И немудрено: она так долго служила верно моим прихотям.
Что ж? умереть, так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова...прощайте!..» (295—296).
Психологическое раздвоение Печорина, ярко сказывающееся и в строе его внутренней речи, допускает возможность тех же экспериментов с собой и над собой, что и над другими. Применяясь к ситуации, он иногда разыгрывает ту или иную роль, обещающую много интересных наблюдений и побочных переживаний. Иногда эта игра превращается в психологические опыты над внутренними силами, заложенными в душе самого Печорина. Все это создает парадоксально-обнаженный стиль изображения,
- 615 -
поражающий индивидуальной странностью и контрастностью экспрессивных красок.
Так, перед княжной Мери Печорин не раз играет роль романтика отчаянья, и его речь приобретает признаки литературной стилизации. Печорин тогда говорит стилем байронических героев, которыми увлекалась княжна Мери. Таков монолог Печорина перед Мери на пути к Провалу. Он построен по симметричной схеме психологических контрастов и антитез и, при всей его демонически-печоринской окраске, носит отпечаток романтического стиля школы Марлинского:
«Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен» и т. п.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА „БЭЛА“
Госкинпром Грузии, 1927 г.Любопытно, что этому монологу предшествует ремарка, подчеркивающая игру Печорина: «Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко-тронутый вид...».
Еще ярче эта намеренная стилизация под Грушницкого обнаруживается в реплике Печорина, когда он «пробрался в гостиную» к княжне:
«Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал: — ...Я поступил как безумец... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда
- 616 -
не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте» (281). Ср. ироническое воспроизведение воображаемого разговора Грушницкого с хорошенькой соседкой: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать!.. Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?» и т. д.65.
Тот же прием психологического эксперимента применен и к рассказу о дуэли. Печорин изображает себя всецело поглощенным наблюдениями над Грушницким. Поэтому изложение душевных переживаний самого Печорина почти исключено, вернее, оно ограничивается лишь обозначением тех чувств, которые вызывало в нем поведение противника. Прежде всего Печорин поддерживает уверенность Грушницкого, будто он не знает о заговоре против себя, о неравных для себя условиях дуэли, и подмечает, как реагирует Грушницкий на его притворные реплики. Вся внутренняя борьба Грушницкого драматически воспроизводится, в ее оттенках и переливах.
« — Мы будем стреляться.
Я пожал плечами.
— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.
— Я желаю, чтобы это были вы...
— А я так уверен в противном.
Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал» (299—300).
Затем Печорин сознательно ставит Грушницкого в положение убийцы и внимательно следит, как тот относится к его предложению. Аналитически раскрываются все возможности действия, предоставленные Грушницкому.
«Пожалуй, — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или наконец оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мной опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой» (301).
Внутреннее же состояние самого Печорина раскрывается, с одной стороны, драматически — его репликами и физиологическим описанием Вернера («Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... Только глаза у вас блестят ярче обыкновенного...»). С другой стороны, обостренное восприятие Печорина символически характеризуется таким эпизодом, многозначительность которого для Печорина легко могла быть понята в свете предшествующих его рассуждений о предчувствиях и предубеждениях:
«Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.
- 617 -
— Берегитесь! — закричал я ему: — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!» (301).
Все описание дуэли приобретает экспрессивную остроту оттого, что оно бесстрастно. Воспроизводя обрывки разговоров, оно сверх того изображает лишь последовательный ход наблюдений и экспериментов Печорина над Грушницким.
«Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда всё устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать...».
Вместе с тем с полной обнаженностью раскрываются и задние мысли и расчеты Печорина, эгоистическая подкладка этой игры его с судьбою.
«Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?».
Ср. раньше о Грушницком: «...он мог... удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести» (301).
Внутренние колебания Грушницкого, его погруженность в свои мысли подчеркиваются и подбором сравнений, символически намекающих на зависимость слабовольного героя от друга своего, штабс-капитана.
«Решотка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок» (302).
Между тем сам Печорин, аналитически взвесив внутреннюю борьбу Грушницкого, сознательно стремится обострить ее и тем увеличить свои шансы на победу и обеспечить себе право убийства.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА „БЭЛА“
Госкинпром Грузии, 1927 г.«Вы счастливы, — сказал я Грушницкому: — вам стрелять первому! Но
- 618 -
помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь — даю вам честное слово.
Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка» (302).
Бросается в глаза неоднократное упоминание о пристальном, всматривающемся взгляде Печорина:
«Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку» (303).
И далее до конца изображение дуэли сводится к подробному описанию печоринских экспериментов. При этом в повествовании Печорина все время перевешивает тот «человек», который «мыслит и судит». И только в то время, как Грушницкий целился в него, в Печорине пробуждается и та половина его существа, которая чувствует... «Он целил мне прямо в лоб... Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей» (303). Печорин становится господином положения. Сложное описание противоречивых переживаний контрастно предшествует драматической развязке...
«...и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненый в ногу немного сильнее я бы непременно свалился с утеса» (303).
В тот же круг выражений и образов, связанных с представлением о бесчувственно-рефлексирующей половине Печорина, входит и формула суда над Грушницким:
«Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор...» (304).
10
Образ Печорина остался бы незавершенным и ирония исторической обреченности «героя нашего времени» не приобрела бы трагического колорита, если бы не было «Фаталиста». В этой новелле образ Печорина окружается символическим ореолом рока, судьбы. Печорин бросает вызов смерти и выходит победителем из экспериментальной игры с судьбой.
В связи с этой темой судьбы образ Печорина приобретает черты типического символа всего современного ему поколения: «А мы, их жалкие потомки, скитающиеся на земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды,
- 619 -
ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми, или с судьбою». (Ср. образы лермонтовской «Думы» и публицистический стиль Чаадаева.)
На этом идеологическом фоне эффектно выступает парадоксальное решение злободневного вопроса русской общественной жизни 30—40-х годов — об убеждениях как об основном атрибуте развитой, интеллигентной личности.
Тема судьбы, идея фатализма тем глубже входила в композицию кавказской повести, что она органически сливалась с «азиатским миросозерцанием», по представлению людей того времени. А. А. Краевский вспоминал такие слова Лермонтова о России и русских: «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французами? Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, там на Востоке тайник богатых откровений»66.
Но и независимо от этого идеи и образы рока, судьбы, предопределения составляли одно из существенных художественных звеньев в цепи поэтических откровений романтизма. Так, Марлинский не раз возвращался к теме фатализма и разрешал ее в боевом романтическом плане. Его герои бросают вызов судьбе:
«...Кто кует судьбу, как не мы сами!.. Наш ум, наши страсти, наша воля — вот созвездие путеводное, вот властители, планета нашего счастья!.. Не поклонюсь я этому слепому истукану, воздвигнутому на костях человеческих, не устрашусь призрака, которого изобрели злодеи, чтобы выдавать свои замыслы орудиями рока, и которому верят слабодушные для того, что в них нет решительности действовать самим. Верить фатализму — значит не признавать ни греха, ни добродетели, значит сознаваться, что мы бездушные игрушки какой-то неведомой нам силы, что мы цветы на потоке жизни, как перекати-поле, носимое по прихоти ветра?» («Свидание»)67.
Но среди разветвлений романтизма была и немецкая фаталистическая школа. О ней с осуждением писал Белинский в рецензии на перевод фантастической повести Гауфа «Отелло» (1835): «Фаталисты лишают человека свободной воли, делают его рабом и игрушкою какой-то неотразимой, враждебной и грозной силы, и наконец ее жертвою. Кому не известно „Двадцать-Четвертое Февраля“ Вернера, „Прародительница“ Грильпарцера, многие повести Тика и других? Гофман не принадлежит к этой школе; фаталистическое и фантастическое не одно и то же. У Гофмана человек бывает часто жертвою своего собственного воображения, игрушкою собственных призраков, мучеником несчастного темперамента, несчастного устройства мозга, но не какой-то судьбы, перед которою трепетал древний мир и над которою смеется новый»68.
Но тема судьбы и предопределения приобретала особенное значение в идеалистическом мировоззрении, в кругу убеждений передовых представителей русского общества 30—40-х годов, чувствовавших свою обреченность, свою ненужность в условиях николаевского режима. Н. В. Станкевич писал Неверову 15 февраля 1835 г.:
«Действительность беспрестанно дает нам знать, что она действительность, а мы все ждем чудес... Я стыдился этого направления, я думал,
- 620 -
что это следствие нашей неестественной жизни, убитого организма и убитой души... но люди молодые, свежие, в которых поселилась искра божия, страждут тем же недугом... как неистребимо это суеверное упование на судьбу, которая холодно и неумолимо разрушает лучшие мечты наши! И каждый удар ее невольно стараешься объяснить какою-нибудь благою целью... И, может быть, в самом деле, ведет она, но ее руководством пользуются те, которые переживают нас; ее забота в том, чтоб мы не вырывались из звеньев этой цепи, которую кует она от первого человека, — и это еще лучшая участь быть ее орудием... Впрочем в экономии природы всякая дрянь есть необходимость, и если мы будем дрянь, то она и этим воспользуется, точно как пользуется нашим счастием, страданием, нравственностью и безнравственностью»69.
Для Печорина тема судьбы является центральной проблемой самосознания.
Печорин изображается игрушкой судьбы и вместе ее орудием. Он возмущает мирное течение жизни, превращая ее в водоворот событий. Уже в «Тамани» обозначается эта тема:
«Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну!» (239).
В «Княжне Мери» эта же тема углубляется:
«Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?..» (277).
В «Фаталисте» все вращается вокруг темы судьбы, предопределения. Лермонтов применяет здесь пушкинский принцип разноплоскостных отражений и вариаций центрального образа. По разным направлениям, по разным сознаниям в развитии сюжета происходят всплески и отражения одной и той же темы судьбы. Эта тема находит разное фразеологическое выражение в языке разных персонажей новеллы. Быстрое развертывание сюжета в композиции «Фаталиста» всецело подчинено принципу разностороннего освещения все той же проблемы предопределения. Симметрично располагаются однородные ситуации, но с противоположным идеологическим разрешением их. Параллелизмы, контрасты, разные виды неполных соответствий, — все эти средства художественного вариирования одних и тех же образов концентрируют внимание на одной теме, повертывающейся к читателю то одной, то другой стороной.
Так же как в «Пиковой даме» Пушкина — тема трех верных карт, в «Фаталисте» тема судьбы человека сначала появляется в разговоре после карточной игры:
«...разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана
- 621 -
на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro и contra» (312).
«— Всё это вздор! — сказал кто-то: — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?» (313).
«Событие развертывается из идеи, как растение из зерна» (Белинский).
КАДР ИЗ ФИЛЬМА „МАКСИМ МАКСИМЫЧ“
(Сцена из „Фаталиста“)
Госкинпром Грузии, 1927 г.Из разговора возникает трагический эпизод, иллюстрирующий предопределение.
Вулич имел «вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи» (313).
«...я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заране назначена роковая минута...» (314).
Печорин как человек, склонный к предчувствиям и предубеждениям, уже на лице Вулича читает его судьбу. Таким образом, Печорин как будто склоняется к вере в предопределение.
«...мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то
- 622 -
странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться» (315).
Однако это предчувствие или предсказание, повидимому, не осуществляется. И вопрос о предопределении остается не вполне решенным.
После опыта Вулича между Вуличем и Печориным происходит такой разговор:
« — А что̀? вы начали верить предопределению?
— Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...» (316).
Но вера современного человека, равнодушно переходящего от сомнения к сомнению, так же неопределенна и зыбка, как и неверие. Она не превращается в убеждение. В связи с этим повесть о фаталисте тут (как бы на стыке двух глав) пересекается лирическим отступлением, включающим в себя и лирический пейзаж, иронически связанный с темой предопределения и с образами тех цельных и сильных людей, которые верили в астрологию и предопределение, и публицистические рассуждения о современном обществе, и психологические размышления Печорина о собственной личности. Основной мотив, пронизывающий это метафизическое отступление, — идея неспособности современной души к борьбе с людьми или с судьбой.
Так же как и в стиле Гоголя, это лирическое отступление завершается иронической сентенцией и посредством резкого каламбурного срыва переходит в бытовое повествование:
«Не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя во̀-время на этом опасном пути, и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но повидимому неживое» (317).
И дальше в повествовании то и дело всплывают на поверхность образы, связанные с идеей предопределения.
Иногда они имеют явно ироническую окраску:
«Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но — видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь» (318).
Вулич убит. Казалось бы, новое подтверждение предопределения. Печорин выступил в привычной ему роли вестника судьбы:
«...я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины» (319).
В связи с развивающимся ходом событий все охвачены одною мыслью о роковой неизбежности судьбы:
«Они рассказали мне всё, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти» (318).
- 623 -
Убийство Вулича пьяным казаком истолковывается даже старым есаулом как роковое предопределение судьбы.
«Ну, уж коли грех твой тебя попутал, нѐчего делать: своей судьбы не минуешь» (319).
На этом фоне вполне естественной представляется новая вариация сюжета испытания судьбы. Для Печорина форма чувства-идеи есть действие. И Печорин становится экспериментатором. Он вступает в борьбу с судьбой как бы для того, чтобы окончательно убедиться в предопределении.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА „КНЯЖНА МЕРИ“
Госкинпром Грузии, 1927 г.«В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу».
Испытание окончилось блистательно для Печорина: «...офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем» (320).
Теперь, кажется, уже исчерпаны все художественные и логические возможности вариирования темы предопределения. Ход событий должен был, повидимому, привести даже крайнего скептика к полному убеждению в существовании предопределения. Но душа «современного человека», пережившего пору мечтательного романтизма и разъедаемого рефлексией, не может знать наверное, убеждена ли она в чем или нет (ср.: «А мы... скитающиеся по земле без убеждений и гордости» — 317). Так с необычайной художественной остротой и психологической тонкостью наносятся последние, решающие штрихи на образ Печорина.
«После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но
- 624 -
кто знает наверное, убежден ли он в чем, или нет?.. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!.. Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера; напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!» (320). Ср. у Чаадаева в «Философическом письме»: «Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним последует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире... Это — беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни даже... родовым наследием... В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно... Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу...
Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи, и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования»70.
11
Лермонтов в стиле «Героя нашего времени» объединил в гармоническое целое все созданные в пушкинскую эпоху средства художественного выражения. Был осуществлен новый стилистический синтез достижений стиховой и прозаической культуры русской речи. Поставленная Пушкиным проблема метафизического языка получила в творчестве Лермонтова оригинальное разрешение, так как элементы публицистического и научно-философского языка стали органической, составной частью стиля художественной прозы. Тем самым была открыта сулившая большие возможности перспектива широкого взаимодействия между стилями художественной литературы и стилями публицистики и науки.
В борьбе с романтической фразой и романтическим идеализмом Лермонтов нашел самостоятельную дорогу, воспользовавшись многими художественными завоеваниями самой романтической поэтики. В романтической культуре художественного слова Лермонтов нашел новые средства психологического изображения личности. Стихотворная речь пушкинской эпохи достигла гораздо большего сближения с живой устной речью, чем язык прозы. И Лермонтов перенес эти достижения стихового языка в область художественной прозы. В прозаическом языке Лермонтова отголоски и отражения стиховой фразеологии и стиховых конструкций лирически оттеняют, а иногда завершают реалистически оправданную и точно подобранную группу бытовых выражений. Тонкие стилистические переходы от языка деловой прозы к литературно-художественным оборотам,
- 625 -
своеобразные приемы смешения простых повседневных фраз разговорной речи с выразительными средствами поэтического языка придают повествовательному стилю Лермонтова стилистическое разнообразие, семантическую сложность и психологическую рельефность. Синтез стиховых и прозаических форм в области лексики и фразеологии осуществлялся у Лермонтова посредством некоторого стилистического выравнивания сцепляемых звеньев одной фразовой цепи и семантического обострения их связей. В языке Лермонтова реалистически уравновешиваются элементы стиховой романтики и бытового протоколизма. Повествовательный динамизм пушкинской глагольной фразы сочетается здесь с отвлеченной точностью номинативных логических определений и с лирической выразительностью и психологической рельефностью качественных оценок и характеристик.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА „КНЯЖНА МЕРИ“
Госкинпром Грузии, 1927 г.В лермонтовской прозе открылось обществу, что «образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались». «Тут было все — и самобытная, живая мысль... тут была и какая-то мощь, горделиво владевшая собою и свободно подчинявшая идее своенравные порывы свои; тут была и эта оригинальность, которая, в простоте
- 626 -
и естественности, открывает собою новые, дотоле невиданные миры, и которая есть достояние одних гениев; тут было много чего-то столь индивидуального, столь тесно слитого с личностью творца, — много такого, что мы не можем иначе охарактеризовать, как назвавши „лермонтовским элементом“»71.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 «Северные Цветы на 1828 год», 1827, 77—79.
2 «Собрание сочинений А. Марлинского», Спб., 1840, ч. XI, 217.
3 «Старина и Новизна», кн. 5, 50.
4 См. Б. Мейлах, Пушкин и русский романтизм, 1937, 79.
5 «Собр. соч. А. Марлинского», ч. XI.
6 С. Жихарев, Записки современника, II, 157.
7 Цифры в скобках обозначают страницы V тома «Полного собрания сочинений Лермонтова», изд. «Academia», 1936—1937.
8 Б. Эйхенбаум, Лермонтов, Л., 1924, 128.
9 «Полярная Звезда на 1825 год», 334.
10 О романе Н. Полевого «Клятва при гробе Господнем». — «Собр. соч. А. Марлинского», ч. XI, 320—321.
11 Статья «О влиянии беснующейся (фантастической) литературы на здоровье».
12 См.: академическую речь М. Лобанова: «О духе словесности как иностранной, так и отечественной»; статью А. Пушкина: «Мнение М. Е. Лобанова», статью Н. Гоголя: «О движении журнальной литературы» в № 1 пушкинского «Современника» и т. п.
13 «Современник» 1836, № 2.
14 Письмо Плетнева к Гроту от 30 сентября 1844 г. — «Переписка Я. Грота с П. Плетневым», II, 323.
15 «Русские повести и рассказы», М., 1834, ч. IV, 77.
16 «Собр. соч. А. Марлинского», ч. XII, 54.
17 «Русские повести и рассказы», ч. IV, 81.
18 Там же.
19 Там же, 76.
20 «Сочинения В. Белинского», М., 1875, ч. 9, 133.
21 Статья «О классицизме и романтизме». — «Цефей. Альманах на 1829 год», М., 1829, 21.
22 «Русские повести и рассказы», ч. VII, 245—246.
23 «Собр. соч. А. Марлинского», ч. XII, 27.
24 См. Б. Эйхенбаум, Лермонтов, Л., 1924, 132.
25 «Опыты Тмфва», Спб., 1837, ч. II, 81 сл.
26 «Русские повести и рассказы», ч. II, 256—257.
27 Там же, ч. VII, 26.
28 Ср. в «Петербургских записках» Гоголя замечание о современной драме: «Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия!».
29 Статья «Обозрение русской словесности 1829 года». — «Денница. Альманах на 1830 год», стр. XXXVI.
30 Подробнее см. в моей книге «Этюды о стиле Гоголя», 1926, 78—80.
31 Ср. у Гоголя в «Старосветских помещиках» характеристику «тех низких малороссиян, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог в».
32 Смешение повествования с бытовым сказом в «Княгине Лиговской» не могло не отразиться и на построении речи персонажей. Социально-характеристические различия устной речи у Лермонтова гораздо больше вовлекаются в строй диалога, чем, напр., у Пушкина. Ср. также такие разговорные слова, выражения и формы в составе повествовательного стиля «Княгини Лиговской»: «давешний противник» (120); «толстую рябую девищу» (125); «стали над ним подсмеивать» (130); «...и Печорин на него взбесился» (137); «После многого плаканья и оханья» (142); «пышные платьи» (145); «дипломат взбеленился» (146); «...и продолжал уписывать соус» (148) и т. п.
33 «Страдания молодого Вертера», перевод М. Рожалина, М., 1829.
34 «Сочинения князя В. Одоевского», 1844, ч. 3, 208 и 221.
- 627 -
35 Там же, 205.
36 «Жизнь и похождения Тихона Тросникова», М. — Л., 1931, 92—93.
37 Стиль лермонтовской прозы в «Княгине Лиговской» не порывает тесной связи с культурой стихотворного слова, но значительно ограничивает круг употребления поэтических выражений. Напр.: «...глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски» (115); «кольнуть самолюбие жестокой красоты» (127); «Если страсть, всемогущая страсть не разрушит как буря одним порывом высокие подмостки его рассудка...» (163); «...и что-то похожее на слезу пробежало блистая вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя, забытая бурей на листке березы, трепеща перекатывается по его краям, покуда новый порыв ветра не умчит ее — бог знает куда» (165) и т. п.
38 См. мои «Этюды о стиле Гоголя», 197—199.
39 «Соч. В. Белинского», М., 1875, ч. 10, 120—121.
40 «Русские повести и рассказы», ч. VIII.
41 «Соч. В. Белинского», 1876, ч. 3, 120. Ср. также у Белинского противопоставление сказа Максима Максимыча языку Марлинского и его героев: «И все это высказывается в нем не в грубых поговорках в роде „чорт возьми“ и не в военных восклицаниях, в роде „тысяча бомб“, беспрестанно повторяемых, не в попойках и не в курении табака, — а во взгляде на вещи, приобретенном навыком и родом жизни, и в этой манере поступков и выражений, которые должны быть необходимым результатом взгляда на вещи и привычки». — «Соч. В. Белинского», ч. 3, 565.
42 Ср. очерк Лермонтова «Кавказец».
43 Ср. замечание Белинского: «Да и в чем содержание повести? Русский офицер похитил черкешенку, сперва сильно любил ее, но скоро охладел к ней; потом черкес увез было ее, но, видя себя почти пойманным, бросил..., нанесши ей рану, от которой она умерла: вот и все тут. Не говоря о том, что тут очень немного, тут еще нет и ничего ни поэтического, ни особенного, ни занимательного и все обыкновенно до пошлости, истерто». — «Соч. В. Белинского», 1876, ч. 3, 582.
44 «Русские повести и рассказы», ч. V, 10—11.
45 Ср. замечание Белинского: «Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении заключается бесконечный мир поэзии... Автор сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на событие глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем...». — «Соч. В. Белинского», ч. 3, 568.
46 Ср. у Пушкина в «Тазите»:
— Сказал и на земь лег — и очи
Закрыл. И так лежал до ночи.
Когда же приподнялся он,
Был темен синий небосклон.47 Это мрачное хождение из стороны в сторону со сложенными или загнутыми на спину руками в минуты скуки или тоски типично для Печорина в изображении Максима Максимыча.
48 Сб. «Венок Лермонтову», 1914, 233.
49 Ср. в «Кавказце»: «лицо у него загорелое и немного рябоватое. Если он не штабс-капитан, то уж верно майор» (322).
50 Ср. отзыв Белинского: «Хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним и в их взгляде на вещи — удивительное сходство». — «Соч. В. Белинского», ч. 3, 645.
51 «Северные Цветы на 1825 год», 52—53.
52 С. Шевырев, Очерки современной русской словесности. — «Москвитянин» 1848, № 1, 40—41.
53 Там же, 35.
54 Там же, 40.
55 Там же, Критика, 6.
56 К. Локс, Проза Лермонтова. — «Литературная Учеба» 1938, № 8.
57 В. Спасович, Сочинения, II, 397.
58 Ср. замечание Белинского: «Наш век есть век сознания философствующего духа, размышления, „рефлексии“. Вопрос — вот альфа и омега нашего времени». — «Соч. В. Белинского», 1874, ч. 4, 306.
59 Ср. суждение Белинского о «Тамани»: «Она вся в форме... Повесть эта отличается каким-то особенным колоритом, несмотря на прозаическую действительность ее содержания, все в ней таинственно, лица
- 628 -
какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари, или месяца». — «Соч. В. Белинского», ч. 3, 594.
60 Очень неопределенно отношение к этой ссылке у В. Жирмунского, Гете в русской литературе, Гослитиздат, 1937, 438.
61 Уже в «Княгине Лиговской» намечается этот прием подробного описания чужих чувств посредством чтения их на лице (ср. замечание Печорина: «Я читал на лице ее все движения мысли так же безошибочно, как собственную рукопись») и в душе. Ср.: «Я удивляюсь, как это подозрение не потревожило его прежде, но уверяю вас, что оно пришло ему в голову именно теперь» (164).
62 Ср. у Пушкина:
Душа твоя чиста...
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Она твой тихий ум невольно возмутит;
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься.(«Мой друг, забыты мной следы минувших лет»)
63 Письмо к Я. Гроту от 21 ноября 1840 г. — «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», I, 145—146.
64 Там же, II, 28.
65 Ср. замечание Белинского о «героях нашего времени»: «Обманывая других, они прежде всего обманывают себя... Начиная лгать с сознанием или начиная шутить — они продолжают и оканчивают искренно. Они сами не знают, когда лгут и когда говорят правду, когда слова их — вопль души или когда они фразы. Это делается вместе и болезнию души, и привычкою, и безумством, и кокетничанием». — «Соч. В. Белинского», ч. 3, 613—614. — Любопытно, что и Белинский заметил в Печорине стилизацию под Грушницкого. Так, Белинский находил, что в сцене с княжной на прогулке «Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного». — «Соч. В. Белинского», ч. 3, 621.
66 П. Висковатов, М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество, М., 1891, 368.
67 «Собр. соч. А. Марлинского», 1840, ч. XII, 200.
68 «Соч. В. Белинского», 1875, ч. I, 255.
69 «Переписка Н. В. Станкевича», 347—348.
70 «Сочинения и письма П. Чаадаева» под ред. М. Гершензона, М., II, 114—115. — Сопоставление «Героя нашего времени» с лермонтовской «Думой», отражающей влияние чаадаевских идей, сделано еще Белинским: «Герой нашего времени — это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще». — «Соч. В. Белинского», ч. 3, 651.
71 «Соч. В. Белинского», 1875 г., ч. 5, 353.