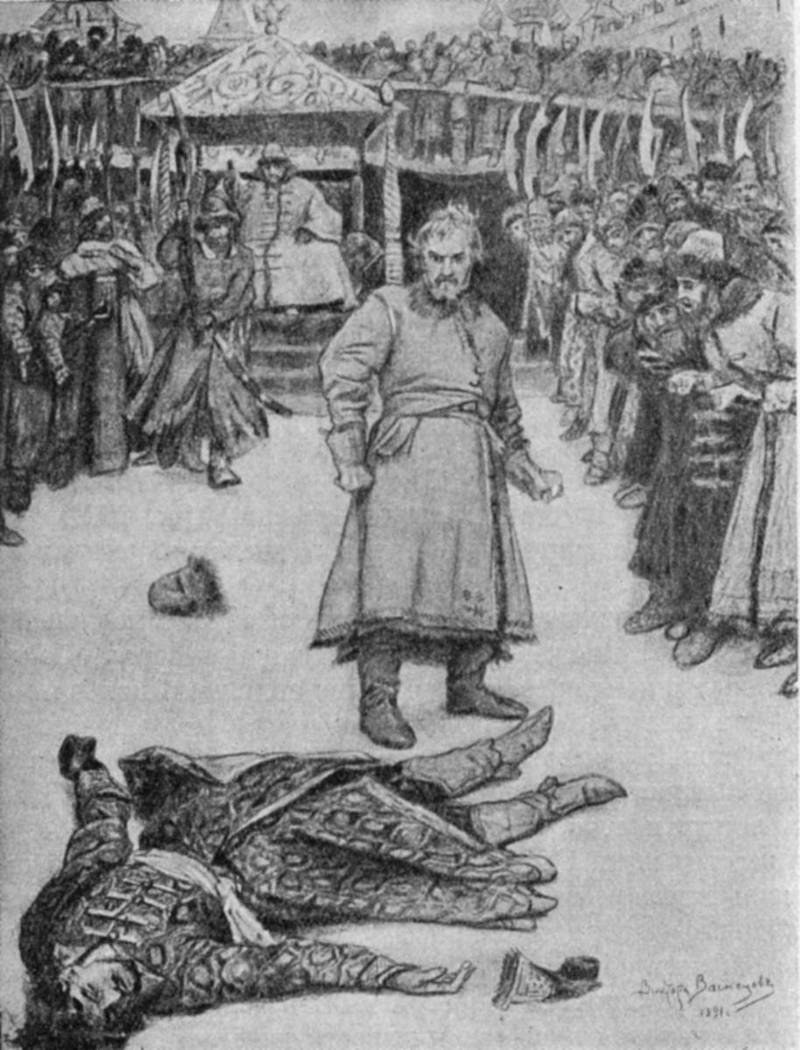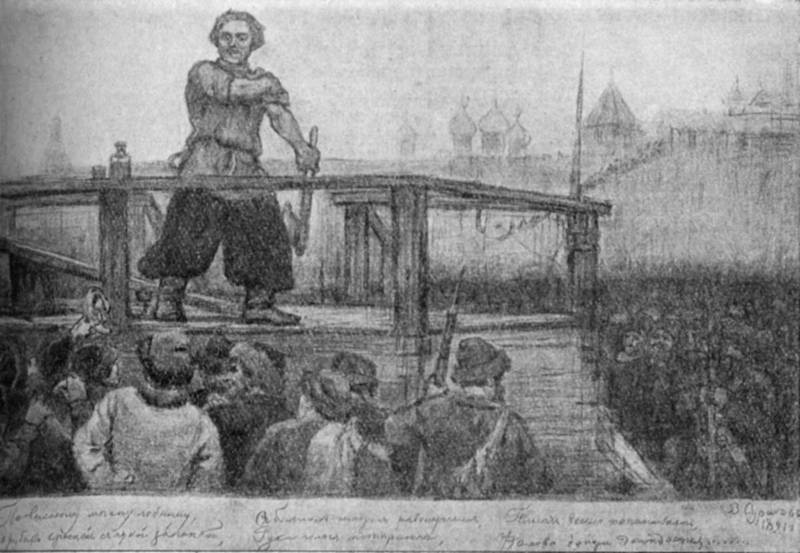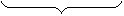- 263 -
НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ
ЛЕРМОНТОВАСтатья М. Штокмара
«Что такое народность в литературе? Отражение духа внутренней и внешней его жизни, со всеми ее типическими оттенками, красками и родимыми пятнами... ...У кого есть талант, кто поэт истинный, тот не может не быть народным»1.
«Литература есть сознание народа: в ней, как в зеркале, отражается его дух и жизнь; в ней, как в факте, видно назначение народа, место, занимаемое им в великом семействе человеческого рода, момент всемирно-исторического развития человеческого духа, который он выражает своим существованием»2.
Приведенные слова Белинского, характеризующие признаки самобытности писателя и поэта, определяют в то же время границы и сферу действия иностранных влияний, которые, начиная с XVIII в., мощным потоком хлынули в русскую литературу и стимулировали ее быстрый рост. Эти влияния, естественно, учитывались не без существенных преувеличений нашим литературоведением, которое не всегда умело разглядеть под покровом заимствованных форм элементы оригинального творчества, служившего отражением того «сознания» русского народа, о котором говорил Белинский.
Цитированные формулировки, высказанные Белинским в общей форме, бесспорно применимы к ряду великих русских писателей первой половины XIX в., которым принадлежит создание подлинно самобытных произведений русской литературы. При всей глубине и разносторонности своих связей с культурными традициями западно-европейской литературы, Лермонтов в такой же степени, как и Пушкин, должен быть признан русским народным поэтом.
В своей статье «Стихотворения М. Ю. Лермонтова» Белинский пророчески заявлял: «...уже не далеко то время, когда имя его в литературе сделается народным именем и гармонические звуки его поэзии будут слышимы в повседневном разговоре толпы, между толками ее о житейских заботах...»3.
Но такое применение к Лермонтову наименования народного поэта, базирующееся на оценке его поэтического творчества, сохраняет свою силу до тех пор, пока ему придается обобщающий характер. У нас употребляется термин «народный поэт» и в ином, более специальном значении этого слова. Мы нередко называем народными поэтами представителей так называемой «устной», фольклорной традиции русской литературы. Был ли Лермонтов — создатель «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» — «народным поэтом» в таком специальном понимании этого термина? Чисто внешние, формальные
- 264 -
признаки как будто с неизбежностью приводят к отрицательному решению: Лермонтов принадлежал к дворянскому, а не к крестьянскому сословию, воспитывался в обстановке помещичьей усадьбы, затем жил в Москве, в Петербурге, а не в деревне, служил офицером, а не занимался хлебопашеством, наконец, был грамотен и сам написал «Песню про купца Калашникова», а не «сказывал» ее ученому-этнографу, вооруженному карандашом и бумагой или фонографом. Для позитивного литературоведения XIX в. скоморошьи гусли, звон которых сопровождал «сказывание» «Песни про купца Калашникова», были, разумеется, не чем иным, как обыкновенной бутафорией, и Лермонтов в роли сказителя казался не более правдоподобным, чем любое «действующее лицо», загримированное соответствующим образом для любительской постановки «на домашнем театре». Однако надо полагать, что для историков литературы и критиков XIX в. такое отношение к «Песне» Лермонтова диктовалось не только тем, что ее автор не подходил по своим внешним признакам к каноническому типу народного певца или сказителя. Убеждение в неподлинности, поверхностной подражательности произведения Лермонтова само собой вытекало из правильно осознанных трудностей, которые должны были возникнуть перед этим выходцем из дворянско-помещичьей среды, городским жителем, усвоившим с детских лет рафинированную речь наиболее культурных слоев русского общества, в его попытке не только заговорить на языке «простого» народа, но и создать большое по объему литературное произведение в духе своеобразной и не до конца понятной его современникам древней эпической традиции русских сказителей. Невозможно было предположить, что Лермонтов справился с этими трудностями. И в глазах некоторых историков литературы, даже и без сопоставлений «Песни» Лермонтова с памятниками народного творчества, из этого, естественно, должно было сложиться убеждение, что он и не справился с ними, что из под его пера вышло произведение подражательное, со всеми недостатками, присущими подобным сочинениям.
«В основании этой поэмы лежит антихудожественная мысль, составляющая, с точки зрения художественного творчества, главный источник ее слабости и недостатков, — мысль о подражании... Истинно-художественное произведение должно быть оригинально»4. Приведенное заявление, принадлежащее Ц. Балталону, автор, с своей точки зрения вполне последовательно, завершил следующими строгими педагогическими «выводами»: «Эта „Песня“, как слабое произведение, не должна входить в число образцовых произведений Лермонтова, обязательно изучаемых в классе»5.
Точка зрения Ц. Балталона, подкрепленная им посредством крайне пристрастного и одностороннего разбора «Песни про купца Калашникова», оказалась, к чести русского литературоведения, все же явлением единичным. С отповедью Балталону, правда не слишком глубоко мотивированной, тогда же выступил С. Брайловский, защищавший прямо противоположные тезисы: «„Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“ — вполне самостоятельное оригинальное произведение Лермонтова, весьма удачно написанное в народном стиле и превосходно воспроизводящее народные темы... ...В художественном отношении это одно из замечательнейших произведений русской литературы»6.
- 265 -
В цитированных выше заявлениях Ц. Балталона и его оппонента с наибольшей яркостью наметилось двойственное отношение к «Песне про купца Калашникова» со стороны представителей русской критики и истории литературы. Эта двойственность отчасти проявилась даже в знаменитой статье Белинского о стихотворениях Лермонтова: «...если мы остановились на „Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, которую сами признаем художественною, то потому, что, во-первых, самая ее художественность более или менее условна, ибо в этой „Песни“ он подделывается под лад старинный и заставляет гусляров петь ее; во-вторых, эта „Песня“ представляет собою факт о кровном родстве духа поэта с народным духом и свидетельствует об одном из богатейших элементов его поэзии, намекающем на великость его таланта»7.
ЛЕРМОНТОВ
Акварель А. Клюндера, 1839 г.
Институт литературы, ЛенинградРазумеется, слово «подделывается» в устах Белинского не имеет того вульгаризаторского смысла, какой в конце XIX в. вкладывал Ц. Балталон в свои заявления о подражательной основе «Песни про купца Калашникова». Сам Белинский дал развернутую оценку «Песни», в которой не
- 266 -
только закрепляется подлинная художественность произведения Лермонтова, но даже выявляется характерное для Белинского предпочтение, отдаваемое им произведениям искусственной литературы перед фольклором: «...нельзя довольно надивиться поэту: он является здесь опытным, гениальным архитектором, который умеет так согласить между собою части здания, что ни одна подробность в украшениях не кажется лишнею, но представляется необходимою и равно важною с самыми существенными частями здания, хотя вы и понимаете, что архитектор мог бы легко, вместо нее, сделать и другую. Как ни пристально будете вы вглядываться в поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишнего или недостающего слова, черты, стиха, образа; ни одного слабого места: все в ней необходимо, полно, сильно! В этом отношении, ее никак нельзя сравнить с народными легендами, носящими на себе имя их собирателя — Кирши Данилова: то детский лепет, часто поэтический, но часто и прозаический, нередко о̀бразный, но чаще символический, уродливый в целом, полный ненужных повторений одного и того же; поэма Лермонтова — создание мужественное, зрелое, и столько же художественное, сколько и народное. Безыменные творцы этих безыскусственных и простодушных произведений составляли одно с веющим в них духом народности; они не могли от нее отделиться, она заслоняла в них саму же себя; но наш поэт вошел в царство народности как ее полный властелин и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество: даже в минуту творчества он видел ее пред собою, как предмет, и так же по воле своей вышел из нее в другие сферы, как и вошел в нее. Он показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества; показал, что и прошедшее его родины так же присуще его натуре, как и ее настоящее; и потому он, в этой поэме, является не безыскусственным певцом народности, но истинным художником — и если его поэма не может быть переведена ни на какой язык, ибо колорит ее весь в русско-народном языке, то тем не менее она — художественное произведение, во всей полноте, во всем блеске жизни, воскресившее один из моментов русского быта, одного из представителей древней Руси»8.
Следы той же двойственности решения вопроса о степени самостоятельности Лермонтова мы находим и в недвусмысленно высокой оценке, высказанной С. Шевыревым в рецензии на издание «Стихотворений М. Лермонтова» (1840), которую Ц. Балталон даже цитировал в своей полемике с Брайловским, доказывая подражательный характер «Песни про купца Калашникова»9: «Первое стихотворение, в котором стихотворец-протей является во всем блеске своего дарования, есть, конечно, Песня про удалого купца Калашникова (1837) — мастерское подражание эпическому стилю Русских песен, известных под именем собирателя их Кирши Данилова. Нельзя довольно надивиться тому, как искусно поэт умел перенять все приемы Русского песенника. Очень немногие стихи изменяют стилю народному. Не льзя притом не сказать, что это не набор выражений из Кирши, не подделка, не рабское подражание, — нет, это создание в духе и стиле наших древних эпических песен. Если где свободное подражание может взойти на степень создания, то конечно в этом случае: подражать Русской песни, отдаленной от нас временем, не то что подражать поэту, нам современному, стих которого в нравах и обычаях нашего искусства. К тому же содержание этой картины
- 267 -
имеет глубокое историческое значение — и характеры опричника и купца Калашникова чисто народные»10.
Если отбросить в приведенных выше отзывах наших критиков и историков литературы момент чисто оценочный, то перед нами возникает во всей присущей ему сложности вопрос о степени самостоятельности произведения Лермонтова. Решение этого вопроса, как мы видели, до сих пор было представлено в русском литературоведении не только резко противоположными формулировками Ц. Балталона и С. Брайловского, но и рядом более умеренных и, пожалуй, несколько уклончивых высказываний, в которых признавался самый факт подражания, но в нем при этом энергично акцентировалось участие творческой индивидуальности поэта, которое придало «Песне про купца Калашникова» характер вполне оригинального произведения.
Вопрос о самостоятельности произведения Лермонтова, поставленный как конкретная историко-литературная проблема, допускает два способа разрешения, разумеется, нисколько не исключающих друг друга: 1) разыскание возможных биографических, бытовых, исторических и литературных (в частности специально фольклорных) источников «Песни» Лермонтова; 2) анализ языка, стиля и стиха произведения Лермонтова в сопоставлении с лексикой, стилистикой и стиховыми формами русской народной поэзии и предшествующих Лермонтову опытов литературной стилизации народного эпоса и лирики.
Первая из намеченных линий исследования представлена в нашем литературоведении рядом работ, в которых довольно обстоятельно подобран соответствующий материал. В этой области я ограничиваю свою задачу подведением некоторых итогов, которые окажутся небезразличными для окончательных выводов. Другая сторона проблемы — язык, стиль и стихосложение «Песни про купца Калашникова» в их отношении к традициям «искусственной» литературы и фольклора — до сих пор почти вовсе не подвергалась рассмотрению. Ей в основном и посвящена настоящая работа.
I
Наши биографические сведения, относящиеся к годам детства и юности Лермонтова, трудно признать сколько-нибудь удовлетворительными. Мы очень смутно и обще представляем себе круг интеллектуальных интересов, учебную программу, объем и характер ознакомления юного Лермонтова с произведениями литературы. Поэтому усилия, приложенные исследователями генезиса «Песни про купца Калашникова» к выяснению источников знакомства поэта с фольклорной песенной традицией, позволили им лишь в незначительной степени выйти за пределы материалов, собранных П. А. Висковатовым в его «Очерке жизни и творчества Лермонтова»11.
В Тарханах, где протекли детские годы Лермонтова, он мог слышать народные песни в живом исполнении у себя дома. «Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, кто во что горазд»12. Однако и в будничной обстановке обстоятельства, несомненно, благоприятствовали ознакомлению мальчика с образцами народного творчества, о чем свидетельствует насыщенный автобиографическими чертами отрывок из начатой повести, посвященной детству Саши Арбенина.
- 268 -
«Уже самое имя Арбенина, — замечает Висковатов, — столь часто встречающееся в разнородных сочинениях Лермонтова и всегда являющееся как бы прототипом свойств самого автора, дает нам право видеть в главных чертах Саши рассказ, взятый из истории детского развития самого Михаила Юрьевича. Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую»13.
«Саше было с ними очень весело, — говорится в повести, — Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятиями противуобщественными»14.
Позднее, после переезда в Москву, новым источником фольклорной поэзии оказалось для Лермонтова знакомство с домашним учителем русской словесности у Столыпиных, семинаристом Орловым. По свидетельству А. Д. Столыпина, «Лермонтов... беседовал с семинаристом и этот „поправлял ему ошибки и объяснял ему правила русской версификации, в которой молодой поэт был слаб“; ...охотно слушал он народные песни, с которыми тот знакомил его»15.
Уже в 1830 г. юный Лермонтов умел высоко ценить русскую народную песню. Он отмечает в своей тетради: «...если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. — Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская, — я не слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности»16.
Немало усилий употребляют наши исследователи, чтобы показать роль Московского университета в формировании литературных взглядов Лермонтова, в частности его интереса к истории и фольклору. Как известно, в 1828 г. Лермонтов поступил в Университетский благородный пансион, а к 1830—1832 гг. относится его пребывание в Московском университете. Среди преподавателей пансиона Висковатов упоминает А. З. Зиновьева, Д. Н. Дубенского (известного своими примечаниями на «Слово о полку Игореве»), А. Ф. Мерзлякова и Д. М. Перевощикова. «Мерзляков тем более должен был повлиять на Лермонтова, что давал ему частные уроки и был вхож в дом Арсеньевой», — прибавляет Висковатов17.
К числу возможных наставников Лермонтова П. Владимиров склонен, повидимому, отнести, кроме Мерзлякова, еще Снегирева (занимавшегося русскими народными пословицами, песнями и лубочными картинками), Погодина (пробовавшего свои силы не только в научных исследованиях, но и в художественном воспроизведении русской старины), Надеждина (впоследствии известного этнографа, издателя «Телескопа», в котором помещались статьи по русской народной поэзии), Каченовского, а среди сотоварищей Лермонтова по университету он называет Киреевского, К. Аксакова, Белинского, В. Пассека и др.18.
Все эти указания можно принять лишь с рядом существенных ограничений.
«Когда учился в университете Лермонтов, — отмечает Висковатов, — то не было уже Мерзлякова. Шевырев, приобретший на первый раз большую, но не долгую популярность, появился на кафедре немного позднее, а Надеждин начал читать лишь в 1832 году, и Лермонтов мог слушать его только в последнее полугодие своего пребывания»19.
- 269 -
«Что же касается Снегирева, то он, — по указанию П. Давидовского, — читал в университете римскую словесность и археологию, так что курсы его с русской народной поэзией имели очень мало связи, если только таковая и была»20.
Такими же оговорками приходится сопроводить соображения о влиянии на Лермонтова товарищей по университету. По словам Н. Мендельсона, «он словно не заметил в их шумной толпе К. Аксакова, Белинского, Пассека, П. Киреевского, уже в 1830 г. начавшего свой памятный труд по собиранию народных песен»21.
КУЛАЧНЫЕ БОЙЦЫ
Деревянная гравюра XVIII в.
Музей изобразительных искусств, Москва«Чтобы Лермонтов в университете был знаком с Белинским — сомнительно», — указывает Висковатов22.
«В первое время пребывания в университете Лермонтов чуждался товарищей»23.
По словам Вистенгофа, «этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и в стороне от нас, даже и садился он постоянно на одном месте, всегда отдельно, в углу аудитории у окна; по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряженным,
- 270 -
сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессора...»24.
Таким образом, как бы ни казалось убедительным предположение П. Владимирова: «быть может, Москве и Московскому университету Лермонтов по преимуществу был обязан более сериозным знакомством с русской народной поэзией, с русской историей»25, эта формулировка, в свете наших биографических сведений о Лермонтове, полностью сохраняет свой гипотетический характер, сообщенный ей самим автором.
Из позднейших сведений о жизни Лермонтова исследователи генезиса «Песни про купца Калашникова» отмечают любопытное свидетельство крестьянки села Тарханы, А. П. Ускоковой, о кулачном бое между крестьянами, который был устроен Лермонтовым в Тарханах зимой 1836 г., т. е. во время или непосредственно перед написанием «Песни»26.
Прежде чем закончить наш обзор биографических данных, привлеченных литературоведами для выяснения истории создания лермонтовского произведения, необходимо вкратце остановиться на попытке включить в рассмотрение интересующего нас вопроса факты, почерпнутые из быта современного Лермонтову общества. В «Выдержках из записной книжки» П. Мартьянова27 рассказывается следующее происшествие, имевшее место в Москве «после польской компании 1831 г.». На одной из окраин Москвы жил богатый купец с молодой, чрезвычайно красивой женой. Однажды ее увидел в церкви блестящий повеса, гусарский офицер, славившийся по Москве своими кутежами и эксцентрическими выходками. Несмотря на замкнутость и строгий надзор, под которым, по купеческим обычаям, состояла молодая красавица, гусар сделал попытку проникнуть в дом, но безуспешно: купец отказался от знакомства с ним и усилил предупредительные меры. Через некоторое время случился большой праздник, и, когда купчиха с провожатыми возвращалась из церкви домой, ее схватили, усадили в сани, запряженные лихой тройкой, и увезли. Все попытки мужа разыскать свою жену при помощи полиции оказались напрасными до тех пор, пока по прошествии трех дней та же тройка не доставила похищенную домой. Оскорбленный муж бросился жаловаться к высшим властям, но московский генерал-губернатор кн. Д. В. Голицын стал склонять купца на мировую, и тому ничего не оставалось делать, как подчиниться столь могущественному посредничеству. В одном из московских ресторанов за роскошным и многолюдным обедом состоялось «примирение». После обеда, по предложению купца, обиженный и обидчик стали играть в карты. Сначала счастье склонялось по очереди на сторону то одного, то другого. Вдруг, проиграв довольно крупную ставку, купец бросает гусару обвинение в шулерстве и дает ему пощечину. Выхватив саблю, гусар хотел зарубить оскорбителя, но его удержали. Купца отправили на съезжую, и там он написал к генерал-губернатору письмо, в котором объяснял свой поступок как мщение за нанесенное его жене бесчестие, а наутро после этого повесился. Сообщение Мартьянова заключается следующими словами: «Вот это-то печальное событие, как рассказывал мне один из товарищей М. Ю. Лермонтова, некто И. И. Парамонов, и натолкнуло поэта на мысль написать сказку о купце Калашникове, которой, конечно, дана более блестящая по содержанию форма».
Рассказ Мартьянова, как мы видим из его последнего примечания, имеет прямой целью показать источник лермонтовской «Песни про купца Калашникова». Эта обстоятельство заставляет исследователя отнестись
- 271 -
к нему с такой же сдержанностью, как и к другим аналогичным свидетельствам мемуаристов. Правда, совпадение подробностей у Лермонтова и Мартьянова не достигает такой полноты, при которой история купца и гусара приобрела бы очевидный характер нарочитого сочинительства. Но все же странно, что этот вопиющий случай, имеющий к тому же романическую подкладку, не известен нам, безотносительно к произведению Лермонтова, по мемуарам или переписке того времени. К тому же в студенческие годы Лермонтов, даже и в порыве нехарактерной для него сообщительности, не мог указать своему товарищу Парамонову историю похищения купчихи в качестве источника «Песни про купца Калашникова» по той причине, что «Песня» в то время не была написана. Таким образом, в руках исследователя остается на выбор несколько довольно шатких предположений: что указание Лермонтова касалось возникшего уже в университете (?) замысла, а не самой «Песни про купца Калашникова», либо что указание было сделано не в университетские годы, а после 1837 г., либо что со стороны Лермонтова вообще не было никакого указания, а сопоставление «Песни» с московским происшествием принадлежит самому Парамонову. Из всех этих версий сколько-нибудь вероятна лишь последняя, но она только повышает опасения в некоторой нарочитости самого рассказа, который, к тому же, мы знаем из вторых рук.
Сообщение Мартьянова вызвало попытку П. Давидовского связать данные его рассказа с фактами биографии Лермонтова и, исходя из этого, обосновать историю возникновения сюжета «Песни про купца Калашникова» мотивами личной жизни поэта. Он пишет: «Период времени между 1835 и 1837 годами в жизни Лермонтова ознаменован событием, послужившим причиною тяжелых нравственных страданий. Дело в том, что поэт, со времени пребывания своего в Московском университете, был влюблен в одну молодую девушку В. А. Лопухину. В 1835 году Лермонтов получает известие о том, что любимая девушка вышла замуж за Бахметева. Это известие сильно возмутило поэта, вызвало в нем негодование по адресу Лопухиной»28.
Далее автор подчеркивает связанные с переживаниями поэта по случаю замужества В. А. Лопухиной автобиографические черты в его повести «Княгиня Лиговская» и драме «Два брата». В последней дело кончается тем, что Лиговский увозит свою жену в деревню, где и запирает ее под строгий надзор: «Запру вас в степной деревне, и там извольте себе вздыхать, глядя на пруд, сад, поле и прочие сельские красоты, а подобных франтиков за версту от дому буду встречать плетьми и собаками... Ваша любовь мне не нужна, сударыня! Я, слава богу, не так глуп, но ваша честь — моя честь! О, я отныне буду ее стеречь неусыпно!»29.
Давидовский не замечает, что затворничество жены проектируется Лиговским в качестве репрессии за измену. Он сопоставляет приведенный отрывок с затворничеством купчихи в рассказе Мартьянова, которое вызвано специфическими обычаями купечества и предшествует вынужденному любовному приключению красавицы. В этих ситуациях Давидовский находит «значительное сходство» и делает вывод: «Лермонтову, видимо, вспоминалась слышанная им трагическая история, когда он переживал тяжелые муки по поводу выхода замуж Лопухиной»30. «Как раз тогда же, в 1836 г., — пишет Давидовский, — Лермонтов начинает работать над „Песней о Калашникове“, начинает собирать для нее материалы, наталкивается на факты из царствования Грозного или вспоминает
- 272 -
их, припоминает предносившийся ему уже в „Двух братьях“ образ купеческого дома и случившийся в нем трагический факт. Что в 1836 году он работал над „Песней“, доказывает то, что зимою Лермонтов, побывав в Тарханах, устраивает между крестьянами кулачный бой»31 (?!). «Если принять во внимание, что Лермонтов написал „ Боярина Оршу“ в 1835 году, что, следовательно, накануне тех событий, которые взволновали его душу, он уже занимался эпохой Грозного, то для нас станет ясно, почему поэт перенес борьбу за обладание любимой женщиной, имевшую трагический конец, в эпоху Грозного, где он, как мы видели, находил параллели и слышанному им рассказу, и отчасти постигшему его удару. Тогда же у него, лихого кавалериста, могли возникнуть мысли о том, как выйти из создавшегося положения дел, могла мелькнуть мысль о борьбе за потерянную Лопухину, о борьбе последней, страшной, тем более, что он, как натура молодая, страстная, пылкая, никогда не чуждался этой борьбы, никогда не отступал перед препятствием без боя. По крайней мере мысль о дуэли, о борьбе за предмет любви встречается в драме „Два брата“»32.
«Если же он занимался эпохой Грозного, то неудивительно, что у него появилась мысль свести соперников на смертном бою, на бою кулачном, которые устраивались в Москве, судя по народным песням»33.
«Итак, — подводит итоги Давидовский, — замужество Лопухиной, послужившее причиной страданий Лермонтова и вызвавшее два его произведения, сыграло решающую роль и в создании „Песни о Калашникове“ — оно натолкнуло поэта на сюжет»34.
Необходимо отметить, что мысль Давидовского сопоставить «Песню про купца Калашникова» с интимными переживаниями Лермонтова, вызванными замужеством В. А. Лопухиной, и связать их при помощи двух посредствующих звеньев — драмы «Два брата» и рассказа Мартьянова, является крайним выражением наивного биографизма, неоднократно проявлявшегося в русском литературоведении. Никаких специальных аргументов концепция Давидовского для своего опровержения, повидимому, не требует.
Гораздо более скромное и в то же время убедительное впечатление производят исторические материалы, подобранные исследователями в качестве параллелей к «Песне про купца Калашникова». В цитированной выше работе П. В. Владимиров приводит из «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина «упоминание из эпохи Иоанна Грозного о чиновнике Мясоеде Вислом, который имел прелестную жену: ее взяли, обесчестили, а мужу отрубили голову»35.
П. Давидовский36 пополняет этот материал следующей выдержкой из «Истории» Карамзина: «В июле месяце 1568 года, в полночь, любимцы Иоанновы, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной с царскою дружиною вломились в домы ко многим знатным людям, дьякам, купцам; взяли их жен, известных красотою, и вывезли из города. В след за ними, по восхождении солнца, выехал и сам Иоанн, окруженный тысячами кромешников. На первом ночлеге ему представили жен: он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам, ездил с ними вокруг Москвы...; возвратился в Москву, и велел ночью развести жен по домам: некоторые из них умерли от стыда и горести»37.
Эти цитаты полезны и нужны, конечно, не для того, чтобы, подобно Владимирову, доказывать, что «Лермонтов пользовался „Историей“ Карамзина для своей „Песни о Калашникове“»38. Лермонтов, бесспорно,
- 273 -
читал «Историю» Карамзина независимо от своих литературных замыслов, а факты, подобные приведенным выше, крепко западают в память на всю жизнь даже без напоминаний такого типа, как мартьяновская история. Точного сюжетного совпадения с Карамзиным (так же как и с Мартьяновым) у Лермонтова нет, но без знания таких фактов, какие приведены у Карамзина, «Песня про купца Калашникова», разумеется, не могла возникнуть.
КУЛАЧНЫЕ БОЙЦЫ
Фарфор Гарднера, 1840-е гг.
Музей фарфора, Кусково«Сюжет „Песни“, — пишет Владимиров, — нельзя назвать строго историческим. В истории времени Иоанна Грозного — единственного исторического лица в поэме Лермонтова — мы не находим ни опричника Кирибеевича из семьи Малютиной, ни купца Калашникова. „Песня“ не связана также и с теми историческими событиями эпохи Иоанна Грозного, которые воспеваются народными песнями, как взятие Казани, покорение Сибири, или даже как женитьба царя и отношения его к сыну. Сюжет „Песни“ представляет вымышленную быль, повесть, нарисованную на фоне эпохи Иоанна Грозного»39.
Таким образом, для произведения Лермонтова характерен не историзм имен и событий, а историзм в воссоздании быта и колорита эпохи. «Песня про царя Ивана Васильевича», по замечанию Владимирова, «выделяется из всех произведений Лермонтова замечательным воспроизведением русской народной поэзии и русского быта XVI в.»40.
- 274 -
В связи с этими наблюдениями приобретает особый интерес то обстоятельство, что источником Лермонтова в обрисовке личности Ивана Грозного оказывается не научная историография того времени, а фольклор — так называемые «исторические песни». По словам Владимирова, «в изображении Ивана Васильевича Лермонтов следовал не Карамзину, а русским народным песням»41. Это заявление получает дальнейшую детализацию во второй части работы П. Давидовского. «По Карамзину, — говорит он, — Иоанн — это тигр, который „упивался кровью агнцев“, это „неистовый кровопийца в летах мужества и старости“, словом, Карамзин лишает его всякого нравственного достоинства, допуская лишь, что он только в крайностях зла является как бы призраком великого монарха»42.
Ряд исторических романов первого пятилетия 30-х годов XIX в. целиком воспроизводит взгляды Карамзина на личность Грозного.
«Лермонтов же оказался в стороне от господствовавших литературных и исторических воззрений, и потому необходимо искать других источников, откуда он мог почерпнуть данные для освещения личности Грозного. Таким источником явились для него народные песни»43.
«Если пересмотреть исторические песни об Иоанне Грозном, то мы увидим, что в них нет такого безапеляционного приговора над царем, какой был вынесен нашим историком, что образ Грозного здесь более всесторонен... Правда, народные песни знают и о казнях Грозного, знают об убийстве им сына, но они же отмечают и способность царя к раскаянию, отмечают его отходчивость... Эта-то отходчивость царя, его справедливость вместе с крутостью и частыми вспышками гнева и роднит образ Грозного народных песен с образом его у Лермонтова, заставляя предполагать, что Лермонтов примкнул в данном случае к народному воззрению на Грозного»44.
Переходя к обзору фольклорных источников «Песни про купца Калашникова», выявленных в работах, посвященных ее генезису, следует констатировать, что влияние народной поэзии в более ранних произведениях Лермонтова оказывается довольно ограниченным и неглубоким. В характеристике нескольких произведений 1829 г., рассматриваемых П. Владимировым (напр., «Русская мелодия»), ему приходится отметить, что в это время Лермонтов «еще далек от народно-поэтического стиля». В стихотворении того же года «Преступник», «несмотря на то, что выступает, „атаман честно̀й“, народно-бытового элемента нет, если не считать двух-трех выражений: „добрых молодцов“, „волюшки“... ...В 1829 году Лермонтов набрасывает отрывок „Олег“ совершенно в стиле „Дум“ Рылеева... Замышляя в этом „Олеге“ „начертать времен былых простую повесть“, Лермонтов не владел еще ни формой, ни содержанием народно-былевых созданий»45.
Едва ли значительно продвинулось усвоение Лермонтовым народно-поэтического стиля и в его стихотворении «Атаман» (1831), которое является переложением песни о Степане Разине, утопившем в Волге свою любимую красавицу. «Мы найдем тут, правда, „атамана честно́го“, „доброго молодца“, „Волгу широкую“, „дорогу столбовую“, „дубовый стол“, но, — замечает Н. Мендельсон, — все это шаблонно, не ярко, дышит условностью...»46.
Среди произведений этого времени особое положение занимает «Песня» 1830 г.: «Что в поле за пыль пылит», которая была опубликована в 1875 г. и, видимо, предназначалась Лермонтовым для помещения в задуманной
- 275 -
им поэме или драме «Мстислав»47. Эту песню некоторые исследователи рассматривали как попытку художественной обработки или «пересказ» народной песни. «Надо думать, — возражает Н. Мендельсон — что, осуществись замысел „Мстислава“ в те годы, к которым относятся наброски его плана, народная песня явилась бы там в обработанном виде, но то, что мы читаем теперь под именем „Песни“ Лермонтова 1830 г., предназначенной для „Мстислава“, отмечено чертами неподдельной народной поэзии, стоит резко-одиноко среди аналогичных произведений того же периода и, по всей вероятности, представляет выписку из какого-нибудь песенного сборника, или запись, сделанную поэтом со слов какой-нибудь нянюшки»48. Необходимо, однако, добавить, что и наличие подобной записи в рукописях Лермонтова само по себе является весьма показательным.
К наброску плана «Мстислава», кстати, относится любопытное наблюдение Владимирова: «Сюжет драмы „Мстислав Черный“ заканчивается, подобно „Песне“ о Калашникове, смертью бойца, который „умирая просит, чтобы над ним поставили крест и чтобы рассказали его дела какому-нибудь певцу, чтобы этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков“»49.
В стихотворениях 1831 г. «Атаман» и «Воля», из которых последнее вошло в неоконченную историческую повесть Лермонтова «Вадим», мы сталкиваемся с разработкой мотивов так называемых «разбойничьих песен», которые, повидимому, вызывали стойкий интерес поэта и сыграли позднее немалую роль в создании «Песни про купца Калашникова». Этот интерес дал ощутительные результаты уже в упомянутой повести Лермонтова «Вадим» (1832). «На фоне мелодраматической любовной истории Вадима здесь разбросан ряд живых народных сцен, картинок из крепостного быта, из жизни казачества. Их колоритный народный язык и теперь останавливает внимание и показывает, что юноша-поэт вполне овладел народной речью. Повесть обвеяна поэзией народных преданий и разбойничьих песен»50. «В главе XIII Ольга поет песенку („Воет ветер, светит месяц“), напоминающую народные песни о разлуке молодца с девицей. Поет песню и казак (гл. XIV), „беззаботно бросив повода и сложа руки“»51.
«Близким предвестием „Песни про купца Калашникова“ служит, — по замечанию Н. Мендельсона, — „Боярин Орша“ (1835—1836)». Правда, и в этой поэме Владимирову, а за ним и Мендельсону приходится отметить такую «незначительность исторического и народно-бытового элемента»52, что «Лермонтов впоследствии смело мог переносить из нее целые строфы в „Мцири“, но в общем замысле ее чувствуется нечто от народных песен о Ваньке-клюшнике, а в первых стихах мы встречаем и Грозного, осыпающего милостями любимого боярина, дающего ему „с руки своей кольцо, наследие царей“, и упоминание об опричнике, „огорчившем“ Оршу»53.
Разыскания фольклорных текстов, которые в той или иной степени могли послужить Лермонтову материалом для «Песни про купца Калашникова», были гораздо более успешными, чем изложенные выше биографические, исторические и историко-литературные исследования ее источников. Правда, и посейчас остается неясным, какие конкретные песенные сборники, кроме «Древних российских стихотворений» Кирши Данилова, были знакомы Лермонтову, но при всей желательности собирания подобных
- 276 -
сведений это не означает, что исследователю следует отказаться от использования фольклорных текстов, собранных и изданных после 1837 г. — времени создания лермонтовской «Песни». Позднейшие, несравненно более богатые и доброкачественные фольклорные собрания XIX в. хоть до некоторой степени могут компенсировать историка литературы за невозможность восстановить устные, живые источники народной песни, использованные Лермонтовым, быть может, в довольно широком масштабе.
Форма эпической песни, которую Лермонтов избрал для своего произведения, подчеркнута прежде всего ее изложением от лица гусляров-скоморохов, начинающих «Песню» «запевкой» и заканчивающих ее традиционным «славлением» боярина, боярыни и «всего народа христианского». Кроме того, отдельные главы54 (первая и вторая) замыкаются одной и той же короткой самостоятельной концовкой, также адресованной боярину и боярыне. Образцы таких зачинов и припевок Владимиров указывает в песнях о Госте Терентьище и о Михаиле Скопине из сборника Кирши Данилова: «садитесь на лавочки, поиграйте в гусельцы и пропойте-ко песенку», или:
То старина, то и деянье,
Как бы синему морю на утишенье,
А быстрым рекам слава до моря,
Как бы добрым людям на послушанье,
Молодым молодцам на перениманье,
Еще нам веселым молодцам на потешенье,
Сидючи в беседе смиренныя,
Испиваючи мед, зелено вино;
Где-то пиво пьем, тут и честь воздаем
Тому боярину великому
И хозяину своему ласкову55.И Владимиров и Мендельсон единодушно подчеркивают, что эти припевки гусельщиков и вообще следы песенных приемов гусляров-скоморохов встречаются преимущественно в песнях об Иване Грозном.
«Песня» Лермонтова, как известно, начинается изображением царского пира, мрачного настроения Кирибеевича и вопросами царя, заключающими в себе подозрение в злом умысле и угрозы. Ряд критиков и исследователей (Белинский, Висковатов, Владимиров, Давидовский, Мендельсон) указывает параллели к этой картине в песне о Мастрюке Темрюковиче из «Древних российских стихотворений» Кирши Данилова. Во время царского пира в палатах белокаменных «все князи, бояра, могучие богатыри... пьют, едят, потешаются..., а един не пьет, да не ест царской гость дорогой Мастрюк». Перед боем Мастрюк хвастает: «на ладонь их посажу, другой рукою раздавлю»56. По другим вариантам песни о Мастрюке, известным из «Песен, собранных П. В. Киреевским»57, «царь обращается к гостю: „уж ты гой еси, мой любимый гость... не зло ли ты думаешь, не лихо ли складываешь?“. Царю докладывают, что Мастрюк хочет побороться. Но в Москве борцов не случилося. На клич выходят два брата родимые, по некоторым песням — два калашничка, или два брата, дети-то Кулашниковы (эти прозвища бойцов напоминают и прозвище героя Лермонтова — Калашникова)»58.
Впрочем, «то же имя встречается и в песне, записанной Деминым в Калужской губернии:
У нас есть бойцы,
Удалые молодцы
Они люди Калашниковы...»59.
- 277 -
В песнях о Мастрюке Владимиров отмечает также следующее обращение «удальца-бойца» к «сопротивнику»:
Ой ты гой еси, крестьянский сын!
Выходи скорей на борьбу со мной,
На борьбу со мной последнюю,
Что последнюю, драку смертную!60.В одной из песен о Кострюке, вошедшей в «Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга, имеется еще одна любопытная параллель к «Песне» Лермонтова, заключающаяся в разрешении
Ездить по иным городам и ярмонкам
Торговать всё товарами разныма,
Без дани, без пошлины,
Без государевой подати61.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок В. Шварца, 1862 г.
Третьяковская галлерея, МоскваНеобходимо отметить, что против изложенных попыток сближения опричника Кирибеевича с Мастрюком Темрюковичем выступил с развернутой критикой Ц. Балталон. С некоторыми его возражениями, как, например, с указанием, что «хвастовство перед боем — обычный эпический прием описания»62, трудно не согласиться. Основные аргументы Балталона сводятся к тому, что в Мастрюке «главной темой... служит вопрос национальный, и в ней Мастрюк — татарин, чужак». Далее «роль, которую играет Мастрюк в самой песне, совершенно противоположна той, которая дана Кирибеевичу в „Песне“ Лермонтова. В народной песне сам царь подговаривает двух московских бойцов, поборовши Мастрюка, раздеть его до нага и „нагого с круга спустить“ для потехи и посрамления татарина». И, наконец, «Темрюкович не только не называется
- 278 -
опричником, но и не состоит вовсе на службе царской, не угождает царю, подобно Малюте Скуратову»63. Мы видим, что возражения Балталона направлены против общих сюжетно-тематических сопоставлений Мастрюка с «Песней» Лермонтова. Такого рода попытки были бы действительно малоплодотворными, но в собранных материалах мы имеем параллели к Лермонтову лишь в отдельных мотивах, ситуациях и даже оборотах речи. Эти параллели критикой Балталона, повидимому, нисколько не поколеблены.
Богатый фольклорный материал подобран исследователями к третьей главе «Песни про купца Калашникова». По указанию Владимирова, «существенной частью песен являются спросы царя и ответы молодца, причем царь, как и у Лермонтова, хвалит молодца за умелый ответ и с иронией жалует его казнью; иногда присоединяется и милость царя родным молодца — торговать безданно, беспошлинно. Казненного молодца, по его желанию, хоронят промеж трех дорог, ставят над могилою крест, и прохожие люди останавливаются перед этой могилой и крестом»64.
В песне, записанной Н. С. Кохановской, мы читаем:
Повели младца в каменну Москву,
Ко Грозну царю.
Как и стал царь младца спрашивати
И допрашивати:
«Ты скажи, скажи, вдалый молодец,
Ты за что вбил мово подручника,
Молодого мово опричника?». —
— Я скажу тебе, православный царь.
Я за что убил зла Татарченка:
Я убил его за дурны дела...65.Естественно напрашивающейся параллелью к картине допроса Калашникова Иваном Грозным является известная разбойничья песня «Не шуми, мати зеленая дубровушка» из Чулковского песенника66, которую Лермонтов, как остроумно указывает Давидовский67, мог знать и из «Капитанской дочки» Пушкина, изданной в 1833 г.:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.Приготовления к казни Калашникова у Лермонтова могли быть навеяны следующим описанием в песне из собрания Чулкова:
Что по той ли по широкой по дороженьке
Как ведут казнить тут добра молодца...
Перед ним идет грозен палач,
Во руках несет остер топор,
А за ним идут отец и мать,
Отец и мать, молода жена68.Отчасти на изображении приготовлений к казни могли сказаться, как отмечает Давидовский69, и некоторые подробности соответствующей картины в «Полтаве» Пушкина.
Прощание Калашникова также находит ряд параллелей в фольклоре.
Из Чулковского сборника:
Ах прости, прости, мир и народ божий,
Помолитеся за мои грехи,
За мои грехи тяжкие70.
- 279 -
Из «Сказаний русского народа» Сахарова:
Вы, друзья братья, товарищи,
Поклонитесь моей молодой жене,
Молодой моей горькой вдовушке,
Малым детушкам, горьким сиротам71.Из собрания Рыбникова:
Как взвел князя на сруб высок,
На его место показанно,
Он молился Спасу чудному образу,
Он на все стороны низко кланялся72.Наконец, значительную близость к предсмертному наказу Калашникова отмечает Владимиров73 в следующем песенном «завещании», приписываемом Степану Разину:
Схороните меня, братцы, между трех дорог:
Меж Казанской, Астраханской, славной Киевской;
В головах моих поставьте животворный крест,
Во ногах моих положьте саблю вострую.
Кто пройдет или проедет — остановится,
Моему ли животворному кресту помолится,
Моей вострой, вострой сабли испужается74.Или в «Сказаниях русского народа» И. Сахарова (I, 206):
Буде стар человек пойдет — помолится...
Буде млад человек пойдет — в гусли наиграется.В заключение необходимо отметить и одну погрешность в бытовых деталях, которая обнаружилась при сличении «Песни» Лермонтова с фольклором.
«Можно заметить даже неточность против обычаев русской старины, сохранившихся и в современном народном быту, в изображении Лермонтова замужней женщины:
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою цалуются.В день свадьбы, как известно, косу русую расплетали у девицы, и, замужняя, она уже не могла красоваться русой косой, — почему в свадебных песнях и встречаются мотивы оплакивания косы — девичьей красы»75.
Собранные в нашем обзоре сведения о фольклорных материалах, которые могли быть использованы Лермонтовым при создании «Песни про купца Калашникова», следует, повидимому, признать весьма показательными для оценки творческих приемов Лермонтова. Они вводят нас в ту атмосферу фольклорных традиций, которой дышал Лермонтов в пору создания своей «Песни», и наглядно иллюстрируют глубину усвоения поэтом этих традиций. Но в то же время перед нами вырисовывается еще одна существенная черта. Взятые в целом, материалы, которые были рассмотрены нами, с достаточным основанием могут быть названы источниками «Песни про купца Калашникова». В отдельности же каждая из приводимых параллелей требует какого-то комментария и оговорок, ограничивающих полноту сопоставления. При большом сходстве отдельных ситуаций, мотивов, даже оборотов речи ни один из приведенных
- 280 -
образцов народной поэзии не допускает его прямолинейного отождествления с соответствующим отрывком из «Песни» Лермонтова. Особенно здесь следует подчеркнуть отсутствие точных словесных совпадений, за исключением обычных эпических формул, вроде традиционного обращения: «Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич». Такие словесные параллели, какие указывает Владимиров, как, например: «свадебкой», «седелечко черкесское», «испужалися»76, производят впечатление искусственности и натянутости, так как, пользуясь народным языком, Лермонтов и не мог говорить иначе. Попытки во что бы то ни стало найти точные словесные параллели к лермонтовской «Песне» приводят к таким до комизма скромным результатам, как у Висковатова: «В былине „Иван Годинович“ мы встречаемся с именем: Настасья Дмитриевна, напоминающим Алену Дмитриевну у Лермонтова»77.
Приемы «заимствований» Лермонтова как нельзя лучше могут быть показаны на одной фольклорной параллели, которая, кстати, не была отмечена никем из исследователей генезиса «Песни про купца Калашникова». В припевках, замыкающих первую и вторую главы «Песни», в уста гусляров-скоморохов вкладываются следующие звонкие и «складные» стихи:
Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!В последнем из приведенных стихов нетрудно различить пословицу «пей, да дело разумей», которая, как известно, вошла также в басню Крылова «Музыканты». Но у Лермонтова она, оставаясь внешне почти неприкосновенной, изменена до неузнаваемости. Не только единственное число в глагольных формах заменено множественным, но, что важнее всего, уничтожено словечко «да», на котором держится весь смысл пословицы, основанной на противоположении ее частей. Зато осталась в целости внутренняя рифма «пейте — разумейте», которая единственно и нужна была Лермонтову для того, чтобы его припевка была не менее «складной», чем у заправского гусляра-скомороха:
Где-то пиво пьем, тут и честь воздаем.
Потому-то Лермонтов и оказывается неуловимым, когда его пытаются «поймать» на заимствовании, что он «не заимствовал, а свободно воспринимал и претворял в своем поэтическом сознании элементы народной поэзии, так им усвоенные, что вошли в плоть и кровь его творчества, создали новую форму, новый вид его»78.
И если отыскание литературных параллелей узаконено обычаями в качестве неизбежного компонента историко-литературного анализа, то относительно произведения Лермонтова наиболее близким к истине будет решение, что не отдельные фольклорные отрывки, подобранные исследователями, а вся сокровищница русской народной поэзии в ее наиболее жизненных чертах является «параллелью» к «Песне про купца Калашникова».
II
Прежде чем приступить к рассмотрению лексики, стилистических средств и стихосложения в «Песне про купца Калашникова», а также в стилизациях народного стиха у предшествующих Лермонтову поэтов, необходимо подчеркнуть, что эти разделы мыслятся в настоящей работе
- 281 -
не как механическая последовательность глав, соответствующих нескольким самостоятельным проблемам, а как единая проблема, которая, будучи раздробленной на изолированные части, не может быть разрешена.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок В. Шварца, 1862 г.
Третьяковская галлерея, МоскваВ сравнительно немногочисленных экскурсах, посвященных до сих пор русской фольклористикой вопросам народной поэтики, уже успел выработаться своего рода стандарт, требующий от исследователя рассмотрения некоторых специфических и характерных форм народно-поэтической речи, как, например, символика животных, птиц и растений, отрицательные сравнения, постоянные эпитеты и т. п., а также отдельных элементов звуковой структуры, как, например, звукоподражание и звукопись, внутренние рифмы, клаузулы. В то же время подразумевается существование в разделе поэтики фольклора как бы самостоятельной главы, трактующей вопросы метрической организации народной поэзии или, точнее, ее ритмики. Такое разделение, при всей своей кажущейся стройности, в корне неправильно, и оно привело к тому, что ритмическое строение народного стиха, которому русские филологи посвятили немало работ, остается одним из самых неясных и запутанных отделов нашей теории литературы. Разностороннее рассмотрение вопросов стихосложения русского фольклора, разумеется, не входит в задание настоящей работы, а потому за деталями и доказательствами я вынужден отослать читателя к моим статьям на эту тему, которые появились в печати79. Но
- 282 -
некоторые общие положения, необходимые для понимания принципов, положенных в основу анализа «Песни про купца Калашникова», я вынужден здесь вкратце изложить.
В нашем литературоведении существуют три основные концепции русской народной ритмики: 1) силлабо-тоническая, или стопная, 2) музыкально-тактовая и 3) тоническая.
Попытка приложить стопы к русскому народному стиху, т. е. приравнять его, по крайней мере теоретически, к русской силлабо-тонике, принадлежит первому теоретику силлабо-тонического стиха в России, В. К. Тредиаковскому. Он сделал опыт разложения народно-песенных текстов на стопы, перенеся в эту область приемы членения поэтической речи на ритмические единицы, применявшиеся к обыкновенному «литературному» стиху. Аналогия, однако, оказалась неполной, а попытка в целом неудачной, так как русская народная ритмика лишена схематизма, и вместо одной основной стопы, как в стихотворении, написанном по правилам силлабо-тонической метрики, ее анализ потребовал приложения ряда разнородных стоп. Тем самым стопа в качестве принципа схематизации ритма потеряла, применительно к русскому народному стиху, всякий смысл, и усилия некоторых теоретиков XIX в. реставрировать это понятие в теории народной ритмики ни к каким результатам не привели.
Музыкально-тактовая теория ритма русского фольклора, наиболее последовательно представленная в работах акад. Ф. Е. Корша, исходит из идеи неразрывности словесных текстов народной песни с ее напевами. Из этой неразрывности сторонники музыкального истолкования народно-песенной ритмики делали вывод, что народный стих не существует как самостоятельная величина, а подчинен «общим законам музыкального ритма», которые управляют песенными напевами. Под «общими законами музыкального ритма» наши теоретики стиха подразумевали схемы музыкального такта, и вся их дальнейшая «исследовательская» работа свелась к прилаживанию текстов из различных фольклорных сборников к тактовым схемам. Эти последние рассматривались как универсальный ключ не только к анализу ритмической структуры народного стиха, но и к «восстановлению» ритма текстов, утерявших свой напев. Большое теоретическое недоразумение, кроющееся в музыкально-тактовой теории народного стиха, уже в самую пору ее изобретения могло быть устранено, при условии осведомленности ее авторов в литературе вопроса. Русскими музыкантами уже тогда было доказано, что характерной особенностью музыкальной ритмики русских песенных напевов является отсутствие в них тактового схематизма. Ритм русской народной песни в руках теоретика, навязывающего ей такты западно-европейской музыки, тем самым коверкается и разрушается, а потому музыкальное обоснование тактовой интерпретации русского народного стиха лишено научного значения.
Гораздо более наукообразной была разработка третьей — тонической — теории фольклорного стиха, которую предложил А. Х. Востоков, один из создателей русской филологической науки. Востоков не пытается схематизировать русский народный стих и выдвигает в качестве его ритмической единицы «прозодический период», в котором число неударяемых слогов является величиной переменной. Самое понятие «прозодического периода» было извлечено Востоковым из анализа ударений и слогового состава современного разговорного языка. Вкратце его теория сводится
- 283 -
к следующему. Словесные ударения кажутся нам равноценными лишь до тех пор, пока мы имеем дело с изолированными словами, вырванными из речевого потока. В процессе речи, как указывает Востоков, «сливаясь одни с другими как бы в один состав, теряют они либо усиливают свое ударение на счет близстоящих»80. Вот эти-то групповые или фразовые (или, как их часто называют, «логические») ударения, усилившиеся за счет близстоящих, Востоков и считает тем тоническим стержнем «прозодического периода», вокруг которого группируется переменное количество неударяемых слогов. Русский народный стих, по Востокову, измеряется не стопами, не слогами, а «прозодическими периодами», т. е. групповыми, фразовыми ударениями, число которых из стиха в стих остается неизменным. Неударяемые же слоги, разделяющие эти ударения, не учитываются, и Востоков совершенно исключает их из принадлежащей ему ритмической характеристики народного стиха.
Одним из существенных достижений Востокова необходимо признать отсутствие нарочитого схематизма в его определениях народной ритмики, который составляет основной порок уже рассмотренных нами теоретических опытов. Очевидно, ему же должны мы приписать чрезвычайно важное наблюдение, что в народном стихе ударяемые слоги отделены друг от друга бо́льшим числом неударяемых слогов, чем в двух- и трехсложных стопах «литературного» стихосложения, так как «прозодический период» Востокова является более крупной ритмической единицей, чем упомянутые стопы. Но все же и с этой концепцией народного стиха далеко не все обстоит благополучно. Так, сам Востоков, исключивший неударяемые слоги из числа определителей фольклорной ритмики, квалифицирует обычную в народной поэзии вставку неударяемых частиц «да», «а», «то» и т. п. как вызванную требованиями «меры стиха». Далее, групповые ударения разговорного языка неоднородны, и в процессе речи некоторые из них получают преобладание над другими, значительно различаясь между собой по силе. Это лишает групповые ударения соизмеримости, которая необходима для того, чтобы принять их в качестве единицы измерения стихотворного ритма. Но наиболее важным обстоятельством, свидетельствующим против теории Востокова, является то, что, с одной стороны, многие песни явно различаются по ритму, а между тем состоят из равного числа «прозодических периодов», с другой — что несоблюдение равенства числа групповых ударений из стиха в стих представляет в народной поэзии достаточно заурядное явление. Иными словами, принципы Востокова в некоторых случаях оказываются недостаточными для определения ритма фольклорного стиха, а в других становятся в противоречие с исследуемым им материалом. Однако основная ошибка Востокова кроется в самом замысле, а не в деталях его исследования. Поэтому для ее устранения требуются не частичные поправки, а радикальный пересмотр его теории. При всей плодотворности попытки Востокова обосновать особенности данной стихотворной системы фактами языка, проведенная им аналогия между современной разговорной речью и языком русской народной поэзии была глубоко неправильной. Не аналогия, а противопоставление должно быть положено в основу подобного изучения.
К числу наиболее заметных отличий народно-поэтической речи от современного разговорного языка с точки зрения соотношения ударяемых и неударяемых слогов относится чрезвычайно богато представленная в русском фольклоре категория энклитик и проклитик, т. е. слов, которые
- 284 -
не несут ударения или теряют свое ударение в пользу предшествующего или последующего слова. В современном языке, помимо чисто служебных слов и частиц, энклитики и проклитики представлены главным образом перенесением ударения с существительного на предлог (напр., по́ миру, и́з лесу, на́ голову) и, значительно реже, с глагола на отрицание (напр., не́ было, не́ дал). Надо думать, что эти формы, вероятно, имели в древнерусском языке гораздо большее распространение, чем в языке нашего времени. Те энклитики и проклитики, которые не успели прочно закрепиться, слившись в одно слово (напр., изморозь, накипь, сослепу, наскоро, нехотя и т. п.), видимо, вымирают. Наряду с энклитическими формами (напр., «по́ мосту», «не́ взял») нередко параллельно существуют и становятся все более употребительными те же сочетания с ударениями на существительном или на глаголе («по мо́сту», или «по мосту́», «не взя́л»), при которых предлог и отрицание трактуются как служебные неударяемые частицы. При этом наиболее живучими оказываются, повидимому, те энклитики и проклитики, которые, подобно приведенным выше примерам (по́ полю, и́з лесу, за́ морем), являются особенно употребительными и привычными. Совершенно правильно построенные энклитики, которые, однако, редко или вовсе не употребляются, кажутся нам странными и неправильными (напр., ко́ сну, и́з книг, о́т школы, за́ рощей, не́ знал).
Совершенно иную картину мы имеем в русском фольклоре. Огромное количество энклитик и проклитик, и притом в таких формах, которые недоступны современному русскому литературному и разговорному языку, составляет отличительную особенность народной поэзии. Чтобы оценить их значение для определения акцентной системы народно-поэтической речи, достаточно припомнить такие употребительные в фольклоре сочетания, как: «Черни́гов-град», «Влади́мир-князь», «роду-пле́мени», «господу́-богу», «белы-ка́менны», «дани-вы́ходы», и формы, в которых одновременно совмещаются энклитика и проклитика: «стольнё-Ки́ев-град», млад-яс{ё'}н-сокол» и т. п.
Особенно заметную категорию среди энклитических разновидностей народной речи составляет сочетание кратких форм прилагательных с существительными, которые объединяются общим ударением в тесно спаянную слоговую группу, напр., «ретиво́ сердце», «бел горю́ч камень» и т. п. Такого рода сочетания получили широкую известность в опытах стилистического анализа народной поэзии под именем «постоянных эпитетов», и, надо думать, именно постоянство, привычность данного сочетания оказались здесь, как и в современном разговорном языке, фактором, способствовавшим лучшему сохранению той или иной энклитической формы. Другой тип энклитик и проклитик народной речи — тавтологическое или синонимическое соединение глаголов — не мог образовать таких устойчивых формул, как постоянные эпитеты, и потому хуже сохранился, но и он является весьма характерным для народно-поэтического языка: «сто́й-постой», «ходи́л-гулял», «светит-гре́ет», «воспои́л-вскормил» и т. п.
Из приведенных выше примеров нетрудно убедиться, что рассмотренные нами речевые формы русской народной поэзии не только определяют ее стилистическую систему, но являются в то же время элементами, созидающими своеобразную фонетическую структуру языка фольклора. В энклитиках и проклитиках народной речи происходит объединение двух, а иногда и трех слов под одним ударением, и вместо двух или трех ударений, как это было бы в современном русском языке, на тот же слоговой
- 285 -
ИЛЛЮСТРАЦИИ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок А. Шарлеманя, 1865 г.
Местонахождение оригинала неизвестносостав приходится лишь одно ударение. Но энклитики и проклитики, особо характерные для русской народной поэзии, являются далеко не единственным фактором, способствующим повышению числа неударяемых слогов, объединенных одним ударением. Легко проследить прирост неударяемых слогов на ряде других специфических оборотов народного языка и стиля. Среди них прежде всего необходимо назвать прилагательные с древними полными окончаниями и позднейшие формы, образованные по аналогии с ними (напр., «княженецкоей», «синиим» вместо «княженецкой», «синим»). Появление лишнего слога по сравнению с современным разговорным языком мы находим в глагольном инфинитиве на «ти» вместо «ть» (напр., «выспрашивати» вместо «выспрашивать») и в возвратных формах глаголов на «ся» вместо «сь» (напр., «напивалися» вместо «напивались»). Такой же прирост слогового состава речи сопутствует и обильному употреблению в народной поэзии ласкательных, уменьшительных и увеличительных форм существительных, прилагательных,
- 286 -
а также собственных имен (напр., «солнышко», «силушка», «головушка», «могилушка», «половинушка», «морюшко», «дороженька», «благословеньице», «раздольице», «малёшенько», «глупёшенько», «Идолище», «Каличище-Иванище», «кинжалище», «Микитушка», «Добрынюшка», «Потанюшка», «Васинька» — вместо «солнце», «сила», «голова» и т. д.).
При упоминании какого-либо лица сказитель или певец редко довольствуется его именем, но полностью величает его по имени и отчеству, что является с точки зрения слогового наполнения речи довольно расточительным, так как отчества в русском языке имеют по большей части дактилическое окончание, т. е. оканчиваются двумя неударяемыми слогами (Буслаевич, Колыбанович, Плёнкович, Годинович, Никулишна, Клементьевна, Потятична, Тимофеевна и т. д.).
Вопреки обыкновению современного разговорного языка, отчества в фольклоре употребляются даже при ласкательных формах имен, которые и сами по себе, как мы видели, отличаются многосложностью. Если отчество оканчивается одним лишь слогом (напр., «Никитич»), то оно нередко искусственно дактилизируется («Никитинич») или дополняется до дактилического окончания каким-либо энклитическим словечком («Никитич-млад», «Никитич-от», «Никитич мой»). Женские отчества часто образуются не непосредственно от имени (напр., «Петровна»), а от «мужского» отчества («Петровична»), что также удлиняет их на один слог.
В народной речи, как известно, имеют чрезвычайное распространение разнообразные приставки к глаголам. Особенно характерны двойные приставки, неупотребительные в современном разговорном языке (напр., «повыгляжу», «повысмотрю», «испроломаны», «испростреляны», «призадумались», «призаслухались» и т. п.). Повторение одних и тех же предлогов также способствует увеличению междуударных промежутков, напр.:
За свое за бахвальство за ложноё,
За свое пустое за хвастаньё81.Или:
А ко стольнему ко городу ко Киеву
Ай ко ласковому князю ко Владимиру82.Употребительны в фольклоре (хотя и значительно реже) аналогичные повторения личных местоимений. К тому же разряду явлений следует отнести весьма характерную для русской народной поэзии фигуру «многосоюзия» («полисиндетон»):
А закричал тут ворон громким голосом:
Ай ты удаленький да доброй молодец:
Ай молодой боярин Дюк Степанович!
Ай не стреляй-ко меня да чорна ворона,
А я скажу тобе про поединщика,
А я скажу тобе про супротивника83.Наконец, заканчивая наш беглый обзор лексических особенностей русской народной поэзии, необходимо еще отметить употребление нашими сказителями и певцами ряда неударяемых частиц, которые, по видимому, не несут какой-либо смысловой функции и, по единодушному мнению ряда исследователей, вставляются «ради наполнения меры стиха»:
С им же он да тут прощается,
Святогор же тут же он кончается84.Или:
А да жил-то-ле Микитушка Романович;
Ище жил-то-ле Микита девеносто лет
И не с ким-то, жил, Микитушка не спаривал...85.
- 287 -
Итак, мы видим, что лексические и стилистические особенности русской народной поэзии, как бы ни были они характерны сами по себе, все же не являются изолированным и замкнутым участком поэтики русского фольклора. Наличие данного типа эпитетов, насыщенность уменьшительными или ласкательными именами, постоянное величание людей по отчествам, повторения предлогов или союзов и т. п. не только определяют круг своеобразных выразительных средств народного эпоса и лирики, но и создают особую фонетическую систему народного языка, отличную от современной разговорной и литературной речи. Нашими теоретиками стиха было в свое время выяснено, что в основе двух- и трехсложных размеров русского «литературного» стихосложения лежит некоторое «нормальное» среднее соотношение слогового состава и ударений (именно 2,8 слога), присущее вообще русскому языку. Если бы это соотношение было каким-либо иным, то, соответственно, и стиховые формы русского языка с неизбежностью должны были бы видоизмениться. В русской народной поэзии мы и имеем такую, отличную от современной, фонетическую систему языка, которая, естественно, должна воплотиться в своеобразных ритмических формах. Мы проследили наращение лишних слогов в ряде характерных и широко употребительных частных оборотов поэтических памятников нашего фольклора. Теперь мы, повидимому, имеем право формулировать общий вывод этого обзора: в народно-поэтическом языке на одно ударение приходится больше неударяемых слогов, чем в современной литературной и разговорной речи. Указанное отличие в чисто количественном выражении является весьма значительным. По произведенным мною подсчетам, основанным на прозаических записях былинных текстов, в языке русской народной поэзии на одно ударение в среднем приходится 3,8 слога. Это соотношение предрешает своеобразие ритмических типов русского народного стиха. Вместо двух- и трехсложных размеров «литературного» стихосложения в русской народной поэзии должны преобладать четырехсложные слоговые группы, при наличии в качестве вспомогательных и второстепенных, с одной стороны, трехсложных (а иногда и двухсложных) и, с другой стороны — пятисложных (и даже шестисложных) слоговых групп, которые в «литературном» стихосложении стояли бы на грани фокуса.
Но преобладающие слоговые конфигурации народной речи, составляя основу народной ритмики, лишь в сравнительно редких случаях приобретают в народном стихе строгую упорядоченность, соответствующую последовательно выдержанному схематизму. Это объясняется импровизационным характером стихосложения русского фольклора, в свою очередь связанным со специфическими условиями создания и хранения произведений устной традиции и особенностями исполнительской техники народных певцов и сказителей.
В качестве иллюстрации изложенных выше теоретических положений приведу простейшие примеры народных ритмов. Вот, например, преобладающий четырехсложный ритм русского фольклора в его обычном былинном преломлении (трехчленный стих с анапестическим зачином и дактилическим окончанием), но с некоторым, правда очень небольшим, количеством перебоев ритма (стихи, выбивающиеся из схемы, я отмечаю разрядкой):
Добрынюшки-то матушка говаривала,
Никитичу-то родненька наказывала:
- 288 -
«Ax ты душенька Добрыня сын Никитинич!
Ты походишь нунь гулять да е во Киев град,
Подь ты нунь гуляй да по всим уличкам,
И по тым же ты по мелким переулочкам,
Только не́ ходи ко сукиной Маринушки,
К той Маринушки Кайдаловной,
А Кайдальевной да королевичной,
В тую ли во частую во уличку,
Да во тот ли нунь во мелкий переулочек... и т. д.86.Другой излюбленный, хотя и реже встречающийся ритмический тип русского народного стиха — пятисложный — также почти никогда не поддается стопроцентной схематизации:
Ах ты, поле мое, поле чистое,
Ты, раздолье мое широкое!
Ах, ты всем, поле, изукрашено,
И ты травушкой и муравушкой,
Ты цветочками-василечками;
Ты одним, поле, обесчещено:
Посреди тебя, поля чистого,
Выростал тут част ракитов куст;
Что на кустике на ракитовом,
Как сидит тут млад сизой орел,
Во когтях держит черна ворона,
И он точит кровь на сыру землю... и т. д.87.В задачи настоящей статьи, разумеется, не входит описание ритмических разновидностей русского народного стиха, а потому я вынужден за недостатком места ограничиться приведенными примерами. Необходимо лишь заметить, что исчерпывающее перечисление народных «размеров» является до некоторой степени задачей неразрешимой. Бесспорно, типология основных ритмических форм фольклорного стиха может и должна быть разработана. Но импровизационный характер народного стихосложения сообщает ему такое неисчерпаемое разнообразие ритмов, что слишком прямолинейно усвоенные «описательские» тенденции к нему едва ли приложимы. Значение личности и творческой индивидуальности певца или сказителя, завоевавшее признание современных фольклористов, чрезвычайно ярко сказывается в применяемых народными поэтами ритмических приемах. Сопоставление индивидуальной техники данного певца с особенностями его языка и стиля является благодарной почвой не только для аналитического дробления материала, но и для обобщающих выводов.
Однако зависимость стиховых форм от элементов языка и стиля не только остается в силе, но, пожалуй, проявляется с еще большей остротой также в опытах литературной стилизации народного стиха. Мы видели, какие речевые и стилистические особенности русской народной поэзии создают ту особую, отличную от современной, фонетическую структуру народно-поэтического языка, которая служит основой для своеобразных форм фольклорной ритмики. Поэт, который ставит себе задание воспроизвести только народные ритмы, оставляя в стороне характерные черты народного языка и поэтического стиля, заранее обрекает свой замысел на неудачу. Литературное подражание фольклорной ритмике на лексической базе современного языка, без воспроизведения особенностей народного языка и стиля, невозможно, так как, опуская характерные черты народной речи, мы тем самым видоизменяем ее фонетическую систему и лишаемся тех преобладающих слоговых группировок, которые лежат в основе русского народного стихосложения.
- 289 -
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО
ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Акварель М. Врубеля, 1889 г.
Собрание О. Алябьевой, МоскваIII
Русский фольклор, как известно, впервые заявляет о себе в нашей литературе печатными изданиями во второй половине XVIII в. С конца 50-х годов начинают появляться в России печатные песенники, и интерес к ним вскоре оказывается настолько значительным, что уже к концу XVIII в. у нас имелись такие собрания песен, как Чулковское, Новиковское, И. Прача и др. В этом интересе, впрочем, не только отсутствует проявление каких-либо научных запросов, но даже едва ли совершается признание «образованной публикой» художественных достоинств народной поэзии. Корни его уходят еще в петровскую эпоху, когда в зарождавшейся искусственной литературе получает широкое распространение любовная песенка с ее мотивами тоски по любезной, разлуки, измены и т. п. Потребность вариировать и развивать эти мотивы приводит русских поэтов к фольклору не столько как к носителю разработанной оригинальной традиции любовной лирики, сколько как к своего рода источнику, способному обогатить необходимым материалом и порою окрылить оскудевающее вдохновение. Это наложило специфический отпечаток как на песенные сборники, так и на первые попытки литературного подражания народной лирике. В песенниках того времени произведения фольклора перемешаны с песнями литературного происхождения. О бережном отношении к фольклорным записям не только не может быть и речи, но даже более того: «приведение в порядок», «исправление» народных текстов издатели, за редкими исключениями, вменяют себе в особую заслугу. Попытки стилизации или литературной обработки народных песен, относящиеся к XVIII в., трудно отделимы от оригинальных фольклорных
- 290 -
текстов, так как последние вступали в стадию обработки чуть ли не с момента записи или, по крайней мере, приготовления ее к изданию.
Из довольно большого количества песен Сумарокова, несмотря на то, что многие из них включались в песенники (Чулковский, Новиковский), мы с большим усилием различаем две-три, в которых отдельные выражения и элементы стиля указывают на влияние каких-то фольклорных образцов, напр.:
В роще девки гуляли,
Калина ли моя, малина ли моя,
И весну прославляли,
Калина ли... и пр.
Девку горесть морила,
Калина ли... и пр.
Девка тут говорила:
Калина... и пр.
Я лишилася друга,
Калина... и пр.
Вянь трава чиста луга,
Калина... и пр.88.Здесь, в сущности, кроме довольно безличной «девки», фольклорный колорит выражается в одном только припеве: «Калина ли моя, малина ли моя», который, действительно, взят из народной песни без всяких изменений:
Ах как по лугу, лугу, по зеленому лугу,
Калина ли моя, малина ли моя,
Как шли, прошли две родны сестры,
Что большая та меньшую уговаривала... и т. д.89.Но гораздо чаще приходится угадывать стилизацию народной песни по признакам еще более косвенным, напр.:
Не грусти, мой свет, мне грустно и самой,
Что давно я не видалася с тобой.
Муж ревнивый не пускает никуда;
Отвернусь лишь, так и он идет туда.
Принуждает, чтоб я с ним всегда была;
Говорит он, от чего не весела:
Я вздыхаю по тебе, мой свет, всегда,
Ты из мыслей не выходишь никогда... и т. д.90.Последовательное пиррихирование (т. е. пропуск ударений) 1-й, 3-й и 5-й стоп употребленного здесь шестистопного хорея наводит на мысль, что автор ставил своей задачей воспроизвести характерные для народного стиха четырехсложные ритмы. Правда, тема и лексика стихотворения настолько общи и неопределенны, что не могут свидетельствовать в пользу такого его истолкования. Но, как мы увидим далее, многие писатели даже значительно позднее Сумарокова считали, что хореический размер, заполненный хотя бы и греческой мифологией, является достаточным признаком «народности» стихотворения. И с точки зрения литературных понятий XVIII в. можно было бы без труда принять в качестве подражания фольклору следующую песенку Сумарокова:
Естьли девушки метресы,
Бросим мудрости умы,
Естьли девушки тигресы,
Будем тигры так и мы... и т. д.91.Разумеется, было бы несправедливо утверждать, что в лирике XVIII в. невозможно найти образцы более глубокого усвоения традиций народной
- 291 -
поэзии. Так, например, среди песен М. Попова, кстати, участвовавшего в составлении Чулковского песенника, а позднее выпустившего и самостоятельный сборник песен, мы читаем:
Не голубушка в чисто̀м поле воркует,
Не вечерняя заря луга смочила:
Молода жена во тереме тоскует,
Красоту свою слезами помрачила,
Непрестанно вспоминая мила друга
Молодого, друга милого, супруга:
«Ты надежа, ты надежа, друг сердечный, —
Она вопит тут, и плача и вздыхая
Во жестокой своей грусти неутешной: —
Мое сердце не змея сосет лихая,
Не отрава горемыку иссушает,
Со тобой, мой свет, разлука сокрушает...» и т. д.92.При всей изысканности строфической формы секстин, при всей неуместности рифмовки этого стихотворения, сквозь оболочку чужеродных форм в нем просвечивает нечто от подлинного фольклора. Помимо излюбленных стилизаторами отрицательных сравнений, автор использовал характерную форму энклитик народно-поэтической речи: «в чисто́м поле», «молода́ жена». Шестистопный хорей, пиррихированный по той же системе, как в рассмотренной выше песне Сумарокова, напоминает народную ритмику, правда, доведенную до не свойственного ей схематизма.
С точки зрения близости к народной песне в дальнейшем развитии русской лирики далеко не всегда можно отметить поступательное движение. Песни Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Н. П. Николева, И. И. Дмитриева никогда не возвышаются до уровня, достигнутого М. Поповым. Это сентиментальные романсы, галантные любовные песенки, продолжающие традиции первой половины XVIII в. Правда, стонущие и проливающие слезы «пеночки» и «голубочки» призваны отразить здесь новые веяния:
Смолкни, пеночка любезна,
Нежной песенки не пой!
Мне теперь она уж слезна,
Милой... милой нет со мной... (Н. Николев)93.Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь.Он уже больше не воркует
И пшенички не клюет;
Все тоскует, все тоскует
И тихонько слезы льет... (И. Дмитриев)94.Строго говоря, можно было бы даже усомниться в законности сопоставления с образами фольклора всех этих пастушков и пастушек, плетущих веночки из цветочков и предающихся чувствительным излияниям и вздохам. Но нередко сами авторы дают нам соответствующие указания, подобные следующему примечанию Дмитриева: «Эта песня есть точное подражание старинной простонародной песне»95. Приведенное определение Дмитриева относится к следующим стихам:
К удалению удара
В лютой, злой моей судьбе,
Я слила б из воска яра
Легки крылышки себе
- 292 -
И на родину вспорхнула
Мила друга моего;
Нежно, нежно бы взглянула
Хоть однажды на него.
А потом бы улетела
Со слезами и тоской;
Подгорюнившись бы села
На дороге я большой... и т. д.Итак, при использовании все той же метрической формы хорея достижения авторов песенок конца XVIII в. сводятся к замене тигрес голубками и прибавлению такого количества «ярого воску», которое можно было бы признать достаточным для придания песне «местного колорита» в духе русских народных обрядов и обычаев.
Среди поэтов XIX в. гораздо более глубокое усвоение образов и поэтики фольклора мы находим у А. Ф. Мерзлякова. Его шестистопные хореи ритмически сходны с разобранной выше песней М. Попова:
Вылетала бедна пташка на долину,
Выроняла сизы перья на долине.
Быстрой ветер их разносит по дуброве;
Слабый голос раздается по пустыне!.. и т. д.96.Правда, и у Мерзлякова нередки резкие нарушения народно-поэтического стиля:
Мне не можно жить без милого тирана...
Я в слезах его читала клятву сердца...
Что лань быстра, златорогая в лесах
С робкой поступью гуляешь ты в лугах97.Такие нарушения заключаются не только в привнесении лексически чуждого элемента и несвойственной старинному фольклору манерности, но касаются самого строя языка, а следовательно, и ритмики. В стихе
Что лань быстра, златорогая в лесах
слово «лань» использовано как проклитика, утерявшая свое ударение в пользу следующего слова «быстра». Но такое употребление в народной речи кратких форм прилагательных не допускает инверсии. Чтобы объединить эти два слова под одним ударением, Мерзлякову следовало сказать «быстра́ лань». Не использовав этой формы народного языка, поэт уже ничего не мог поделать с двумя самостоятельными короткими словами, которые нужно было уложить в четырехсложный ритм. Такие искусственные сдваивания ударений, как «что лань бы́стра» или «клятву се́рдца», противоречат нормам фольклорного языка, и основанные на них ритмы заранее обречены на неудачу. Тем более книжный характер носит синтаксический оборот: «я... его читала клятву сердца» вместо «я... читала клятву его сердца». То, что Мерзляков не справился с этими трудностями, весьма показательно, так как его знакомство с народной поэзией, несомненно, было значительно выше среднего уровня того времени. Так, например, он усвоил характерное для фольклора осложнение ритмов, близких к литературному хорею, путем смещения акцента с первого слога на второй:
Полечу к любезну другу
Осеннею пташкой98.В числе других авторов XIX в., пытавшихся подражать народной лирике, заслуживает упоминания Н. Ф. Грамматин, выступивший в свое
- 293 -
время с «Рассуждением о древней русской словесности» (М., 1809). Несмотря на исследовательский стаж в области фольклора, Грамматин избрал в своей песне «Не шуми ты, погодушка» нехарактерный для лирических песен трехсложный размер (двухстопный анапест с дактилическим окончанием):
Не шуми ты, погодушка,
Не бушуй ты, осенняя.
Не волнуй Волгу-матушку!
Не клони бор к сырой земле... и т. д.99.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок В. Васнецова, 1891 г.
Местонахождение оригинала неизвестноУже в одном этом четверостишии бросается в глаза искусственность энклитики «не клони́ бор». Лексический и синтаксический строй этой песни также не свидетельствует о чуткости автора к особенностям народной речи, что можно видеть из следующих стихов:
...Пролетит быстрей сокола,
За добычей парящего,
Иль стрелы, рассекающей
Даль, пространство воздушное.Четырехсложные ритмы, подобные тем, которые были отмечены выше у Сумарокова, М. Попова и Мерзлякова (шестистопный хорей с нарочитыми пропусками ударений на 1-й, 3-й и 5-й стопах), приобретают у поэтов XIX в. довольно широкую популярность, и в них употребляются как женские, так и мужские окончания стиха или рифмы. Мы встречаем этот размер в строго схематическом виде у В. С. Филимонова («Вечёр был я в Лизаветином селе»), Д. П. Глебова («Скучно, матушка, мне сердцем жить одной»), Дельвига («Как за реченькой слободушка стоит»), Цыганова («Как за реченькой, за быстрою рекой»)100.
- 294 -
Фольклорные ритмы, основанные на пятисложных слоговых группировках, как известно, характерны прежде всего для стиха Кольцова:
Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется... и т. д.(«Урожай», 1835)101.
Высоко стоит
Солнце на небе,
Горячо печет
Землю-матушку... и т. д.(«Молодая жница», 1836)102.
Сяду я за стол —
Да подумаю:
Как на свете жить
Одинокому?.. и т. д.(«Раздумье селянина», 1837)103.
Как мы увидим далее из обзора литературных подражаний эпическому народному стиху, введение пятисложных ритмов в литературный обиход принадлежит собственно не Кольцову, а еще поэтам XVIII в. Любопытно, что им воспользовался и Д. В. Давыдов для своего романса, сочиненного «на голос русской песни»:
Я люблю тебя, без ума люблю!
О тебе одной думы думаю.
При тебе одной сердце чувствую,
Моя милая, моя душечка!Ты взгляни, молю, на тоску мою,
И улыбкою, взором ласковым
Успокой меня, беспокойного,
Осчастливь меня, несчастливого.Если жребий мой — умереть тоской,
Я умру, любовь проклинаючи,
Но и в смертный час воздыхаючи
О тебе, мой друг, моя душечка104.Правда, кроме пятисложного размера, колорит фольклора сводится здесь к деепричастным формам «проклинаючи» и «воздыхаючи». Необходимо отметить, что во всех литературных подражаниях народному пятисложному размеру, помимо общей схематизации ритма, строго выдерживается цезура, отделяющая одну пятисложную стопу от другой105. Кольцов особенно подчеркивает это, разграничивая стихи именно по цезурам своих пятисложников, в результате чего каждый его стих состоит всего из одной стопы. Между тем в подлинных народных песнях различные отступления нередко нарушают пятисложную стопу, и описанная выше цезура также сплошь и рядом не соблюдается, напр.:
Дорогая моя хорошая
Ты душа ль моя красна девица
................................
Я задумал, мой свет, женитися,
Я заехал к тебе проститися;
За любовь твою поклонитися.
......................
Прослезилась тут красна девица,
Во печали сама промолвила... и т. д.106.
- 295 -
Впрочем, даже первые образцы кольцовских песен в народном стиле по времени их написания непосредственно примыкают к «Песне про купца Калашникова» и потому едва ли могут считаться существенными для генезиса произведения Лермонтова. Гораздо важнее фольклорные стилизации Дельвига и Цыганова, которые пользовались у современников большой популярностью, хотя и оценивались несколько по-разному. При всей своей художественной отделке (или именно благодаря ей), песни Дельвига признавались современной критикой и позднейшими исследователями рассудочными, лишенными подлинной искренности и более далекими от народной поэзии, чем произведения Цыганова. Стихи Дельвига занимают, повидимому, среднее положение между смыкающимися с традициями XVIII в. песенками Нелединского-Мелецкого и Дмитриева и частичным овладением фольклорными мотивами и стилем в творчестве Мерзлякова. Хотя и несколько по-иному, чем поэты и собиратели XVIII в., Дельвиг также перерабатывает и видоизменяет в своих песнях характерные особенности народной поэзии. Эта переработка идет главным образом по линии логизирования, упорядочения и схематизации. Так, по замечанию С. Шервинского, в композиции песен Дельвига наблюдается логически законченное развитие темы, тогда как «фантазия первобытного песнопевца подчинялась лишь властному требованию своей творческой интуиции, не заботясь о логике и стройности»107. Неоднократно бралась под сомнение также подлинность народной лексики Дельвига, и попытки реабилитировать его с этой точки зрения нельзя признать вполне удачными. В. Успенский, возражая С. Шервинскому против его определения лексики Дельвига как грубо поддельной, указывает, что «все эти кровельки, ленточки», подчеркиваемые Шервинским, употребительны и в фольклоре108. Но дело в том, что в последнем они входят в разветвленную и стройную систему выразительных средств народной поэзии, а Дельвиг использует лишь единичные элементы системы, не принимая ее в целом, вследствие чего эти элементы приобретают у него характер нарочитости и неподлинности. В языке Дельвига мы встречаем ряд оборотов народной речи: отдельные правильно построенные энклитики и проклитики, повторение предлогов, уменьшительные формы существительных:
У меня в дому волюшка,
От беды оборонушка,
Что от дождичка кровелька,
От жары дневной ставенки,
От лихой же разлучницы
От лукавой указчицы.
На воротах замо́к висит,
В подворотенку пес глядит109.Искусственность или, как говорили современные Дельвигу критики, «неискренность» этих стихов заключается не в том, что здесь нашли применение элементы народного стиля, подлинность которых можно оспаривать, а в том, что огромное разнообразие выразительных средств народной поэзии заменяется однообразным повторением некоторых из них, слишком хорошо усвоенных поэтом.
Относительно стиха Дельвига следует признать чрезвычайно преувеличенным заявление Успенского, что «в использовании русского размера ему совместно с Мерзляковым принадлежит одно из первых мест»110. На базе урезанного и реформированного народного языка нельзя было
- 296 -
разрабатывать народные ритмы. В песнях Дельвига мы встречаемся с обычными силлабо-тоническими хореями, ямбами, анапестами, дактилями, которые комбинируются, правда, с большой изобретательностью, но происхождение этих комбинаций силлабо-тонических размеров не связано с фольклором. Метрический схематизм Дельвиг дополняет нередко и строфическим схематизмом. Однажды выбранное сочетание размеров строго выдерживается на протяжении всей песни, напр.:
Пела, пела пташечка
И затихла;
Знало сердце радости
И забыло.Что, певунья пташечка,
Замолчала?
Как ты, сердце, сведалось
С черным горем? и т. д.111.Или:
Что, красотка молодая,
Что ты, светик, плачешь?
Что головушку, вздыхая,
К белой ручке клонишь?Или словом, или взором
Я тебя обидел?
Иль нескромным разговором
Ввел при людях в краску?112.«Без сомнения, песни Цыганова являются наиболее народными и художественными по сравнению даже с песнями Мерзлякова... Это — еще шаг вперед в направлении народности... Цыганов выглядит народнее и Дельвига в поэтике, содержании и даже настроении»113. В приведенных словах Н. Трубицына, относящихся к последним годам дореволюционного литературоведения, воздавалось должное памяти несправедливо забытого поэта Цыганова, которому бесспорно принадлежат немалые заслуги в литературных подражаниях народной песне. Правда, принципы, положенные в основу поэтических опытов Цыганова, остаются теми же, что и у его предшественников и современников, рассмотренных выше. И он также не устоял перед соблазном «исправлять» и «наводить порядок» в системе народно-поэтических средств. Уступая Дельвигу в отношении разнообразия и изощренности строфических комбинаций, Цыганов почти столь же строго, как и он, придерживается однажды выбранной схемы строфы:
Ты подуй, подуй,
Тихий, тепленький
Ветерочек!
Донеси к нему,
К другу милому,
Голосочек... и т. д.114.Или:
Не кукушечка во сыром бору
Жалобнехонько
Вскуковала;
А молодушка в светлом терему
Тяжелехонько
Простонала;Не ясен сокол по поднебесью
За лебедками
Залетался:
- 297 -
Добрый молодец, по безразумью,
За красотками
Зашатался... и т. д.115.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок В. Васнецова, 1891 г.
Русский музей, ЛенинградРитмика стиха Цыганова почти целиком укладывается в обычные схемы силлабо-тонического стиха. Но принципиальное значение этого «почти», которое требуется для ритмической характеристики многих песен Цыганова, следует признать немаловажным. Пользуясь общепринятыми литературными размерами, Цыганов иногда «ошибается» совершенно в стиле «ошибок» русских народных певцов:
Молодая молодка
В деревне жила
Дорогою находкой —
Красоткой слыла.
.................
- 298 -
И долгонько так было
С молодкой моей.
Наконец укусило
Сердечушко у ней116.В приведенном примере после ряда мирно чередующихся трехсложников (анапест с антианакрузой на четных стихах) вдруг врывается лишний слог, сбивающий ритм на четырехсложный.
В хореях у Цыганова нередко смещается ударение первой стопы с первого слога на второй:
Течет речка по песочку,
Через речку мостик:
Через мост лежит дорожка
К сударушке в гости!117.Аналогичное первому примеру нарушение четырехсложником анапестической схемы мы имеем в следующих стихах:
Полетай, соловеюшко,
На родиму сторонушку:
На родимой сторонушке
Там живала сироточка,
Сирота горемычная,
Моя матушка родимая!118.Но здесь литературные предрассудки взяли верх, и Цыганов педантически проводит это нарушение ритма в последних стихах всех дальнейших строф песни.
Язык Цыганова, расходясь в некоторых признаках с подлинной народно-поэтическою речью, все же заметно к ней приближается. Даже употребление народных энклитических форм, составляющее наиболее серьезную трудность для стилизаторов фольклора, повидимому, дается Цыганову без особых усилий; у него можно встретить сочетания: «желты́м песком», «ясе́н сокол», «дорого́й перстень», «ты поду́й, подуй», «со тепла́ гнезда», «не соко́л летит» и т. п.
Все эти черты поэзии Цыганова не случайны. Сын крепостного, он был по профессии актером, много странствовал по России и, как известно из скудных биографических сведений о нем, сам собирал народные поверья и преданья. Таким образом, он органически впитал народно-поэтическую культуру, а не воспринял ее извне. Но, быть может, в связи с этим усвоил он и обычное в народе отношение к существующему песенному репертуару, позволяющее певцу не отделять резкой гранью свое от чужого. Круг прямых заимствований у Цыганова, повидимому, значителен. Например, у Цыганова:
Не сиди, мой друг, поздно вечером,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди меня до полуночи119.В «Новом и полном собрании российских песен» <Новикова> (М., 1780, ч. I, 167):
Дорогая моя, хорошая,
Ты душа ль моя, красна девица,
Моя прежняя полюбовница!
Не сиди, мой свет, долго вечера
И не жги свечи воску ярого,
Ты не жди меня до бела света!120.
- 299 -
В «Собрании русских народных песен с их голосами. На музыку положил Иван Прач» (Спб., 1790, ч. I, 57):
Дорогая ты моя матушка,
Моя прежняя полюбовница!
Не сиди, мой свет, долго вечером,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди меня до бела света!121.У Цыганова:
Ах ты, ночка, моя ноченька,
Ночка темная осенняя!122.В сборнике «Молодчик с молодкою на гулянье с песельниками, поющими новые песни» (Спб., 1790, 45):
Ах ты, ноченька, ночка темная,
Ты, темная ночка осенняя!123.У Цыганова:
Я посею, молоденька,
Цветиков маленько...124.В «Собрании разных песен» <Чулкова> (Спб., 1770, ч. II, 243):
Я посею молоденька цветики аленьки125.
Все эти наблюдения никоим образом не ставят своей задачей как-либо компрометировать Цыганова. Для человека, близкого к фольклору, повторяю, все это — в порядке вещей. Но все же очевидно, что «подлинность» народных песен Цыганова нередко переступает ту грань, за которой приходится поставить вопрос о степени самостоятельности их автора.
Первые попытки литературного подражания эпическому складу русского фольклора относятся приблизительно к тому же времени, как и аналогичные опыты в области лирики. Среди произведений Сумарокова мы находим следующую песню, напоминающую по своему сюжету народные, так называемые «солдатские», песни:
О ты крепкой крепкой Бендер град,
О разумный храбрый Панин граф,
Ждет Европа чуда славнова,
Ждет Россия славы новыя,
Царь Турецкой и не думает,
Чтобы Бендер было взяти льзя... и т. д.126.Эта песня представляет для нас интерес с точки зрения примененной в ней формы стиха (четырехстопный хорей с дактилическим окончанием), которая полностью предвосхищает открытие так называемого «русского размера» в «Илье Муромце» Карамзина (1794):
Не хочу с Поэтом Греции
звучным гласом Каллиопиным
петь вражды Агамемноновой
с храбрым правнуком Юпитера;
или, следуя Виргилию,
плыть от Трои разоренныя
с хитрым сыном Афродитиным
к злачным берегам Италии...127.Сам Карамзин в примечании к своему произведению заявлял: «В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская. Почти все наши старинные песни сочинены такими стихами».
- 300 -
«Илья Муромец» имел успех, а теоретическое самоопределение автора было принято на веру и затем прочно вошло в историю русской литературы. Между тем в четырехстопных хореях Сумарокова и Карамзина сходство с фольклором ограничивается отсутствием рифмы и применением дактилических окончаний. Кстати, среди последних, по аналогии с народным стихом, наши стилизаторы фольклора допускают составные дактилические клаузулы с добавочным ударением на последнем слоге стиха, которое считается как бы несуществующим, напр.:
нежной кистию прельща́ть глаза...
и не можно написа́ть пером...
незнакомка спит глубо́ким сном...
услаждались на ее́ челе...
ржет и прыгает вокру́г Ильи...Такие клаузулы явно имеют целью воспроизвести окончания народного стиха такого типа:
Поднесу ему я чару зелена́ вина...
Ты свези-тко нунь меня во Ки́ев град...
Он седлае своего добра́ коня...
Как ухватит он Алёшку за желты́ кудри...
А неделя за неделей как трава́ растёт...128.При всем своем внешнем сходстве, аналогия в этих примерах, без сомнения, мнимая. В народном стихе составные дактилические клаузулы образуются энклитическими сочетаниями, которые не приберегаются только для окончаний стиха, а входят как равноправный и притом важный компонент в систему народно-поэтической речи. У Сумарокова, Карамзина и в ряде других стилизаций поэзии фольклора, по законам литературного языка, на базе которого они строятся, энклитики такого типа не могут иметь места. Поэтому в составных клаузулах, применяемых в подобных произведениях, дополнительное ударение на последнем слоге является вполне реальным, и оно, по существу, нарушает проводимую в них систему дактилических окончаний стиха.
Чуждый фольклору замысел и язык «Ильи Муромца» Карамзина не потребует особых доказательств, если дополнить приведенные отрывки вступительной части несколькими стихами из самой поэмы, рисующей Илью чувствительным и галантным рыцарем, изнывающим в любовном томлении129:
Рыцарь наш сидит как вкопаной;
забывает пищу, нужный сон.
Всякой час, минуту каждую
он находит нечто новое
в милых прелестях красавицы;
и — недели целой нет в году!
.......................
Как роса сияет на поле,
осребренная светилом дня,
так сердечная чувствительность
в масле глаз его светилася130.«Илья Муромец», как было указано выше, имел успех и вызвал подражания. Среди них пользуется наибольшей известностью монументальная «Бахариана» Хераскова (1803), в которой имеется прямая ссылка на произведение Карамзина. Автору «Бахарианы», видимо, хотелось бы уверить себя и читателя, что он пишет свою поэму не хореическим размером,
- 301 -
который, по его же словам, был незнаком «трубадурам царства Русского». Во вступлении к «Бахариане» богиня Фантазия следующим образом напутствует поэта:
Услаждай, рисуй, выписывай,
Древним пой стопосложением,
Коим пели в веки прежние
Трубадуры царства Русского;
Пели, пели Нимфы сельские;
Им хорей, ни ямб не знаем был,
Только верная любовь у них
Попадала как-то в полный лад,
И размер в стихах был правилен:
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок В. Сурикова, 1891 г.
Русский музей, ЛенинградИль таким стопосложением,
Коим справедливо нравится
Недопетый Илья Муромец131.Почти одновременно с изданием «Бахарианы» А. Х. Востоков, тогда еще двадцатилетний юноша, пишет «древнюю повесть в пяти идиллиях» «Певислад и Зора» (1802), в которой использован тот же четырехсложный хорей с дактилическими окончаниями:
Собирайтесь, люди Киевски,
Перед холм священный Боричев
Поклонитися богам своим
И почтить святую силу их
Благочестным приношением,
Так взывал Баянов громкий хор,
С холма поле озираючи,
В звонки гусли ударяючи... и т. д.132.
- 302 -
В 1804 г. Н. И. Гнедич, правильно учитывая отсутствие реальной связи «Ильи Муромца» и «Бахарианы» с конкретными эпическими формами русского фольклора, использовал тот же стихотворный размер в своей «Последней песне Оссиана»:
О источник ты лазоревый,
Со скалы крутой спадающий
С белой пеною жемчужною!
О источник, извивайся ты,
Разливайся влагой светлою
По долине чистой Лутау... и т. д.133.Несколько отходит от карамзинской традиции богатырская повесть А. Н. Радищева «Бова», в которой использован четырехстопный хорей с женскими окончаниями:
Ветр попутный веет тихо
В белый парус корабельный,
Там на палубе летяща
Корабля, что волны зыбки
Рассекал на влажном поле... и т. д.134.Хотя юноша-Пушкин и сослался на Радищева в отрывке из поэмы «Бова», оставшейся неоконченной, однако он применил в ней четырехстопный хорей с дактилическими клаузулами и, таким образом, последовал примеру Карамзина:
Часто, часто я беседовал
С болтуном страны Эллинския
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и с Рифматовым
Воспевать героев севера... и т. д.Рассмотренные нами опыты литературной стилизации эпических форм русского фольклора представляют собой низший, наиболее примитивный слой среди попыток этого рода. Сохраняя в своих произведениях привычную систему литературного языка, их авторы заранее обрекали себя на использование столь же привычных схем литературного «стопосложения», лишь слегка приправленных дактилическими окончаниями стиха. Систематическое проведение этих дактилических окончаний, в достаточной мере стеснительное для поэта, в свою очередь нередко приводило к насилию над законами современного языка. Такого рода попытки наглядно свидетельствуют, как мало знали образованные классы русского общества эпическую поэзию русского народа до опубликования сборника Кирши Данилова.
Но еще в XVIII в. был проделан опыт более точного воспроизведения народной ритмики, и не случайно, что он принадлежит Н. А. Львову, который участвовал в составлении «Собрания русских народных песен», положенных на музыку Ив. Прачем (1790). Львов, без сомнения, был настоящим любителем народной песни и, как видно из его предисловия к сборнику Прача, бережно относился к ней. В 1794 г., доказывая в кругу друзей возможность «написать целую русскую эпопею в совершенно русском вкусе», он в одно утро написал вступление к богатырской песне «Добрыня», причем стихотворный размер для нее избрал в «тоническом вольном роде стихов»135:
О темна, темна ночь осенняя!
Не видать в небе ни одной звезды,
На сырой земле ни тропиночки;
- 303 -
Как хребет горы, тихо лес стоит,
И ничто в лесу не шалохнется;
Гул шагов моих мне наводит страх. —
О темна, темна ночь осенняя!.. и т. д.136.«Добрыня» Львова интересен для нас не только как важное звено в цепи литературных подражаний русскому народному эпосу, но, в особенности, и потому, что, по заявлениям историков русского языка и литературы, поэма Львова «по своему стиху поразительно близка к лермонтовской „Песне о купце Калашникове“»137.
Насколько обоснованы подобные суждения о ритмическом родстве «Добрыни» Львова с «Песней про купца Калашникова», будет выяснено в специальной главе настоящей работы, посвященной стиху лермонтовской «Песни». Основным размером «Добрыни» (если исключить небольшие вставные отрывки, написанные другими размерами) является двучленный пятисложник. Этот размер стал позднее известен в качестве «кольцовского», так как Кольцов воспользовался им для ряда лучших своих песен. То обстоятельство, что Кольцов в каждый свой стих помещал только по одному, а не по два пятисложника, не составляет существенного различия между ним и Львовым, ибо последний соблюдал цезуру, и его стихи безболезненно делятся пополам:
О темна, темна
Ночь осенняя!
Не видать в небе
Ни одной звезды... и т. д.Для оценки степени близости «Добрыни» Львова к эпическим формам русского фольклора необходимо принять во внимание, что пятисложник является специально песенным ритмом народной лирики. Ни в былинах, ни в родственных им больших исторических песнях в качестве самостоятельного размера он не применяется. Таким образом, Львов в своем опыте отчасти нарушает жанровые признаки поэзии русского фольклора. Разумеется, стихотворный размер, избранный им, составляет некоторое достижение, поскольку он заимствован из числа действительно существующих, а не теоретически измышленных разновидностей ритма народной поэзии. Но Львов, как и большинство поэтов, подражавших фольклору, стерилизует правильно уловленные им народные ритмические формы, исправляет их до тех пор, пока они не подчинятся требованиям схематизма.
Языком фольклора Львов, повидимому, владел достаточно хорошо, чтобы выйти из затруднений, связанных с многосложностью стихотворного размера. Но воспроизводить систему народно-поэтической речи в целом явно не входит в его задание, и в «Добрыне» есть отрывки, которые по характеру языка нисколько не отличаются от шутливого послания Львова к И. М. Муравьеву (1797), написанного тем же самым пятисложным песенным размером:
Пусть крутят в крючки темнорусые
И с просединой волоса мои,
А слова мои слуги быстрые
Духа жаркого сердца русского
Пусть запишет нам парень грамотный.
Каково же мне титулярному?
Что нет времени и к друзьям своим
Самому писнуть — не прогневайтесь,
Что спасибо вам опоздал сказать... и т. д.138.
- 304 -
Если на подражаниях народному стиху, предпринятых Львовым, до некоторой степени сказались поверхностность и недостаток выдержки, свойственные даже наиболее талантливым из дилетантов, то, казалось бы, гораздо лучших результатов можно было ожидать от аналогичных попыток со стороны ученых — исследователей народной поэзии. Не считая Н. Грамматина, который уже упоминался, мы имеем возможность рассмотреть две подобные попытки — А. Востокова и Н. Цертелева.
Востоков, автор цитировавшейся выше работы о русском народном стихе, как бы подытоживает исследование, поместив на заключительных страницах второго издания «Опыта о русском стихосложении» свои «Изречения Конфуция (из Шиллера)», написанные «русским сказочным (т. е. былинным. — М. Ш.) размером»:
Пространству мера троякая:
В долготу бесконечно простирается,
В широту беспредельно разливается,
В глубину оно бездонно опускается.Подражай сей мере в делах твоих.
Достигнуть ли хочешь исполнения,
Беспрестанно вперед, вперед стремись;
Хочешь видеть все мира явления,
Расширяй над ними ум свой — и обымешь их... и т. д.С точки зрения Востокова, выводившего свою теорию народного стиха из исследованных им свойств современного разговорного языка, вполне логично воспроизводить народный размер на чуждом народной поэзии языковом материале. Но стихи его создают впечатление обратное тому, которого ожидал автор: «Изречения Конфуция» не только лексически, но и ритмически непохожи на былинный стих, которому пытался подражать Востоков. Расхождение здесь примерно такого же масштаба, как между силлабическими стихами в «Опытах» В. Брюсова и образцами подлинной силлабики.
С попыткой создать эпическое произведение в стиле русского фольклора выступил и оппонент Востокова по теоретическим проблемам народного стиха, Н. Цертелев. В 1820 г., в своей книжечке «Взгляд на русские сказки и песни», он опубликовал «повесть в духе старинных русских стихотворений» — «Василий Новгородский». При первом ознакомлении эта повесть, несмотря на некоторую пестроту, производит с точки зрения ее близости к стилю фольклора местами довольно благоприятное впечатление. Характер пестроты и жанровой невыдержанности «Василия Новгородского» создается многочисленностью применяемых Цертелевым стихотворных размеров. «Повесть» вся состоит как бы из ряда отрывков, в каждом из которых выдерживается свой размер. На смену данному размеру через 15—20 стихов приходит иной ритм следующего отрывка.
Пятисложный размер, с двумя ударениями в стихе и дактилическими окончаниями стиха (стр. 19):
Как из сла́вного Новаго́рода,
Из-за бы́стрыя реки Му́тныя
Что бежи́т, шумит в Нево о́зеро,
Чрез широ́кие луга зе́лены... и т. д.Четырехсложный размер, с тремя ударениями и дактилическими окончаниями стиха (стр. 19—20):
- 305 -
Он прое́хал грязи че́рны, рассыпны́ пески,
И въезжа́ет младый ви́тязь во дрему́чий лес.
Было вре́мечко осе́нне о полу́ночи,
Потемне́ли звезды я́ркие небе́сные... и т. д.Четырехсложный размер, с тремя ударениями и мужскими окончаниями стиха (стр. 20):
Ты скажи́ мне, красна де́вица душа́,
А и кто тебя девицу породил,
А где батюшка и матушка живут,
Как наездник Печенежский полонил?.. и т. д.Пятисложный размер, с тремя ударениями в стихе и дактилическими окончаниями (стр. 26) :
Пришла о́чередь тут Васи́лию Новгоро́дскому
Показать свое молодечество, силу крепкую.
Подзывает он слугу верного и удалого,
Он велит ему над главой держать золото кольцо... и т. д.Четырехсложный размер, с четырьмя ударениями и мужскими окончаниями стиха (стр. 32):
Проезжа́ет удал ви́тязь мимо са́ду своего́,
И он видит в сад калитка не притворена стоит.
«А и кто это невежа, говорит он, в сад ходил,
«А и кто это невежа, да калиточку бросал?»... и т. д.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ
ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок Б. Кустодиева, 1906 г.
Институт мировой литературы
им. Горького, МоскваШестистопный хорей с женскими окончаниями и цезурой на шестом слоге (стр. 34):
- 306 -
Встань ты, пробудися, друг, моя надежа!..
Ах, простись со мною, вечно разлучаясь!
Завтра я надену черно покрывало,
Завтра поклянуся, над твоей могилой,
Верною остаться другу и по смерти!.. и т. д.Мы видим, что Цертелев, как и многие другие, не избежал соблазна «приводить в порядок» и схематизировать народную ритмику. В своей эпической поэме он широко применяет размеры народных лирических песен и, таким образом, выказывает пренебрежение к их жанровым особенностям. Но при всем этом некоторые отрывки «Василия Новгородского» производят впечатление такой близости к произведениям народной поэзии, какой не достигал ни один из литературных стилизаторов фольклора:
Во славном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира,
А и было пированье почетной пир,
А и было столованье почетной стол... и т. д. (стр. 23)Или:
У меня будто у младешенькой,
Расплелася коса русая,
Выпадала лента алая.
На правой руке, на мизинчике
Распаялся мой золот перстень,
Выкатался вон дорогой камень,
Подареньице друга милого... и т. д. (стр. 29)Или:
Что не ласточка, не касаточка,
Вкруг тепла гнезда увивалася,
Увивалася родна матушка... и т. д. (стр. 34)Да, близость к фольклору таких отрывков, обильно рассеянных в «Василии Новгородском», не может подлежать сомнению. Первая же попытка сопоставить их с соответствующими фольклорными текстами приводит к результатам, далеко превосходящим первоначальные ожидания. Все эти стихи, так хорошо передающие стиль фольклора, являются точными цитатами из сборников народных песен. Вчитываясь в поэму Цертелева повнимательнее, можно убедиться, что автор даже не мистифицирует читателя. При начале поэмы имеется подстрочное примечание: «В повести сей старался я удержать не только дух богатырских русских сказок, но самые выражения, обороты и гармонию оных; в последней однако же приноравливался более к песням; брал из тех и других многие стихи, которые и отличены <кавычками>». Эти «цитаты» даже с точки зрения объема занимают весьма значительное место в поэме Цертелева. Они составляют 169 стихов из 482, т. е. 35 процентов всего текста «Василия Новгородского».
Любопытную разновидность методов Цертелева мы встречаем в «Отрывках из сказания об Ольге» кн. З. Волконской139, опубликование которых всего на год предшествовало созданию «Песни про купца Калашникова». В этом прозаическом произведении дважды выступает гусляр. Первая его песня, сложенная пятистопным хореем с дактилическими окончаниями, не представляет особого интереса. Вторая — «Надгробная песня славянского гусляра» — написана пятисложным размером с дактилическими клаузулами и начинается следующими стихами:
Уж как пал снежок со темных небес,
А с густых ресниц слеза капнула:
Не взойти снежку опять на небо,
Не взойти слезе на ресницу ту.
- 307 -
В этих стихах нетрудно различить точный ритмико-синтаксический слепок с начала известной песни, приписываемой преданиями семьи Н. А. Львова перу его деда, П. С. Львова140:
Уж как пал туман на сине море,
А злодейка-тоска в ретиво сердце;
Не сходить туману с синя моря,
Уж не выдти кручине из сердца вон.Рассмотренные нами материалы литературных подражаний русскому фольклору характеризуют, так сказать, «литературное окружение» «Песни про купца Калашникова». Они определяют ту атмосферу, в которой Лермонтов создавал свое произведение. К 1837 г., который принят историками литературы в качестве даты лермонтовской «Песни», традиции русской народной поэзии были усвоены нашей искусственной литературой настолько неглубоко, что ожидать от этой последней самостоятельных произведений, приближающихся по характеру и стилю к художественному уровню фольклора, не было никаких оснований. Поэты, пытавшиеся подражать народной поэзии, сосредоточивали свои усилия, как мы видели, в двух основных направлениях. Одни из них, не понимая глубокой органической связи между содержанием, стилем и языком произведений фольклора и их «внешними» поэтическими формами, стремились воспроизвести эти «внешние» формы, сохраняя привычную для них «литературную» лексику, синтаксис и стиль. В результате возникал своеобразный «style russe», гибридные формы, гораздо более далекие от народной поэзии, чем от чисто литературных традиций и навыков, положенных в их основу. Другие поэты сознавали невозможность ограничить подражание отдельными, более или менее формальными признаками народно-поэтического стиля и пытались воспринять художественную систему фольклора в целом. Не находя в себе источников для того творческого усилия, которое позволило бы им подняться на такую высокую ступень, они шли сначала на подражание характерным выражениям и устоявшимся формулам народной поэзии, затем на заимствование отдельных стихов и, наконец, скатывались к прямому цитированию песенных сборников и к мозаичной компиляции этих цитат.
Подводя итоги нашим наблюдениям, приходится сделать вывод, что культура литературного подражания фольклору была в 30-х годах XIX в. все еще в зачаточном состоянии. Правда, художественная немощь, сказавшаяся на попытках ввести в нашу литературу народно-песенные традиции, разумеется, не коснулась Пушкина, который с 1824 г. неоднократно обращался к разработке песенных жанров русского фольклора. Среди опытов Пушкина в этом направлении примечательны: «Как жениться задумал царский арап» (1824), «Песни о Стеньке Разине» (1826), «Еще дуют холодные ветры» (1828), «Всем красны боярские конюшни» (1828) и, особенно, начало сказки «Как весенней теплою порою» (1830). В этих произведениях и набросках Пушкин несколько по-иному, но не менее убедительно, чем Лермонтов, разрешает проблему усвоения нашей литературой песенных жанров русского фольклора. Однако все перечисленные произведения, так же как и знаменитая «Сказка о попе», написанная складом народного раешника, при жизни Пушкина и к моменту создания «Песни про купца Калашникова» не были опубликованы, и Лермонтов не мог ознакомиться с ними по рукописям. Таким образом, Лермонтов мог знать лишь «Песни западных славян», которые не имеют
- 308 -
отношения к русскому фольклору, «Сказку о рыбаке и рыбке», примыкающую к тому же циклу в качестве «восемнадцатой песни сербской», а также хореические сказки Пушкина, в которых использованы некоторые фольклорные сюжеты, но форма целиком соответствует традициям искусственной литературы. Генетическая связь между произведениями Пушкина и Лермонтова в народном стиле, несомненно, отсутствует. В современной ему художественной литературе Лермонтов не мог найти точки опоры для своей работы над созданием «Песни про купца Калашникова».
IV
Язык и стиль лермонтовской «Песни про купца Калашникова», к рассмотрению которых мы приступаем в настоящей главе, не подвергались до сих пор систематическому анализу. Правда, отдельные замечания по интересующему нас вопросу можно найти в цитировавшихся выше работах Владимирова, Балталона, Брайловского, Давидовского и Мендельсона, но, в силу своей эпизодичности, эти наблюдения не могут служить базой для каких-либо выводов и обобщений. Единственная имеющаяся в нашем распоряжении специальная статья о языке «Песни про купца Калашникова» носит несколько неожиданный «физиологический» уклон, «обогащающий» литературу о Лермонтове комментариями к отдельным стихам «Песни» вроде следующих:
«1. „И, услышав то, Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег“ (спазмы кровяных сосудов и слабость сердца от страха).
2. „Бойки очи его затуманились“ (отсутствие блеска глаз, вызванное уменьшением отделения слезной влаги).
3. „Между сильных плеч пробежал мороз“ (судорожное сокращение гладкой мускулатуры кожи вместе со спазмой кровяных сосудов)»141.
Таким образом, изучение языка и стиля «Песни про купца Калашникова» приходится начинать сызнова, и я позволю себе в дальнейшем не сопровождать специальными оговорками отдельные совпадения или расхождения настоящей работы с материалами моих предшественников.
Наиболее трудную часть исследования языка произведения Лермонтова представляет выяснение объема и типов народно-поэтических энклитик и проклитик, использованных поэтом. Дело в том, что истолкование в качестве энклитик и проклитик всякой группы слов, способных, по аналогии с фольклором, объединяться под одним ударением, могло бы оказаться в значительной мере односторонним и даже основанным на произволе. Поскольку степень близости «Песни» Лермонтова к образцам подлинной народной поэзии сама по себе является объектом нашего изучения, то аналогия в данном случае может быть принята лишь в качестве наводящего фактора, но аргументом для окончательных выводов служить не может. В «Песне про купца Калашникова» мы должны установить не группы соседних слов, способных объединяться под одним ударением, а словесные группировки, которые объединялись при помощи общего ударения самим Лермонтовым. Иными словами, задача была бы документально разрешена, если бы поэт собственноручно разметил ударения во всем тексте своего произведения. Но такой разметки в нашем распоряжении, разумеется, нет, и было бы наивно сетовать по этому поводу. Правда, в Академическом издании сочинений Лермонтова под редакцией Д. И. Абрамовича142 имеются в отдельных случаях обозначения
- 309 -
ударений или знаки препинания, указывающие на объединение слов, напр.:
ОБЛОЖКА „ПЕСНИ ПРО ЦАРЯ
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“ В ИЗДАНИИ
ГОСЛИТИЗДАТА
Рисунок И. Билибина, 1838 г.
Собственность художника, ЛенинградА по-сю-пору твоя хозяюшка (190).
Снегом-инеем пересыпаны (207).
Горько-горько она восплакалась (226).
На бело́м свете я сиротинушка (280).
На чисто́м поле промеж трех дорог (495).Однако мы не знаем, принадлежат ли эти обозначения самому поэту или редактору издания, и, к тому же, они так немногочисленны, что не могут послужить основанием для обобщений.
Несмотря на все эти трудности, положение исследователя в вопросе об энклитиках и проклитиках в «Песне про купца Калашникова» не является безвыходным. Как мы увидим из специальной главы, посвященной стиху «Песни», Лермонтов лишь с незначительными нарушениями, которые могут быть установлены с полной достоверностью, соблюдал анапестические зачины и дактилические окончания стиха. И те и другие нередко являются составными. Прослеживая энклитики и проклитики в зачинах и клаузулах лермонтовского стиха, мы тем самым выясним, какие категории слов сам Лермонтов считал возможным объединять под одним ударением, а по аналогии с ними могут быть установлены словесные сочетания тех же типов внутри стиха.
Анапестические зачины стиха, которые составляются двумя неударяемыми слогами, предшествующими ударению, естественно, обогащают наши сведения о проклитиках Лермонтова, т. е. о таких словах, которые теряют свое ударение в пользу следующего за ними слова. Здесь в первую очередь намечается обширная группа инверсированных определений при существительном, которые, по наблюдениям историков литературы, весьма характерны для народной поэтики, напр.: вина сла́дкого (26), царю гро́зному (60), сердца жа́ркого (63), думу че́рную (64), косы ру́сые (103 и 206), в ленты я́ркие (104), с грудью бе́лою (106), коня
- 310 -
до́брого (125), в церкви бо́жией (145), речью ла́сковой (156), дитя ма́лое (286), тучки се́рые (331), заря а́лая (332), в небо чи́стое (335), смертью лю́тою (491). По аналогии с этими формами в зачинах мы можем без колебания принять в качестве проклитик подобные сочетания внутри стиха, напр.:
Не сияет на небе солнце кра́сное,
Не любуются им тучки си́ние (16—17).
Вот нахмурил царь брови че́рные
И навел на него очи зо́ркие (36—37).
И гуляют, шумят ветры бу́йные (499).Впрочем, необходимо иметь в виду, что сочетание существительного с инверсированным определением не всегда превращается в проклитику. При многосложности слов, входящих в сочетание, они сохраняют свою самостоятельность, напр. :
Разметала ку́дри золоти́стые,
Умывается снега́ми рассы́пчатыми (333—334).В тех случаях, когда инверсия отсутствует, роль проклитики может принимать на себя не только существительное, но и определение, относящееся к нему, напр.:
Черным со́болем отороченную (90).
Статный мо́лодец Степан Парамонович (153).
Чистым зо́лотом в кольцах спаянную (346).Особенно характерно для народной речи объединение под одним ударением кратких форм прилагательных с существительными, напр.:
Красны де́вушки да молодушки (92).
Бойки о́чи его затуманились (407).Однако, как показывают стиховые клаузулы, в таких сочетаниях кратких и полных форм прилагательных с существительными последние чаще теряют свое ударение, напр.:
Краткие формы:
Опустил головушку на широ́ку грудь (34).
Не встречает его молода́ жена (175).Полные формы:
То за трапезой сидит во злато́м венце (18).
Родной батюшка уж в сыро́й земле (281).
Что послал ты за нами во темну́ю ночь (295).
Будто сосенка во сыро́м бору (432).Стиховые анапестические зачины доказывают, что глаголы довольно легко теряют свое ударение и, таким образом, входят в состав проклитик:
Ходит пла́вно, будто лебедушка,
Смотрит сла́дко, как голубушка,
Молвит сло́во — соловей поет (98—100).
Хочешь зо́лота али жемчугу?
Хочешь я́рких камней аль цветной парчи? (254—255).
Пройдет ста́р человек — перекрестится,
Пройдет мо́лодец — приосанится,
Пройдет де́вица — пригорюнится (502—504).В энклитических сочетаниях глагол может принимать ударение на себя:
С кем казною своей поделю́сь теперь? (117).
Между сильных плеч пробежа́л мороз (408).
- 311 -
Согласно обычаям народно-поэтического языка, числительные почти всегда снимают ударение с существительного, к которому они относятся:
Угощали нас три́ дня, три́ ночи (14).
Оцепили место в двадцать пя́ть сажен (347).
На чисто́м поле промеж тре́х дорог (495).Синонимизация и тавтологии всех типов также приводят по большей части к объединению данного сочетания слов под одним ударением:
Злато, се́ребро пересчитывает (157).
Я скажу тебе диво ди́вное (186).
Плачем пла́чут, все не унимаются (194).
Снегом-и́неем пересыпаны (207).
И он стал меня цалова́ть-ласкать (250).
Ты какого роду, пле́мени (386).
Вольной во́лею или нехотя (441).
Я убил его вольной во́лею (445).
Заунывный гуди́т-воет колокол (470).Однако если тавтологическое сочетание образуется чрезмерно длинными словами, то они сохраняют свою самостоятельность:
Не найти́, не сыска́ть такой красавицы (97).
А куда дева́лась, затаи́лася (180).
Что пужаешься кра́сная краса́вица (243).Такое же, как и в тавтологических сочетаниях, стремление объединяться в единую акцентную группу обнаруживается при повторениях слов, особенно если они достаточно коротки, напр.:
Ты скажи́, скажи, Еремеевна (179).
Уж ты где, жена́, жена шаталася (210).
Горько-го́рько она восплакалась (226).Наконец, в систему лермонтовских энклитик входит и перенесение ударения с существительного на предлог не только в тех формах, которые сохранились в нашем разговорном языке, но и в специально фольклорных:
Набегают тучки на́ небо (163).
На чужой сторонушке пропал бе́з вести (284).
И ударил его посере́дь груди (414).
Прогневался гневом, топнул о́ землю (435).Таковы основные черты лермонтовской акцентуации, которую мы, по-видимому, имеем основание считать весьма близкой к акцентным нормам песенного фольклора, усвоенным поэтом с большой разносторонностью и полнотой. Энклитики и проклитики народной речи были хорошо знакомы Лермонтову, и они органически вошли в язык «Песни про купца Калашникова». В то же время поэт очень мало заботился о том, чтобы специально уснащать свое произведение специфически фольклорными формулами. Так, обычное в народной поэзии энклитическое сочетание «горючьми́ слезми» употреблено Лермонтовым с сохранением самостоятельности каждого из этих слов:
Горючьми́ слеза́ми заливалася (288).
В стихе «Не оставь молодую вдову» (451) Лермонтов не воспользовался стандартным народным оборотом «молоду́ вдову», который, кстати, сохранил бы в стихе дактилическое окончание. А между тем сходная форма встречается у него в другом месте:
Что лиха́ беда со мною приключилася (298).
- 312 -
В одном стихе предлог у Лермонтова употребляется в том виде, который свойственен обычной разговорной речи:
С большим топором навостренныим (474).
В другом — применяется форма, излюбленная в фольклоре:
Со родными братьями прощается (479).
В подобных случаях «непоследовательности», надо думать, отчасти сказывается то, что для Лермонтова не осталась тайной текучесть ударений народно-поэтического языка, в частности обилие в нем акцентных дублетов и тому подобных форм, допускающих двоякую постановку ударения, напр.:
Кушачком подтянуся шо́лковым (88).
Шелково́й фатой я закрылася (240).Возможно, что отсюда происходят случаи перенесения ударения не с существительного на предлог, как обычно, а обратно — с предлога на существительное. Подобных случаев в лермонтовской «Песне» по меньшей мере три:
Вот об зе́млю царь стукнул палкою (41).
Одному по свѐту маяться (113).
Ты убил на сме́рть мово верного слугу (442).Таким образом, наблюдения, почерпнутые нами из анализа стиховых зачинов и клаузул, не обладают характером всеобщности и безусловной обязательности. Пользоваться ими для суждений по аналогии приходится с большой осторожностью, и исследователь ритмики лермонтовского стиха не может быть полностью избавлен от колебаний в том или ином частном вопросе, связанном с расстановкой ударений.
При рассмотрении энклитик и проклитик в «Песне про купца Калашникова» мы отметили уже некоторые характерные особенности языка произведения Лермонтова, как, например, употребление кратких форм прилагательных, инверсированных эпитетов, тавтологий и т. п. Не следует, однако, думать, что эти элементы языка фигурируют только в энклитических и проклитических сочетаниях и привлекаются поэтом лишь как средство для подобных образований.
Мы встречаем у Лермонтова развернутую систему синонимизации и тавтологий:
Как я сяду-поеду на лихом коне (86).
Засветили свечу, сели ужинать (189).
Лишь не дай мне умереть смертью грешною (258).
Зовет пир пировать, мертвецов убирать (318).
Разгуляться для праздника, потешиться (342).
Клич кликать звонким голосом (350).
Трижды громкий клич прокликали (362).
Не шутку шутить, не людей смешить (402).
Прогневался гневом, топнул о землю (435).
И гуляют, шумят ветры буйные (499).Часто накопление синонимов бывает тесно связано с явлениями синтаксического параллелизма, которые ниже будут подвергнуты специальному рассмотрению:
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана (143—145).
Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить (464—465).
- 313 -
Эпитеты Лермонтова в «Песне про купца Калашникова» отличаются простотой и сдержанностью. Огромное большинство их принадлежит к числу традиционных, так называемых «постоянных» эпитетов русского фольклора, напр.:
И очнулся тогда добрый молодец (46).
Тяготит она плечи богатырские
И сама к сырой земле она клонится (67—68).
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная? (71—72).
Как стекло горит сабля вострая (83).
Горят щеки ее румяные (101).
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок И. Билибина, 1938 г.
Собственность художника, ЛенинградС грудью белою цалуются (106).
Опостыли наряды парчевые
И не надо мне золотой казны (115—116).
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце бранное черкасское (124—126).
В церкви божией перевенчана (145).
Родной батюшка уж в сырой земле (281).
На чужой сторонушке пропал без вести (284).
Дитя малое, неразумное (286).
За святую правду-матушку (308).
Горят очи его соколиные (378).
И нахмурил брови черные (436).
Сложи свою буйную головушку (463).Краткие формы прилагательных в лермонтовской «Песне» нисколько не напоминают усечения прилагательных, широко распространенные
- 314 -
в литературном языке XVIII в. и построенные по типу: «Смолкни, пеночка любезна». Это чисто народные формы, как, напр.: «красно-солнышко» (228), «молода жена» (175, 204), «стар человек» (502).
Встречаются у Лермонтова и древние полные окончания прилагательных, известные нам из фольклора:
У ворот стоят у тесовыих (91).
С большим топором навостренныим (474).Далее необходимо упомянуть ряд особенностей языка «Песни про купца Калашникова», которые настолько характерны для народной речи, что не требуют специального комментария.
Неупотребительные в «литературном» языке приставки к глаголам:
Горько-горько она восплакалась (226).
Как возговорил православный царь (339).Двойные приставки:
Не казна ли у тебя поистратилась? (73).
И пошел он домой призадумавшись (171).
Присмирели, небойсь, призадумались! (367).
Пройдет мо̀лодец — приосанится (503).Инфинитив на «ти» вместо «ть»:
Царской радостью гнушатися (56).
За Москву-реку покататися (87).Возвратные формы глаголов на «ся» вместо «сь»: подтянуся (88), постараюся (133), затаилася (180), заигралися (183), уложилися (184), не вернулася (191), обручалися (218), менялися (219), повалилася (227), не боюся (232, 233), оглянулася (238), подкосилися (239), закрылася (240), прозываюся (246), рванулася (267), заливалася (288), поклонилися (291), приключилося (294), приключилася (298), накопилося (311), просыпалася (337), разыгралася (338), сходилися (339), собиралися (339), покатилася (493).
Несколько двойственную позицию занимает Лермонтов по отношению к деепричастиям. С одной стороны, мы встречаем у него формы, употребительные в народной поэзии:
Гонит их метелица, распеваючи (164).
Смеючись, на нас пальцем показывали (266).
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи (330—331).
С удалыми друзьями пируючи (401).
Руки голые потираючи (475).Однако параллельно им в «Песне про купца Калашникова» использованы и литературные формы деепричастий, нехарактерные для фольклора:
Улыбаясь, царь повелел тогда (25).
Царю грозному в пояс кланяясь (60).
Покачав головою кудрявою (79).
И любуются, глядя, перешептываясь (93).
И сказал, смеясь, Иван Васильевич (131).
И пошел он домой, призадумавшись (171).
И цалуя, все приговаривал (251).
Как красавица, глядя в зеркальце (335).
Царю в пояс молча кланяется (357).
И услышав то, Кирибеевич (405).
Вот молча оба расходятся (410).
И, увидев то, царь Иван Васильевич (434).
- 315 -
Весьма поучителен подбор ласкательных и уменьшительных имен в «Песне про купца Калашникова». Они совершенно лишены налета слащавости, столь обычной в песенках литературного происхождения. Не выходя из круга образов народной поэзии, эти формы всецело оправдываются контекстом, а многие из них заслуживали бы названия «постоянных уменьшительных» русского фольклора, напр.:
Опустил головушку на широку грудь (34).
Ходит плавно, будто лебедушка,
Смотрит сладко, как голубушка (98—99).
А по-сю-пору твоя хозяюшка (190).
Задрожала вся моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый (224—225).
Государь ты мой красно-солнышко (228).
Мои ноженьки подкосилися (239).
Закружилась моя бедная головушка (249).
А смотрели в калитку соседушки (265).
На бело̀м свете я сиротинушка (280).
На чужой сторонушке пропал без-вести (284).
Будто сосенка, во сыром бору (432).
Не оставь лишь малых детушек (450).
Хорошо тебе, детинушка (453) и т. п.Обозначение лиц в «Песне» Лермонтова целиком соответствует народно-песенным традициям. Это прежде всего полное величание «по имени-изотчеству» (Иван Васильевич, Алёна Дмитревна, Степан Парамонович) или по одному отчеству (Кирибеевич, Еремеевна). Как и в фольклоре, эти имена отличаются громоздкостью своего слогового состава и характерными дактилическими окончаниями. Дактилическое строение имеет место также в фамилии-прозвище «Калашников» и в косвенных обозначениях имен:
А боярин Матвей Ромодановский (9).
А из роду ты ведь Скуратовых
И семьею ты вскормлен Малютиной (57—58).Переходя к рассмотрению основных особенностей синтаксиса «Песни про купца Калашникова», необходимо подчеркнуть, что как в предыдущем изложении приходилось нарушать границы формальных подразделений, принятых теорией литературы, так и здесь явления собственно синтаксического порядка не могут быть резко отграничены от элементов языка и стиля. Так, например, рассматривая систему ударений в языке «Песни» Лермонтова, мы были вынуждены частично базироваться на категориях, относящихся к области стилистики, — постоянных эпитетах, синонимизации, словесных повторах. В разделе синтаксиса нам снова придется говорить и о синонимах и о повторении слов. В этом легко убедиться на простейших примерах:
Полюби меня, обними меня (259).
А такой обиды не стерпеть душе,
Да не вынести сердцу молодецкому (301—302).
В приведенных стихах при помощи синонимизации и словесных повторов создаются весьма характерные для фольклора синтаксические построения, в основе которых лежит принцип параллелизма членов предложения. В первом из приведенных примеров мы имеем образец наиболее простого двучленного параллелизма (по формуле abab), умещающегося
- 316 -
целиком в пределах одного стиха. Во втором примере параллельное строение захватывает два стиха и благодаря контрастному распределению членов параллели (в конце первого и начале второго стиха, по формуле abbc) приобретает более сложную, «обращенную» форму. Таковы элементарные типы синтаксического параллелизма, выражающие основные черты народно-поэтического синтаксиса. Однако было бы ошибкой считать, что синтаксис поэтических произведений русского фольклора, следуя схемам параллелизма, должен приобрести характер однообразия и связанности. Мы можем оценить богатство синтаксических возможностей в пределах параллельной структуры, если примем во внимание, что краткость или распространенность периода, охваченного параллелизмом, колеблется в довольно широких пределах, что скрепляющим его началом может служить не только буквальный повтор или синонимизация, но и любые иные элементы, обладающие достаточно ярко выраженными признаками сходства, что, кроме двучленного, может быть параллелизм трехчленный, четырехчленный и т. д., что, наконец, внутри большой, развернутой параллели сплошь и рядом умещается ряд мелких, так сказать частных, параллельных или контрастных построений. Итак, нам предстоит проследить использование в «Песне про купца Калашникова» особенностей народно-поэтического синтаксиса, охарактеризованных выше. Однако, в интересах наглядности, необходимо начать наш обзор не с образцов законченного параллелизма, а с простейших форм, некоторые из которых уже содержат зародыши симметрии.
Простейшим видом повтора, широко распространенного в поэзии нашего фольклора, является повторение предлогов, образцы которого в «Песне» Лермонтова достаточно разнообразны:
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника,
Да про смелого купца про Калашникова (2—4).
Лишь один из них, из опричников (30).
У ворот стоят у тесовыих (91).
Отпусти меня в степи приволжские
На житье на вольное, на казацкое (120—121).
На каком на дворе, на площади (211).
А из славной семьи из Малютиной (247).
Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской, белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор (327—329).
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками (343—344).
Отвечай мне по правде по совести (440).Любопытно, что в двух случаях повторение предлогов поддержано звуковым составом окружающих слов:
Как запру я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную (219—220).
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная (433—434).Повторы личных местоимений, встречающиеся в народной поэзии значительно реже, чем повторение предлогов, все же представлены у Лермонтова несколькими образцами:
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
- 317 -
В церкви божией перевенчана (142—145).
Уж гуляла ты, пировала ты (214).
Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею (444—445).Повторы союзов так же невелики по объему своего слогового состава, как и рассмотренные выше формы повторений предлогов и местоимений, а между тем их роль в структуре народно-поэтического синтаксиса оказывается гораздо более существенной. Прежде всего следует отметить, что даже и независимо от повторов синтаксис нашего фольклора выказывает большое пристрастие к употреблению союзов. Последние сплошь и рядом отражают не грамматическую связь между отдельными звеньями речи, не «сочинение» предложений или их частей между собой, а как бы некую «плавность» рассказа, отсутствие в нем резких скачков и перерывов. Эта особенность повествовательного стиля русского фольклора превосходно уловлена Лермонтовым в «Песне про купца Калашникова». Очень часто все поступательное движение его рассказа внешне выражается лишь в таких традиционных и, на первый взгляд, стилистически нейтральных формулах:
И приехал царь со дружиною (343).
И велел растянуть цепь серебряную (345).
И велел тогда царь Иван Васильевич (349).
И выходит удалой Кирибеевич (356).
И выходит Степан Парамонович (370).
И сказал ему Кирибеевич (384) и т. д.Повторы союзов размещаются у Лермонтова, так же как у народных поэтов, в зачинах стиха, вследствие чего они относятся к разряду анафорических. По числу входящих в него членов анафорическое повторение союзов в «Песне про купца Калашникова» является обыкновенно двух- или трехкратным:
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок И. Билибина, 1938 г.
Собственность художника, Ленинград
- 318 -
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье басурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце бранное черкасское (122—126).И пошел он домой призадумавшись
К молодой хозяйке, за Москву-реку,
И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович (171—174).И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шопотом (241—242).И что скажут злые соседушки?
И кому на глаза покажусь теперь? (274—275).И пришли его два брата, поклонилися
И такое слово ему молвили (291—292).А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца (391—392).И бугор земли сырой тут насыпали
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют, шумят ветры буйные
Над его безыменною могилкою (497—500).Однако наряду с анафорами, построенными на широко распространенных в фольклоре союзах и, а, у Лермонтова имеется один случай повторения союза что, который в качестве признака подчиненной синтаксической конструкции (придаточного предложения) для народно-поэтической речи нехарактерен:
Уж ты где, жена, жена, шаталася?
На каком на дворе, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одежа вся твоя изорвана? (210—213).Из приведенных выше примеров мы видим, что уже повторы союзов нередко порождают в синтаксической структуре лермонтовского стиха тяготение к параллелизму. Эта тенденция выявляется еще нагляднее в случаях анафорического повторения вопросительных частиц или отрицаний при глаголе:
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила? (48—50).Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал худо-кованый?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий? (71—77).Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью (175—176).Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от света небесного (394—396).Однако повтор может захватывать, помимо служебных частиц, стоящих «на виду», в начале стиха, также и соседние слова, в результате чего ощутимость параллелизма усиливается:
- 319 -
И ударил в-перво́й купца Калашникова,
И ударил его посередь груди (413—414).Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости (232—234).
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову (450—451).
Перед кем покажу удальство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь? (118—119).Среди словесных повторов, способствующих возникновению параллелизма, обращает на себя внимание обширная и разнообразная группа повторений глаголов, напр.:
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь (33—34).Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчевые (114—115).Как полюбишься — празднуй свадебку,
Не полюбишься — не прогневайся (139—140).Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи? (254—255).Разумеется, повторы могут располагаться не только в начале, но и внутри стиха:
Вот он слышит — в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые (201—202).Помимо прямого порядка расположения членов параллели, возможен и обращенный (хиастический):
Я слуга царя, царя грозного (245).
При таком обращенном или контрастном размещении элементов параллель обыкновенно захватывает не один, а два стиха. В этом случае повтор служит связующим звеном между концом первого стиха и началом второго:
Ты убил на смерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца, Кирибеевича (442—443).Такого рода повторения непосредственно примыкают к так называемому «подхватыванию» стиха, при котором в состав повтора входят не отдельные, более или менее короткие по своему слоговому составу слова, а целое полустишие. В «Песне про купца Калашникова» подхватывание стиха, составляющее неотъемлемую принадлежность поэтики фольклора, нашло довольно широкое применение:
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом (145—146).А меньшой мой брат — дитя малое,
Дитя малое, неразумное (285—286).Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную (295—296).Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная (430—433).
- 320 -
Однако как бы ни подчеркивались повторами формы народного синтаксиса, построенные по принципу параллелизма, последние могут возникать и без буквальных словесных совпадений, в результате одного только морфологического тождества, которое легко проследить, разделяя стихи на части вертикальными черточками:
Ходит
Смотрит
плавно,
сладко,
будто
как
лебедушка,
голубушка (98—99).
Опускаются
Помрачаются
руки
очи
сильные,
бойкие (110—111).
Мои очи
Мои кости
слезные
сирые
коршун
дождик
выклюет,
вымоет (127—128).
Пройдет
Пройдет
Пройдет
А пройдут
стар человек —
мо́лодец —
девица —
гусляры —
перекрестится,
приосанится,
пригорюнится,
споют песенку (502—505).
Разумеется, параллелизм лишь в сравнительно редких случаях достигает такой математической правильности, как в приведенных выше примерах. Гораздо большее распространение имеют типы неполного и приблизительного параллелизма, а также формы, в которых один из членов параллели оказывается более развитым и потому более длинным, чем другой:
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася? (337—338).Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается;
А лихой боец, молодой купец
Со родными братьями прощается (476—479).Куда ветер дует в поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушные;
Когда сизой орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются (314—319).Наконец, у Лермонтова имеется также пример параллелизма, поддержанного как повторением слов, так и их морфологическим тождеством:
Поклонитесь от меня Алёне Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную! (483—489).С точки зрения фольклорной поэтики в высшей степени характерно, что троекратное «поклонитесь» возникает у Лермонтова не как абстрактный повтор, а в тесной связи с конкретным содержанием приведенного отрывка. Тройственность поклонов (но без словесных повторений) появляется и в следующих стихах «Песни»:
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому (375—377).Последний из рассмотренных примеров вплотную подводит нас к общей оценке стилистических средств, примененных поэтом в «Песне про купца
- 321 -
Калашникова». Однако, прежде чем подводить итоги, необходимо несколько задержаться на системе сравнений и метафор, а также других тропов и фигур в произведении Лермонтова.
Отрицательные сравнения в лермонтовской «Песне» представлены всего одним, но достаточно развернутым образцом, в котором каждый из членов сравнения занимает два стиха:
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“
Рисунок А. Мирошхина, 1939 г.
Литературный музей, МоскваНе сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич (16—19).Несколько шире использовал Лермонтов положительные сравнения, которые, как известно, менее характерны для поэтики русского фольклора, чем отрицательные. В качестве соединительной частицы при сравнениях Лермонтова служат не только словечки «будто», «словно»,
- 322 -
употребительные в народном языке, но и вполне «литературная» частица «как». Однако круг образов, на которых строятся лермонтовские сравнения, по большей части весьма близок фольклору:
Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого (36—39).Как стекло горит сабля вострая (83).
Ходит плавно, будто лебедушка,
Смотрит сладко, как голубушка,
Молвит слово — соловей поет;
Горят щеки ее румяные
Как заря на небе божием (98—102).Смотрят очи мутные, как безумные (208).
Затряслась, как листочек осиновый (225).
Твои речи — будто острый нож (230).Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце (334—335).И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег (405—406).И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала (419—420).Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная (430—433).Впрочем, в употреблении Лермонтовым соединительной частицы «как» при сравнениях не следует видеть пренебрежения к мелочам, относящимся к внешнему построению речи. Так, например, условным предложениям в «Песне про купца Калашникова» он придает своеобразную народную форму, которая обходится без словечка «если» и даже без аналогичной фольклорной частицы «коли»:
А прогневал я тебя — воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову (65—66).
А побьет он меня — выходите вы (307).Метафоры в качестве самостоятельного выразительного средства, как известно, играют не особенно значительную роль в народной поэтике. У Лермонтова мы находим отдельные метафорические эпитеты:
Туда мчатся и тучки послушные (315).
Заунывный гудит-воет колокол (470).Метафоры:
Не любуются им тучки синие (17).
Когда всходит месяц, звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднебесью (51—52).Кроме того, в «Песне про купца Калашникова» имеются два образца развернутой метафоры, из которых первый был специально отмечен Ц. Балталоном в качестве нарочито литературного:
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою цалуются (103—106).
- 323 -
...Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася? (332—338).Строго говоря, метафорический элемент, содержащийся во втором примере, так же как и в приведенных выше образцах метафоры, почти полностью поглощается типичным для фольклора антропоморфизмом в изображении явлений природы.
Из других стилистических особенностей «Песни» Лермонтова необходимо отметить гиперболу, которая, повидимому, содержится в следующих стихах:
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником (41—43).Метонимия и синекдоха:
Не родилась та рука заколдованная (80).
Злато, серебро пересчитывает (157).Иносказание:
Когда всходит месяц, звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднебесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушатися (51—56).И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушные;
Когда сизой орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, наш второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь;
А уж мы тебя, родного, не выдадим! (313—322).Усиление от противоположного (например, подчеркивание единичного при помощи противоположного всеобщего):
И все пили, царя славили.
Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов (29—32).У ворот стоят у тесовыих
Красны девушки да молодушки
И любуются, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается (91—95).Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости (232—234).Ирония:
Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью (464—468).
- 324 -
Наш очерк языка и стиля «Песни про купца Калашникова» следует, повидимому, еще дополнить образцами специфически народных лексических форм, т. е. таких элементов, на которых многие писатели целиком основывают свои подражания фольклору. Примечательно, что Лермонтов ими не злоупотребляет:
От вечерни я домой шла нонече (235).
Что пужаешься, красная красавица (243).
Для охотницкого бою, одиночного (348).
Над плохими бойцами подсмеивает (365).
Супротив него он становится (380).
Могутные плечи распрямливает (382).
И ударил в-первой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди (413—414).
Хорошо тебе, детинушка,
...Что ответ держал ты по совести (453, 455).
И головушка бесталанная (492).
Поклонитесь от меня Алёне Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать (483—485).
На чисто́м поле промеж трех дорог (495).Если бы близость «Песни про купца Калашникова» к фольклору основывалась только на подобной специфической лексике, то она в значительной мере уравновешивалась бы лексически и стилистически чуждыми элементами, которые проникли в произведение Лермонтова. К последним относятся отдельные неубедительные энклитики — напр.: «повеле́л тогда» (25), «не мочи́л усов» (32) и проклитики — напр.: «свежей си́лою» (310), отмеченные выше случаи переноса ударения с предлога на существительное, употребление литературных форм деепричастий, а также соединительной частицы «как» при сравнениях. Сюда следует присоединить еще несколько слов и выражений, которые в системе народной речи представляются сомнительными: стремглав (54, 268), пса-ворчуна (169), лишь (364), вдруг (371), пристально (379), висок (427), слегка (428), а также два случая немыслимой инверсии:
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли (192—193).
И домой стремглав бежать бросилась (268).Но в интересах справедливости необходимо отметить, что соединительную частицу «как» при сравнениях Лермонтов мог найти в сборнике Кирши Данилова, напр.:
Стрелы летят как часты дожди...
Тугарин почернел как осення ночь,
Алёша Поповичь стал как светел месяц...143.Что же касается отдельных слов, взятых из чуждой языковой среды, то и у самых заправских народных певцов и сказителей можно встретить даже гораздо болея грубые нарушения лексического строя, напр.:
Я привез же нынь себе-ка супротивную,
А принять же нам с Настасьей по злату венцу. —
Сделали об их же публикацию,
Провели же ю да в верушку крещоную144.Или:
И дам я вам пофальный лист,
Ездить по иным городам и ярмонкам,
Торговать всё товарами разныма
Без дани без пошлины,
Без государевой подати145.
- 325 -
ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ К ОПЕРЕ А. РУБИНШТЕЙНА „КУПЕЦ КАЛАШНИКОВ“
Акварель М. Шишкова, 1879 г.
Театральный музей им. Бахрушина, Москва
- 326 -
Перейдем к подведению итогов. К каким общим выводам могут привести наши наблюдения относительно языка и стиля «Песни про купца Калашникова»? Является ли она таким же или только несколько более удачным подражанием фольклору, как и ряд других рассмотренных нами литературных произведений в народном стиле, или же имеется какая-то принципиальная разница между «Песней» Лермонтова и предшествовавшими ей стилизациями народной поэзии? Думается, различие здесь не количественное, а качественное. В подражательных опытах предшественников Лермонтова за основу берется (иногда сознательно, а чаще непроизвольно) система литературной речи и выразительных средств. На эту последнюю более или менее успешно проецируются отдельные признаки языка и стиля поэзии фольклора, которые не вживаются органически в художественную ткань произведения, а остаются на ее поверхности в качестве самоценных формальных элементов. Лермонтов идет иным путем. Вместо «богатырской сказки», сюжет которой можно проследить лишь с величайшим напряжением внимания и в которой поэтому детали формы назойливо выдвигаются на первый план, он создает единое по замыслу произведение, насыщенное подлинным драматизмом. Нелепо было бы думать, что цельные характеры, напряженно развивающееся действие, острота коллизии служили приложением к накопленному поэтом словарному и стилистическому фонду народной поэзии, который искал литературного применения. Этот последний был вызван к жизни возникшей у Лермонтова художественной идеей, которая была воплощена им в «Песне про купца Калашникова». Интерес Лермонтова, как у «настоящего» сказителя, сосредоточивается на содержании «Песни». Этим объясняются огромное разнообразие и естественность примененных им выразительных средств, этим же объясняются и отдельные случайные противоречия строю народно-поэтической речи. Но инородные элементы, проникшие в «Песню» Лермонтова, так же бесследно растворяются в его произведении, как не замечается у «настоящего» сказителя, портного по ремеслу, сравнение покатившейся головы с пуговицей. Это происходит потому, что в «Песне про купца Калашникова» нашла воплощение целостная система, а не отдельные детали народного языка и стиля, потому что Лермонтов не подражал фольклору, а создал свое произведение на основе органически усвоенных им народно-поэтических традиций.
V
Проблема стиха «Песни про купца Калашникова» является в научной литературе, посвященной творчеству Лермонтова, одним из наименее разработанных участков. Сведения наших историков литературы о ритме «Песни» скудны, отрывочны и противоречивы. Некоторые литературоведы, как мы видели, соглашались успокоиться на неподтвержденной доказательствами версии о близости ритмики «Песни про купца Калашникова» к «Добрыне» Львова, написанному схематически правильным пятисложным размером с дактилическими окончаниями. По мнению Висковатова, Лермонтов «усвоил себе... размер былин, полухореический, полудактилический»146. Характер лаконизма, присущий этому указанию, избавил автора от необходимости привести примеры подобного «полухореического, полудактилического» былинного размера, поиски которого среди памятников нашего фольклора представили бы достаточно неблагодарную
- 327 -
задачу. Д. И. Абрамович в своей заметке «О стихе Лермонтова»147 устранил теоретические трудности, связанные с определением ритма «Песни про купца Калашникова», зачислив ее без дальнейших пояснений в разряд произведений Лермонтова, написанных «народным размером». Наконец, в книге Д. Г. Гинцбурга «О русском стихосложении»148, посвященной «исследованию ритмического строя стихотворений Лермонтова», стиху «Песни про купца Калашникова» уделено три странички, на протяжении которых автор проделал с произведением Лермонтова все операции, принятые среди представителей «музыкального» уклона в русском стиховедении: расстановка ряда произвольных ударений и подведение текста под нотные музыкальные обозначения. Однако никаких теоретических определений ритмического строя «Песни» Д. Г. Гинцбургу из этого извлечь не удалось.
Новейшие теоретики литературы пытаются определить ритм «Песни про купца Калашникова», применяя востоковские определения народного стиха. Так, В. М. Жирмунский, в своей книге «Введение в метрику» (Л., 1925) констатирует у Лермонтова три обязательных ударения и постоянное дактилическое окончание, а также подвижную цезуру в середине стиха (стр. 250—251). Прежде всего необходимо отметить противоречивость понятия «подвижной» цезуры, отменяющего обычное ее понимание, как постоянного (т. е. неподвижного) словораздела, которое разделяется, в частности, и самим Жирмунским. В том же «Введении в метрику» он называет цезурой «сечение стиха на определенном слоге, метрически обязательное» (стр. 145). Однако, основной интерес замечаний Жирмунского заключается в определении стиха «Песни» как трехударного. Совсем недавно А. Квятковский, затрагивая мимоходом ритмику «Песни», стал на ту же точку зрения («Лит. учеба» 1941, № 2, 28).
Тем не менее, как это не раз бывало в литературоведении, математическая точность оказывается в данном случае обманчивой. Г. Н. Поспелов, также пытаясь свести ритм лермонтовской «Песни» к равноударности, находит в ней лишь по два сильных ударения на каждый стих («Литература в школе» 1936, № 6, 32—47).
Столь плачевные итоги изучения ритмики «Песни про купца Калашникова» за истекшее столетие нельзя признать случайными. Все существовавшие в теории русской литературы описания стиховых систем оказывались неприложимыми к произведению Лермонтова. Стопы «литературного» стихосложения должны были отпасть в силу отсутствия в «Песне» какого-либо ритмического схематизма. Разрабатывать те или иные музыкальные варианты ритмики было заведомо нелепо ввиду того, что «Песня про купца Калашникова» не только не утеряла, но никогда и не имела при себе музыкального напева. Востоковская теория народного стихосложения, построенная на равенстве числа ударений из стиха в стих, еще нагляднее, чем в поэтических произведениях фольклора, опровергалась наличием у Лермонтова совершенно бесспорных двухударных и трехударных строк.
Стихи с двумя ударениями:
И причитывали, да присказывали (7).
Вдоль по улице одинешенька (236).
Мои ноженьки подкосилися (239).
Меня честную, непорочную (273).
- 328 -
Дитя малое, неразумное (286).
Как сходилися, собиралися (339).
Со боярами и опричниками (344).
Выходите-ка во широкий круг (353).
По прозванию Калашников (374).
Мне головушку повинную (449).
Поцалуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание (481—482).
И головушка бесталанная (492) и т. д.Стихи с тремя ударениями:
И пришли его два брата, поклонилися (291).
А уж мы тебя, родного, не выдадим (322).
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже, как завтра в час полуденный (398—399).
К тебе вышел я теперь, басурманский сын (403).
И ударил в-перво́й купца Калашникова (413).
Отвечай мне по правде, по совести (440).
Промеж тульской, рязанской, владимирской (496).Таким образом, на пути исследователя ритмики «Песни про купца Калашникова» неизбежно возникал ряд непреодолимых трудностей, которые объясняются тем, что проблема народного стиха в целом все еще не была разрешена русским литературоведением.
Проделанный нами в предыдущей главе анализ языка и стиля «Песни» Лермонтова намечает направление, в котором должны вестись наши поиски, и до некоторой степени предрешает их результаты. Поскольку произведение Лермонтова по своему лексическому и стилистическому составу оказывается весьма близким к образцам поэзии нашего фольклора, то фонетическая система его языка значительно понижает вероятность самостоятельного использования поэтом тех или иных «литературных» размеров или их комбинаций. В ритмике «Песни», как и в народной поэзии, ведущая роль должна принадлежать более многосложным группировкам слогов, чем те, которые закреплены в стопах силлабо-тонического стихосложения. Однако отыскание ритмических закономерностей в «Песне про купца Калашникова» затрудняется, как и в фольклоре, отсутствием ритмического схематизма. В этом легко убедиться из следующей общей таблицы распределения ударений по слогам в произведении Лермонтова:
№№ слогов
в стихе1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Встречаемость
ударений в %%1,2
2,7
96,9
0,7
28,0
33,3
19,3
36,3
35,2
17,0
3,0
0,9
0
0
Выводы, которые можно извлечь из приведенной таблицы, сводятся к немногим фактам, достаточно очевидным и без подсчетов: Лермонтов с незначительными отступлениями соблюдает обычные в фольклоре анапестические зачины стиха, а на следующий после зачина четвертый слог ударения не попадают, чтобы избежать столкновения с загруженным ударениями третьим слогом. В остальном слоговое распределение ударений «Песни», судя по приведенной таблице, приходится признать лишенным какой-либо системы.
Полученные нами выводы, базирующиеся на подсчетах распределения ударений в «Песне про купца Калашникова», не заключают в себе ничего неожиданного для исследователя фольклорного стиха. Даже весьма
- 329 -
отчетливые ритмы русской народной поэзии, деформированные лишь самыми элементарными отступлениями, сплошь и рядом совершенно не улавливаются существующими приемами статистического учета ударений стиха. Это объясняется тем, что в народном стихе, как и в других тонических системах стихосложения, наибольшей ритмической устойчивостью обладает не начало, а конец ритмического ряда. Основным опорным пунктом ритмической организации является последнее ударение стиха, опирающееся в рифмованных стихах на рифму, а в нерифмованных — на систему стиховых клаузул определенного типа. Последнее ударение по своему положению является постоянным или константным, иными словами, оно не может подвергаться никаким отменам и смещениям. Прочие ударения стиха не обладают устойчивостью тонической константы, но сохраняют тем бо́льшую закономерность в размещении, чем ближе они расположены к последнему, константному ударению. По мере удаления от тонической константы они все более теряют свою упорядоченность. Поэтому, учитывая ударения, как обычно принято, от начала стиха, мы принимаем за отправной пункт наиболее слабо организованную в ритмическом отношении часть стиха, а малейшее несовпадение в распределении начальных слогов влечет за собой разнобой дальнейших ударений, включая и константное.
ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ К ОПЕРЕ А. РУБИНШТЕЙНА „КУПЕЦ КАЛАШНИКОВ“
Акварели В. Симова, 1898 г.
Театральный музей им. Бахрушина, Москва.В моих статьях о стихе русского фольклора149 была предложена иная система учета ударений в русском народном стихосложении — от последнего,
- 330 -
константного ударения к началу стиха — и показаны ее преимущества на конкретных образцах поэзии русского фольклора. При этом оказалось, что подсчеты, отправляющиеся от последнего ударения, выявляют ритмические закономерности, которые, так же как в «Песне про купца Калашникова», не обнаруживались обычным учетом ударений от начала стиха. Эта система статистических подсчетов нашла применение и в цифровых материалах по ритмике «Песни» Лермонтова, которые приводятся в настоящей работе.
Переходя к рассмотрению ритмической организации «Песне про купца Калашникова», отметим прежде всего внешние особенности стиховой структуры произведения Лермонтова.
По своему слоговому составу стихи «Песни» колеблются от 7 до 14 слогов:
Число слогов в стихе
7
8
9
10
11
12
13
14
Встречаемость
2
1
44
166
177
103
19
1
То же в %%
0,4
0,2
8,6
32,4
34,5
20,1
3,7
0,2
Примеры семисложного стиха:
Гусляры молодые,
Голоса заливные (507—508).Восьмисложного:
Клич кликать звонким голосом (350).
Девятисложного:
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш (26—27).Десятисложного:
Угощали нас три дня, три ночи,
И все слушали — не наслушались (14—15).Одиннадцатисложного:
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника (2—3).Двенадцатисложного:
Опустил головушку на широку грудь,
А в груди его была дума крепкая (34—35).Тринадцатисложного:
Да про смелого купца, про Калашникова (4).
Али служба тебе честная прискучила? (50).Четырнадцатисложного:
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася? (337).
Если отбросить семи-, восьми- и четырнадцатисложные стихи, представленные единичными образцами, то окажется, что основной слоговой состав стихов в произведении Лермонтова вариируется в пределах от девяти до тринадцати слогов. Таким образом, при всей ограниченности этих колебаний, стих «Песни про купца Калашникова» лишен каких-либо тенденций к упорядоченному силлабизму.
- 331 -
Применение различных типов стиховых зачинов (начала стиха) характеризуется следующими данными: ударяемым слогом (хореический зачин) стих начинается в шести случаях, напр.:
Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте! (148—149 и 323—324).Одним неударяемым (ямбический зачин) — в четырнадцати случаях, напр.:
Нам чарку поднес меду пенного (10).
И кличет он старую работницу (178).Двумя неударяемыми (анапестический зачин) — в 493 случаях, напр.:
Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы (1—2).Таким образом, обычные в эпических произведениях фольклора анапестические зачины имеют место в 96,1% общего состава стихов лермонтовской «Песни». Встречаются в фольклоре (у разных сказителей в различной пропорции) и ямбические и хореические зачины, примешивающиеся к анапестическим:
Зовет его Вольга Всеславьевич
С собою ехать в Курчевец,
С собою ехать в Ореховец150.
Солнышко Владимир стольнё-киевской151.При этом необходимо иметь в виду, что все отмеченные выше шесть случаев хореического зачина в «Песне» Лермонтова встречаются не в основном тексте, а в особых концовках-припевках, замыкающих отдельные главы произведения. Эти концовки, как мы увидим далее, характеризуются и по ряду других признаков несколько отличной ритмической структурой.
Клаузулы, или окончания стиха, в «Песне про купца Калашникова» относятся к следующим типам.
Женские (на один неударяемый слог) — 12 случаев, напр.:
Красно начинали — красно и кончайте;
Каждому правдою и честью воздайте (509—510).Дактилические (на два неударяемых слога) — 451 случай, или 87,9% всех клаузул, напр.:
Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской, белокаменной (327—328).Пеонические (на три неударяемых слога) — 47 случаев, или 9,2%, напр.:
Боевые рукавицы натягивает (381).
Чтобы знать, по ком панихиду служить (388).Гиперпеонические (на четыре неударяемых слога) — 3 случая:
Супротив его все бояре да князья (21).
Ты не дай меня, свою верную жену (276).
Ты убил на смерть мово верного слугу (442).Все 12 примеров женского окончания стиха, так же как и отмеченные выше хореические зачины, относятся к концовкам-припевкам отдельных глав «Песни». Таким образом, основные типы клаузул в «Песне» Лермонтова — дактилический и пеонический. Необходимо иметь в виду, что эти
- 332 -
последние, а также гиперпеонические клаузулы и анапестические зачины нередко являются составными, т. е. включают слова, которые, по аналогии с народным стихом, скрадывают свое ударение в пользу предшествующего или последующего слова. Составные дактилические, а также пеонические и гиперпеонические клаузулы, примешивающиеся в небольшом количестве к дактилическим, известны нам по изданиям былинных текстов, например, по «Онежским былинам» А. Ф. Гильфердинга (2-е изд., Спб., 1894, I).
Дактилические:
Ложился тут Добрыня на вели́к одёр (стр. 43).
Ты зачим летела через Ки́ев град (стр. 45).
З-за небесей Добрыне снова гла́с гласит (стр. 46).Пеонические:
Я вечор же братци был жена́т не холост,
А нынечу я стал братци холо́ст не женат (стр. 37).
А нунь эта кобылушка кобы́лой стала (стр. 315).Гиперпеонические:
А Алеша Попович в богомо́льной стороны (стр. 451).
И он прибил прирубил до еди́ной головы (стр. 454).Переходя к характеристике основных особенностей ритма «Песни про купца Калашникова», необходимо прежде всего отметить возникшие в процессе его изучения специальные трудности, относительно которых может быть вынесено и иное решение, чем то, к какому пришел автор настоящей работы.
Следующие стихи допускают двойственную трактовку:
Твоему горю пособить постараюся (133).
И ударил своего ненавистника (426).Притяжательные местоимения «твоему», «своего» рассматривались мною, вопреки написанию, как двухсложные слова. Такая трактовка этих слов была принята не только на основании узуального их произношения в разговорной речи (нечто вроде «твойму», «свойво»), но и по аналогии с формой «мово», «твово» в «Песне» Лермонтова:
Про твово любимого опричника (3).
Ты убил на смерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца, Кирибеевича (442—443).Другая, впрочем также немногочисленная, группа затруднений связана с необходимостью производить выбор между двумя параллельно существующими и более или менее равноправными акцентными формами, напр.:
Скидает с могу́чих плеч шубу бархатную (358).
Объединение группы слов «с могучих плеч» под одним ударением возможно в народной речи в двух вариантах: «с могу́чих плеч» и «с могучи́х плеч». Как в данном, так и в аналогичных случаях мною принимались более простые формы, которые мало или совсем не противоречат словоупотреблению разговорного языка.
Однако наиболее значительные трудности связаны не с выбором тех или иных акцентных форм, которые лишь сравнительно редко допускают двоякое толкование, а с обычными у исследователей ритмики колебаниями между «облегченной» и загруженной ударениями интерпретацией текста, напр.:
- 333 -
Позади его стоят стольники,
Супротив его все бояре да князья,
По бокам его все опричники (20—22).В этих стихах слово «его» может сохранять свое ударение, но может рассматриваться и как безударное. Если в данном случае более вероятным кажется «облегченное» чтение, то в другом, возможно, придется отдать предпочтение варианту, сохраняющему максимум ударений, напр. (сомнительные ударения на словах «своей» и «тебе»):
С кем казною своей поделюсь теперь? (117).
Не поведал тебе, что красавица (144).Любопытно, что в последнем примере цитированному стиху предшествует стих, в котором правдоподобнее безударное слово «тебе»:
Не сказал тебе правды истинной (143).
ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ К ОПЕРЕ А. РУБИНШТЕЙНА „КУПЕЦ КАЛАШНИКОВ“
Акварели В. Симова, 1898 г.
Театральный музей им. Бахрушина, МоскваСовершенно очевидно, что решения, принятые в том или ином сомнительном случае на основании субъективного понимания, обладают столь же ограниченной научной ценностью, как и попытки аргументировать свое толкование при помощи ссылок на ритмическую инерцию контекста. Последний прием, неоднократно применявшийся некоторыми исследователями (например, акад. Ф. Е. Коршем в его работе о «Слове о полку Игореве»), в особенности недопустим ввиду того, что установление формы ритма само по себе является в подобных случаях конечной целью разысканий. Поэтому в процессе изучения ритмики стихотворного произведения ритмическая инерция не может приниматься в качестве свидетельства в пользу данного частного решения. К тому же «Песня про купца Калашникова», как мы увидим далее, не обладает однотипным ритмом. Во многих случаях каждый из двух сомнительных вариантов акцентировки без труда мог бы быть оправдан с точки зрения ритмических форм, примененных в «Песне» Лермонтова.
Все эти соображения вынудили меня отмечать особым значком сомнительные ударения в ритмической записи «Песни» Лермонтова, а при извлечении
- 334 -
из нее статистической сводки разработать два варианта: с максимальной и минимальной нагрузкой ударениями. Ввиду того, что подлинная ритмика «Песни» характеризуется чем-то промежуточным по отношению к этим двум вариантам, последние сведены воедино при помощи средних цифр, которые затем обращены в проценты152:
№№ ударений от
константы12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Клаузула
Минимум ударений.
0
5
3
13
95
181
194
134
180
19
0
513
0
0
0
0
Максимум ударений.
0
5
3
13
95
181
194
142
269
57
0
513
0
0
0
0
Средний вывод...
0
5
3
13
95
181
194
138
224,5
38
0
513
0
0
0
0
То же в %%
0
1,0
0,6
2,5
18,5
35,3
37,8
27,0
44,0
7,6
0
100,0
0
0
0
0
Цифровой материал нашей таблицы, подытоживающий распределение ударений в «Песне про купца Калашникова», свидетельствует о сложности ее ритмической организации. Наибольшую после константы нагрузку ударениями несут слоги четвертый, шестой и седьмой. То обстоятельство, что высокие показатели ударяемости ложатся на соседние слоги, шестой и седьмой, т. е. как бы раздваиваются, указывает, что ритмика «Песни» Лермонтова не является однородной, а складывается из ритмических форм разных типов. Этот вывод подкрепляется и показателями ударяемости на пятом и восьмом слогах, которые менее загружены ударениями, чем отмеченные выше слоги, но все же нуждаются в специальном рассмотрении. Итак, попытаемся выяснить, какие конкретные типы стихотворного ритма скрываются за нашими цифровыми материалами.
В первую очередь необходимо отметить значительную группу чистых трехсложников, входящих в ритмический состав «Песни» Лермонтова, напр.:
Про тебя нашу песню сложили мы (2).
Не любуются им тучки синие (17).
Он железным пробил оконечником (43).
Да не вздрогнул и тут молодой боец (44).
Что светлей им гулять по поднебесью (52).
И семьею ты вскормлен Малютиной (58).
Не кори ты раба недостойного (62).
Не истерся ли твой парчевой кафтан (71).
Или конь захромал худо-кованый?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою (75—76).
Покачав головою кудрявою (79).
Ни в боярском роду, ни в купеческом (81).
Аргамак мой степной ходит весело (82).
А на праздничный день, твоей милостью,
Мы не хуже другого нарядимся (84—85).
Заломлю на бочок шапку бархатную (89).
Лишь одна не глядит, не любуется (94) и т. д.Другим ритмическим компонентом «Песни про купца Калашникова» является тот самый пятисложный ритм, который составил «открытие» Н. Львова в его «Добрыне». Однако Львов, в отличие от Лермонтова, пользуется пятисложником как самостоятельным стихотворным размером, отказываясь от сочетания его с другими, и последовательно схематизирует его. У Лермонтова пятисложник представлен довольно широко,
- 335 -
особенно если учесть, что немало стихов с описанными выше сомнительными ударениями при «облегченном» чтении подчиняется его инерции:
И все слушали — не наслушались (15).
По бокам его все опричники (22).
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную не запотчевать! (63—64).
На Москве-реке, сын купеческий (77).
За Москву-реку покататися (87).
Черным соболем отороченную (90).
Красны девушки да молодушки (92).
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные (103—104).
Скучно, грустно мне, православный царь (112).
И без по́хорон горемычный прах (129).
Не полюбишься — не прогневайся (140).
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом (145—146) и т. д.Таковы ритмические типы, наиболее широко использованные в «Песне про купца Калашникова». Их наличием и объясняется высокая нагрузка ударениями четвертого, шестого и седьмого слогов (считая от константы) в нашей статистической таблице. Трехсложники образуют убывающий ряд (в процентах): 100,0—44,0—35,3 на первом, четвертом и седьмом слогах, а пятисложники: 100,0—37,8 на первом и шестом слогах.
Нам остается еще объяснить менее высокую, хотя все же значительную встречаемость ударений на пятом (27,0%) и на восьмом слогах (18,5%). Ей соответствует сочетание трехсложной группировки слогов с четырехсложной, которое мы, действительно, находим в «Песне» Лермонтова:
Ох ты го́й еси ца́рь Иван Васи́льевич (1).
Тяготит она плечи богатырские (67).
И сказал ему царь Иван Васильевич:
Да об чем тебе, молодцу, кручиниться? (69—70).
Не измялась ли шапка соболиная? (72).
Иль зазубрилась сабля закаленная (74).
Как я сяду-поеду на лихом коне (86).
И любуются, глядя, перешептываясь (93).
Не найти, не сыскать такой красавицы (97).
Во семье родилась она купеческой (107) и т. д.Столь же часто встречается у Лермонтова и сочетание четырехсложной группировки слогов с трехсложной, ударения которых располагаются на четвертом слоге (уже учитывавшемся нами при анализе трехсложных ритмов) и на том же, как и в предыдущей комбинации, восьмом слоге от константы:
Да про сме́лого купца́ про Кала́шникова (4).
А боярыня его белолицая (11).
То за трапезой сидит во златом венце (18).
В удовольствие свое и веселие (24).
А в груди его была дума крепкая (35).
Гей ты, верный наш слуга Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую? (47—48).
Неприлично же тебе, Кирибеевич (55).
А прогневал я тебя, — воля царская (65).
И сама к сырой земле она клонится (68) и т. д.Разумеется, этими основными формами, легко выявляемыми при помощи статистики, ритмика «Песни про купца Калашникова» еще не исчерпывается. Мы находим у Лермонтова несколько образцов четырехсложного
- 336 -
ритма с тремя ударениями, который пользуется, как показано в моей работе о стихе русского фольклора, большой популярностью у ряда сказителей и певцов:
Али слу́жба тебе че́стная приску́чила (50).
Закружилась моя бедная головушка (249).
И пришли его два брата, поклонилися (291).
Что лиха беда со мною приключилася (298).
Для охотницкого бою, одиночного (348).
Поклонитесь от меня Алёне Дмитревне (483).Встречаются и всевозможные иные комбинации распределения ударений, например, двухсложник с двухсложником:
Набега́ют ту́чки на́ небо (163).
А ты сам ступай, детинушка (461).Двухсложник с трехсложником:
Улыба́ясь, ца́рь повеле́л тогда (25).
Али славе нашей завидуешь (49).Двухсложник с четырехсложником:
Про твово́ люби́мого опри́чника (3).
И седельце бранное черкасское (126).Двухсложник с пятисложником:
Опусти́л голо́вушку на широ́ку грудь (34).
На младого голубя сизокрылого (39).Трехсложник с двухсложником:
Кушачко́м подтяну́ся шо́лковым (88).
На железную цепь привязывает (170).Трехсложник с пятисложником:
А свеча́ перед о́бразом еле те́плится (177).
Шестисложник:
И причи́тывали, да приска́зывали (7).
Вообще необходимо сказать, что Лермонтов мастерски использовал все ритмические комбинации, возможные в пределах того скромного по размаху колебаний слогового состава, который он принял за основу стиха своего произведения.
В сочетании стихов между собой местами заметно тяготение к кратковременным ритмическим инерциям. Эти последние иногда ограничиваются слоговым равенством ряда стихов.
Напр., девятисложные стихи:
Твои речи — будто острый нож:
От них сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости (230—234).Одиннадцатисложные стихи:
Вот уж поп прошел с молодой попадьей,
Засветили свечу, сели ужинать —
А по-сю-пору твоя хозяюшка
Из приходской церкви не вернулася (188—191).
- 337 -
Однако нередко ритмическая инерция строится на тождественном распределении ударений, например, трехсложный ритм:
Лишь стоят, да друг друга поталкивают.
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
Присмирели, небойсь, призадумались! (364—367).
ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ К ОПЕРЕ А. РУБИНШТЕЙНА „КУПЕЦ КАЛАШНИКОВ“
Акварели В. Симова, 1898 г.
Театральный музей им. Бахрушина, МоскваЧетырехсложный ритм:
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднесть его опричникам,
И все пили, царя славили (26—29).Пятисложный ритм:
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются (103—105).Или:
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелково́й фатой я закрылася (238—240).
- 338 -
Необходимо еще сказать несколько слов об особенностях ритмической структуры припевок-концовок, замыкающих отдельные главы «Песни про купца Калашникова». Первая и вторая главы заканчиваются одной и той же концовкой из четырех стихов:
Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую! (148—151 и 323—326).Стихи эти равносложны: каждый из них состоит из двенадцати слогов. Первые два стиха представляют собой шестистопный хорей с женскими окончаниями. Таким образом, они являются резким ритмическим контрастом по отношению к предшествующему, основному тексту «Песни». Ритмика третьего и четвертого стихов построена по тем же принципам, как и все произведение Лермонтова.
Третья глава — и в то же время вся «Песня про купца Калашникова» — замыкается несколько более распространенной концовкой, которая состоит из восьми стихов, различных по слоговому составу, сплошь с женскими окончаниями:
Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте;
Каждому правдою и честью воздайте.
Тароватому боярину слава!
И красавице-боярыне слава!
И всему народу христианскому слава! (506—513).Эти стихи, особенно первые три, напоминают по своему складу строение раешника. Для них характерны резкие колебания слогового состава (от 7 до 12 слогов) и выдвигающаяся на первый план рифмовка, которая переходит в заключительных трех стихах в словесный повтор: троекратная «слава» в духе народной поэзии замыкает произведение Лермонтова.
Таковы основные особенности ритма «Песни про купца Калашникова». Лермонтов чрезвычайно широко использовал ритмические возможности лишенной нарочитого схематизма свободной ритмики русского народного стиха. Однако мы не можем ограничиться выводами, вытекающими из замкнутого, «имманентного» рассмотрения стиховой структуры произведения Лермонтова. Перед нами, естественно, должны возникнуть вопросы о теоретической и историко-литературной значимости достигнутых результатов. Прежде всего, что это за «комбинированная» ритмика, составляемая из разнородных ритмических элементов? Как относится она к традициям фольклорного стиха? Только разрешив эти недоумения, сможем мы оценить стих «Песни про купца Калашникова» не в качестве самодовлеющего образца формы, а в его реальных связях с содержанием и стилем произведения Лермонтова и с ходом развития русской литературы.
«Комбинированная» ритмика «Песни про купца Калашникова» не является теоретическим измышлением. Некоторые сказители и певцы русского народа (в том числе иногда и наиболее одаренные из них) выказывают явное пристрастие к подобным текучим, сменяющимся ритмам. В моей работе о стихосложении русского фольклора, на которую выше уже неоднократно приходилось ссылаться, я изложил результаты ритмического
- 339 -
анализа первых пятидесяти стихов из былины «Молодость Добрыни и бой его с Ильёй Муромцем»153 знаменитой сказительницы и сказочницы М. Д. Кривополеновой. Статистические подсчеты распределения ударений у Кривополеновой, так же как и у Лермонтова, свидетельствуют о раздвоении опорных пунктов ритма: наибольшие цифры встречаемости ударений падают на четвертый-пятый и седьмой-восьмой слоги от константы. Соответственно этому в числе основных ритмических типов у Кривополеновой мы находим сочетание трехсложника с трехсложником, трехсложника с четырехсложником, четырехсложника с трехсложником. Все же, в целом, ритмика Кривополеновой, конечно, мало похожа на лермонтовскую, так как разнятся и пропорции использования отдельных размеров, а частично и их основные типы. Стихи Кривополеновой, как правило, имеют три ударения. В силу этого одна из преобладающих ритмических форм «Песни про купца Калашникова» — двухударный стих, построенный из пятисложных группировок слогов, — составляет у Кривополеновой редчайшее исключение:
Он пристарилса, тут приставилса.
Но в принципе рассмотрение поэтической техники Кривополеновой приводит к выводу, что смешанные, комбинированные ритмы являются не теоретической фикцией, а одной из реально существующих поэтических форм русского народного стихосложения.
Разумеется, такое общее решение интересующего нас вопроса все же не может полностью удовлетворить исследователя. Даже и после принципиального обоснования смешанных ритмов в фольклоре разыскание «ритмического прототипа» «Песни про купца Калашникова» продолжает оставаться одной из заманчивых проблем изучения ритмики произведения Лермонтова. Автором настоящей работы затрачено немало усилий в этом направлении. Весьма поучительно, что поиски народных ритмов, близких к «Песне про купца Калашникова», снова приводят нас к тем материалам, которые уже рассматривались выше в качестве параллелей к отдельным мотивам произведения Лермонтова. Во второй части известного «Собрания разных песен» М. Чулкова (Спб., 1770) мы находим следующую песню:
Из Кремля, Кремля крепка города,
От дворца, дворца государева,
Что до самой ли красной площади,
Пролегала тут широкая дорожинька.
5 Что по той ли по широкой по дорожиньке,
Как ведут казнить тут добра молодца,
Добра молодца большова барина,
Что большова барина Атамана стрелецкого,
За измену против царского величества.
10 Он идет ли молодец не оступается,
Что быстро на всех людей озирается,
Что и тут царю не покоряется.
Перед ним идет грозен палачь,
Во руках несет остер топор,
15 А за ним идут отец и мать,
Отец и мать, молода жена:
Они плачут, что река льется,
Возрыдают, как ручьи шумят,
В возрыданье выговаривают,
20 Ты дитя ли наше милое,
Покорися ты самому царю,
Принеси свою повинную,
- 340 -
Авось тебя государь царь пожалует,
Оставит буйну голову на могучих плечах.
25 Каменеет сердце молодецкое,
Он противится царю, упрямствует,
Отца матери не слушает,
Над молодой женой не сжалится,
О детях своих не болезнует,
30 Привели ево на площадь красную,
Отрубили буйну голову
Что по самы могучи плеча154.Слоговой состав этой песни в основном определяется, как и у Лермонтова, колебаниями от девяти до тринадцати слогов (имеется по одному стиху четырнадцатисложному <24> и пятнадцатисложному <8>). Число ударений в стихе непостоянно. Двухударные стихи:
Возрыда́ют, как ручьи́ шумят,
В возрыда́нье выгова́ривают (18—19).Трехударные:
Он иде́т ли мо́лодец не оступа́ется,
Что бы́стро на все́х людей озира́ется (10—11).Зачины стиха по большей части анапестические, но есть пять случаев ямбического зачина (в ст. 11, 16, 23, 24, 29) и один случай, в котором первому ударению предшествуют три неударяемых слога (ст. 28). Клаузулы почти сплошь дактилические и лишь в двух стихах пеонические (ст. 19 и 24). Как зачины, так и клаузулы в ряде стихов являются, подобно лермонтовским, составными. Распределение ударений по слогам, считая от константы, оказывается следующим155:
№№ ударений от
константы13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Клаузула
Минимум ударений..
0
0
1
l
7
0
8
7
16
2
0
0
32
0
0
0
Максимум ударений.
0
0
1
l
7
0
8
7
18
3
3
0
32
0
0
0
Средний вывод ....
0
0
l
l
7
0
8
7
17
2,5
1,5
0
32
0
0
0
Цифры приведенной таблицы указывают на раздвоение опорных пунктов ритма: ударения ложатся на соседние слоги — пятый, шестой и седьмой от константы. Таким образом, ритмика этой песни как у Лермонтова, так и у Кривополеновой является неоднородной или комбинированной. Сходство с «Песней про купца Калашникова» усиливается благодаря значительному использованию пятисложных ритмов, напр.:
Из Кремля́, Кремля крепка го́рода,
От дворца́, дворца госуда́рева,
Что до са́мой ли красной пло́щади (1—3).Остальные типы ритмов также в основном совпадают, хотя в песне из Чулковского сборника гораздо шире, чем у Лермонтова, представлены обычные в фольклоре четырехсложные ритмы, которые дают встречаемость ударений 32—17—7 на первом, пятом и девятом слогах нашей таблицы. Например, трехударные четырехсложники:
Пролега́ла тут широ́кая доро́жинька.
Что по то́й ли по широ́кой по доро́жиньке (4—5).
- 341 -
Двухударные четырехсложники:
Отруби́ли буйну го́лову
Что по са́мы могучи́ плеча (31—32).В то же время в рассматриваемой песне почти отсутствуют чистые трехсложники, сравнительно обильно использованные Лермонтовым.
Таким образом, при весьма значительном сходстве ритма песни об атамане стрелецком с произведением Лермонтова, у нас все же нет оснований для полного отождествления их ритмической структуры.
В заключение нашего очерка, посвященного стиху «Песни про купца Калашникова», необходимо отметить основные черты ее звуковой организации. Как и во всяком произведении большого объема, в «Песне» Лермонтова можно при желании отыскать образцы «звукописи» и «словесной инструментовки», которую наши теоретики литературы за короткий срок, истекший со времени «открытий» символистов, успели проследить на всех этапах развития и во всех жанрах и стилях русской литературы чуть ли не от Бояна до наших дней.
ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ К ОПЕРЕ А. РУБИНШТЕЙНА „КУПЕЦ КАЛАШНИКОВ“
Акварель В. Симова, 1898 г.
Театральный музей им. Бахрушина, МоскваЗвуковые повторы «п» и «р»:
На просторе опричник похаживает (365).
Инструментовка на «ш»:
Лишь потешу царя нашего батюшку (370).
Аллитерации на «с» («сигматическая» звукопись; в последних двух стихах — звуковая тема «м» и «у»):
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые, расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны,
Смотрят очи мутные, как безумные,
Уста шепчут речи непонятные (204—209).
- 342 -
Однако, помимо подобной «инструментовки», «Песня про купца Калашникова» действительно насыщена звуковыми совпадениями, которые лишены самостоятельных «украшающих» функций, но обусловлены, как и в фольклоре, своеобразной синтаксической структурой. В предыдущей главе нами уже отмечались звуковые повторы, возникшие на основе повторения предлогов. То же самое можно проследить, например, на однородных или похожих приставках к глаголам, соседство которых объясняется не случайным совпадением или нарочитым подбором звуков, а рассмотренными нами явлениями синтаксического параллелизма:
И услышав то, Алёна Дмитревна
Задрожала вся моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый (223—225).
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку (502—505).Разумеется, каждый словесный повтор, образцы которого были рассмотрены выше, заключает в себе одновременно и повторение звуков. Подобные повторы и создают своеобразную систему звуковой организации «Песни про купца Калашникова», происхождение которой полностью относится к традициям народной поэзии.
Особо следует остановиться на рифме в произведении Лермонтова. Хотя «Песня про купца Калашникова» и написана, как известно, нерифмованным стихом, однако «случайная», эпизодическая рифма нашла у Лермонтова довольно широкое применение. Характерно, что звуковой состав рифм в лермонтовской «Песне» оказывается с точки зрения «литературных» норм чрезвычайно несовершенным. Они являются, как и в фольклоре, не столько созвучием, сколько морфологическим подобием слов, замыкающих соседние стихи. Это объясняется тем, что рифма в «Песне про купца Калашникова» возникает по большей части как бы непреднамеренно, стихийно, в качестве факультативного сопутствующего элемента особой структуры народно-поэтического синтаксиса:
Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие (36—37).Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается (94—95).Ходит плавно, будто лебедушка,
Смотрит сладко, как голубушка (98—99).По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою цалуются (105—106).Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои очи сирые дождик вымоет (127—128).Чай забегались, заигралися,
Спозаранку спать уложилися (183—184).Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручалися,
Золотыми кольцами менялися (216—218).По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи (331—332).Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася? (337—338).
- 343 -
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает (365—366).Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает,
Да кудряву бороду поглаживает (381—383).Если оба члена параллелизма умещаются в пределах одного стиха, то морфологическое подобие окончаний каждого полустишия может послужить основой для появления эпизодической внутренней рифмы:
Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте (148—149 и 323—324).Уж гуляла ты, пировала ты (214).
Я не вор какой, душегуб лесной (244).
Полюби меня, обними меня (259).
Зовет пир пировать, мертвецов убирать (318).
Молодой купец, удалой боец (373).
Не шутку шутить, не людей смешить (402).В некоторых случаях внутренние рифмы сочетаются с рифмовкой окончаний стиха:
Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому бог простит! (354—355).Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить (464—466).Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается;
А лихой боец, молодой купец
Со родными братьями прощается (476—479).Подводя итоги проделанной аналитической работы, мы имеем, повидимому, все основания признать стих «Песни про купца Калашникова» полностью соответствующим требованиям поэтики русского фольклора. Однако Лермонтов не только усвоил характерные структурные признаки народного стиха со всеми его техническими деталями, но использовал в своем произведении наиболее сложные, неисчерпаемо разнообразные формы народной ритмики. Он не пошел по пути заимствования, подражания или копирования. Как для отдельных мотивов его произведения исследователям не удалось найти непосредственных источников, сходство с которыми у Лермонтова вырастало бы до буквального совпадения, так и для стиха Лермонтова не существует ритмического прототипа. Подобно крупнейшим певцам и сказителям русского фольклора, которые творчески воспринимали унаследованные ими поэтические формы, Лермонтов сам создал стих «Песни про купца Калашникова», и этот стих нельзя не признать воплощением подлинных народно-поэтических традиций.
*
Что же представляет собой «Песня про купца Калашникова»? Какое место занимает она в истории русской литературы? До настоящего времени большинство критиков и литературоведов, с теми или иными оговорками, приходило к выводу, что «Песня» Лермонтова представляет собой подражание эпической поэзии русского фольклора. Но в качестве подражательного произведения «Песня про купца Калашникова» не оказалась бы одинокой в нашей литературе, — она стояла бы на уровне своего
- 344 -
времени. Как мы видели, подобные подражания имели место и в XVIII в. и в первой трети XIX в., и они-то и наполняют реальным содержанием самое понятие подражательности в области литературных имитаций фольклора.
Стилизации народной поэзии распадаются в русской литературе XVIII—XIX вв. на два основных разряда, каждому из которых присущи свои индивидуальные особенности. Представители одного направления, как это вообще свойственно стилизаторам, улавливают в тех произведениях, которые избираются ими предметом для подражания, какие-то хотя и характерные, но разрозненные структурные признаки и вырывают их из художественной системы, вызвавшей их к жизни. Они переносят заимствованные признаки в среду чуждого языка и стиля, который, будучи, в свою очередь, единой системой, как бы выталкивает на поверхность эти инородные для него составные части. В результате появляются произведения смешанного стиля, в котором элементы, явившиеся в порядке заимствования, не столько создают сходство с оригиналом, сколько свидетельствуют об эстетически-ложном, формалистическом задании, руководившем поэтом в процессе творчества.
Представители другого направления гораздо глубже понимают единство и взаимосвязанность элементов народно-поэтического стиля, но в то же время признают скудость своих творческих сил для того, чтобы перенести в свои произведения не отдельные характерные признаки, а самую «душу живую» русской народной поэзии. Боясь разрушить прикосновением неопытной руки поэтическое очарование художественных памятников фольклора, они избирают то решение, которое естественно подсказывается творческой робостью художника, и ищут выхода в буквальных заимствованиях.
Совершенно иное мы встречаем у Лермонтова. Его произведение едино по своему замыслу и исполнению. В нем отсутствует мозаичное собирание деталей и оборотов речи. Художественное выражение «Песни про купца Калашникова» далось поэту без насильственного напряжения, без кропотливого коллекционирования подробностей, потому что он сумел заимствовать из народной поэзии нечто несравненно большее, чем поэтическая форма, — самое мироощущение народного певца, его отношение к своему материалу.
Итак, Лермонтов стоит вне исторически сложившейся традиции подражаний фольклору в русской литературе того времени. Но, быть может, мы все-таки должны признать его произведение подражательным в более общем значении слова, подразумевая под этим не конкретную связь «Песни про купца Калашникова» с русскими стилизациями фольклора, а чисто теоретическое приурочение к категории подражательной литературы? Такая формулировка применительно к лермонтовской «Песне» также едва ли может быть достаточно аргументирована. Основной элемент подражания — вторичный, опосредствованный характер творческого акта — повидимому, вовсе отсутствует в «Песне про купца Калашникова». Развивая свой сюжет, Лермонтов не арранжирует готовые или переделанные отрывки из народной поэзии, а сам создает даже те части своего произведения, которые могли бы быть успешно поддержаны поэтическими цитатами. Он не имитирует форм народной речи: такая имитация, проводимая сознательно, быть может так же, как и у его предшественников, недалеко ушла бы от «веночков из цветочков». Лермонтов решается от себя заговорить на языке фольклора, и именно потому, что он не заботится
- 345 -
о характерности той или иной языковой формы, его речь естественна, лишена позирования и преувеличений. Наконец, Лермонтов воздерживается от декларативного подчеркивания народности использованной в «Песне про купца Калашникова» стихотворной формы, а между тем так чутко улавливает не только закономерности народных ритмов, но и возможные в пределах традиции отклонения от них, что немудрено было бы усмотреть в достигнутых им результатах следы тщательной дозировки и обдуманного расчета. Но от обычного схематического понимания фольклорной ритмики его гораздо лучше мог уберечь не избыток, а недостаток внимания к метрическому строю его «Песни». Этот недостаток внимания к частному заключался в том, что для него не существовали как самостоятельные и самодовлеющие ни метрика, ни стилистика, ни даже лексика. Они все служили лишь средством для того, чтобы в наибольшей художественной полноте донести до слушателя или читателя историю Степана Калашникова со всей трагической занимательностью ее фабулы и мудрой простотой характеров. И в этом отношении поэта к своему произведению и заключаются основные пункты соприкосновения «Песни про купца Калашникова» с фольклором.
ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ К ОПЕРЕ А. РУБИНШТЕЙНА „КУПЕЦ КАЛАШНИКОВ“
Акварель П. Кончаловского, 1912 г.
Театральный музей им. Бахрушина, МоскваХудожественная «удача» Лермонтова объясняется не тем, что он лучше других знал народную поэтику и полнее воспроизвел ее, а тем, что он воспринял самый дух народной поэзии и подошел к своему материалу как подлинный сказитель. Эту подлинность менее всего следует понимать в смысле буквального совпадения с образцами фольклора. Такого буквального совпадения с теми или иными конкретными произведениями народной поэзии мы у Лермонтова не находим. Наоборот, в «Песне
- 346 -
про купца Калашникова» неуловимо присутствует отпечаток творческой индивидуальности поэта. Но представление о безличном характере народного творчества разоблачено современной наукой как одна из наивных легенд литературоведения XIX в. С тех пор, как эта легенда отброшена, мы научились различать индивидуальные поэтические стили наиболее крупных наших сказителей. Трофим Рябинин непохож на Щеголенка, а их манера, в свою очередь, заметно отличается от творческого облика М. Д. Кривополеновой. Стиль Лермонтова самостоятелен в такой же степени, как самостоятельны стили крупнейших художников нашего фольклора: все они рождены традицией народно-поэтического творчества, лучшими представителями которой они сами и являются.
И, быть может, наиболее ярким свидетельством кровного творческого родства «Песни про купца Калашникова» с импровизационной поэтикой наших певцов и сказителей является необыкновенная быстрота, с которой Лермонтов создал свое произведение. Как известно из рассказа И. М. Болдакова, Лермонтов отвечал с Кавказа на письмо А. А. Краевского, извещавшего поэта о большом успехе, выпавшем на долю его «Песни», «что хотя ею и восторгаются, а и не знают, что он набросал ее от скуки, чтобы развлечься во время болезни, не позволявшей ему выходить из комнаты»156. Большая часть историков литературы берет под сомнение искренность этого заявления Лермонтова, считая, что работа поэта над своим произведением должна была растянуться на гораздо более длительный срок, по меньшей мере 1836—1837 гг. Они не могут себе представить создания «Песни» иначе, чем в порядке кропотливого изучения материалов и подбора цитат, наподобие «Василия Новгородского» Цертелева. Для того, чтобы констатировать в произведении Лермонтова единственно мыслимое с точки зрения наших литературоведов собирание материала «по крупицам» (выражение Н. Мендельсона), они готовы принять в качестве основы для установления даты «Песни» самые косвенные доводы. В их глазах кулачный бой, устроенный Лермонтовым в Тарханах зимой 1836 г., определяет время создания «Песни про купца Калашникова» более точно, чем прямое указание автора. Подозрительное отношение к скоморошьим гуслям, звон которых в воображении поэта сопровождал сказывание «Песни», смыкается с недоверием к авторскому комментарию и приобретает характер системы. Но в основе этой системы недоверия кроется немалая доля простодушия. Историк литературы, поработав над произведением Лермонтова, скоро начинает различать как много в нем исторической чуткости и правдивости художественного выражения. Исследователь мысленно прикидывает, сколько времени потребовалось бы ему для того, чтобы «подобрать соответствующий материал». Проделав подобные выкладки, он с подкупающей наивностью ставит знак равенства между собою и Лермонтовым и выясняет «на научном основании» последовательные этапы и продолжительность творческого процесса великого поэта. Между тем, если бы это так было, то не только не появилась бы у замужней Алёны Дмитриевны русая коса, заплетенная в яркие ленты, но не возникла бы и самая «Песня про купца Калашникова». Взамен ее осталась бы на посмеяние потомству эрудированная окрошка из обычаев, песенных отрывков и «народных метров» русского фольклора.
Подготовкой к созданию «Песни» должно было явиться не собирание
- 347 -
ЭСКИЗ КОСТЮМА К ОПЕРЕ А. РУБИНШТЕЙНА „КУПЕЦ КАЛАШНИКОВ“
Акварель П. Кончаловского, 1812 г.
Театральный музей им. Бахрушина, Москваматериалов, а глубокое органическое усвоение русской народно-поэтической традиции, самого духа ее, который через столетия донес неумирающие художественные ценности фольклора до современной эпохи. Несмотря на скудость биографических сведений, «Песня про купца Калашникова» сама по себе служит убедительным доказательством того, что Лермонтов прошел через этот подготовительный труд, что он, по выражению Белинского, «вошел в царство народности, как ее полный властелин». Много ли времени и сил было затрачено поэтом на эту подготовку, мы не знаем, а если бы знали, то, быть может, и на этот раз проявили бы недоверие и скептицизм. Ибо нам трудно отрешиться от обычных представлений, выработанных повседневным опытом, и подойти к «Песне про купца Калашникова» как к творческому прозрению гениального поэта, которого мы до сих пор незаслуженно отказывались признать одним из лучших сказителей русского народа.
- 348 -
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В. Белинский, Полное собрание сочинений под ред. С. Венгерова, II, 354 и 356.
2 Там же, V, 471.
3 Там же, VI, 62.
4 Ц. Балталон, «Песня про царя Ивана Васильевича...» М. Ю. Лермонтова. — «Русская Школа», Спб., 1892, № 5—6, 211.
5 Там же, 212.
6 С. Брайловский, Оборона лермонтовской «Песни про царя Ивана Васильевича...». — «Русская Школа», Спб., 1893, № 7—8, 164.
7 Белинский, Полн. собр. соч., VI, 36.
8 Там же, 35—36.
9 Ц. Балталон, Ответ г. Брайловскому на его «Оборону». — «Русская Школа», Спб., 1893, № 9—10, 219—245.
10 С. Шевырев <Рецензия на> Стихотворения М. Лермонтова, Спб., 1840. — «Москвитянин», М., 1841, ч. II, № 4, 528.
11 П. Висковатов, Очерк жизни и творчества Лермонтова. — «Сочинения М. Ю. Лермонтова» под ред. П. А. Висковатова, изд. В. Рихтера, M., 1891, VI.
12 Там же, 18.
13 Там же, 20.
14 Лермонтов, Полное собрание сочинений, Акад. изд., Спб., 1911, IV, 299.
15 Висковатов, цит. соч., 90.
16 Лермонтов, Акад. изд., Спб., 1911, IV, 350—351.
17 Висковатов, цит. соч., 41.
18 П. Владимиров, Исторические и народно-бытовые сюжеты в поэзии М. Ю. Лермонтова. — «Чтения в Историческом об-ве Нестора Летописца», Киев, 1892, кн. VI, 204—205.
19 Висковатов, цит. соч., 104.
20 П. Давидовский, Генезис «Песни о купце Калашникове» Лермонтова. — «Филологические Записки», Воронеж, 1913, вып. IV, 433.
21 Н. Мендельсон, Народные мотивы в поэзии Лермонтова. — Сб. «Венок Лермонтову», М. — П., 1914, 168.
22 Висковатов, цит. соч., 125.
23 Там же, 113.
24 Там же, 113—114.
25 П. Владимиров, цит. соч., 205.
26 Висковатов, цит. соч., 228—229.
27 «Исторический Вестник», Спб., 1884, сентябрь, 593—595.
28 П. Давидовский, цит. соч. — «Филологические Записки», Воронеж, 1913, вып. V, 583.
29 Лермонтов, Акад. изд., Спб., 1910, III, 351.
30 П. Давидовский, цит. соч., 584—585.
31 Там же, 585.
32 Там же, 586.
33 Там же, 587.
34 Там же.
35 Н. Владимиров, цит. соч., 214.
36 П. Давидовский, цит. соч., 581—582.
37 «История Государства Российского», изд. 4-е (Смирдина), Спб., 1834, IX, 101—102.
38 П. Владимиров, цит. соч., 214.
39 Там же, 213.
40 Там же.
41 Там же, 214.
42 П. Давидовский, цит. соч., 589.
43 Там же, 591.
44 Там же, 591—592.
45 П. Владимиров, цит. соч., 201—203.
46 Н. Мендельсон, цит. соч., 169.
47 Лермонтов, Акад. изд., Спб., 1911, IV, 352—354.
48 Н. Мендельсон, цит. соч., 175.
49 П. Владимиров, цит. соч., 209—210.
50 Н. Мендельсон, цит. соч., 170.
51 Там же, 171.
- 349 -
52 П. Владимиров, цит, соч., 213.
53 Н. Мендельсон, цит. соч., 178.
54 Я употребляю явно неподходящий термин «глава» условно, чтобы избежать недоразумений, которые могут возникнуть благодаря совпадению термина «песня» с заглавием произведения Лермонтова.
55 П. Владимиров, цит. соч., 217—218.
56 Там же, 216.
57 «Песни, собранные П. В. Киреевским», 1864, вып. 6, 102—186. — Любопытно, что часть записей относится еще к 1833 г. (см. там же, 109).
58 П. Владимиров, цит. соч., 216—217.
59 П. Давидовский, цит. соч., 602 — по собранию Соболевского, VI, №№ 227—228.
60 П. Владимиров, цит. соч., 217.
61 Там же.
62 Ц. Балталон, Ответ г. Брайловскому на его «Оборону». — «Русская Школа», Спб., 1893, № 9—10, 231.
63 Там же, 230—231.
64 П. Владимиров, цит. соч., 215.
65 «Песни, собранные П. В. Киреевским», VI, 201.
66 «Собрание разных песен», Спб., 1770, ч. I, 162; перепечатано в «Сочинениях М. Д. Чулкова», Спб., 1913, I, 173—174.
67 П. Давидовский, цит. соч., 604.
68 Н. Мендельсон, цит. соч., 190.
69 П. Давидовский, цит. соч., 610—611.
70 Н. Мендельсон, цит. соч., 190.
71 П. Давидовский, цит. соч., 606.
72 Там же, 601.
73 П. Владимиров, цит. соч., 219.
74 Н. Аристов. Об историческом значении русских разбойничьих песен. — «Филологические Записки», Воронеж, 1874, вып. V, 51.
75 П. Владимиров, цит. соч., 222.
76 Там же, 217, примечание.
77 Висковатов, цит. соч., 227.
78 П. Давидовский, цит. соч., 608.
79 М. Штокмар, Стихосложение русского фольклора. — «Литературный Критик» 1940, № 5—6; Его же, Основы ритмики русского народного стиха. — «Известия Отделения Литературы и Языка Академии Наук СССР» 1941, № 1.
80 «Опыт о русском стихосложении, сочиненный А. Востоковым», изд. 2-е, Спб., 1817, 98.
81 «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом», изд. 2-е, Спб., 1894, I, 14.
82 Там же, 70.
83 Там же, Спб., 1900, III, 129.
84 Там же, I, 8.
85 Н. Ончуков, Печорские былины, Спб., 1904, 97.
86 «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом», изд. 2-е, I, 31.
87 «Великорусские народные песни, собранные А. Соболевским», Спб., 1895, I, 446—447.
88 «Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе... А. П. Сумарокова, собранное и изданное Н. Новиковым», изд. 2-е, М., 1787, ч. VIII, 189—190.
89 «Собрание разных песен», Спб., 1770, ч. I, 204; перепечатано в «Сочинениях М. Д. Чулкова», Спб., 1913, I, 216.
90 «Полное собрание всех сочинений... А. П. Сумарокова», изд. 2-е, VIII, 254.
91 Там же, 328.
92 «Песни русских поэтов». Ред., статьи и комментарии И. Розанова («Библиотека поэта»), 1936, 23—24.
93 Там же, 42.
94 «Сочинения И. И. Дмитриева», ред. и примеч. А. Флоридова, Спб., 1893, I, 127.
95 Там же, 129.
96 «Песни русских поэтов» под ред. И. Розанова, 122.
97 Там же, 127.
98 Там же, 124.
99 Там же, 154—155.
100 Там же, 158—159, 160, 252, 272.
- 350 -
101 А. Кольцов, Полное собрание сочинений под ред. и с примечаниями А. Лященка, изд. 2-е, Академии наук, Спб., 1909, 62.
102 Там же, 67.
103 Там же, 80.
104 «Песни русских поэтов» под ред. И. Розанова, 150—151.
105 Эту стопу из пяти слогов с ударением на среднем слоге Д. Самсонов называл «сугубым амфибрахием»; см. его «Краткое рассуждение о русском стихосложении». — «Вестник Европы» 1817, ч. XCIV, 251.
106 «Собрание разных песен», Спб., 1770, ч. I, 184—185; перепечатано в «Сочинениях М. Д. Чулкова», Спб., 1913, I, 196—197.
107 С. Шервинский, Барон Дельвиг и русская народная песня. — «Русский Архив» 1915, № 6, 158—160.
108 В. Успенский, О Дельвиге. — Сб. «Русская поэзия XIX века», изд. «Academia», Л., 1929, 123—124.
109 А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений («Библиотека поэта»), 1934, 189.
110 В. Успенский, цит. соч., 129.
111 Дельвиг, цит. соч., 129.
112 Там же, 159—160.
113 Н. Трубицын, О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века, Спб., 1912, 263 («Записки Историко-Филологич. Факультета Спб. Университета», ч. СХ).
114 «Песни русских поэтов» под ред. И. Розанова, 224.
115 Там же, 215.
116 Там же, 254—255.
117 Там же, 248.
118 Там же, 243.
119 Там же, 246.
120 «Великорусские народные песни, собранные А. И. Соболевским», Спб., 1897, III, 309—310.
121 Там же, 310—311.
122 «Песни русских поэтов» под ред. И. Розанова, 245.
123 «Великорусские народные песни, собранные А. И. Соболевским», III, 187.
124 «Песни русских поэтов» под ред. И. Розанова, 231.
125 «Сочинения М. Д. Чулкова», Спб., 1913, I, 473.
126 «Полн. собр. всех сочинений в стихах и прозе... А. П. Сумарокова», изд. 2-е, ч. VIII, 204.
127 «Сочинения Карамзина», изд. Академии наук. П., 1917, I, 113.
128 Примеры взяты из «Онежских былин, записанных А. Ф. Гильфердингом», изд. 2-е, Спб., 1894, I.
129 О «чувствительности» карамзинского Ильи Муромца ср. статью Л. Лотман, «Бова» Радищева и традиция жанра поэмы-сказки. — «Ученые Записки» Ленинградского гос. университета, № 33, серия филологич. наук, вып. 2-й, Л., 1939, 137. Впрочем, выводы этой статьи нельзя признать полностью доказательными. Автор не выяснил (см. стр. 143—144 его статьи), каким образом Радищев, умерший в 1802 г., мог пародировать в «Бове» (1799) «Бахариану» Хераскова, изданную в 1803 г. Следует ли это понимать в том смысле, что Херасков написал «Бахариану» за несколько лет до ее издания и пересылал Радищеву тюки с рукописью своего произведения ради удовольствия быть пародированным?
130 «Сочинения Карамзина», изд. Академии наук, П., 1917, I, 122 и 125.
131 «Бахариана или Неизвестный. Волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок», М., 1803, 10.
132 А. Востоков, Стихотворения. Ред., вступ. ст. и примеч. В. Орлова («Библиотека поэта»), 1935, 261.
133 Н. Гнедич, Стихотворения. Вступ. ст., ред. и примеч. И. Медведевой («Библиотека поэта», малая серия, № 11), 1936, 62.
134 А. Радищев, Полное собрание сочинений под ред. А. Бороздина, И. Лапшина и П. Щеголева, изд. М. Акинфиева, Спб., 1907, I, 247.
135 См. предисловие к «Добрыне»: «Памятник Н. А. Львову». — «Друг Просвещения», М., 1804, ч. III, № IX, 194—195.
136 Там же, 196.
137 А. Соболевский, <Рецензия на кн.> История, русской этнографии, тт. I—II. А. Н. Пыпина. Спб., 1890—1891. — «Журн. Министерства Нар. Просв.», 1891, февраль, 421; аналогичные высказывания см. в цитированной работе П. Владимирова
- 351 -
«Чтения в Историческом об-ве Нестора Летописца», Киев, 1892, кн. VI, 206, примеч. 20-е.
138 З. Артамонова, Неизданные стихи Н. А. Львова. — «Литературное Наследство», М., 1933, кн. 9—10, 274—275.
139 «Московский Наблюдатель», М., 1836, ч. VIII, кн. I, 295 и ч. IX, кн. I, 329—330.
140 См. «Песни русских поэтов» под ред. И. Розанова, 72—74. — Весьма вероятно, что авторство П. С. Львова не выходит за пределы обычного для XVIII в. «приведения в порядок» и «исправления» подлинной народной песни.
141 После сдачи моей работы в набор появилась статья С. Советова, Народные черты в языке и стиле «Песни про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова. — «Русский Язык в Школе», 1940, № 5, 56—63. Таким образом, эта статья, более систематическая, чем предыдущие, не могла быть мною использована.
142 Лермонтов, Акад. изд., Спб., 1910, II, 215—229. Все дальнейшие ссылки на текст «Песни про купца Калашникова» даются по этому изданию; арабские цифры в круглых скобках означают порядковый номер стиха «Песни», из которого взят данный пример.
Выбор текста «Песни» Лермонтова по этому изданию (ред. Д. Абрамовича) вместо новейшего издания Б. Эйхенбаума (изд. «Academia», M. — Л., 1935, III) не является недоразумением или библиографической небрежностью автора настоящей работы. В издании Б. Эйхенбаума, которое в целом несравнимо по своим качествам с Академическим, редакция текста «Песни про купца Калашникова» вызывает ряд возражений. Б. Эйхенбаум печатает «Песню» полностью по тексту первоначальной публикации в «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду» (1838, № 18, 344—347), а между тем из разночтений текста «Стихотворений» (1840) сам признает в примечаниях авторский характер поправки стиха 188: «Вот уж поп прошел с молодой попадьей» вместо первоначального: «Вот уж поп прошел домой с молодой попадьей». Поскольку автограф «Песни» утрачен, вопрос этот не может быть решен с полной категоричностью. Однако, все говорит за то, что догадка Б. Эйхенбаума об авторском характере изменения этого стиха в изд. 1840 г. справедлива, и отступление от первоначального текста, от которого он воздерживается, было бы вполне обоснованным.
Заключительные три стиха «Песни» Б. Эйхенбаум печатает по «Лит. Прибавлениям» как четыре стиха:
Тароватому боярину слава!
И красавице-боярыне слава!
И всему народу христианскому
Слава!Однако очевидно, что заключительная «слава», по аналогии с предыдущими, не составляет отдельного стиха из двух слогов. Таких коротких стихов в «Песне» не имеется вовсе, а система женских окончаний стиха, проведенная в заключительной концовке, оказывается в тексте Б. Эйхенбаума нарушенной окончанием слова «христианскому». Скорее всего заключительная «слава» вынесена в отдельную строку редакцией «Лит. Прибавлений» из соображений типографской эстетики, чтобы закончить текст, как это любили в XVIII и начале XIX вв. — «клинышком», заостренным книзу.
Д. Абрамовичем «Песня» печатается по изданию 1840 г., за исключением явно неприемлемого пропуска четырех стихов в тексте перепечатки. Прочие разночтения изданий Абрамовича и Эйхенбаума, небезразличные для анализа ритма произведения Лермонтова, крайне немногочисленны (ср. стихи 211, 217, 221, 235 и 371) и потому на выводы настоящего исследования повлиять не могут. Для данной работы требовался текст общедоступный, с нумерацией стихов. По этим соображениям я счел нецелесообразным обращаться к первоисточникам и предпринимать самостоятельную критику текста. Что касается орфографии и пунктуации, то они не принимались мной во внимание, и не только потому, что в издании Абрамовича имеется очевидная их модернизация. Как известно, система наших знаков препинания совершенно не приспособлена к обозначению интонации стиха, и если бы даже сохранилась рукопись Лермонтова, то, надо полагать, она отражала бы, за немногими исключениями, лишь школьные правила пунктуации и степень их усвоения поэтом.
143 Цит. по изданию, которым, вероятно, пользовался Лермонтов: «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные», М., 1818, 117 и 189.
144 «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом», изд. 2-е, I, 52.
145 Там же, Спб., 1900, III, 544—545; то же изд. 3-е, М. — Л., 1940, 555.
- 352 -
146 Висковатов, цит. соч., 228, примеч.
147 Лермонтов, Акад. изд., Спб., 1913, V, 207.
148 Д. Гинцбург, О русском стихосложении, П., 1915, 225—228.
149 М. Штокмар, Стихосложение русского фольклора. — «Литературный Критик», 1940, № 5—6; М. Штокмар, Основы ритмики русского народного стиха. — «Известия Отделения Литературы и Языка Академии Наук СССР» 1941, № 1.
150 «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом», изд. 2-е, Спб., 1894,
I, 17.
151 Там же, 43.
152 В первоначальной таблице, учитывающей ударения от начала стиха, в виде процентов выражены те же средние цифры минимальной и максимальной нагрузки ударениями.
153 «Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым», М., 1904, I, 350—351.
154 Цит. по кн.: «Сочинения М. Д. Чулкова», изд. Отделения русск. языка и слов. Академии наук, Спб., 1913, I, 418—419.
155 Ввиду небольшого числа стихов в песне средние цифры таблицы в проценты не переведены.
156 «Сочинения М. Ю. Лермонтова» под ред. и с примеч. И. Болдакова, М., 1891, II, 408—409.