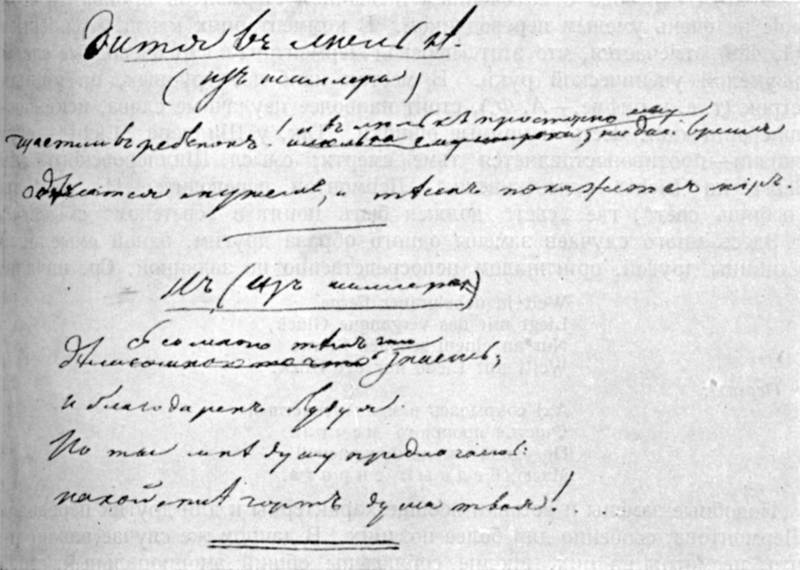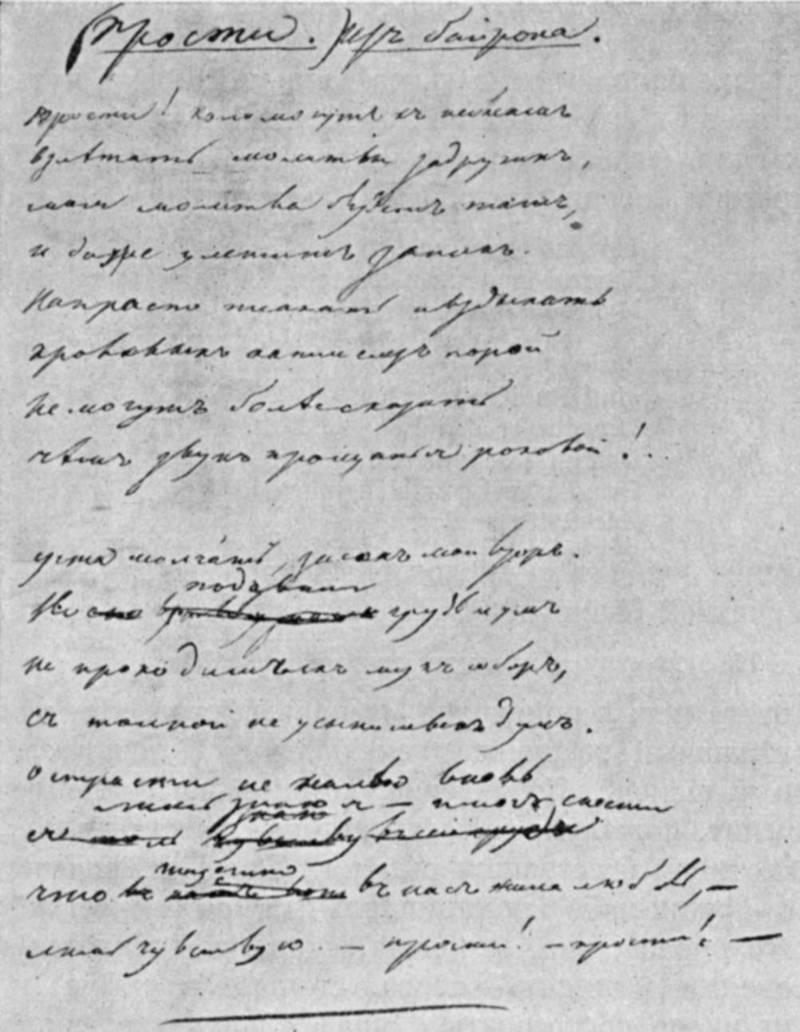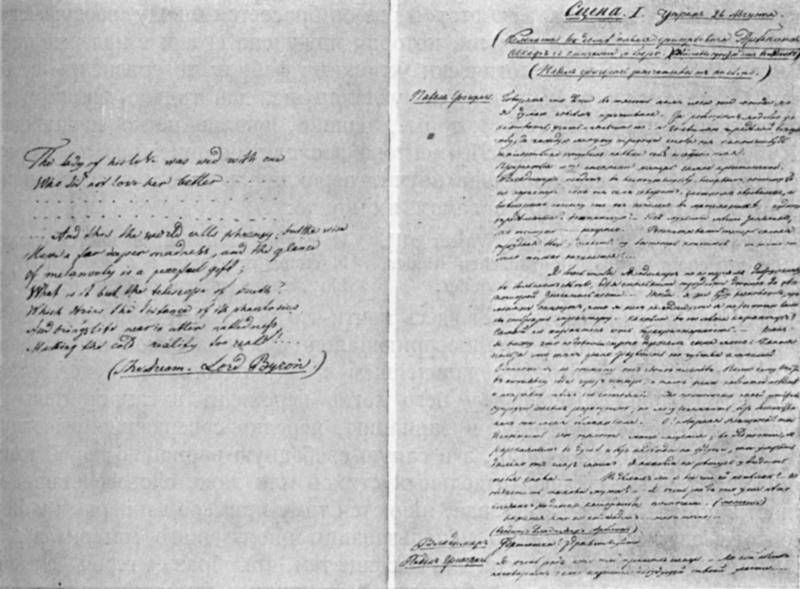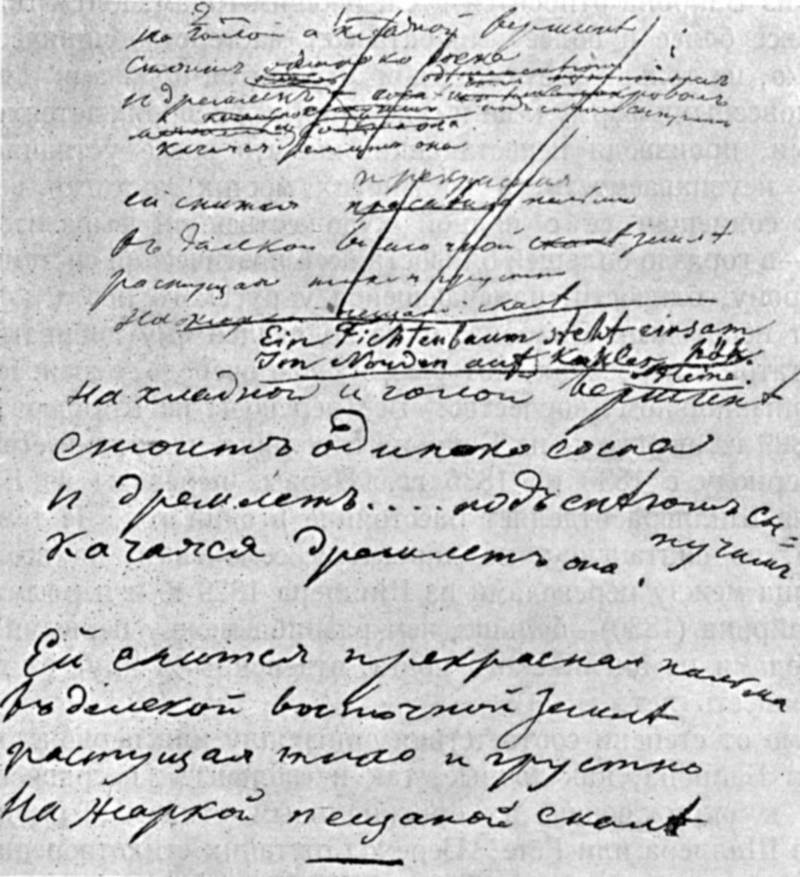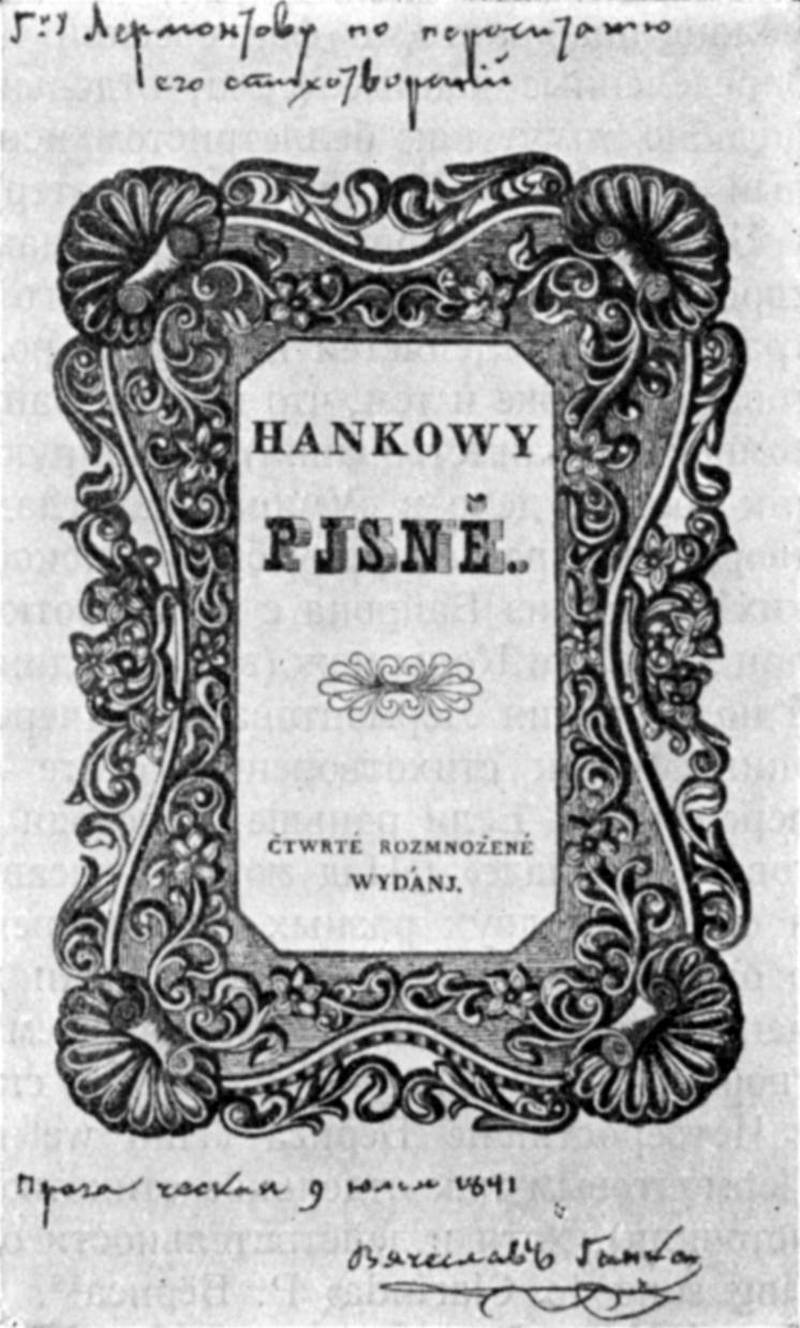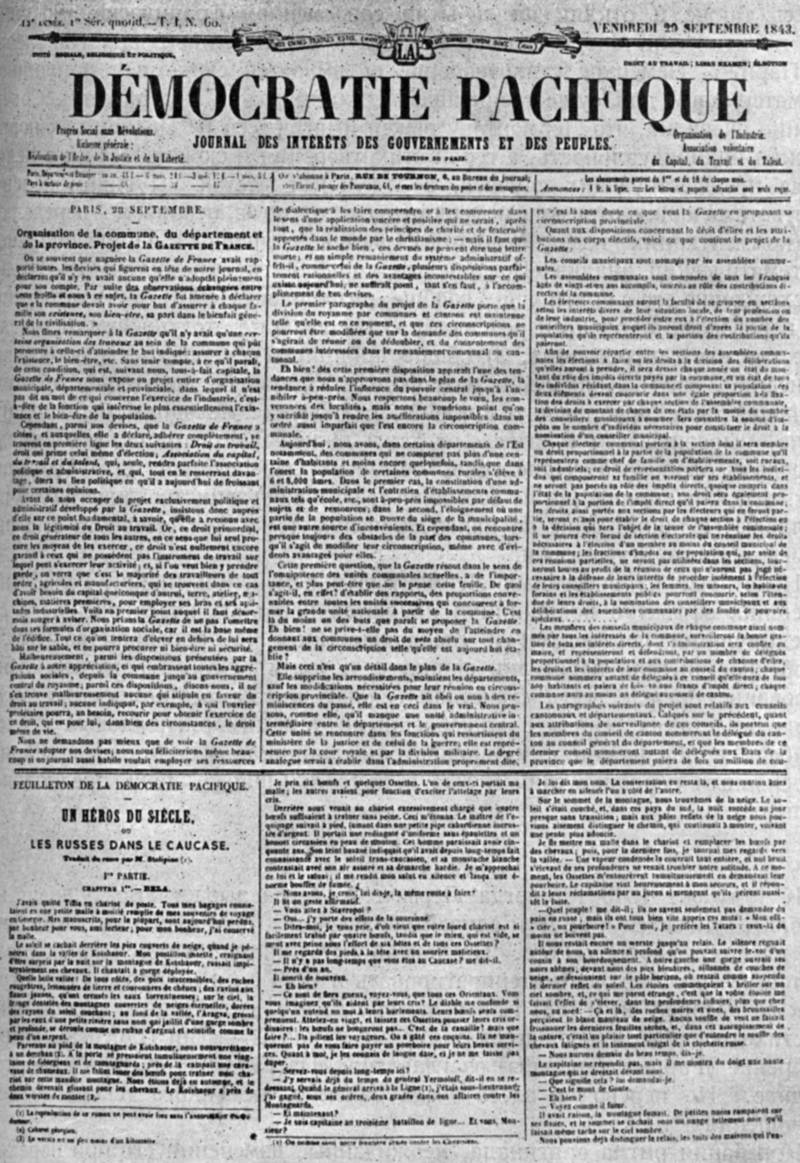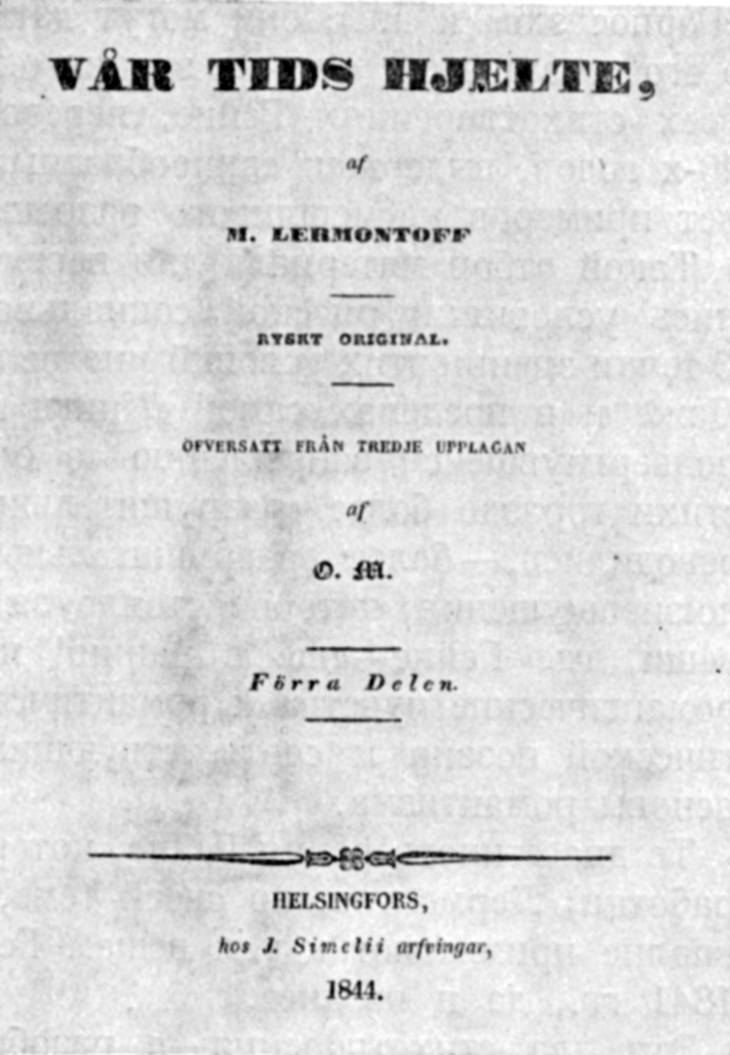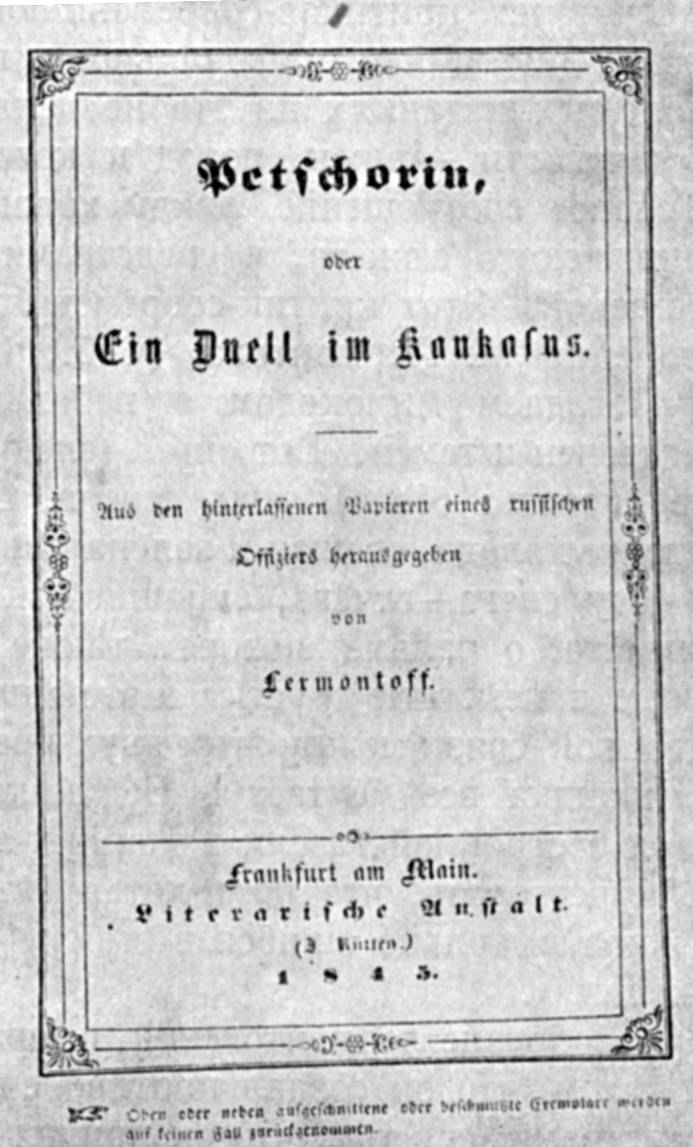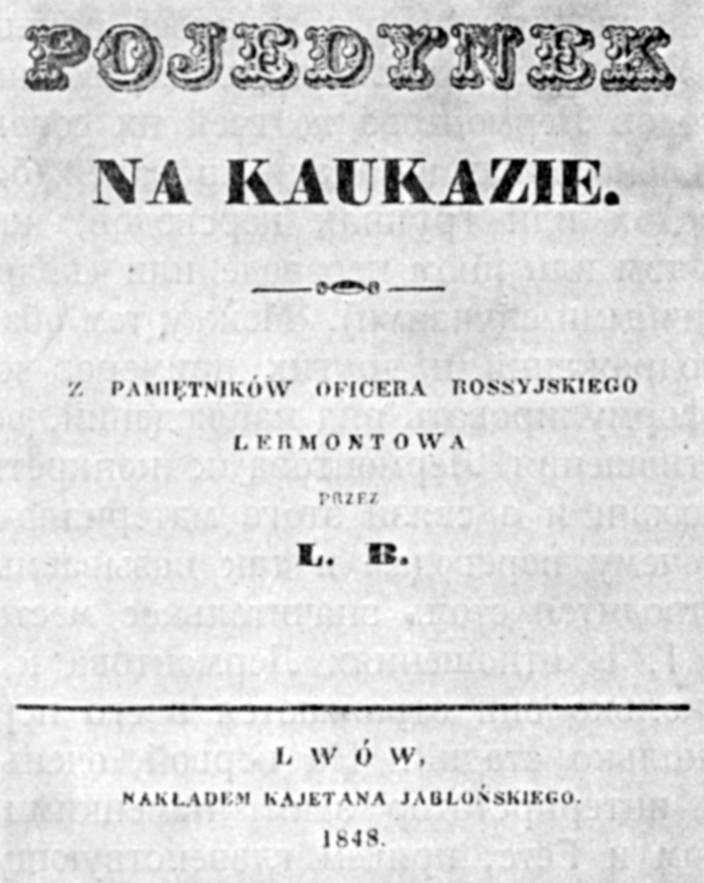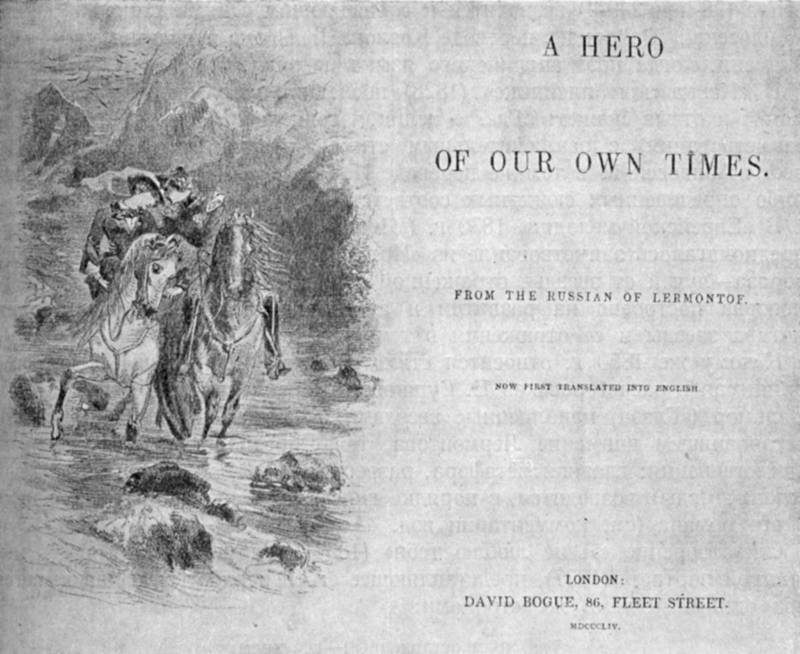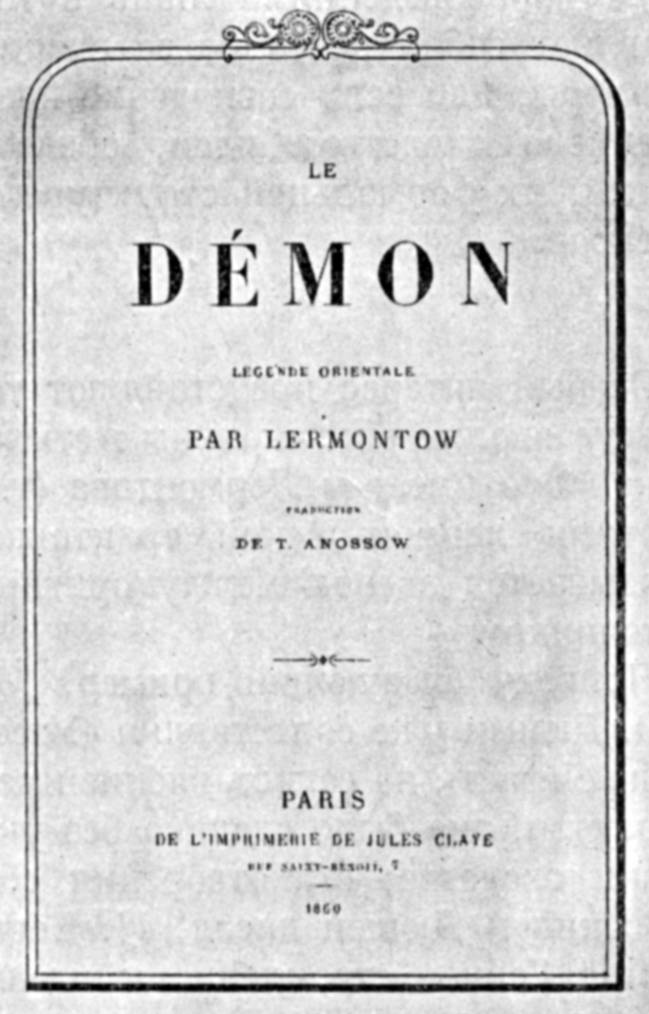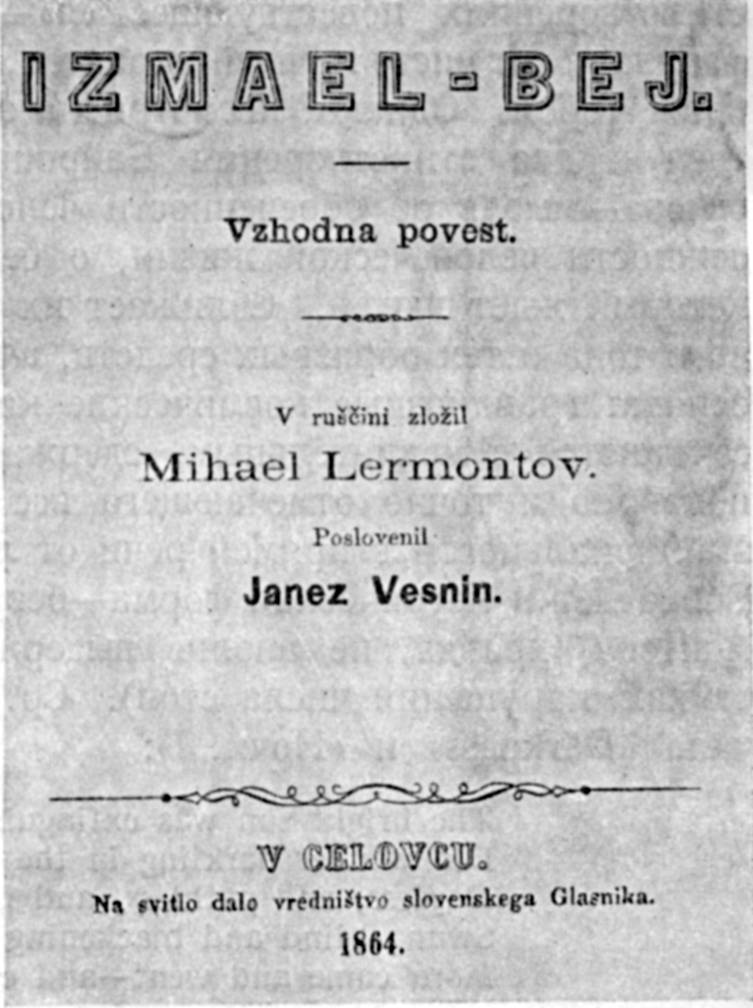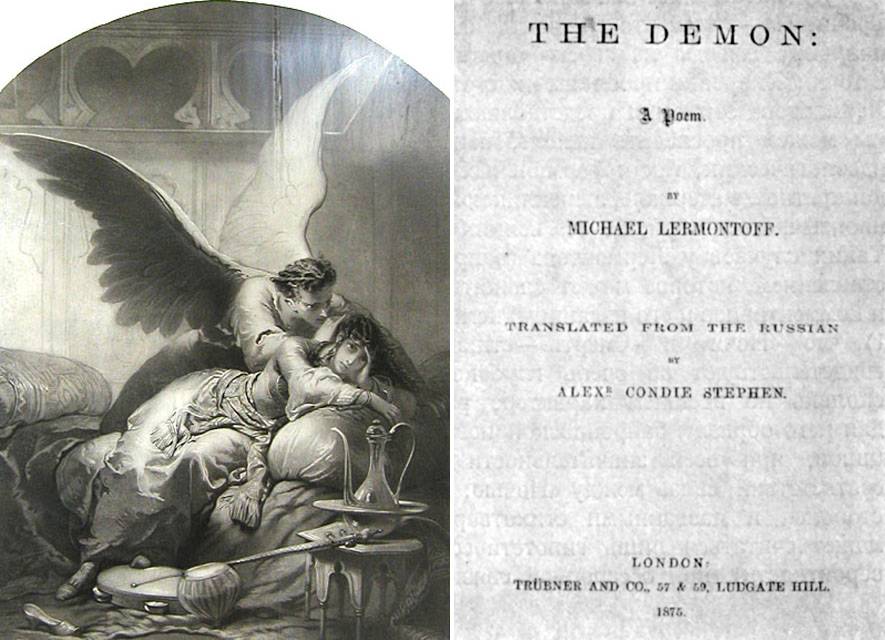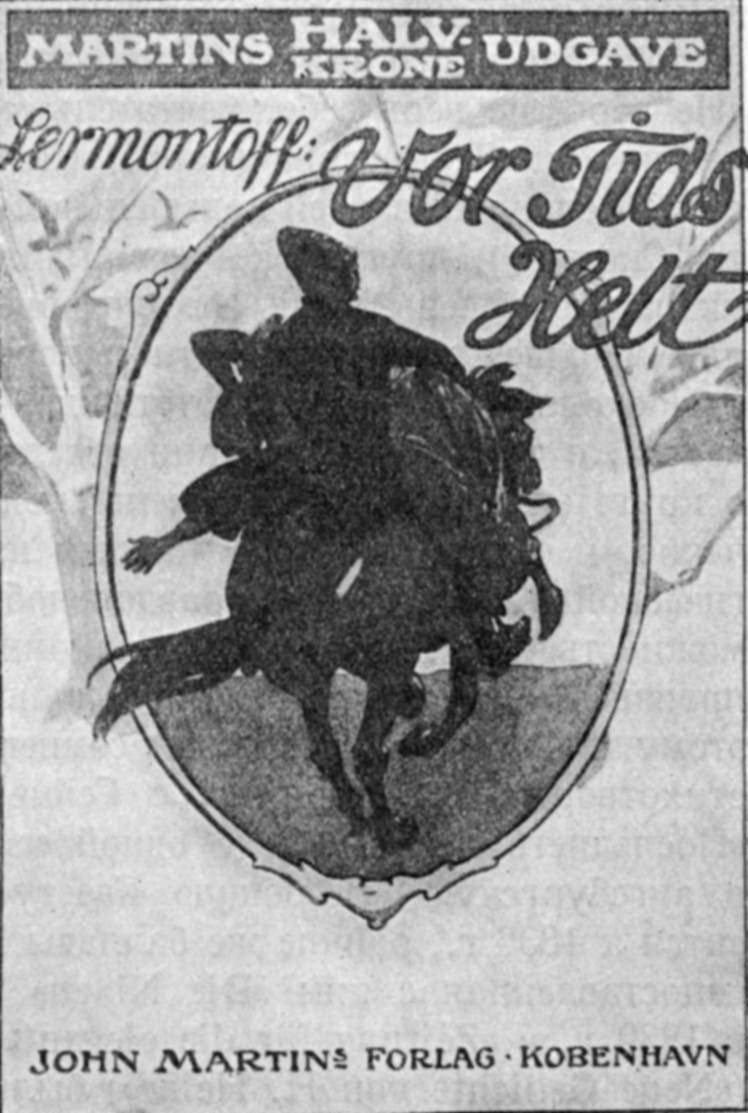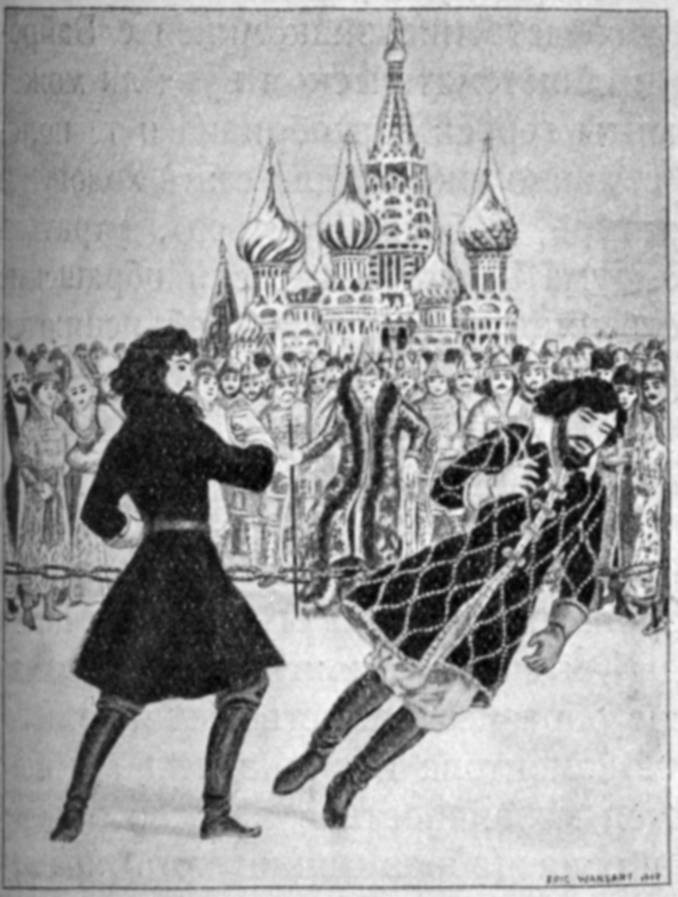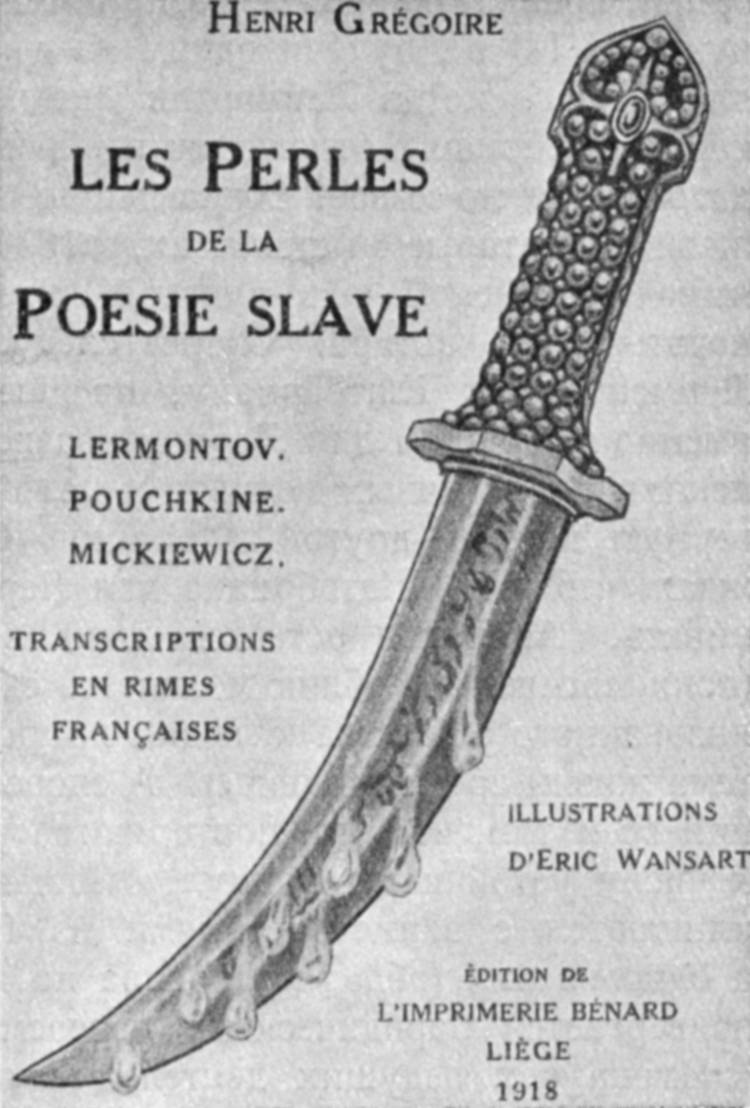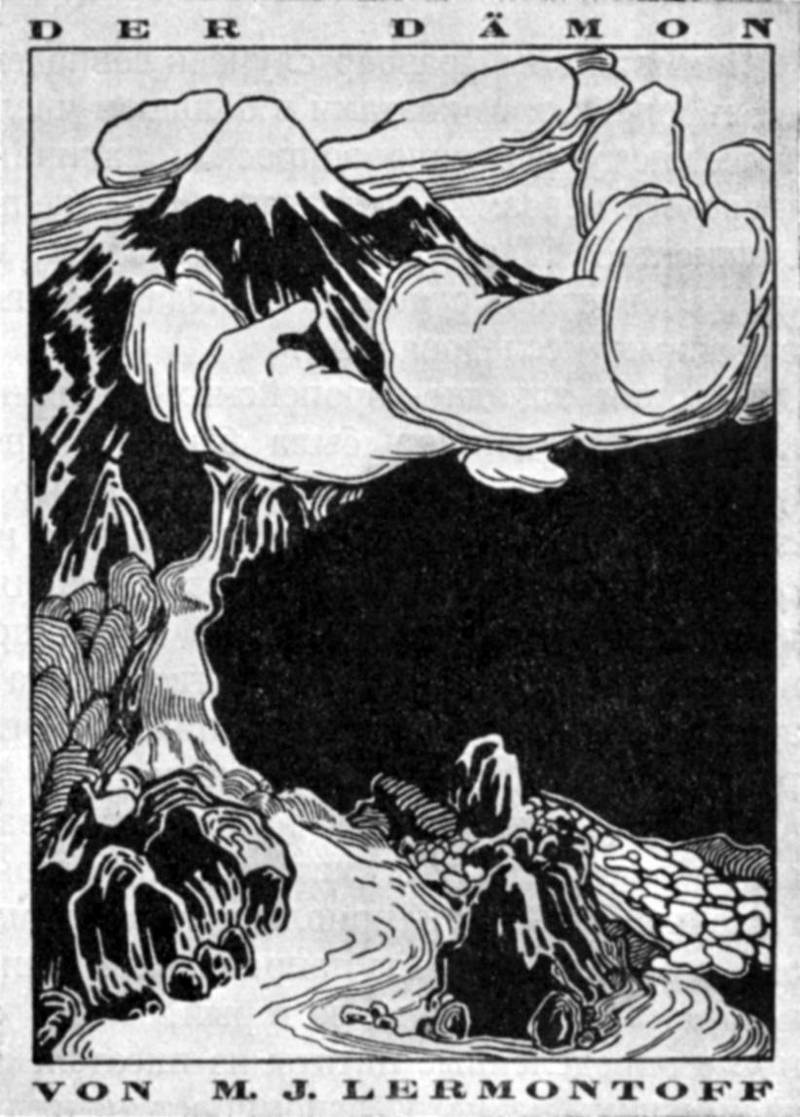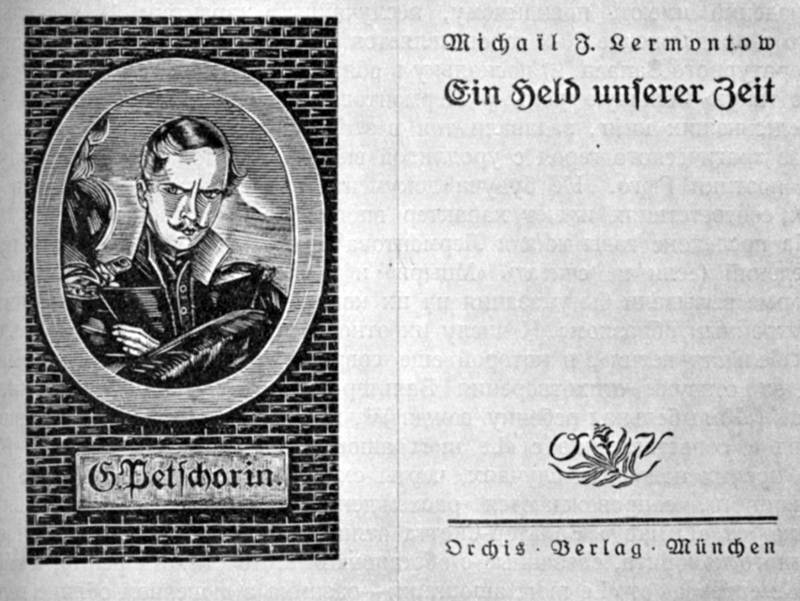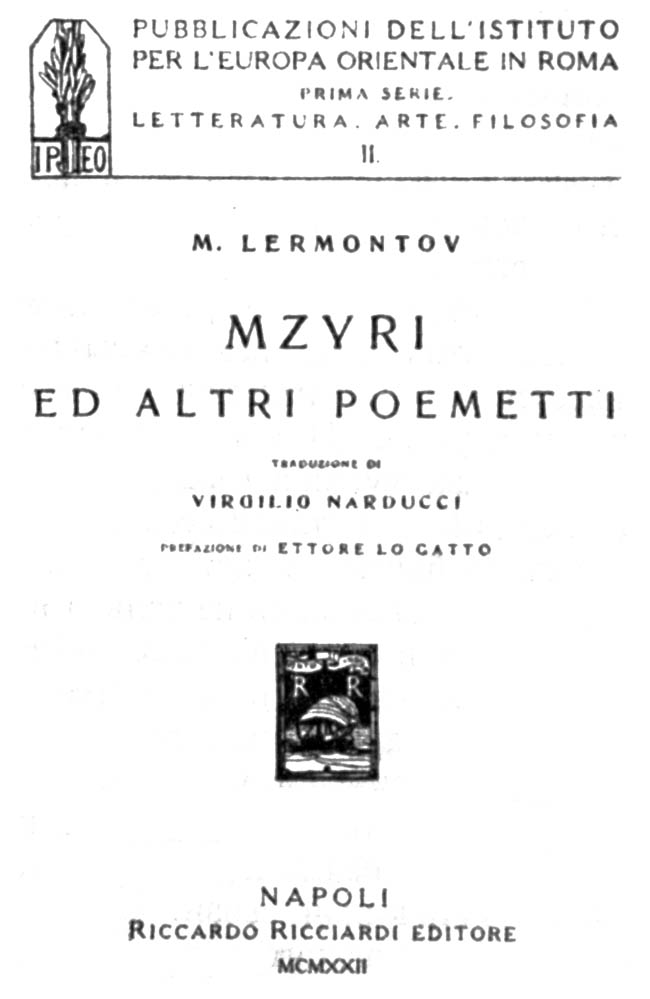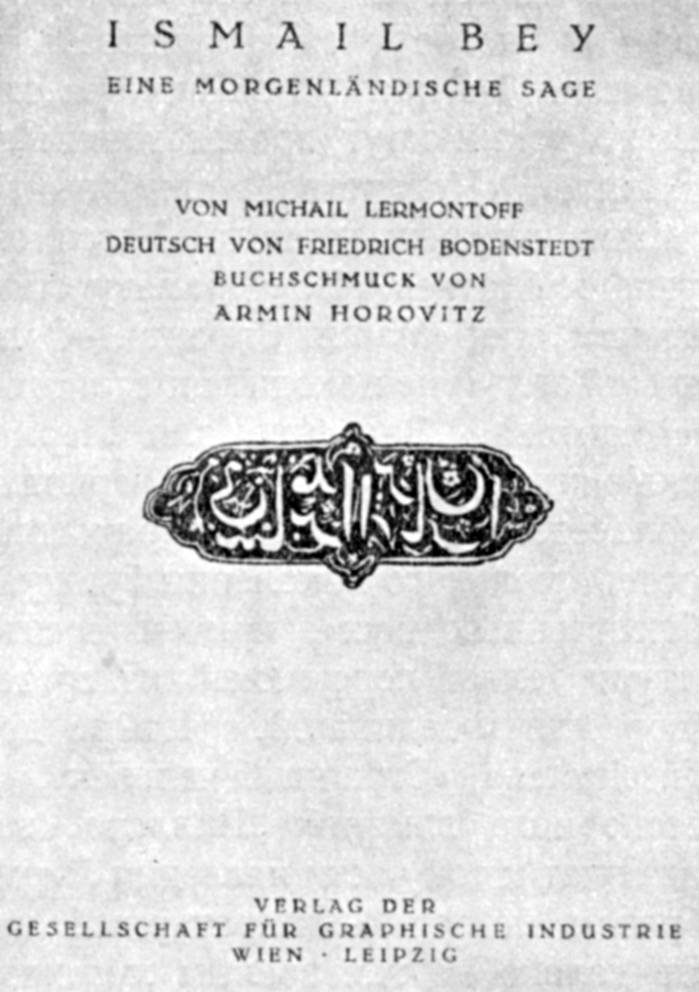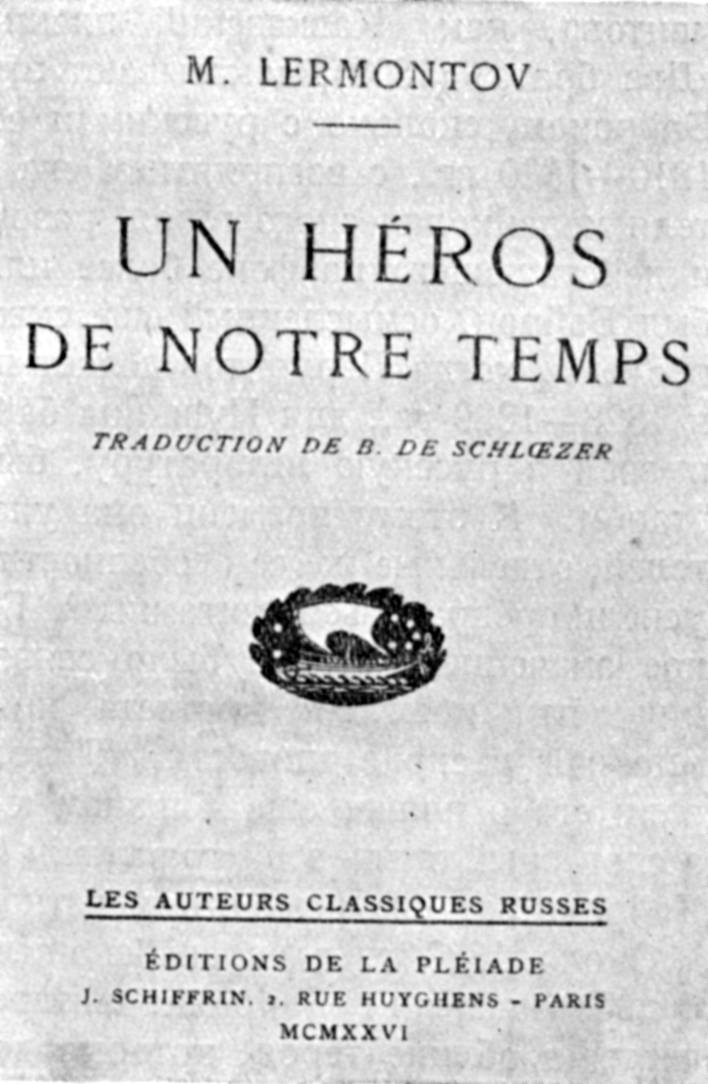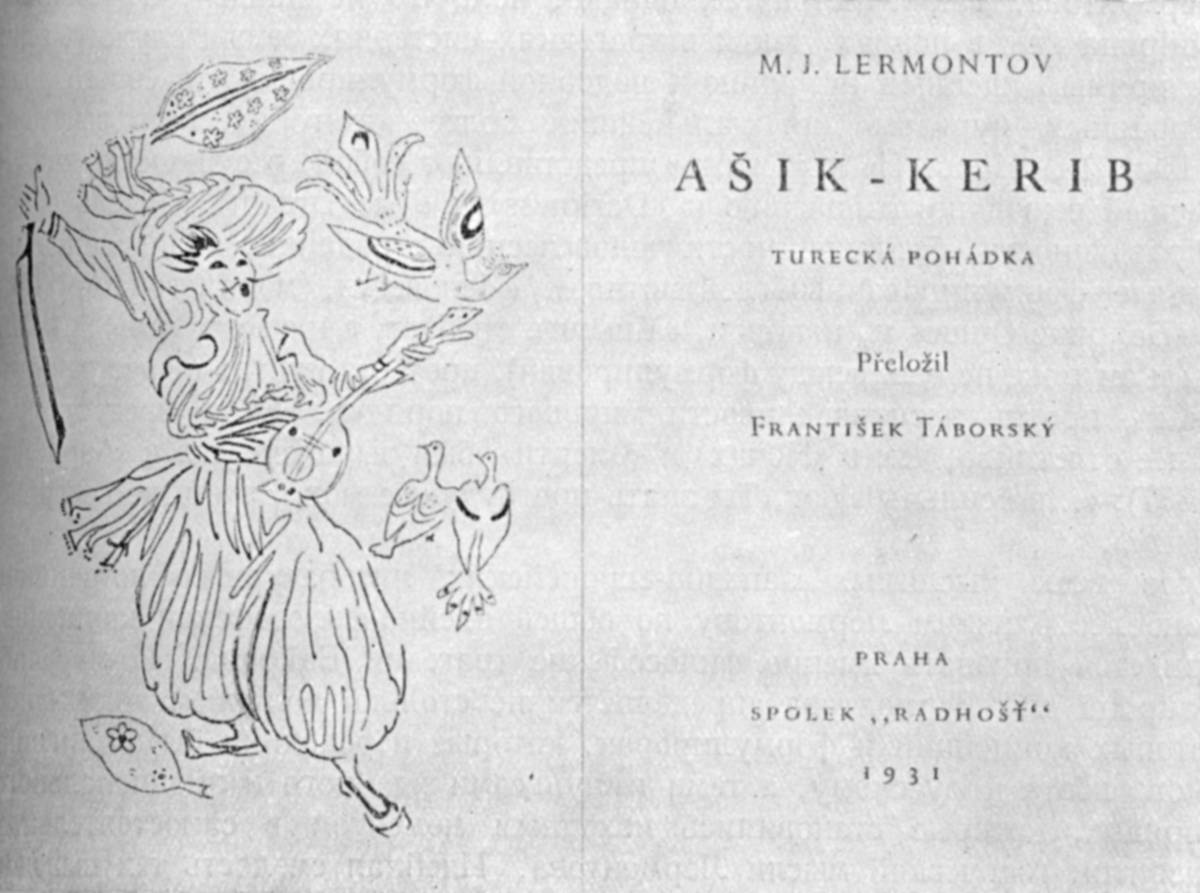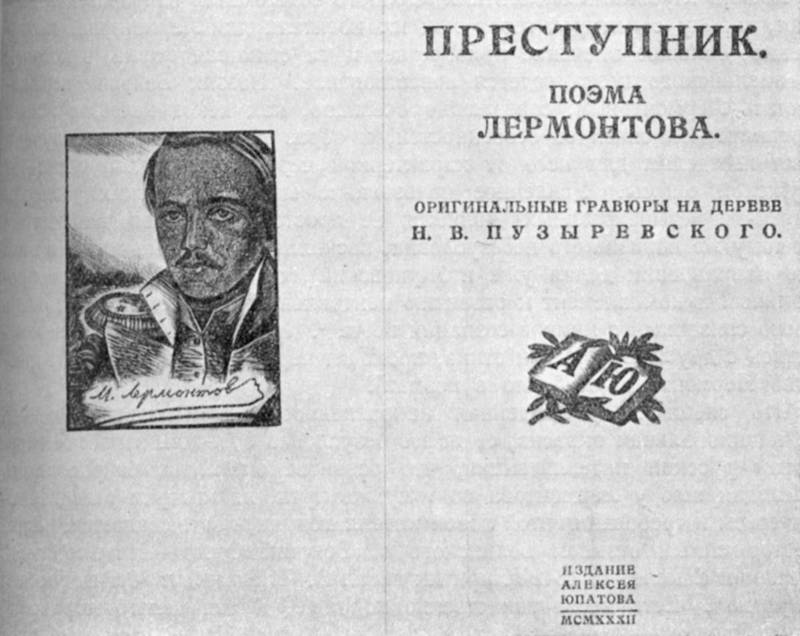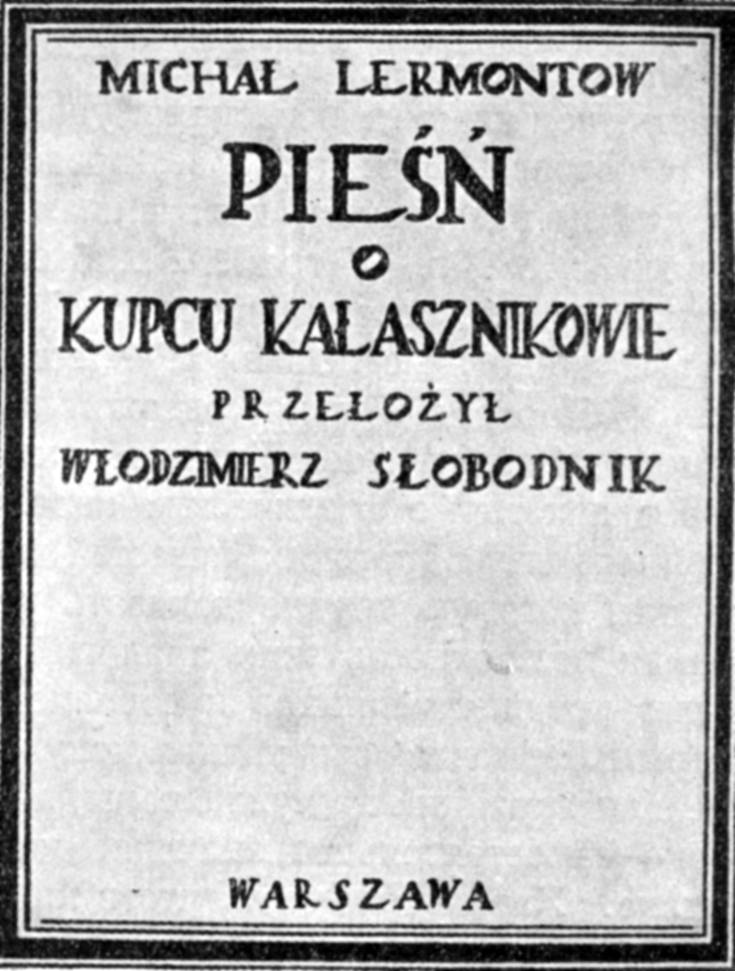- 129 -
ТВОРЧЕСТВО ЛЕРМОНТОВА
И ЗАПАДНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫСтатья А. Федорова
Критики современные Лермонтову и позднейшие исследователи его творчества всегда очень большое внимание уделяли связи его произведений с произведениями его русских предшественников и с западно-европейской поэзией1. Эта связь в громадном большинстве случаев рассматривалась как выражение «влияния» того или иного образца на творчество поэта. В поэзии Лермонтова, а также в прозаическом его наследии уже издавна отмечались следы влияния разнообразных литературных произведений — русских и иностранных, следы заимствования из различных источников, признаки сходства с произведениями других авторов.
Возможность указать на это сходство, сослаться на литературное влияние была использована одним из критиков, писавших о Лермонтове еще при его жизни, — С. П. Шевыревым — в полемических целях, в целях литературной борьбы: «Когда вы внимательно прислушаетесь к звукам той новой лиры... вам слышатся попеременно звуки — то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова, примечается не только в звуках, но и во всем форма их созданий; иногда мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова; иногда видна манера поэтов иностранных, — и сквозь все это постороннее влияние трудно нам доискаться того, что́ собственно принадлежит новому поэту и где предстоит он самим собою... Мы слышим отзывы уже знакомых нам лир»2.
То, что Шевыреву нужно и важно было как способ ограничить значение Лермонтова — указание на заимствованность отдельных элементов его поэзии, — стало довольно существенной частью дальнейших историко-литературных исследований, посвященных поэту, — правда, уже вне зависимости от оценочных установок, — хотя вопрос о «влияниях» не мог не связываться в той или иной форме с вопросом о самостоятельном значении творчества Лермонтова. Поиски «влияний» и заимствований проходят через всю историю изучения лермонтовского наследия. В результате их, с одной стороны, возникли отдельные ценные указания: открытие материала, действительно служившего источником того или иного произведения или отдельного места в каком-нибудь произведении, указания на переводный характер некоторых вещей Лермонтова, с другой же — обильные гипотезы, основанные на чрезвычайно общих признаках сходства с произведениями русской и мировой литературы (на одинаковости сюжетных ситуаций и эпизодов, на совпадении отдельных образов и т. п.).
Вообще вопрос о «влияниях», и в частности о влияниях иностранных, ставился применительно к Лермонтову так часто, как он не ставился
- 130 -
по отношению ни к одному из выдающихся русских поэтов и прозаиков. В исключительно подробных комментариях к пятитомному «Полному собранию сочинений Лермонтова» (изд. «Academia», 1936—1937) сделана полная и исчерпывающая сводка всех до сих пор предпринимавшихся разысканий о литературных источниках — русских и западно-европейских — отдельных произведений Лермонтова. Вот перечень имен тех западных писателей, с которыми, в связи с тем или иным стихотворением, поэмой, драмой, сближалось имя Лермонтова: из писателей немецких — Шиллер, Гёте, Лессинг, Клингер, Лейзевиц, Гейне, Э.-Т.-А. Гофман, Цедлиц; из французских — Гюго, Барбье, Шенье, Ламартин, Шатобриан, А. де Виньи, А. де Мюссе, Бенжамен Констан, Шендолле, Арно, Лагарп, Альфонс Kapp, Жорж Санд; из английских — Байрон, Томас Мур, Кольридж, Вальтер-Скотт, Шекспир, Макферсон; из польских — Мицкевич. Если прибавить к этому русские «влияния», тоже многочисленные и многократно отмечавшиеся (Пушкина, Жуковского, Козлова и др.), то творчество Лермонтова оказывается плодом сплошных воздействий со стороны, заслоняющих его самостоятельную сущность.
Не исключено, что исследователями Лермонтова еще будут открыты какие-либо отдельные источники заимствования, что к тому или иному стихотворению будут указаны параллели из области русской или западно-европейской поэзии, но вряд ли это сможет существенно изменить то представление об исторической роли Лермонтова, которое складывается на основе уже проделанной историко-литературной работы. Очередная задача изучения Лермонтова — не поиски и не установление каких-нибудь новых источников, а решение вопроса о месте, занимаемом им в мировой литературе, и характере его связи с нею, об историческом смысле этой связи. Рассмотрение этого вопроса предполагает: 1) подведение итогов проделанной работы над источниками лермонтовского творчества, отделение бесспорно установленных фактов и правдоподобных предположений от гипотез и догадок и 2) замену общего понятия «влияния» понятием литературной связи, подразумевающей возможность разных частных случаев ее осуществления (влияние, оказываемое одним писателем на другого как частная форма литературной связи; использование в форме перевода или подражания определенного литературного источника; заимствование из него отдельного элемента; совпадение на основе одинакового развития литературных явлений и одинаковой их социальной обусловленности; обращение к творчеству писателя-предшественника или современника — как к примеру, подкрепляющему собственную творческую практику). Различение этих частных случаев так же необходимо, как и учет разной степени социальной и идейно-художественной значимости того или иного факта литературной связи (ср., напр., с одной стороны, значение для Лермонтова поэзии Байрона и, с другой, — Гёте или Цедлица). Наконец, полноценное историко-литературное истолкование фактов связи, соединяющей изучаемого автора с мировой литературой, требует постоянного соотнесения их: 1) с развитием его собственного творчества, вне которого нельзя и понять смысл использования того или иного источника, и 2) с традициями данного автора в пределах его родной литературы (так, применительно к Лермонтову, изучение байронической традиции немыслимо вне изучения традиции Пушкина).
В историю русской литературы Лермонтов вошел как исключительно сильная творческая индивидуальность. Белинский, выразивший мнение
- 131 -
передового русского читателя о Лермонтове, признавший гениальность поэта, подчеркивал именно внутреннее своеобразие его творчества. В статье о втором издании «Героя нашего времени» (1841) он писал, отвечая тем, кто в произведениях Лермонтова старался найти следы посторонних влияний: «Только дикие невежды, черствые педанты, которые за буквою не видят мысли и случайную внешность всегда принимают за внутреннее сходство, только эти честные и добрые витязи букварей и фолиантов могли бы находить в самобытных вдохновениях Лермонтова подражания не только Пушкину и Жуковскому, но и г. г. Бенедиктову и Якубовичу»3.
ЛЕРМОНТОВ
Незаконченная акварель А. Клюндера, 1838—1839 гг.
Литературный музей, МоскваЭти слова, направленные против переоценки роли «влияний» на Лермонтова, вовсе не означали, что Белинский изолировал поэта от литературной обстановки его времени и рассматривал его вне связи с наследием его предшественников. В более ранней и более обширной статье о «Стихотворениях» М. Лермонтова (1840) критик, говоря о характерных свойствах лермонтовской поэзии, вспоминал о Байроне, Гёте, Шиллере, из русских писателей — о Пушкине. На одной из последних страниц этой статьи Белинский говорил: «Пока еще не назовем мы его ни Байроном, ни Гёте, ни Пушкиным, и не скажем, чтоб из него современем вышел
- 132 -
Байрон, Гёте или Пушкин: ибо мы убеждены, что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет — Лермонтов»4.
Лермонтов, гениальный русский поэт, был многообразно связан с жизнью литературы — русской и мировой. Перечисленные выше имена западно-европейских авторов, с которыми непосредственно соприкасается его поэзия (напр., в переводах и бесспорных реминисценциях) и творческий интерес к которым она так или иначе отражает (напр., в постановке определенных идейно-тематических задач и в обрисовке известного типа героя), показывают, что круг литературных явлений, привлекавших Лермонтова, был обширен, но вместе с тем более или менее однороден. В большей своей части это имена представителей западно-европейского романтизма, главным образом в его наиболее прогрессивных проявлениях (Байрон, ранний Гюго), или же непосредственных предшественников романтизма, или же имена излюбленных романтиками писателей прошлого (Шекспир, Макферсон). Авторы эти имели для Лермонтова (или, поскольку речь идет лишь о предполагаемых фактах знакомства с каким-либо автором и интереса к нему, — могли иметь) далеко не одинаковое значение и привлекали его внимание не одновременно, а в разные периоды его творчества.
Суждения Белинского о своеобразии Лермонтова относятся к периоду творческой зрелости поэта, к произведениям последних лет его жизни и к некоторым избранным вещам из числа его ранних стихов. Белинскому, как и другим современным критикам, по-разному относившимся к поэту, ранний Лермонтов оставался в значительной части неизвестен. Между тем произведения раннего периода дают чрезвычайно важный материал для понимания того, как Лермонтов относился к иностранным литературам и что представляет собой дальнейшая эволюция его отношения к литературному Западу.
В заметке 1830 г. 16-летний Лермонтов пишет: «Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в 15 же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. — Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. — Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слыхал сказок народных; — в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности».
В этой заметке, если отвлечься от известного элемента литературной позы и аффектированной разочарованности в литературе, можно увидеть ряд моментов, существенных не только для раннего, но также и для более позднего творчества Лермонтова: априорный интерес и априорное признание русского фольклора, предпочтение, оказываемое ему перед французской литературой, пренебрежительная оценка последней и отношение к литературе вообще как к материалу для заимствований. Последнее чрезвычайно существенно. Весь вопрос в том, что́ представляло собой заимствование в понимании Лермонтова и в его поэтической работе первых лет творчества, и равнозначно ли здесь понятие заимствования понятию подражания предшественникам?
Мы знаем, что в ранних стихотворениях Лермонтова содержатся целые куски из стихотворений его русских предшественников (вопреки его собственному утверждению о невозможности заимствовать что-либо из русской литературы) — из Пушкина, Батюшкова, Дмитриева, Ломоносова. Но замечательно то, что наличие целых значительных отрезков чужого
- 133 -
текста даже в этих юношеских стихах вовсе не означает следования готовым чужим образцам, подчинения чужим творческим принципам. Заимствованием из литературы художественной, из поэзии Лермонтов пользуется так же, как другой писатель пользуется фактическим материалом (хотя бы, напр., в форме неоговоренных цитат) из нехудожественных произведений, из документов. Более того: самое заимствование в таком чистом и откровенном виде возможно для Лермонтова только в связи с отчетливым ощущением собственной индивидуальности. Вот почему эти случаи самого прямого заимствования отнюдь не означают подражания определенной манере, стилизации под известного автора и никак не могут служить доказательством влияния.
Из слов Лермонтова о «бедности» нашей словесности и о том, что он ничего не может из нее заимствовать, можно вывести заключение, что литература иностранная (правда, за исключением французской) может дать более благодарный материал. И действительно, в произведениях Лермонтова 1828—1832 гг. много бесспорных заимствований из литератур немецкой и английской. Но заимствование из иноязычного источника целых готовых отрезков текста предполагает прежде всего или перевод или переделку — переключение их в плоскость родного языка. Перевод играет большую роль во всей поэзии Лермонтова, а работа Лермонтова как переводчика в своих методах и в своей эволюции очень показательна для его отношения к иностранному литературному материалу. Вот почему обзор и анализ этой части наследия Лермонтова являются совершенно необходимой частью работы о поэте и его связях с мировой литературой.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Лермонтов переводит стихи в течение всей своей поэтической деятельности; первые его переводы относятся к 1829 г., последние — к 1841 г. Переводы играют более или менее значительную роль в наследии очень многих русских поэтов как первой, так и второй половины XIX в. Но если у поэтов более поздних (как Фет, Майков или Мей) стихотворные переводы уже составляли особые разделы, отдельные циклы их книг, то у поэтов первых десятилетий века переводы чаще не бывают выделены в самостоятельные группы, а идут вперемежку со стихами оригинальными и даются нередко без указаний на переводность или на автора подлинника. В этом отношении Лермонтов как переводчик вполне принадлежит своему времени. Стихотворные переводы у него очень тесно связаны с его собственным поэтическим творчеством. Несмотря на это последнее обстоятельство, следует все же спросить: что же они представляют собой именно как переводы, т. е. как особая система в творчестве поэта, и каково их соотношение с оригиналами?
Лермонтов переводил или интерпретировал в форме «вольного» перевода следующих авторов: Шиллера, Гёте, Цедлица, Гейне, Байрона, Бёрнса, Мицкевича, дал перевод начала немецкой народной песни; есть у него также одно раннее стихотворение — «Веселый час», которое, судя по надписи под заглавием («Стихи в оригинале найдены во Франции на стенах одной государственной темницы»), является переводным, но оригинал которого до сих пор не обнаружен.
Среди перечисленных поэтов значительным числом стихотворений в его переводах представлены Шиллер и Байрон; у остальных он взял не более одного — двух стихотворений. Из Бёрнса им переведено всего одно только
- 134 -
четверостишие («Had we never loved so kindly»), стоящее эпиграфом к «Абидосской невесте» и, таким образом, безусловно связанное для него с Байроном. Исследователи Лермонтова сопоставляли поэта — даже безотносительно к переводам — почти со всеми указанными авторами (исключая разве Бёрнса, соприкосновение с которым у Лермонтова ограничивается одним только случаем перевода упомянутого четверостишия).
1
Первый поэт, которого Лермонтов начал переводить, если не считать неизвестного нам автора «Веселого часа», был Шиллер5. Все переводы из Шиллера приходятся на один год — 1829, т. е. на очень раннюю пору в творчестве Лермонтова. Шиллер к этому времени был в России широко известен и популярен; его переводили многие (и в первую очередь Жуковский); в переводах были представлены разнообразные жанры его лирического и эпического творчества, на сценах ставились его драмы.
Из Шиллера Лермонтов перевел шесть вещей («An Emma», «Die Begegnung», «Der Handschuh», «Das Kind in der Wiege», «Teile mit mir was du weisst», отрывок из шиллеровского перевода «Макбета» — сцену ведьм) и вольно интерпретировал содержание двух баллад, соединив их в одном стихотворении («Баллада»).
Этими переводами представлены такие жанры шиллеровской поэзии, как любовно-лирическое и элегическое стихотворения («An Emma», «Die Begegnung»), эпиграмма из раздела «Ксений» («Teile mit mir was du weisst»), философское двустишие («Das Kind in der Wiege»), сюжетное произведение-баллада («Der Handschuh») или драматический диалог с широко развернутыми повествовательными элементами (разговор ведьм из «Макбета»); последний к тому же связывает Лермонтова уже и с Шекспиром.
Примечателен самый выбор этих жанров. Наряду с жанрами, которые молодой Лермонтов в это время разрабатывает в своей оригинальной лирике (элегическое размышление, лирический монолог), он останавливается и на вещах эпических, которых в малой форме (т. е. в рамках стихотворения, а не поэмы) еще не пишет. Переводы баллад Шиллера — это первые вещи с сюжетом, которые Лермонтов создает вне жанра поэмы.
Единообразия в подходе к оригиналу — даже в пределах 1829 г. и по отношению к одному только Шиллеру — у Лермонтова нет. Его манера обращения со стихом оригинала уже служит тому примером. Одна и та же форма — так называемый элегический дистих — в одном случае передается аналогичной формой, правда, при укорочении второго стиха на одну стопу и с некоторой переменой в расстановке ударений («Дитя в люльке»), а в другом случае — совершенно иным видом стиха: четверостишием четырехстопного ямба с рифмами («Делись со мною тем, что знаешь»). Дольники в сцене из «Макбета» передаются, в согласии с господствующим стиховым обыкновением, одним из общепринятых силлабо-тонических размеров (в данном примере сочетанием четырехстопного и трехстопного ямба), а в переводе «Перчатки» очень своеобразная форма стиха, расшатанного и неровного, с весьма свободным чередованием строк разного слогового и акцентного строения, местами напоминающего рифмованный vers libre, воспроизводится очень смелой для 1829 г. и близкой к подлиннику ритмической системой, совсем отсутствующей в традиционной высокой поэзии и слегка похожей на раешник. Жуковский, переведший ту же балладу двумя годами позднее (1831), избрал для ее передачи разностопный
- 135 -
ямб без строгой системы рифм — стих басенного типа6. Следует, таким образом, отметить, что в самом начале своего творчества Лермонтов уже пользуется переводом как одним из путей к расширению своих метрических возможностей и применению таких форм, каких его оригинальные стихи не знают. Он при этом учитывает степень метрического своеобразия подлинника (недаром «Перчатка» — одна из метрически наиболее необычных вещей у Шиллера), а привычный в немецкой поэзии дольник он пока-что передает средствами традиционного силлабо-тонического стиха. Там же, где оригинал представляет собой обыкновенные ямбы или хореи (как в «An Emma», в «Die Begegnung»), он сохраняет их.
АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЕРМОНТОВА „ДИТЯ В ЛЮЛЬКЕ“ И „К*“
С ЕГО ПОМЕТАМИ: „ИЗ ШИЛЛЕРА“
Институт литературы, ЛенинградПодход Лермонтова к словесно-смысловой форме переводимой вещи тоже не отличается полным единообразием. Вообще перевод для него — это не перевод как таковой, не способ к наиболее прямому ознакомлению читателя с чужеязычным материалом, и в этом смысле мы у Лермонтова видим то же, что и у большинства русских современных ему поэтов, переводивших стихи. Вместе с тем, однако, перевод не есть для него только средство к самостоятельному творчеству, к Nachdichtung, к вариации на заимствованную тему.
В некоторых отношениях Лермонтов следует традиции, установившейся в русском стихотворном переводе. Так, например, он меняет имя, стоящее в заглавии стихотворения, а тем самым меняет и заглавие: «An Emma» он переводит не «К Эмме», а «К Нине». Руссификация имен, вернее устранение их иноязычного характера, — метод, издавна уже применявшийся
- 136 -
в русских переводах и переделках, особенно в драматических, где часто практиковалась «переделка на русские нравы», а также и в жанре баллады — напр., у Жуковского, переделавшего бюргерову Ленору в «Людмилу». Самое имя «Нина» в русской поэзии первых десятилетий XIX в. — одно из традиционно-поэтических имен. Так, у Жуковского оно фигурирует в заглавии целого ряда стихотворений: «Песня к Нине» (1805, переводное), «К Нине» (1807, с английского), «К Нине» (1808, послание), «Нина своему супругу в день его рождения» (1812, и стихотворение такого же названия 1813 г.). Впрочем, переводя стихотворение Шиллера «An Emma», Жуковский (1819), равно как и Козлов (1834), сохранили имя подлинника, и у них оно озаглавлено «К Эмме».
В этом переводе с измененным названием Лермонтов проявляет себя еще не очень умелым переводчиком. В комментариях к изд. «Academia» (I, 429) отмечается, что этот «перевод Лермонтова носит очевидные следы неумелой ученической руки. В местах наиболее трудных, на концах строк (т. е. в рифме. — А. Ф.), стоят наиболее неудачные слова, искажающие оригинал. Есть и прямые ошибки. Так, у Шиллера „Licht“ — свет жизни — противопоставляется тьме смерти; смысл Шиллеровского „du lebst im Licht“ — „ты живешь“ — Лермонтов переводит: „Но увы! ты любишь свет“, где „свет“ должен быть понят в „светском“ смысле»7.
Здесь много случаев замены одного образа другим, одной смысловой единицы другой, оригиналом непосредственно не заданной. Ср. начало:
Weit in nebelgrauer Ferne
Liegt mir das vergangne Glück,
Nur an einem schönen Sterne
Weilt mit Liebe nur der Blick.Перевод:
Ax! сокрылась в мрак ненастный
Счастья прошлого мечта!..
По одной звезде прекрасной
Млею, бедный сирота.Подобные замены и вставки вообще характерны и для других переводов Лермонтова, особенно для более поздних. В данном же случае важно то, что, несмотря на них, вполне соблюдены общий эмоциональный строй подлинника (сентиментально-лирический) и его стилистическая окраска. При этом Лермонтов несколько повышает стиль, несколько усиливает эмоциональность, вводя отдельные метафоры, в оригинале отсутствующие, перифразы и т. п.
Так, напр., в оригинале сказано:
Deckte dir der lange Schlummer,
Dir der Tod die Augen zu,
Dich besässe doch mein Kummer...Тут прямо названа смерть («der Tod»), a эпитет к слову «Schlummer» отнюдь не является метафорическим, — это почти логическое определение, указание, какой сон. Кроме того, очень четко выраженная сослагательность глагола показывает с полной определенностью, что речь идет только о предполагаемой, воображаемой смерти, которой потом противопоставляется живая действительность («aber ach! du lebst im Licht»). У Лермонтова стихи эти переданы так:
Пусть, навек с златым мечтаньем,
Пусть тебе глаза закрыть,
Сохраню тебя страданьем...
- 137 -
Смерть тут не названа, как в подлиннике, о ней сказано перифрастически («навек глаза закрыть»), а традиционно-метафорическое словосочетание «с златым мечтаньем», введенное здесь Лермонтовым, ослабляет мрачность образа смерти — в противопоставлении его жизни. Сослагательность передана формой инфинитива («пусть тебе глаза закрыть»), которая тоже не может быть четко противопоставлена содержанию дальнейшего — действительности. Да и самая эта действительность низведена до уровня «света» как «светской» жизни (вследствие смысловой ошибки перевода). Смысл в данном месте перевода получился гораздо более зыбкий, неопределенный в результате перифрастической замены, «украшающей» вставки и выбора инфинитивной формы глагола.
Если некоторые особенности этого перевода еще зависят от неопытности переводчика, то все-таки уже и здесь, в этом примере из раннего творчества Лермонтова, выступает своеобразие его подхода к оригиналу — выделение одних его черт за счет других и известное изменение смысловых пропорций оригинала.
В переводе «Встречи» («Die Begegnung»), несмотря на далеко не полную передачу образов и мотивов подлинника, на ввод новых эпитетов, на замены, все же круг слов и представлений, используемых русским поэтом, в общем близок к подлиннику, равно как и стилистическая окраска. Что касается эпитетов, введенных Лермонтовым от себя, то роль их сводится к эмоциональному подчеркиванию отдельных образов.
У Шиллера:
Die herrlichste von allen, stand sie da;
Wie eine Sonne war sie anzuschauen.У Лермонтова:
Как солнце вешнее, она блистала
И радостной и гордой красотой.Там, где в оригинале только «солнце», в переводе дается определение «вешнее». Красота женщины, выраженная в подлиннике прилагательным («herrlichste»), в переводе становится существительным, влекущим за собой еще два усиливающих эпитета.
Аналогичная вставка — в начале второй строфы:
Was ich in jenem Augenblick empfunden...
Что я почувствовал в сей миг чудесный...
В комментарии изд. «Academia» перевод «Встречи», наравне с другими переводами Лермонтова из Шиллера, оценивается как «ученическое упражнение»; отмечаются «некоторое несоответствие в теме» и отдельные неточности («У Шиллера речь идет, очевидно, о королеве или принцессе, „окруженной своими дамами“, — у Лермонтова это дева „меж дев“, объединяющаяся с ними в „милый рой“». — I, 435). Однако наличие этих частных расхождений между подлинником и переводом не мешает тому, что Лермонтов воспроизводит основную тему стихотворения (красота и любовь пробуждают в человеке дар певца или поэта); разница между «дамами» оригинала и «девами» перевода никакой смысловой, а тем более сюжетной роли не играет. Смысловую и тематическую роль играет лишь замена, производимая в заключительных двух стихах второй строфы. В оригинале речь идет о пробуждении неосознанно живших в душе поэтических сил, о появлении «в ее глубочайших глубинах звуков, неведомо и божественно спавших в ней» («Und Töne fand in ihren tiefsten Tiefen, / Die
- 138 -
ungeahnt und göttlich in ihr schliefen»). У Лермонтова вместо этого выступает тема воспоминания, возвращения к прошлому («В ней вспыхнули забытые виденья / И страсти юные и вдохновенья»). Эта тема дает основание комментатору сказать, что «лермонтовский образ ближе к образам „Посвящения“ к „Фаусту“ Гёте („Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!“)» (I, 435).
На этом кончается стихотворение в переводе Лермонтова, который воспроизводит только половину оригинала, состоящего из четырех строф-октав. Это не просто механическое отсечение конца, — это также изменение темы и смысла всей вещи в целом. У Шиллера две последние строфы представляют развитие темы любви как награды нежных, тонко чувствующих сердец и тем самым влияют на осмысление первых двух октав, тема которых (красота и любовь как источник творчества) теперь отступает на задний план, становясь лишь частью целого. Лермонтов, отказываясь от передачи конца, делает ее не только главной, но и единственной темой; он пишет стихотворение о поэтическом творчестве, трактуя его, правда, несколько иначе, чем в оригинале, — заменяя понятие неосознанного воспоминаниями прошлого.
Тема переводимого стихотворения в его работе над Шиллером, — независимо от того, сохраняет ли он ее или видоизменяет, воспроизводит ли смысловые пропорции оригинала или нарушает их, выдвигая одни элементы за счет других, — настолько останавливает его внимание, что заслоняет от него иногда те выразительные средства речи, в которых она находит свое осуществление и которые придают ей остроту и отчетливость. Перевод двустишия «Das Kind in der Wiege» является примером такого невнимания к смысловой композиции подлинника, к характеру пользования значениями, при весьма точной передаче общего смысла и весьма незначительных изменениях предметного смысла отдельных слов:
Glücklicher Säugling, dir ist ein unendlicher Raum noch die Wiege;
Werde Mann, und dir wird eng die unendliche Welt.Счастлив ребенок! и в люльке просторно ему: но дай время
Сделаться мужем, и тесен покажется мир.В оригинале все двустишие строится на противопоставлении двух антитез, элементы которых (определения) остаются, хотя бы частично, одинаковыми: в первом стихе антитеза лишь намечена, поскольку в слове «Wiege» сам по себе еще не заключен признак, противоречащий определению «unendlicher», но во втором стихе появляется резкое противоречие в определениях («eng die unendliche»), строящееся по контрасту с предшествующим стихом и подчеркивающее, выявляющее в нем подобное же противоречие между определением сказуемого (unendlicher Raum) и подлежащим (Wiege). В переводе всех этих особенностей нет. Остается, так сказать, «голая» тема, довольно банальная сама по себе мысль.
Это, впрочем, редкий случай у Лермонтова (даже раннего), если не единичный. Творчески-активное отношение к теме как к основе переводимой вещи чаще выражается у него в том, что он и самой теме придает резко отличную стилистическую и эмоциональную окраску. Это имеет место в переводе другого двустишия: «An*» («Teile mit mir was du weisst»). Вместо двух длинных стихов оригинала (шесть стоп дактиля с пропуском некоторых слогов) — в переводе четыре стиха четырехстопного ямба. Резкое
- 139 -
изменение стиха вполне соответствует и перемене общего словесного тона. Первые две строки перевода, правда, вполне точно передают содержание первой строки Шиллера:
1. Teile mit mir was du weisst; ich werd’ es dankbar empfangen.
l. Делись со мною тем, что знаешь;
2. И благодарен буду я.Но вслед за этим крутой стилистический поворот:
2. Aber du gibst mir dich selbst; damit verschone mich, Freund.
3. Но ты мне душу предлагаешь:
4. На кой мне чорт душа твоя!...
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ ЛЕРМОНТОВА „ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ.
(ИЗ БАЙРОНА)“
Рисунок М. Врубеля, 1890 г.
Частное собрание, МоскваУ Шиллера — спокойная, сдержанно-ироническая «надпись» в классической форме. У Лермонтова — не только резкая, но даже грубая (в последнем стихе) эпиграмма того типа, который был распространен в русской поэзии его времени и более раннего периода8. И здесь же еще одна очень любопытная черта: вместо «себя самого» («dich selbst»), как у Шиллера, мы видим «душу». А благодаря этой замене все двустишие приобретает не просто личный тон, раздраженно-пренебрежительный, но как будто
- 140 -
и более общую направленность, почти-что полемичность, и притом полемичность в отношении чуть ли не самого Шиллера — в отношении темы сентиментальной дружбы.
Перевод двустишия «К*» — последний по времени (судя по последовательности текстов в тетради № 3) перевод Лермонтова из Шиллера. Оно, в сущности, является практическим отрицанием шиллеровской поэтики в области медитативной и сентиментально-лирической.
В оригинальном творчестве Лермонтова 1828—1829 гг. очень мало случаев, когда он перекликается с Шиллером-лириком. Но Шиллер как автор баллад, как автор сюжетных стихотворений, как драматург представлял для Лермонтова несомненный интерес и в эти годы и позднее. Переведенные им в 1829 г. отрывок из переделки «Макбета», «Перчатка» и написанная на шиллеровские темы «Баллада» относятся у Лермонтова к числу первых опытов стихотворного повествования в малой форме (наряду с оригинальной «Грузинской песней» и первыми поэмами).
Отрывок из «Макбета» (из 4-го явления I акта по Шиллеру) представляет собой вполне законченное тематическое целое — рассказ первой ведьмы о ее жертве, некоем рыбаке, рассказ, перемежаемый репликами двух других ведьм, которые повторяют, наподобие рефрена, последние два стиха из соответствующей части монолога первой. Лермонтов берет только этот рассказ с рефренообразными репликами ведьм, отбрасывая все, не относящееся к его сюжету, т. е. три реплики, которыми начинается явление, и его конец, связанный с приходом Макбета.
Среди лермонтовских переводов из Шиллера это самый ранний. Здесь сильнее всего сказывается переводческая неопытность поэта. Есть явно неумелые обороты, вызывающие смысловую неясность, напр.: «Я ж поклялась ему давно, что все сердит меня одно» (в оригинале ведьма говорит о том, что ее сердит веселое пение бедняка). Для стихов второго и четвертого, единственных во всем переводе, не находится рифмы, тогда как в оригинале каждый стих рифмует с каким-либо другим стихом. Наблюдается много отдельных несоответствий в образах; вообще перевод этот беднее образами и отвлеченнее по своему тону, чем оригинал (сравнительная бедность образами обусловлена, видимо, еще и тем, что перевод сделан стихом более коротким, чем стих оригинала, что в нем меньшее число слогов). Для обеднения образов показателен конец:
Und als ich heut’ will vorübergehn,
Wo der Schatz ihm ins Netz gegangen,
Da sah ich ihn heulend am Ufer stehn
Mit bleich gehärmten Wangen,
Und hörte wie er verzweifelnd sprach:
«Falsche Nixe, du hast mich betrogen!
Du gabst mir das Geld, du ziehst mich nach!»
Und stürzt sich hinab in die Wogen.Я ныне близ реки иду,
Свободною минутой:
Там он сидел на берегу,
Терзаясь мукой лютой!...
Он говорил: мне жизнь пуста!
Вы отвращений полны,
Блаженства, злато!... вы мечта!....
И забелели волны. — — —В переводе опущен целый ряд мотивов — конкретных деталей подлинника: указание на место («Wo der Schatz ihm ins Netz gegangen»), на бледность щек рыбака («mit bleich gehärmten Wangen»), на то, что он «выл» или «вопил» («heulend»). Слова рыбака в переводе не являются обращением к ведьме или русалке («Nixe»), не содержат упрека ей, а превращаются в риторическую сентенцию общего содержания, не соответствующую смыслу подлинника. О самоубийстве рыбака сказано не прямо, как в подлиннике, а путем перифразы.
- 141 -
Всему эпизоду Лермонтов придает несколько более архаический и риторический характер, приближая его к ранним балладам Жуковского, представлявшим еще не перевод, а переделку и приспособление оригинала к условиям русской традиции жанра.
АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА „FAREWELL“ С
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ЗАГОЛОВКОМ: „(ПРОСТИ.) ИЗ БАЙРОНА“
Институт литературы, Ленинград«Перчатку» Лермонтов перевел (судя по ее месту в тетрадях поэта) позднее: она находится в числе последних вещей 1829 г. Если в неточностях перевода «Трех ведьм» не следует искать определенного метода работы и если их правильнее объяснить отсутствием твердых переводческих навыков и следованием русской традиции, то в «Перчатке» — гораздо более сознательная система отношения к подлиннику, к развитию фабулы. Лермонтов производит значительное сокращение текста: он выбрасывает целый отрезок в одиннадцать стихов (стихи 33—43-й оригинала), посвященный появлению двух леопардов, нарушает таким образом трехчленность повествования о зверях и несколько ускоряет переход к драматическому эпизоду с перчаткой. Опускает он еще несколько стихов, правда, вводя зато в других местах незаданные подлинником строки (в целом перевод короче оригинала на одиннадцать стихов). Лермонтов опускает собственные имена двух персонажей баллады — короля (который в оригинале
- 142 -
назван Францом) и рыцаря (Делорж). Тем самым он хотя бы отчасти подчеркивает схематичность фабулы. Вспомним, к тому же, что в повествовательных (балладного типа) стихотворениях Лермонтова и в его ранних поэмах довольно часты безымянные, не названные никаким именем герои.
В отличие от перевода «Трех ведьм» перевод «Перчатки» сохраняет большинство образных деталей и словесных мотивов подлинника (если не считать пропуска целого отрезка текста), и в тех случаях, когда пропускается отдельный конкретный образ, Лермонтов большей частью заменяет его конкретным же (а не абстрактным или перифрастическим, как в «Трех ведьмах»). Он делает, однако, и некоторые вставки «от себя», существенные в смысловом отношении.
В третьем отрезке баллады тема тигра дана у Шиллера путем описания внешнего вида зверя и его движений. Лермонтов дополняет его еще образом «кровавых глаз» («глаз кровавых не сводит») и завершает все описание перифрастически, вводя уподобление льва — владыке, а тигра — рабу:
Но раб пред владыкой своим
Тщетно ворчит и злится:
И невольно ложится
Он рядом с ним.Ср. в оригинале:
Und im Kreise scheu
Umgeht er den Leu
Grimmig schnurrend,
Drauf streckt er sich murrend
Zur Seite nieder.Когда изложение доходит до смелого поступка рыцаря, спускающегося к зверям за перчаткой Кунигунды, Лермонтов вводит от себя такой стих:
На перчатку меж диких зверей он глядит.
У Шиллера этого нет: в оригинале «рыцарь быстро, твердыми шагами, спускается в страшный зверинец и смелой рукой поднимает перчатку, лежащую среди чудовищ». Добавление, которое делает Лермонтов («глядит»), противоречит, пожалуй, замыслу автора, поскольку оно не вполне совмещается с мотивом бесстрашия рыцаря. Вряд ли, впрочем, оно свидетельствует о каких-либо принципиальных особенностях трактовки Лермонтовым его образа; оно, вероятно, скорее объясняется версификационными условиями («глядит» — слово, стоящее в рифме) и необходимостью так или иначе согласовать с подлежащим указание на то, что перчатка находилась «среди чудовищ» (поскольку был невозможен дословный перевод предложения: «Und aus der Ungeheuer Mitte / Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger»).
Для общего осмысления Лермонтовым шиллеровской баллады гораздо показательнее две вставки, которые сделаны в переводе при характеристике Кунигунды и рыцаря. Когда первая просит Делоржа достать ей упавшую в зверинец перчатку, Лермонтов заставляет ее сказать:
«Рыцарь, пытать я сердца люблю».
О рыцаре же, вернувшемся с перчаткой, переводчик говорит: «Но досады жестокой пылая в огне...». Тем самым он в образе Кунигунды подчеркивает холодность и бессердечие к влюбленным в нее, а в образе рыцаря — негодование, т. е. придает конфликту еще бо́льшую остроту и эмоциональность.
К циклу переводов из Шиллера вообще и к переводу «Перчатки» в частности очень близко примыкает стихотворение «Баллада» («Над морем
- 143 -
красавица-дева сидит»). В тетради № 3 она непосредственно предшествует «Перчатке». Стихотворение это представляет собой использование сюжета двух баллад Шиллера — той же «Перчатки» и «Кубка» (как озаглавлен в переводе Жуковского «Der Taucher»). Здесь то же соотношение, что и в «Перчатке»: жестокая и бессердечная дева и ее друг, которого она посылает за ожерельем, упавшим в пучину, который достает его и снова, по просьбе девы, спускается в воду, чтобы принести ей коралл, но на этот раз погибает. С «Перчаткой» эту «Балладу» роднит образ героини — жестокой девы, требующей доказательства любви. Остальное — самое испытание, назначаемое ею, т. е. требование спуститься в море за драгоценной вещью, повторение его после первой удачи и трагическая гибель смельчака — сближает ее с «Der Taucher». Отличие этой последней баллады — в том, что вызов броситься в воду за кубком исходит там от короля и обращен к целой толпе рыцарей и пажей и что дочь короля просит отца избавить юношу от второго испытания.
АВТОГРАФ ДРАМЫ ЛЕРМОНТОВА „СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК“. ЭПИГРАФ ИЗ БАЙРОНА И
НАЧАЛО ПЕРВОЙ СЦЕНЫ
Институт литературы, Ленинград«Баллада» Лермонтова — уже не перевод, а то, что в поэтической практике первой половины XIX в. называлось «вольным подражанием». Во многих примерах, подобных «Балладе», и в частности в самом этом стихотворении «подражания» нет. Это просто использование сюжета, взятого из определенного источника (или даже нескольких источников, связь с которыми вполне ясна), и самостоятельная разработка этого сюжета. В комментариях изд. «Academia» отмечено: «Баллада Лермонтова написана очень сжато, фабула почти конспектирована, стихотворение впятеро короче „Водолаза“. Близки только концы обеих баллад» (I, 436).
- 144 -
Действительно, Лермонтов берет, так сказать, только фабульный остов баллады Шиллера. Он отказывается от всей декоративной стороны своего источника, от описаний морского дна. Ему важна только острота ситуации. Но и в нее он вкладывает психологическое содержание, отличающее ее и от «Кубка» и от «Перчатки». Юноша у Лермонтова, правда, разочарован в своей любимой, не пожалевшей его («...и печальный он взор устремил / На то, что дороже он жизни любил»), но разочарование вызывает в нем не возмущение, а покорную безнадежность («С душой безнадежной младой удалец / Прыгнул, чтоб найти иль коралл иль конец»), и это отличает его от рыцаря из «Перчатки». Что касается героя в балладе «Der Taucher», то о побуждениях его к первому, удавшемуся подвигу поэт ничего не говорит, а во второй раз он бросается в воду, воодушевленный любовью к дочери короля, которая пожалела его, и в надежде на ее руку. Лермонтов психологически усложнил фабулу по сравнению с обеими балладами и подчеркнул это усложнение, дав только минимум декоративных подробностей, которые, однако, вполне четко напоминают «Кубок». «Пенная бездна» Лермонтова восходит к описанию водоворота у Шиллера, но особенно явно звучит перекличка между русским и немецким стихотворениями в самом их конце:
Es kommen, es kommen die Wasser all’,
Sie rauschen heraus, sie rauschen nieder,
Den Jüngling bringt keines wieder.И волны теснятся, и мчатся назад,
И снова приходят и о берег бьют,
Но милого друга они не несут.Русский текст представляет здесь почти-что перевод немецкого. Между переводом и свободной, вполне оригинальной переработкой иноязычного источника у Лермонтова в дальнейшем его творчестве не будет четкой и строгой грани. Перевод у него легко переходит в самостоятельную вариацию на данную тему, в вариацию, нередко совершенно уводящую за пределы первоисточника, а в самую свободную вариацию порой вклинивается точный перевод отдельных стихов или даже словосочетаний из иностранного текста. «Баллада» является тому примером и первым у Лермонтова случаем подобного использования иноязычного материала9.
Она, кроме того, интересна для нас еще тем, что образ ее героя — смелого юноши, гибнущего жертвой бездушной женщины, служит звеном между образом рыцаря Делоржа в «Перчатке» и целым рядом персонажей в оригинальном творчестве Лермонтова, которым приходится разочароваться в своей возлюбленной и которые по-разному реагируют на ее бессердечие (истинное или мнимое) — или отвечая на него негодованием, как Делорж, или принимая его с безнадежной покорностью. Ситуация, лежащая в основе «Баллады», проходит в разных вариациях как тема целого ряда лирических стихотворений Лермонтова (напр., «Два сокола», 1829; «Благодарю», 1830; «Нищий», 1830; «Стансы», 1830; «Когда к тебе молвы рассказ», 1830; «К***» <«Всевышний произнес свой приговор»>, 1831; «Видение», 1831, и др.). Это свидетельствует о том, что заимствование того или иного образа, темы, ситуации из литературного источника определяется у Лермонтова степенью соответствия тематике его оригинального творчества, степенью близости к его психологическим интересам, которые связаны уже с биографией поэта. Таким образом, в том или ином заимствованном образе или теме отнюдь не приходится искать объяснений аналогичным образам и темам оригинального творчества; наоборот, скорее последние могут явиться объяснением, почему заимствуется данный образ или данная тема и даже почему переводится то или иное стихотворение.
- 145 -
В переводах из Шиллера и в «Балладе» внимание Лермонтова, как мы видели, сосредоточено на теме, на фабуле, на основных мыслях — за счет формальных особенностей. Те немногие примеры звуковой орнаментации стиха, какие мы встречаем на материале переведенных Лермонтовым вещей Шиллера, в виде отдельных повторов — звуковых (в «Der Handschuh»: «das Tiegertier»), или комбинированных — лексико-фонетических (в «Die Begegnung»: «aus ihren tiefsten Tiefen»), или же внутренней рифмы (в «Der Handschuh»: «Und mit Erstaunen und mit Grauen»), не воспроизводятся им, никак не компенсируются. В переводах из Шиллера у Лермонтова встречаются, так же как и в оригинальных стихах первых годов творчества, так называемые «бедные рифмы» (напр., в «Трех ведьмах»: иду — берегу; в «Перчатке»; упади — руки; в «Балладе»: тебя — щадя). В переводе двустишия «Das Kind in der Wiege», как было показано выше, не воспроизведен основной смысловой ход, на котором оно построено. Выше был отмечен и целый ряд других стилистических несоответствий, которые свидетельствуют о том, что стиль Шиллера-поэта оставался Лермонтову в целом ряде случаев чужд. Вещи, переведенные Лермонтовым из Шиллера, довольно разнообразны, но за исключением сюжетных стихов (т. e. «Перчатки» и заимствованной «Баллады») сами по себе для немецкого поэта даже не особенно характерны. При выборе их, несомненно, значительную роль сыграла русская литературная традиция (в частности при переводе двустиший, из которых одно интерпретировано в духе традиционной эпиграммы). В дальнейшем к Шиллеру как к источнику для переводов или непосредственных заимствований Лермонтов-лирик и автор поэм не обращается. Для него немецкий поэт сохраняет интерес лишь как драматург, но, правда, лишь с точки зрения общих структурно-композиционных принципов драмы. Не случаен в этой связи и выбор отрывка из «Макбета» как отражение интереса к драматургии — и не только шиллеровской, но и шекспировской.
2
К тому же 1829 г., когда Лермонтов переводил Шиллера, относится еще одно свидетельство его читательского и творческого интереса к немецкой поэзии. Это — зачеркнутый набросок «Забывши волнения жизни мятежной», след незавершенного замысла. Этот набросок справедливо связывается с балладой Гёте «Рыбак», и хотя набросок содержит лишь несколько строк, в нем есть черты явного сходства с началом немецкого стихотворения, позволяющие видеть здесь не просто «влияние» или «подражание», а начало «вольного» перевода, пожалуй, гораздо менее далекого от первоисточника, чем «Баллада». Сравним:
Гёте:
«Das Wasser rauschť, das Wasser schwoll,
Ein Fischer sass daran,
Sah nach der Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.Лермонтов:
Забывши волнения жизни мятежной,
Один жил в пустыне рыбак молодой.
Однажды на скале прибрежной,
Над тихой прозрачной рекой
Он с удой беспечно
Сидел
И думой сердечной
К протекшему счастью летел.
- 146 -
Разрядкой выделены слова, образы и мотивы Гёте и Лермонтова, находящие себе взаимное соответствие. К материалу, который дает Гёте, Лермонтов делает ряд добавлений. Баллада Гёте начинается in medias res — с момента, являющегося непосредственным началом эпизода; Лермонтов в двух начальных стихах сообщает как бы Vorgeschichte рыбака, окрашенную в пасторально-идиллические тона и мотивом покоя перекликающуюся со словом «ruhevoll» у Гёте. Один из образов Гёте заменен (вместо шумной и бурливой воды — тихая прозрачная река), образ «прибрежной скалы» внесен Лермонтовым, мотив «протекшего счастья» — тоже.
Примечательно в данном случае то, что Лермонтов, так же как и в ряде переводов из Шиллера, обращается к стихотворению с сюжетом, притом такому, которое по линии образов, связанных с водой, частично перекликается с его «Балладой» и одним из ее источников («Der Taucher»). Не менее интересен данный набросок и в отношении метрики: здесь Лермонтов делает самый первый (не только в своем переводном, но и в оригинальном творчестве) опыт ритмического новаторства, к которому, правда, баллада Гёте, написанная обыкновенным ямбом, не дает повода; как бы то ни было, течение амфибрахиев внезапно нарушается одной ямбической строкой, напоминающей, несмотря на женскую рифму, о размере источника. Этот опыт остался незавершенным. Но в тетради поэта набросок «Забывши волнения» приходится лишь на несколько листов раньше «Перчатки», где намерение дать необычную стиховую форму полностью осуществлено.
Что же касается песни русалки, с которой начинается вторая строфа баллады Гёте, то отзвуки ее (правда, не позволяющие говорить о бесспорном заимствовании, а тем менее о переводе, хотя бы и «вольном») были усмотрены в произведении гораздо более позднем — в «Мцыри», в песне рыбки. Она, таким образом, оказывается (конечно, уже в иной плоскости) как бы продолжением и окончанием того, что было начато в наброске 1829 г.
Набросок никак не озаглавлен и не снабжен никаким указанием на заимствование. Зато указанием в скобках: «(Из Гёте)» сопровождается заглавие стихотворения «Завещание» (1831). Подобный подзаголовок как будто означает, что стихи — переводные. Однако стихотворения, носящего такое заглавие или хотя бы совпадающего по содержанию с лермонтовским, у Гёте нет, нет соответствующих мест и в составе более крупных его стихотворных произведений. И. Эйгес в статье «Перевод М. Ю. Лермонтова из „Вертера“ Гете»10 отметил как источник «Завещания» одно место в предсмертном письме Вертера к Лотте. Таким образом, «Завещание» оказывается стихотворным переложением прозаического отрывка. Однако отмеченный И. Эйгесом текст Гёте и стихотворение Лермонтова представляют лишь самые общие признаки сходства (тема близкой смерти, обращение ко второму лицу с просьбой похоронить в определенном месте, надежда на то, что могила привлечет внимание и благожелательность прохожих). Это сходство не подкрепляется соответствием в каких-либо конкретных образах: и место, избранное для погребения, изображается у Лермонтова совсем по-иному, чем в «Вертере» (и притом в гораздо более романтических тонах), и образы прохожих даются иначе, и во всем стихотворении не обнаруживается ни одного словесного совпадения с прозаическим письмом романа Гёте. Сравним:
«Ich habe deinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhof sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke
- 147 -
nach dem Felde zu; dort wünsch’ ich zu ruhen... Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege oder im einsamen Tale, dass Priester und Levite vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorüber gingen und der Samariter eine Träne weinte».
Есть место: близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной....
Мой друг! ты знаешь ту поляну; —
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану!
...Когда гроза тот лес встревожит,
Мой крест пришельца привлечет;
И добрый человек, быть может,
На диком камне отдохнет. —Данное сопоставление казалось бы совершенно искусственным, если бы не авторский подзаголовок «Из Гёте» и не отсутствие у Гёте строк, более близких к лермонтовскому «Завещанию». Кроме того, мы знаем, что в 1831 г. внимание Лермонтова привлекал «Вертер», которому он отдал предпочтение перед «Новой Элоизой» Руссо, как о том свидетельствует запись в одной из тетрадей поэта (датируемая 1831 г.): «Я читаю Новую Элоизу. — Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы, и истины. — Ума слишком много; идеалы — что в них?.. Вертер лучше; там человек — более человек; у Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть» (V, 351). И это, разумеется, лишний довод в пользу предположения И. Эйгеса.
Самое же соотношение между «Завещанием» (с подзаголовком «Из Гёте») и его предполагаемым оригиналом показывает, что между переводом в прямом смысле и вольной вариацией на заимствованную тему, представляющей уже нечто самостоятельное, для Лермонтова точной грани не существует11. Показательно и то, что тема «Вертера» перекликается в творчестве Лермонтова 1831 г. с темами глубоко личных переживаний. И, конечно, в данном случае приходится видеть не «влияние» иностранного книжного образца на выбор данной темы, а, наоборот, возникновение данной темы у самого Лермонтова обусловливает частичное использование литературных мотивов иноязычного автора (или — поскольку заимствование не бесспорно — совпадение с ними).
Но немецких классиков уже к 1830 г. заслоняет для Лермонтова Байрон. Лермонтов начинает знакомиться с ним в оригинале и переводить его. Немецкий балладный герой и лирическое «я» стихотворений Шиллера его уже не удовлетворяют. Вольная вариация на тему из «Вертера» находится уже, в сущности, в русле байронических интересов Лермонтова12. Некоторой подготовкой к образам байронических героев с их волевым характером является и рыцарь в «Перчатке», перевод которой, однако, с интересом Лермонтова к Байрону еще не связан.
3
Все переводы его из Байрона, как более или менее точные, так и «вольные», падают на период с 1830 по 1836 гг. А. П. Шан-Гирей сообщает в своих воспоминаниях, что в 1829 г. Лермонтов «начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его»13, а Е. А. Сушкова, — что летом 1830 г. он «был неразлучен с огромным Байроном»14.
- 148 -
Лермонтовским стихотворным переводам из Байрона и «подражаниям Байрону» предшествуют прозаические учебные упражнения в английском языке на материале отдельных его вещей. Лермонтов в 1830 г. переводит в прозе стихотворения «Darkness» и «Napoleon’s Farewell» и начала поэм «Гяур» и «Беппо». Первое из этих упражнений — перевод «Darkness» — еще отражает неуверенность в понимании отдельных слов и оборотов, поиски нужного русского значения, не всегда удачные, оканчивающиеся порой ошибками. Перевод этот имеет черновой характер, в нем много примеров чисто буквальной передачи текста Он — интересное свидетельство того, как поэт, еще не вполне владеющий языком подлинника, сквозь не всюду ясные для него значения слов пробивается к иноязычному тексту и нащупывает способы оформления его по-русски. Сравним:
The bright sun was extinguish’d, and the stars
Did wander darkling in the eternal space,
Rayless, and pathless, and the icy earth
Swung blind and blackening in the moonless air.Блестящее солнце потухло, и звезды [в темноте] темные блуждали по беспредельному пространству, без пути, без лучей; и оледенелая земля [повисла] плавала слепая и черная в безлунном воздухе.
Зачеркнутые здесь Лермонтовым варианты перевода слов и словосочетаний показывают, что он не уверен в точном смысле их. Но в следующих трех упражнениях-переводах сказывается уже полная твердость в осмыслении оригинала: замена одного варианта (зачеркиваемого) говорит здесь лишь о поисках более уместного, более литературного синонима. Напр.: «И если иногда мгновенный [ветерок] зефир взволнует голубой кристалл моря...» (перевод «The Giaour»). Или: «Прости! о [страна] край, где тень моей славы восстала...» («Napoleon’s Farewell»). В целом, однако, эти прозаические переводы еще не имеют литературного характера, и даже в окончательных вариантах некоторых предложений отсутствует отчетливая синтаксическая связь («...если [бой] война за свободу уже началась, она передается кровью от отца к сыну, и если иногда [кончается] неуспешно, то всегда подконец торжествуют»).
1830 г. — год, с которого начинаются проявления напряженнейшего интереса Лермонтова к Байрону, засвидетельствованного документально как мемуарными данными (см. выше), так и собственными записями поэта и его переводами. В этом году он проводит биографические параллели между собой и Байроном (V, 348 и 351 — заметки №№ 2 и 11), радуясь сходству. В этом же году он переводит, уже стихами, «Farewell» («Farewell! if ever fondest prayer»), начало баллады из XVI песни «Дон Жуана» («Beware! beware! of the Black Friar») под заглавием «Баллада» и дает вольный перевод-вариацию стихотворения «Lines written in an Album, at Malta» («As о’er the cold sepulchral stone») под заглавием «В альбом». К следующему, 1831 г. относится стихотворение «К Л.—» («У ног других не забывал»), обозначенное поэтом в подзаголовке как «Подражание Байрону» и восходящее к его «Stanzas to*****, on leaving England» («’Tis done — and shivering in the gale»); к 1830—1831 гг. — «Подражание Байрону» («Не смейся, друг, над жертвою страстей»), связываемое с «Epistle to a Friend»15; к 1832 г.: 1) стихотворение «Время сердцу быть в покое», где первое четверостишие воспроизводит начало стихотворения Байрона «On this day I complete my thirty-sixth year» («’This time this heart should be unmoved»), а все дальнейшее развивает основные образы того отрывка из поэмы Кольриджа «Кристабель», который стоит эпиграфом к стихотворению
- 149 -
Байрона «Fare thee well», и 2) вольный перевод отрывка из «Мазепы» («Ах! ныне я не тот совсем»), из V главки поэмы. Наконец, на 1836 г. приходятся: 1) «Еврейская мелодия» («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!»), являющаяся переводом стихотворения «My soul is dark» из цикла «Hebrew Melodies», 2) стихотворение «В альбом» («Как одинокая гробница») — перевод «Lines written in an Album», стихотворения, которое в 1830 г. послужило Лермонтову для вольной вариации, и 3) стихотворение «Умирающий гладиатор», связываемое с тремя строфами (139—141) IV песни «Чайльд-Гарольда», а также со стихотворением «Le gladiateur» французского поэта Шендолле.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ ЛЕРМОНТОВА „НА СЕВЕРЕ
ДИКОМ...“
Рисунок И. Шишкина, 1890 г.
Третьяковская галлерея, МоскваЭто перечень тех стихотворений Лермонтова, связь которых с поэзией Байрона несомненна, поскольку они или представляют собой перевод или содержат значительные тематические и словесно-образные совпадения, объяснимые лишь сознательным заимствованием, и поскольку во многих случаях сам Лермонтов отмечает эту связь, делая указание на
- 150 -
источник или давая подзаголовок «Подражание Байрону». Нужно также учесть и целый ряд эпиграфов из Байрона, которые Лермонтов предпосылает своим стихотворениям и в особенности поэмам.
Байрон в лирике Лермонтова представлен таким значительным числом переводов, вольных «подражаний» и просто упоминаний его имени в оригинальных стихах, как никто из других западно-европейских авторов, сближаемых с Лермонтовым. При этом важно подчеркнуть, что большинство случаев прямой связи с поэзией Байрона относится к ранним годам — вплоть до 1832 г.
Переводы Лермонтова из Байрона и подражания ему очень различны по степени близости к оригиналу16. Наряду с такими точными переводами, как «Farewell» или «В альбом» (во второй редакции, 1836, где, впрочем, текст увеличен на один стих по сравнению с оригиналом), нам встречаются и такие случаи, когда стихотворение оригинала значительно сокращается в русской обработке, когда из него заимствуются некоторые образы (правда, доминирующие в нем), но группируются в иной последовательности, чем в английском тексте, и чередуются с образами и мотивами, принадлежащими только Лермонтову. Так, например, обстоит дело в «Подражании Байрону» («У ног других не забывал»). Оригинал состоит из 11 строф по 6 стихов (всего 66 стихов); лермонтовское стихотворение — из 3 строф по 8 стихов (всего 24 стиха). У Байрона основная тема (сформулированная и в заглавии: «On leaving England») — прощание перед разлукой с любимой женщиной, которая не отвечает поэту на любовь; мотив первой строфы — предстоящее отплытие на корабле. Тема прощания и разлуки у Лермонтова играет гораздо меньшую роль, мотив отплытия перенесен у него во вторую часть второй строфы («Корабль умчит меня от ней / В безвестную страну...»). В оригинале все строфы замыкаются рефреном, стихом, последние слова которого: «love but one» (за исключением строфы десятой, где в конце стоят слова: «for aught but one»); у Лермонтова же каждая строфа оканчивается одним и тем же стихом: «Люблю, люблю одну», который соответствует общему содержанию рефренов оригинала, но формально не совпадает ни с одним из них, будучи и гораздо лаконичнее и проще.
В «Балладе» («Берегись! берегись! над бургосским путём») первая строфа является словесно близким соответствием первой строфе баллады из XVI песни «Дон Жуана», если не считать того, что действие из Англии переносится в Испанию, что «Norman stone» оригинала заменяется «бургосским путём» и что вместо Амондвиля Лермонтов вводит «Мавра». Но все дальнейшее уже не может быть рассматриваемо как перевод. «Баллада» у Лермонтова не доведена до конца, но по написанной ее части можно судить о том, что фабула развивается у него несколько иначе: в то время как у Байрона черный монах тревожит дом Амондвиля, изгнавшего из монастыря всех остальных монахов, и тем самым как будто мстит ему, — у Лермонтова монах, не желавший покинуть монастырь в пору нашествия мавров, не хочет «уходить» (откуда?) даже тогда, когда «возвратился тех мест господин», которому мстить уже не за что. Некоторые образы, использованные Лермонтовым во второй строфе и в недоконченной третьей, соответствуют тому, что у Байрона имеется дальше (напр., стихи о том, как призрачный монах блуждает при лунном свете по замку). Лермонтов вводит независимо от оригинала и элемент повествования от первого лица («...я слыхал не один, / И не мне бы о том говорить») и тоже
- 151 -
по своему почину сгущает эмоциональные краски, подготовляя читателя к страшному рассказу («Ибо слышал не раз я старинный рассказ, / Который страшусь повторять»).
«Баллада (Из Байрона) — единственный случай, когда Лермонтов переводит из английского поэта стихотворение с фабулой. Да и этот перевод не завершен. Во всех прочих случаях, когда он переводит Байрона или вариирует его мотивы, он останавливается на таких стихах, которые говорят только о психологических состояниях, о переживаниях поэта или его героя. Это взволнованные или скорбно-спокойные обращения к любимой (характерна в ряде случаев форма второго лица), размышления о своей судьбе («Время сердцу быть в покое»). Это главным образом та форма лирического стихотворения, тот тип его построения, которые мы чаще всего видим у самого Лермонтова и которые намечаются у него до того, как он начинает переводить Байрона.
ЧЕРНОВОЙ И БЕЛОВОЙ АВТОГРАФЫ РАННЕЙ РЕДАКЦИИ
СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА „НА СЕВЕРЕ ДИКОМ...“
С ЭПИГРАФОМ ИЗ ГЕЙНЕ
Публичная библиотека, ЛенинградХарактер отношения Лермонтова к переводимому или перерабатываемому стихотворению, его переводческий метод здесь, в сущности, тот же, что и в его работе над Шиллером и Гёте. Появляется лишь бо́льшая свобода в оперировании иноязычным материалом, и совершенно исчезают признаки той скованности языка, которая вызывалась в переводах из Шиллера уступками версификационным условиям и буквальной точности
- 152 -
отдельных мест текста и приводила кое-где к неясным оборотам или к необоснованным образам, к впечатлению некоторой неестественности (в таком, напр., случае, как вставка в «Перчатке» стиха «На перчатку меж диких зверей он глядит»). В переводах Лермонтова из Байрона даже при самых больших словесных отступлениях от оригинала у читателя не создается впечатления противоречия с целым. Если в некоторых переводах из Шиллера сказывается известный налет переводности, то переводы Лермонтова из Байрона в формально-языковом отношении вряд ли чем отличаются от его оригинальных стихов. Правда, его работа над Шиллером — работа ранняя, носящая еще следы ученического упражнения, а переводы из Байрона относятся к следующим годам, к тем годам, когда Лермонтов все более и более вырабатывает мастерство лирической речи. Дело, однако, не только в этом. Если Лермонтов образами стихов Байрона, его словесными формулами и сентенциями распоряжается как своими собственными, производя перестановки, кое-что вовсе устраняя, кое-что изменяя до неузнаваемости, а во многих местах достигая величайшей точности и совмещая ее с полной художественной выразительностью, то причина — в гораздо большей близости всей поэтической системы Лермонтова к Байрону, близости, намечающейся у русского поэта до того, как он начинает переводить Байрона, и позволяющей ему добиваться подобных результатов в переводах, которые, в свою очередь, отражаются потом и на его оригинальном творчестве. Все переводы из Шиллера относятся к одному 1829 г., переводы из Байрона и вольные вариации его стихотворений — к периоду с 1830 по 1836 гг. Первые переводы из Байрона от переводов из Шиллера отделяет расстояние в один год. И тем не менее по словарю, по синтаксису, по характеру семантики, по всей фактуре стиха разница между переводами из Шиллера 1829 г. и первыми опытами перевода Байрона (1830) — больше, чем разница между первыми и последними переводами из английского поэта, отделенными друг от друга расстоянием в шесть лет.
Независимо от степени соответствия оригиналу или первоисточнику все переводы из Байрона, как точные, так и «вольные», несравненно теснее примыкают к окружающим их оригинальным стихам Лермонтова, чем переводы из Шиллера или Гёте. Переход от таких стихотворений 1829 г., как «Глядися чаще в зеркала», «В день рождения N. N.» («Чего тебе, мой милый, пожелать?»), «Мы снова встретились с тобой», «Монолог» («Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете»), к непосредственно следующим за ними в тетради поэта переводу «Встречи», «Балладе», «Перчатке» и далее — переход от двустишия «Дитя в люльке» и эпиграммы «Делись со мною тем, что знаешь» к оригинальной «Молитве» («Не обвиняй меня, всесильный») ощущается достаточно резко благодаря разнице темы, жанра, стиля, эмоционального строя. Если же сравнить переводы из Байрона с их ближайшим хронологическим окружением, т. е. со стихами Лермонтова, их непосредственно предваряющими и немедленно следующими за ними в его тетрадях, то картина окажется несравненно более единообразной. Так, переводу «Farewell» предшествуют: «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась») и «В Воскресенске», мрачные размышления о судьбах человечества, трагически взволнованный монолог в форме письма «К....» («Простите мне, что я решился к вам»), «Ночь. III» («Темно. Все спит. Лишь только жук ночной»), а следуют за ним «Элегия» («Дробись, дробись, волна ночная») и «Эпитафия» («Простосердечный сын свободы»).
- 153 -
Стихотворению «К Л. — (Подражание Байрону)» предшествуют «Видение» («Я видел юношу: он был верхом») — рассказ об измене любимой (кстати сказать, самим поэтом возводившийся к Байрону — к стихотворению «The Dream», как о том свидетельствует реплика одного из персонажей драмы «Странный человек», где по ходу действия читается «Видение») и «Чаша жизни», а следует за ним «К Н. И...... («Я не достоин, может быть») — обращение к изменившей любимой женщине, и между переводом и оригинальными стихами возникает несомненная эмоциональная и тематическая связь. Перевод становится как бы необходимым звеном в цепи стихотворений, имеющих глубоко личный характер, порою играющих роль страниц из лирического дневника.
Каковы те конкретные черты стиля, которые являются общими для оригинальной лирики Лермонтова и его переводов из Байрона, роднят творчество обоих поэтов, и каковы черты различия?
Революционность поэтического творчества Байрона проявляется, как у всякого крупного писателя-новатора, не только в идейно-тематической плоскости, но и в словаре, в характере словоупотребления, в ритмико-синтаксическом строе и общем эмоциональном тоне речи. Эти аспекты стиля неодинаковы в разных жанрах поэзии Байрона — в поэме, драме и лирике. Что касается последней, то они в ней достаточно специфичны.
В огромном большинстве лирических стихотворений Байрона есть герой, очень активно проявляющий себя. Герой этот — «я» поэта. Личность автора имеет в стихах Байрона важное значение как организующее тематическое и композиционное начало, определяя всю эмоциональную трактовку каждого данного мотива и его развитие. Роль этой личности здесь настолько исключительна, что в предшествующей литературе нельзя найти аналогий, а в послебайроновской поэзии подобие представляет лишь поэзия Гейне. Личность поэта как героя его стихотворений является у Байрона прежде всего носителем больших страстей, напряженных переживаний. Стихи о любви, и притом о несчастной любви, занимают в лирике Байрона очень крупное место. Жанр и тема сами по себе не новы, но поэт наполняет их таким сложным и богатым психологическим содержанием, придает им такую степень напряженности, что личная тема приобретает общее значение, а «я» поэта становится трагическим героем. Тема личного неблагополучия, трагизм личных отношений в лирике Байрона подготовляют тему неблагополучия социального, а неудовлетворенность своей судьбой — протест против этого неблагополучия. Байрон (или его трагический герой) говорит полным голосом, тон его глубоко серьезен и чужд иронии. Но замечательно òî, что страстный и напряженный пафос, сам по себе характерный для Байрона, отличающий его и от предшественников и от старшего поколения современников, вступает в не менее характерное сочетание с большой простотой языка, с разговорной лексикой (в отдельных местах), которая, однако, нисколько не снижает общего тона речи. Байрон-лирик не отказывается от приподнятых романтических образов и эмоциональных формул, но сочетание их в одно целое с элементами иного порядка у него настолько органично, что, при всей противоположности, контраста не получается и все время сохраняется впечатление естественности. Гейне, продолжавший поэтическую линию Байрона, осложнил ее иронией и подчеркиванием контраста, который благодаря противоположности сочетаемых элементов он сделал резко ощутимым.
- 154 -
Лермонтов, овладевая лирическим наследием Байрона, прежде всего воспринял те его элементы, которые легче всего было усвоить средствами общеромантической стихотворной культуры, — его пафос, напряженность и страстность в выражении переживаний и мыслей, личный тон. Элементы байроновской простоты представляли главную трудность. Лермонтовские переводы и реминисценции из Байрона в целом почти всегда приподняты на несколько тонов по сравнению с оригиналом. То, что Лермонтов сам привносит почти в каждую переводимую или «вольно» переработанную вещь, именно и создает это отклонение от общего строя оригинала. Так, в стихотворении «К Л. — (Подражание Байрону)» Лермонтов вводит от себя характерный для его собственного стиля образ: «память, демон-властелин», у Байрона отсутствующий. В переводе стихотворения «Farewell» он, напр., вводит метафоры, «повышает» стилистический строй стихов 11—12-го. Сравним:
Awake the pangs that pass not by,
The thought that ne’er shall sleep again.И эти думы вечный яд, —
Им не пройти, им не уснуть!В неоконченном переводе-переложении «Баллады» из «Дон Жуана», как было отмечено выше, сгущены эмоциональные краски (в конце второй строфы). Любопытно, что при этом, как бы по контрасту, в первой строфе лексика и фразеология несколько снижены по сравнению с оригиналом:
When the Lord of the Hill, Amundeville
Made Norman Church his prey,
And expell’d the friars, one friar still
Would not be driven away.Когда Мавр пришел в наш родимый дол,
Оскверняючи церкви порог,
Он без дальних слов выгнал всех чернецов;
Одного только выгнать не мог.Если глагол «выгнать» (являющийся фамильярным, неторжественным и «непоэтическим» синонимом к глаголу «изгнать») соответствует окраске глаголов «expell» и «drive away», то словосочетание «без дальних слов» подлинником вообще не задано и создает известный контраст с трагическим строем повествования, которое у Байрона при большей простоте, меньшей напряженности является гораздо более ровным по стилю. Но то, что Лермонтов сделал здесь попытку некоторого снижения речи, для него нехарактерно, — характерно то, что в следующей строфе он пошел в противоположном направлении и, таким образом, стилистического равновесия оригинала не достиг.
Большинство переводов из Байрона и «подражаний» приходится у Лермонтова на 1830—1832 гг. и только два перевода («В альбом», вторая редакция, и «Душа моя мрачна») — на 1836 г., открывающий собой период полной творческой зрелости поэта. К этому же году относится и «Умирающий гладиатор», связанный с IV песней «Чайльд-Гарольда».
Стихотворение «В альбом» и в словарно-смысловом и в стилистическом отношении очень близко к английскому тексту, по сравнению с которым оно только удлинено на один стих, нарушающий симметрию двух строф оригинала. Характернее другой перевод этого года. Стихотворение Байрона «My soul is dark» принадлежит к циклу «Еврейских мелодий», где поэт прибегает к известной стилизации, пользуясь библейскими образами, мотивами, сюжетными положениями для того, чтобы ими в известной мере замаскировать то личное содержание, которое наполняет бо́льшую часть его лирики. Библейская декорация и библейские положения
- 155 -
обусловливают здесь некоторую приподнятость стиля сравнительно с другими разделами байроновской лирики. Лермонтов, однако, и в данном случае не ограничивается теми величественно-мрачными, отчасти даже архаическими чертами, которые дает монолог тоскующего героя.
Впечатлению большей напряженности в переводе содействует, может быть, замена единообразного размера — четырехстопного ямба с мужскими рифмами — чередованием строк ямба шестистопного и четырехстопного с мужскими и женскими рифмами. Напряжение усугубляется в одном месте и с помощью ритмо-синтаксического хода — enjambement в начале второй строфы. Равномерная стремительность и отрывистость подлинника, создаваемые большим количеством коротких, преимущественно односложных слов, сменяются в переводе более медленным и плавным течением речи, состоящей из более длинных и увесистых акцентных групп. Ср., напр., стихи 9—12-й:
But bid the strain be wild and deep,
Nor let thy notes of joy be first;
I tell thee, minstrel, I must weep,
Or else this heavy heart will burst.Пусть будет песнь твоя дика. — Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВА
ГАНКИ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
ЛЕРМОНТОВУ, ПРАГА, 9 ИЮЛЯ 1841 г.
Институт литературы, ЛенинградНо дело, разумеется, не только в ритме речи и стиха. Лермонтов и здесь прибегает к некоторому повышению стилистического тона: он вводит украшающий эпитет, которого нет в подлиннике (во втором стихе: «Вот арфа золотая»), характерный для него самого поэтизм (в четвертом стихе — «звуки рая»), вводит два очень ярких сравнения, из которых
- 156 -
одно помещает в начале второй строфы («Как мой венец, / Мне тягостны веселья звуки!» — вне всякой связи с английским текстом, где ни слова нет о царском венце; ср. выше стихи 9—10-й), а другое, особенно патетическое, в самый конец, замыкая им все стихотворение («...теперь она полна, / Как кубок смерти яда полный»). Существенно к тому же и предметно-смысловое изменение, производимое им здесь: Лермонтов опускает конкретное тематическое содержание предпоследнего стиха, в котором говорится о том, что «сердце теперь осуждено узнать самое худшее и разорвется», обобщая его смысл в неопределенно-торжественном словосочетании: «И грозный час настал», а затем дает приведенное выше сравнение.
Таким образом, и здесь, будучи уже совершенно зрелым и сложившимся поэтом, Лермонтов продолжает интерпретировать Байрона в том же аспекте, как и несколько лет назад. Те же, в сущности, пропорции между элементами первоисточника и своего собственного стиля и эмоционального тона сказываются в «Умирающем гладиаторе», где, впрочем, анализ конкретного соотношения между ними осложняется в связи с тем, что это не перевод, а развитие мотивов, заимствуемых к тому же не только из английской поэмы, но, возможно, еще и из другого источника — из стихотворения Шендолле «Le gladiateur»17.
На переводах Лермонтова из Байрона — поэта, наиболее близкого ему идейно-тематически и отчасти стилистически, мы видим все же, что русский поэт всегда остается самим собой и что его слово сливается со словом оригинала только там, где оригинал приближается к нему. Наследие иностранного поэта, даже максимально близкого к нему, как Байрон (не говоря уже о Шиллере или Гёте), для него — не образец, которому можно подражать, а фактический источник, из которого заимствуются определенные данные (тема, отдельная ситуация, тот или иной образ), подобно тому, как беллетристом используется документальный, мемуарный или научно-исторический материал.
Байрон и Лермонтов — центральная тема в кругу вопросов о западно-европейских связях лермонтовского творчества. Значение ее как центральной определяется не только ролью английского поэта для Лермонтова, но также и тем, что вокруг Байрона (даже по линии переводов и несомненных заимствований) группируются еще и другие источники. Именно так обстоит дело в «Умирающем гладиаторе». Так обстоит дело в стихотворении «Время сердцу быть в покое», где совмещается перевод нескольких стихов из Байрона с переработкой мотивов из Кольриджа18. Важно при этом, что Кольридж (вернее, один фрагмент из «Кристабеля») попадает в поле зрения Лермонтова тоже через Байрона, ибо последний взял его эпиграфом к стихотворению «Fare thee well» (которое Лермонтов не переводил). Если раньше, переводя и перерабатывая Шиллера, Лермонтов в «Балладе» («Над морем красавица-дева сидит») объединяет мотивы и ситуации двух разных стихотворений одного автора, то здесь у него в одной вещи сливаются отголоски двух разных поэтов. Мотивы фрагмента из «Кристабеля» в дальнейшем находят еще свое развитие в стихотворении «Романс» («Стояла серая скала», 1832).
Четверостишие Бёрнса «Had we never loved so kindly» переводится Лермонтовым как отдельное стихотворение (без указания на автора и на источник), хотя в действительности оно — отрывок из стихотворения «Parting song to Clarinda» Р. Бёрнса19. Внимание Лермонтова оно, видимо,
- 157 -
привлекло потому, что являлось эпиграфом к «Абидосской невесте», т. е., другими словами, перешло в лирику Лермонтова опять-таки через Байрона» И типично во всех этих случаях то, что Лермонтов переводит и перерабатывает вещи, тематически и эмоционально близкие не только Байрону, но и ему самому (в отрывке из Кольриджа и в четверостишии из Бёрнса одна тема — любовь и разлука).
По сравнению с переводами из Байрона лермонтовские переводы и вольные интерпретации стихов Шиллера и Гёте, относящиеся к 1829—1831 гг., т. е. частично уже к тому периоду, когда поэт начинает свою работу над Байроном, представляют собой стихи относительно архаического типа. И дело здесь не только в том, что эволюционировала самая лирика Лермонтова. Существенное значение имеет и то, что Байрон для Лермонтова является и поэтом и человеком нового склада, представителем передового человечества, выразителем новой стадии в жизни европейской литературы.
Как Шиллера и Гёте, так и Байрона до Лермонтова переводили уже много. К тому моменту, когда начинается поэтическое творчество Лермонтова, в русской литературе успела сложиться известная традиция восприятия и передачи этих авторов. Но если по отношению к Шиллеру и Гёте ранний Лермонтов продолжает уже сложившуюся традицию, местами даже трактуя переводимый материал в несколько архаическом плане и проявляя свою индивидуальность лишь в пределах данной традиции, то роль его в отношении Байрона — иная. В конце 1810-х и в течение 1820-х годов Байрона переводили разнообразные поэты (Козлов, Жуковский, Полежаев и мн. др.). К тому времени, когда Лермонтов начал знакомиться с Байроном в оригинале, увлечение английским поэтом уже кончалось. Долермонтовское осмысление лирики и отчасти большой формы Байрона представляло уже достаточно определенную систему идейно-тематических признаков и стилистических средств. В облике русского Байрона 1810—1820 гг. больше всего выделялись скорбь, безнадежность, разочарованность как основные переживания лирического «я»; переводы из Байрона и подражания ему нередко принимали форму элегий сентиментально-романтического склада, а иногда перекликались и с элегиями традиционно классического типа. Выбор переводимых (или служивших образцом для подражания) стихов тоже порой содействовал возможности такой трактовки. Если учесть, что интерпретаторами Байрона на русской почве выступали такие поэты, как Козлов или Жуковский, весьма далекие от мировоззрений английского поэта, то изменение его облика окажется вполне закономерным. Словарь, фразеология, ритмо-синтаксическое строение речи в переводах не передавали специфику оригинала. Байроновский образ лирического героя — сильной и протестующей личности — подменялся традиционной фигурой сентиментального «первого любовника», сокрушающегося о личной своей судьбе, о любовной неудаче; протест и негодующее неприятие своей судьбы подменялись чуть ли не резиньяцией шиллеровского или ламартиновского типа. Многие из характерно байроновских стихов оставались непереведенными. Байрон как автор поэм оказался переданным несколько более адэкватно, поскольку воспроизведение фабулы предполагало и передачу главных характеров. Но даже и в пределах этого жанра бывали случаи принципиально важных отклонений; так, в принадлежащем Жуковскому переводе «Шильонского узника» смягчен был (местами) тон повествования, а в результате этого несколько изменился и весь образ героя-монологиста.
- 158 -
Переводы Лермонтова, а также и переделки показывают Байрона в новом аспекте, более близком к оригиналу или первоисточнику, при всем том, что они в целом ряде отношений удаляются от него. Они явно и резко порывают с традицией сентиментально-элегического осмысления английского поэта. Правда, в своих переводах из Байрона Лермонтов еще довольно далек от его простоты, местами почти разговорной, от естественности его речи. Эти качества появляются у Лермонтова только в его оригинальной лирике последних лет жизни (напр., «И скушно и грустно») и в таких вещах, как «Сашка» или «Сказка для детей» (если не считать других поэм с бытовым фабульным фоном, где данные особенности используются в комическом плане). С точки зрения истории русского байронизма в переводах (и переделках) Лермонтова чрезвычайно существенно то, что лирическое «я» поэта выступает как сильная, яркая, страстная личность, что за личной темой (будь то переживание неразделенной любви или разобщенность с любимой) чувствуется определенное мироотношение, критическое и глубоко активное, что за недовольством своей личной судьбой ощущается неудовлетворенность жизнью вообще, неприятие жизни и что следующий шаг в этом направлении — это уже протест социальный. И, действительно, в «Умирающем гладиаторе», связанном, правда, не с лирикой Байрона, а с его поэмой, налицо определенная социальная направленность, гневное обличение общества и государства, протест против бесчеловечности существующих в нем отношений.
Лермонтову (насколько позволяют судить именно его переводы и так называемые «подражания») важна была прежде всего идейно-тематическая сторона поэзии Байрона; моменты формального порядка играли для него меньшую роль, дав повод в одном случае (в «Балладе») к одному из тех метрических опытов, которые встречаются и в других стихах Лермонтова (сочетание анапеста с амфибрахием и нарушение нормальной стопы этих размеров). Путь развития поэзии Лермонтова на известном своем отрезке прошел параллельно пути, пройденному Байроном; творчество Лермонтова соприкоснулось с творчеством Байрона. Следом этого соприкосновения являются переводы и «подражания». Они показывают, что Лермонтов не только искал идейно-тематической поддержки себе в творчестве Байрона, не только использовал опыт предшественника, но прежде всего активно перерабатывал результаты этого опыта и самостоятельно развивал определенные его элементы. После 1836 г. он уже не переводит Байрона. Если в системе его лирического творчества переводы из Байрона играли роль переходных звеньев между теми или иными оригинальными стихотворениями, если к лирике Байрона он обращался как к источнику, дающему ему нужный материал, то в дальнейшем этот источник отступает для него на задний план.
4
В следующие затем три года (1837, 1838, 1839) перевод или вольная переделка иностранного источника вообще исчезают из лирики Лермонтова. Они появляются опять лишь в последние два года жизни поэта (1840—1841). Теперь он обращается снова к немецкой литературе и один раз — к Мицкевичу. Переводы и переделки этих лет опять-таки очень тесно связаны с его оригинальным лирическим творчеством.
«Воздушный корабль» — переделка стихотворения Цедлица «Geisterschiff» — одно из звеньев в развитии темы Наполеона, проходящей через
- 159 -
ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД „ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, СДЕЛАННЫЙ
А. А. СТОЛЫПИНЫМ-МОНГО (ПАРИЖСКАЯ ГАЗЕТА „LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE“
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 1843 г.
Государственная библиотека СССР им. Ленина, Москва- 160 -
всю лирику Лермонтова, который в трактовке ее порой перекликается с Байроном (без всяких конкретных совпадений). Кроме того, дата появления этого перевода-переделки (май 1840 г.) позволяет предполагать здесь также и отклик на события современной французской жизни — на политические споры вокруг вопроса о перенесении праха Наполеона в Париж. Немецкое стихотворение оказывается сюжетным источником и материалом для существеннейшей стилистической переработки. Совершенно очевидно, что Лермонтову важен и интересен не Цедлиц как поэтическая индивидуальность, а герой стихотворения и сюжет. Как и в целом ряде предшествующих случаев, в отдельных местах мы видим перевод соответствующих отрезков немецкого текста, но в основном — переделку. В комментариях изд. «Academia» дается подробный композиционный и тематический анализ «Воздушного корабля» и отмечается: 1) сильное расхождение его с оригиналом вообще, позволяющее считать стихотворение не переводом, а только переделкой, 2) все главные отступления от отдельных мотивов подлинника, 3) общие принципы переработки (сокращение описаний, ввод «реальных и материальных деталей», несколько противоречащих теме призрачного корабля, ослабление мелодраматизма оригинала, выразившееся в отказе от темы оживающего трупа, в отказе от передачи монолога Наполеона, которым завершается стихотворение, и т. п.), 4) частичное (но не бесспорное, не явное) заимствование из другой баллады Цедлица, тоже на наполеоновскую тему, — из «Ночного смотра», переведенного Жуковским.
Некоторые из внесенных Лермонтовым изменений (напр., ослабление внешних эффектов подлинника) являются новостью по сравнению с его предыдущими переводами и «подражаниями», но большинство других особенностей этой переделки роднит ее с ними. Особенности эти — заимствование прежде всего сюжетной основы при самых резких расхождениях в деталях, связь с излюбленными темами оригинальных стихов, свобода в обращении с материалом подлинника, использование наряду с основным первоисточником еще и другого (правда, лишь предположительное).
5
К тому же 1840 г., когда Лермонтов переделывает «Воздушный корабль», относится и другой случай обращения к иностранному источнику, на этот раз снова к Гёте. Но теперь источником является не баллада, которую он собирался интерпретировать в 1829 г., и не проза Гёте, отрывок из которой он в 1831 г. перелагал стихами, далекими от подлинника, а стихотворение, относящееся к лирике природы, — «Ein Gleiches». Стихотворение «Горные вершины» озаглавлено: «Из Гёте», т. е. дано как переводное. Но перевод и здесь очень далек от немецкого текста во всех отношениях20.
Колебания ритма оригинала, неожиданные изменения его при переходе от стиха к стиху, несимметричная рифмовка, отсутствие членения на строфы, отдельные enjambements — все это отбрасывается Лермонтовым. У него появляется плавный хорей, соответствующий ритму одного только первого стиха оригинала и им, видимо, навеянный. Каждому стиху соответствует более или менее замкнутая синтаксическая группа: или целое предложение (во второй части стихотворения) или группа главного члена предложения (подлежащего в нечетных стихах первой половины и сказуемого
- 161 -
в четных); возникает отчетливый ритмико-синтаксический параллелизм, рифмовка приобретает полное единообразие. И только короткая стихотворная строка до некоторой степени отражает короткий же, но своеобразно отрывистый, нисколько не плавный стих Гёте.
Столь же далеко от оригинала и словесное содержание «Горных вершин» — вся система мотивов и образов. Сравним:
Uber allen Gipfeln
Ist Ruh’,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.У Гёте нет ни «долин», «полных свежей мглой», ни образа дороги. Мотив седьмого стиха оригинала («птички в лесу») совершенно не отразился в русском стихотворении. Некоторые элементы текста Гёте нашли только косвенное или непропорциональное соответствие у Лермонтова: мотиву второго стиха, выраженному словом «покой» («Ist Ruh’») отвечает лишь эпитет «тихие» в третьем стихе русского текста, а содержание стихов 3—5-го сосредоточено Лермонтовым в одном стихе (шестом).
Последние два стиха переданы, правда, с величайшей словесной (даже словарной) точностью, если не считать устранения enjambement, крайне характерного для немецкого подлинника, но всему стихотворению в целом они подводят иной смысловой и тематический итог: если у Гёте мотив покоя в последнем стихе («ruhest du auch») может быть воспринят в прямом своем значении (в значении отдыха, который ожидает путника, — недаром «Ein Gleiches» следует непосредственно за «Ночной песней путника»), то мотив отдыха в последнем стихе у Лермонтова явно метафоричен, — это здесь синоним смерти. Такое изменение смыслового эффекта обусловлено переменой всего эмоционального тона стихотворения, достигнутой и ритмом, и строфикой, и ритмо-синтаксическими средствами, подбором образов. «Горные вершины», в сущности, предваряют собой «Выхожу один я на дорогу».
Оригинал Гёте оказывается в очень своеобразном отношении к «Горным вершинам» Лермонтова: русскому поэту он дает известный творческий толчок, вызывает русское стихотворение, в котором, однако, и основная тема и образы почти целиком заменяются, а последние два стиха, в точности совпадающие с подлинником, как будто выполняют функцию эпиграфа, поставленного не в начале, а в конце. В результате всего этого элементы, заданные лирической пьесой Гёте, совершенно отступают на задний план, и стихотворение, озаглавленное «Из Гёте», становится одной из оригинальнейших и характернейших вещей Лермонтова.
6
«Вид гор из степей Козлова», относящийся уже к последнему году жизни поэта, в противоположность «Горным вершинам», не обозначен как перевод, но является довольно точной интерпретацией стихотворения Мицкевича из цикла «Крымских сонетов». Перевод этот органически включается в целый ряд оригинальных стихотворений Лермонтова о природе юга (чисто описательных или сюжетно-аллегорических), образы его — в систему
- 162 -
лермонтовских образов, используемых им в описаниях гор (напр., во всех стихотворениях и поэмах, связанных с Кавказом). Перевод из Мицкевича не предшествует оригинальным лермонтовским стихам о горах, а следует за ними, и выбор для перевода этой вещи сам по себе представляется результатом вкусов и интересов Лермонтова как оригинального поэта. Подлинник мог привлечь его прежде всего исключительной грандиозностью, гиперболичностью образов, которую он воспроизвел и даже отчасти подчеркнул, сделав на ней весь упор. Характерные черты романтического пейзажа Мицкевича, красочного и напряженного, переданы здесь весьма точно, но переданы прежде всего в плане поэтики самого Лермонтова.
7
К последнему же году жизни Лермонтова (1841) относится и соприкосновение его с поэзией Гейне.
Если и Шиллер, и Байрон, и Гёте, и Мицкевич еще задолго до Лермонтова переводились на русский язык и были известны русскому читателю, то стихи Гейне в это время только начинают переводить. По-настоящему он входит в русскую поэзию только в 1838—1839 гг., когда переводы его лирики усиленно начинают печататься в журналах (сперва в «Московском Наблюдателе», потом в «Отечественных Записках», «Современнике»; до этого времени появилось лишь несколько его стихотворений в переводах Тютчева).
Вопрос о связи между творчеством Лермонтова и Гейне неоднократно привлекал внимание историков литературы, занимавшихся исследованием «влияний» на русского поэта21. Однако среди тех довольно многочисленных параллелей, которые проводились между стихотворениями Гейне и Лермонтова, очень многие оказываются или спорными или просто неубедительными22.
Творчество Гейне, при всей его внутренней цельности, по составу своему противоречиво, и эта противоречивость, становящаяся одним из его организующих начал, определяется всей сложностью его социальных корней и той обстановки, в которой действовал поэт, напряженной борьбой мировоззрений, которую отражали его книги. Противоречивость эта сказывается в широко развернутой системе контрастов между трагическим и гротескным, между «высоким» и «низким», в резкой смене чувств, в иронической трактовке серьезной темы, в серьезном содержании иронического эпизода. Это — углубление и расширение тех контрастов, которые намечались уже у Байрона. Творчество же Лермонтова внешне гораздо более едино и единообразнее окрашено, чем творчество Гейне. Вот почему аналогиями и параллелями к отдельным моментам лермонтовского творчества у Гейне могли бы служить только места, не специфически характерные для немецкого поэта. И вот почему не только самое бесспорное свидетельство связи между Лермонтовым и Гейне, но и самый полноценный материал для решения вопроса о характере использования Лермонтовым лирики Гейне, о характере интереса к этой лирике представляют перевод стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam» (в двух редакциях: «На севере диком» и «На хладной и голой вершине») и вольная переделка стихотворения «Sie liebten sich beide».
В 1841 г. Гейне был уже автором не только «Книги песен», которую у нас в то время только начинали переводить, и «Путевых картин», но также и «Французских дел», и «Салона», и парижских корреспонденций 1840—
- 163 -
1841 гг. в аугсбургскую «Всеобщую Газету», и книги о Бёрне. Он в это время был уже писателем с абсолютно выраженным творческим и идейно-политическим обликом.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ШВЕДСКОГО ПЕРЕВОДА
„ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“, ГЕЛЬСИНГФОРС, 1844 г.
Институт литературы, ЛенинградРусская критика даже в 30-х годах уже достаточно хорошо представляла себе этот облик и была довольно всесторонне осведомлена о творчестве писателя. В журнальных отзывах и упоминаниях о Гейне, какие встречаются в течение 30-х годов, его иронии и сатире, общественной направленности его творчества уделяется даже больше внимания и места, чем его лирике личных переживаний и романтическим элементам его поэзии; о Гейне здесь говорится в связи с его современным немецким окружением (не только литературным, но и общественно-политическим), и подчеркивается то новое, что отличает его деятельность (независимо от того, положительная или отрицательная оценка дается ему). Эти отзывы рисуют Гейне крупным и влиятельным публицистом, политическим писателем, чьи произведения обладают огромной разрушительной силой и могут представить опасность для существующего государственного строя, а в лирике его выделяют элементы борьбы с романтикой. Целый ряд прозаических книг Гейне в течение 30-х годов был запрещен Комитетом цензуры иностранной к продаже в России23.
Совсем иным должен был представляться Гейне читателям его русских стихотворных переводов той поры. В качестве переводчиков с 1838 по 1841 гг. выступают: М. Катков, Огарев, К. Аксаков, Каролина Павлова, Фет, А. Кронеберг, В. Красов, А. Кульчицкий, некто Ал. Смуглый. Литературные направления, к которым принадлежат эти поэты и переводчики, различны, но выбор переводимых ими стихотворений более или менее единообразен. Переводится исключительно «Книга песен». И при всем том, что многие из переведенных в это время вещей относятся к числу знаменитых лирических пьес Гейне (напр., «Лорелея», «Гренадеры»,
- 164 -
«Горное эхо» и др.), они могут дать лишь одностороннее представление о его поэзии даже с точки зрения одной только «Книги песен». Почти во всех стихотворениях Гейне, переводившихся в течение 30-х и в начале 40-х годов, выдержан единообразный серьезный лирический тон и почти нет примеров насмешливого разрешения темы, так называемых pointes.
Такой отбор материала для перевода и такая его трактовка определялись условиями русской социальной действительности 30—40-х годов. С точки зрения этих условий многое в творчестве Гейне было неприемлемо. Даже и в пределах самой «Книги песен» (впоследствии, в 1852 г., тоже подвергнувшейся запрещению со стороны николаевской цензуры) были стихи гораздо более «разрушительные», чем те, которые в эту пору переводились, — более «разрушительные» в смысле того мировоззрения и жизнеощущения, которое стояло за ними и служило им основой. Это те вещи, где Гейне — еще в ранний период своего творчества — высмеивал романтические чувства и романтические страсти, высокие образы романтической поэзии и соответствующие им общественные реалии, идейные основы романтизма.
Те два стихотворения Гейне, которые выбрал для перевода (или переработки) Лермонтов, по своей теме, эмоциональному тону и построению вполне примыкают к тем вещам Гейне, которые переводились в 1838—1841 гг., да и позднее.
Эти два стихотворения — о разобщенности двух любящих. Тема эта у Гейне встречается нередко и связывается, так же как и у Байрона, с другой, более общей и более обширной темой — темой одиночества, темой разобщенности людей, неблагоустроенности, неблагополучия, несправедливости человеческих отношений (в том числе и любовных). Тема разобщенности, одиночества, взаимного непонимания не менее важна и для Лермонтова на всем протяжении его творческого пути. В самой ее разработке, в постоянных возвратах к ней, в настойчивом ее подчеркивании и у Гейне, и у Байрона, и у Лермонтова заключался элемент протеста против тех общественных условий, которые давали к этому повод.
И здесь, в переводах из Гейне, так же как и в переводах из Байрона, не заимствование из иностранного источника имело следствием общность темы, а, наоборот, общность темы, одинаковость тематических интересов, подготовленная процессом самостоятельного развития и творческой переработки других литературных образцов, приводила к заимствованию.
Заимствуемый для перевода материал Лермонтов и здесь, как и в предшествующих случаях, перерабатывает по-своему. Чисто творческий подход сказывается здесь очень сильно. Если мы сравним обе редакции перевода «Ein Fichtenbaum steht einsam», оставленные Лермонтовым без всякого указания на переводность, на источник, то окажется, что первая редакция (или, вернее, редакция, которая считается первой) ближе к подлиннику, что поэт в дальнейшем вносит от себя целый ряд элементов — слов, которых нет в оригинале, что он, перерабатывая свой первоначальный текст, удаляется от точности. Он и метрически усложняет его, вводя чередование четырехударных стихов с трехударными (вместо сплошных трехударных стихов первой редакции, соответствующих подлиннику); он вносит в стихотворение своеобразную рифмовку (в оригинале попарно рифмуют лишь четные стихи с мужскими окончаниями: 2-й стих с 4-м, 6-й с 8-м; в первой редакции сохранена эта система рифмовки,
- 165 -
во второй рифмуют также и нечетные, но не через стих, а через три стиха: 1-й стих с 5-м, 3-й с 7-м). Сравним:
Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh’.
Ihn schläfert; mit weisser Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ
На хладной и голой вершине
Стоит одиноко сосна,
И дремлет... под снегом сыпучим
Качаяся дремлет она.Ей снится прекрасная пальма
В далекой восточной земле,
Растущая тихо и грустно
На жаркой песчаной скале.ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.И снится ей все, что в пустыне далекой
— В том крае, где солнца восход, —
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.Первый вариант перевода не только лаконичнее, но и проще по лексике, по выбору образов, менее метафоричен. По расположению слов в пределах строфы и отдельных стихотворных строк он тоже ближе к подлиннику (напр., пятый стих: «Er träumt von einer Palme» — «Ей снится прекрасная пальма»). Что касается эмоциональной окраски, то первый вариант спокойнее, сдержаннее, ровнее, чем второй. Это различие особенно сказывается во второй строфе: слово «пальма» дается сразу, на том же месте, что и в оригинале (в конце пятого стиха), в составе того словосочетания, которое соответствует главному предложению второй строфы немецкого оригинала, а все остальные образы, связанные с этим словом, даны в качестве второстепенных членов предложения (для спокойствия повествования особенно показателен выбор причастного определения к слову «пальма»: «растущая тихо и грустно»). Между тем в окончательной редакции слово «пальма» отнесено в самый конец строфы, так что в результате ожидания этого слова возникает известное напряжение; выбор придаточного предложения, а не причастного определения позволяет дать глагольный элемент в более действенной — спрягаемой — форме (т. е. как сказуемое).
Несмотря на лаконизм первого варианта, в нем уже есть ряд слов, привнесенных Лермонтовым: ряд эпитетов («под снегом сыпучим», «прекрасная пальма», «песчаной скале»), которых определяемые ими слова не имеют в оригинале; слово «качаясь». Опущено
- 166 -
количественно немногое: «im Norden» (этот пропуск, видимо, компенсируется эпитетом «на хладной... вершине»), слово «Eis» (у Лермонтова — только «снег», а не «лед и снег», как у Гейне), второе «einsam» (в седьмом стихе). Образ, выраженный в четвертом стихе в слове «umhüllen» («обволакивают», «окутывают», «покрывают»), ослаблен в переводе; его отражает только предлог «под» («под снегом сыпучим»). Часть этих изменений переходит и в окончательную редакцию, о которой подробнее — ниже.
Если таким же образом сравнить черновой (зачеркнутый) автограф стихотворения «Они любили друг друга» с окончательной его редакцией, то можно также увидеть, что в первоначальный текст, уже достаточно далекий от подлинника, Лермонтов вводит, удлиняя каждый стих на три слога, ряд слов, оригиналом не заданных, и последовательно усложняет психологическое содержание своей переделки. Вот для сравнения первая строфа:
Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt’ es dem andern gestehn;
Sie sahen sich an so feindlich,
Und wollten vor Liebe vergehn...ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ
Они любили друг друга так нежно,
С тоской глубокой и страстью мятежной.
Но как враги опасалися встречи,
И были пусты и хладны их речи...ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но как враги избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.Соотношение этих двух вариантов вполне параллельно соотношению двух редакций перевода «Ein Fichtenbaum steht einsam». Как известно, беловой автограф его окончательной редакции не сохранился, и окончательной ее принято считать по традиции24. Но думается, что за ее окончательный характер и более позднее происхождение текста говорят именно большее, чем в другом варианте, отклонение от подлинника, наличие добавлений.
Ввод новых слов и образов и даже целых словосочетаний (как в «Они любили друг друга»), изменение содержания переводимого текста связаны у Лермонтова и с метрическими отклонениями от оригинала.
Оба стихотворения Гейне в оригинале представляют собой чисто тонический стих — трехударный. Лермонтов, следуя установившейся традиции (см. выше), в переводе стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam» прибегает к нормальному силлабо-тоническому размеру, к амфибрахию. Но в первой редакции он еще сохраняет трехударность во всех стихах: все они трехстопные. Во второй редакции он удлиняет нечетные стихи на одну стопу и, как отмечено выше, усложняет рифмовку.
Переделывая стихотворение «Sie liebten sich beide», Лермонтов дает некоторое подобие метрических особенностей подлинника, и гейневское стихотворение служит ему поводом к метрическому новаторству, примеры которого, правда, встречаются у самого Лермонтова еще и в некоторых других стихотворениях. Зато избранный им здесь стих гораздо длиннее,
- 167 -
чем стих оригинала: если у Гейне три ударения, то тут — пятиударный стих; он на пять — шесть слогов длиннее стиха оригинала.
Кроме того, изменена рифмовка: если у Гейне чередуются стихи с мужскими и женскими окончаниями и рифмуют лишь четные стихи каждой из четырехстрочных строф с мужскими окончаниями, то здесь рифмовка в первой половине стихотворения смежная, а во второй — перекрестная, и все рифмы — женские. Метрическая перестройка сопутствует перестройке смысловой.
Если мы сопоставим с оригиналом Гейне перевод «На севере диком» (окончательную редакцию), то должны будем констатировать, при большой вещественно-смысловой близости, ряд отклонений, играющих определенную роль с точки зрения целого25.
Основное изменение, внесенное Лермонтовым, вызвано, как ни странно, точной передачей значения слова «Fichtenbaum». Вследствие этой словарной точности оба «персонажа» стихотворения — и сосна и пальма — в обеих редакциях оказываются одного грамматического рода (женского), тогда как у Гейне — это «он» («ein Fichtenbaum») и «она» («eine Palme»)26.
Это как будто ослабляет романический характер темы. (Недаром в других переводах, начиная с самого раннего, тютчевского, Fichtenbaum передается названием дерева мужского рода: у Тютчева и Майкова — «кедр», у Фета «дуб» и т. д.).
ОБЛОЖКА НЕМЕЦКОГО ПЕРЕВОДА
„ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“,
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 1845 г.
Литературный музей, МоскваЖертвуя грамматической категорией рода, Лермонтов сохраняет конкретный образ и вносит ряд других, которых нет в оригинале. «Ihn schläfert» — сказано в оригинале. «И дремлет качаясь» — говорит Лермонтов (в первой редакции: «качаяся дремлет»). «Mit weisser Decke / Umhüllen ihn Eis und Schnee» — сказано у Гейне («белым покровом обволакивают
- 168 -
его лед и снег»). В переводе же: «И снегом сыпучим одета как ризой она». В порядке сравнения вводится образ «ризы», а «снег» благодаря своему эпитету приобретает свойство, которого у него в оригинале нет. Переводя слово «Morgenland», Лермонтов во второй редакции подчеркивает его образное значение, уже почти незаметное в немецком языке, где это слово просто является синонимом «Osten»: целый стих — «в том крае, где солнца восход» — служит образным переводом одного только этого слова.
В связи с развертыванием образной стороны стихотворения стоит еще одно слово, конкретизирующее пейзаж и непосредственно не заданное оригиналом: «в пустыне» — слово, к которому в окончательной редакции приурочивается эпитет «далекой», соответствующий немецкому «fern».
Стилистически диапазон Лермонтова в пределах этих восьми строк шире, чем в оригинале. Мы видим у него и слова с легким оттенком руссизма и фольклорности («сыпучим», «горючим»27), и сравнение «как ризой», принадлежащее, несомненно, к более торжественному и приподнятому стилю, чем немецкое «Decke», и не заданные оригиналом эпитеты («прекрасная пальма», «на севере диком»), которые важны не столько в предметно-смысловом, сколько в эмоциональном отношении как средства создания в стихотворении определенной эмоциональной атмосферы.
Усиление эмоциональности (сравнительно с оригиналом и с первой редакцией) достигается также и синтаксическими средствами. В частности на характер течения речи в пределах стихов 2—5-го безусловно влияют повторяющиеся союзы («И дремлет качаясь, и снегом сыпучим... И снится ей все...»).
Усложнение образов и сгущение эмоциональной окраски, создание большей синтаксической напряженности как бы компенсирует упрощение основного аллегорического мотива, утрату его романичности.
Один из критиков-современников, рассматривая стихотворение «На севере диком» как оригинальное и не зная о его переводности (поскольку в первых изданиях на это не делалось указаний), упрекал Лермонтова в неясности, — упрек, повод к которому могло подать именно это своеобразное соотношение между характером основного мотива, так сказать лирического сюжета, и средствами его разработки, всей эмоциональной окраской. Этот критик-современник, бар. Розен, в рецензии на «Стихотворения М. Лермонтова» (Спб., 1842)28 писал следующее:
«Погадаем мимоходом о небольшом стихотворении, смысл которого загадочен и темен. Вот оно... (следует цитата)... Отчего сосна́ (правильнее же сказать: со́сна), дочь севера, растущая на родной почве, в родной стихии холода, свежая и зеленая во всякое время и весьма к лицу одетая в ризу снега — отчего, спрашиваем, сосна все мечтает о дщери жаркого климата, о пальме, которая также растет у себя дома и дышит родным зноем и некстати грустит в этой пиеске? Мы не видим ни малейшей умственной связи между этих двух предметов. Не все равно ли, что сказать: Лапландка все мечтает о Бедуинке? Или белая медведица Ледовитого моря о стройной газели в жарких ливийских песках? Между тем нельзя не чувствовать, что поэт хотел тут сказать что-то очень милое и очень нежное, и только ошибся в выборе предметов и в форме и в способах выражения».
Своеобразие лермонтовской интерпретации Гейне заключается, конечно, не в том, что он создал противоречие между сюжетом и выразительными средствами, а в том, что он придал аллегории более общий смысл: вместо
- 169 -
романического мотива любовного томления появляется более широкий и общий мотив — мотив человеческой разобщенности и одиночества.
В своей интерпретации стихотворения Гейне «Sie liebten sich beide» Лермонтов отходит от оригинала несравненно дальше, чем в переводе «Ein Fichtenbaum steht einsam». Правда, так же как и там, он не делает никакого указания на источник, надписывая над стихотворением лишь первые две строки гейневского оригинала, которые, однако, скорее могли быть приняты за эпиграф, чем за ссылку на источник. Лермонтов меняет и ритмико-синтаксическое построение всей вещи в целом и очень многое вносит в ее смысловое содержание.
В подлиннике каждая строфа членится на две равные части (по два стиха), представляющие каждая замкнутый период.
Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt’ es dem andern gestehn;
Sie sahen sich an so feindlich,
Und wollten vor Liebe vergehn.Sie trennten sich endlich und sah’n sich
Nur noch zuweilen im Traum;
Sie waren längst gestorben,
Und wussten es selber kaum.При переходе от стиха 1-го ко 2-му и от 5-го к 6-му (начала строф) — enjambements. Все нечетные стихи начинаются словом «sie», стих 4-й в обоих строфах — словом «und». Всего этого у Лермонтова нет: каждый стих у него синтаксически более или менее замкнут (как и в «Горных вершинах»); enjambements, характерные для простоты речевого стиля Гейне, отсутствуют у Лермонтова, который переносит стихотворение в иной стилистический и смысловой план. Трагизм оригинала отличается сдержанностью, лаконичностью, простотой, ему чужд эмоциональный нажим, язык в нем — почти разговорный; у Лермонтова стиль оказывается гораздо более приподнятым, — поэт, подчеркивая трагизм стихотворения, всячески усиливает его эмоциональность.
Берем первый стих:
Они любили друг друга так долго и нежно...
Первые четыре слова («Они любили друг друга») точно воспроизводят часть первого стиха оригинала — до слов «doch keiner», но конец стиха — «так долго и нежно» — целиком принадлежит Лермонтову. Происходит психологическое усложнение темы; Лермонтов усиливает и эмоциональную выразительность (с помощью «так»).
Второй стих у Лермонтова должен, видимо, соответствовать четвертому стиху оригинала. Сравним:
Und wollten vor Liebe vergehn.
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной.
В интерпретации этого стиха у Лермонтова — и гораздо более сложная, более напряженная психология, больший пафос, и более «высокая» лексика, и сгущение эмоциональной окраски. Лермонтов вводит в этот стих такие слова, как: «страсть», «тоска»; с «тоской» он связывает эпитет «глубокой», а за «страстью» следует составной эпитет «безумно-мятежной». Ничего этого у Гейне в данном случае нет, хотя составные прилагательные, например, характерны для него, пожалуй, более, чем для какого-нибудь другого немецкого поэта.
- 170 -
Стих третий: «Но как враги избегали признанья и встречи», может быть признан переводом стихов второго и третьего.
1. ........... doch keiner
2. Wollt’ es dem andern gestehn;
3. Sie sahen sich an so feindlich...Начальное «но» относится, очевидно, еще к стиху первому («doch»), «как враги» — к стиху третьему («so feindlich»), «избегали признанья» — к стиху второму.
Стих четвертый («И были пусты и хладны их краткие речи») принадлежит исключительно Лермонтову и представляет собой конкретизацию сюжета стихотворения, у Гейне — нарочито схематического.
Стих пятый лишь в первой своей части представляет перевод начала соответствующего стиха подлинника;
Sie trennten sich endlich...
Они расстались...Конец стиха — «в безмолвном и гордом страданье» — опять-таки принадлежит исключительно Лермонтову, который и здесь конкретизирует ситуацию и также сгущает эмоциональную окраску.
Стих шестой есть перевод как шестого стиха оригинала, так и последней части пятого его стиха, не вошедшей в пятый стих Лермонтова:
5. .... und sah’n sich
6. Nur noch zuweilen im Traum.
6. И милый образ во сне лишь порою видали.
Здесь Лермонтов прибавляет лишь один эпитет — «милый».
Последние два стиха — седьмой и восьмой — совершенно отступают от оригинала. Вместо самой обычной, чуть ли не разговорной лексики подлинника мы здесь встречаем торжественные, «высокого стиля» слова («И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...» — что должно соответствовать стиху: «Sie waren längst gestorben»). Но дело, конечно, не только в окраске слов. Главное тут — полное изменение развязки стихотворения. У Гейне умершие влюбленные даже не узнают о смерти друг друга, а у Лермонтова они встречаются и друг друга не узнают. Вместо грустно приглушенного (хотя от этого не менее трагического) конца, вместо смутного оттенка резиньяции — у Лермонтова нечто гораздо более патетическое. Впрочем, такая развязка подготовлена всем предшествующим: после всего того, что Лермонтов внес в стихотворение, после таких вставок, как «долго и нежно», «с тоской глубокой и страстью безумно-мятежной», «в безмолвном и гордом страданье», меньшего нельзя было и ожидать.
Заключительные два стиха (конечно, не только сами по себе, но и в связи со всем предшествующим) вносят в стихотворение элемент загадочности, многозначительности, раздвигают, по сравнению с подлинником, его тематические рамки. В основе оригинала лежит мотив психологической разобщенности двух любящих и в связи с этим — мотив несчастной, неузнанной, хоть и взаимной любви. Кульминационный пункт у Гейне — четвертый стих: «Und wollten vor Liebe vergehn». Во второй строфе — спад напряжения, затухание. У Лермонтова, напротив, именно с первого стиха второй строфы напряжение возрастает сравнительно с первой строфой. Мотив разобщенности приобретает характер чего-то рокового: рок, обрекавший двух любящих на взаимное непонимание, преследует их и за гробом. Таково одно из возможных осмыслений. Другое истолкование
- 171 -
может свестись к тому, что их любовь, страстная и напряженная, исчерпала себя на земле, что «в мире новом» любящие становятся чужими друг другу. Оба истолкования предполагают какую-то универсально пессимистическую концепцию, совершенно чуждую романтическим упованиям на потустороннее счастье, а тем самым — своеобразную форму протеста против мистических надежд на загробную жизнь, протеста, который в данном случае роднит Лермонтова с Гейне как с поэтом, вышучивающим и отрицающим эти надежды, требующим земного счастья.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛЬСКОГО
ПЕРЕВОДА „ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“,
ЛЬВОВ, 1848 г.
Институт литературы, Ленинград8
В литературоведческих работах о так называемых «иностранных влияниях» на Лермонтова (т. е. в сущности о соотношении его творчества с западно-европейской литературой) внимание исследователей бывало обращено почти исключительно на произведения, не принадлежащие ни к переводам, ни к подражаниям. Поскольку Лермонтов сам сделал указание на перевод или заимствование из определенного источника, или поскольку впоследствии был обнаружен переводный характер той или иной вещи, данное произведение, в силу бесспорности самого факта связи с тем или иным иностранным автором, теряло интерес и к рассмотрению уже не привлекалось. В этом смысле очень характерны статьи С. В. Шувалова «Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии» и М. Н. Розанова «Байронические мотивы в творчестве Лермонтова» в сборнике «Венок Лермонтову». Авторы обеих статей, ставя вопрос о «влияниях» на Лермонтова (именно о влияниях на поэта, а не об отношениях его с западной литературой) и занимаясь поисками следов влияния, всяких соответствий с творчеством того или иного западно-европейского автора, совершенно проходят мимо переводов и открытых (оговоренных самим поэтом) «подражаний». М. Н. Розанов даже специально замечает: «С 1830 года в его творчестве начинается настоящий поток байронических
- 172 -
отголосков всякого рода: переводов, переложений, подражаний, заимствований и т. д., которые мы не будем перечислять и анализировать, так как это не раз делалось раньше»29.
Характер отдельных заимствований, а тем менее подражаний и переводов Лермонтова во всей их совокупности систематически и последовательно никем не анализировался (были только работы об отдельных переводах или группах переводов, напр., из немецких поэтов, замечания о том или ином переводе или «подражании», вне связи с другими аналогичными случаями). Между тем обзор и анализ лермонтовских переводов, подражаний и других примеров конкретного заимствования позволяют сформулировать ряд наблюдений, ведущих к общим выводам о характере отношения Лермонтова к конкретному материалу западно-европейской поэзии и о связи этого материала с его собственным творчеством. Вот почему переводам и так называемым подражаниям в настоящей работе отводится столь значительное место. Выводы же — следующие.
1. В отношениях Лермонтова к западно-европейской литературе (насколько они отражаются в его переводах и переделках) намечается несколько стадий. На первой, очень недолгой, стадии он как переводчик и интерпретатор занят немецкими классиками современности — Шиллером и Гёте, причем главенствующую роль играет Шиллер. Эта стадия очень скоро сменяется другой — непосредственным соприкосновением с поэзией Байрона. В начале этой второй, байроновской, стадии он еще один раз обращается к Гёте («Завещание», 1831), один раз — к немецкой народной песне (1832). Сквозь призму творчества Байрона он воспринимает и двух других английских поэтов — Бёрнса и Кольриджа, эпиграфы из которых служат ему материалом для перевода или переработки. В последние два года жизни Лермонтов в своих переводах и переделках обращается к Цедлицу, Мицкевичу, снова к Гёте и, наконец, к Гейне. Хотя к этой последней стадии приурочивается несколько имен, значимость ее для Лермонтова определяется именем Гейне. Шиллер, Байрон, Гейне — эти три стадии в развитии западно-европейских литературных интересов Лермонтова соответствуют трем стадиям в развитии самой западно-европейской литературы, нашедшим каждая своего выразителя. Лермонтов как бы воспроизводит в своем переводном творчестве эти три стадии. Самая длительная из них у Лермонтова — это стадия Байрона, который сохранял еще весьма живое значение для западно-европейской литературы, хотя интерес к нему принимал уже иной характер, чем вначале. Последняя, гейневская, стадия означала для Лермонтова соприкосновение с наиболее современным представителем западной поэзии, которого он (как, впрочем, и другие русские поэты того времени) воспринял односторонне, отчасти даже, пожалуй, по аналогии с Байроном. Остальные же поэты, переводимые или вольно интерпретируемые им в последние годы, привлекают его внимание лишь частными признаками: Цедлиц — сюжетом, отвечающим его интересу к наполеоновской теме, Мицкевич — гиперболическими образами, Гёте — отдельными мотивами, которые к тому же переосмысляются у Лермонтова.
2. Не только в переделках, но и в переводах, сравнительно близких к подлиннику, Лермонтов подвергает иноязычный материал огромной творческой переработке, иногда по-новому осмысляет его, резко выделяя одни элементы за счет других, обычно несколько повышая стилистический тон подлинника, придавая ему бо́льшую торжественность или
- 173 -
усиливая пафос и трагизм, при этом расширяя словарно-образный диапазон и даже порой «приукрашая» переводимого автора. Темы и мотивы переводимых или переделываемых стихотворений почти всегда перекликаются с наметившимися уже ранее темами и мотивами собственного творчества поэта.
3. Некоторые переводы (напр., из Гейне, Мицкевича) и текстовые заимствования остаются в рукописях Лермонтова без всякого указания на источник; наоборот, в некоторых случаях стихотворение, обозначенное как перевод («Из Гёте», «Из Шенье»), на самом деле не является переводом и оказывается очень далеким от своего источника или даже вовсе не соответствует какому-либо конкретному тексту указанного автора. Все это стоит в связи с литературной практикой первой половины XIX в., когда, с одной стороны, стихотворный перевод играл исключительно большую роль как самостоятельный вид поэтического мастерства, не требующий оговорок и указаний на источник, и когда, с другой стороны, заимствование не считалось приемом, умаляющим творческую оригинальность поэта, и границы между литературными владениями разных авторов отличались известной зыбкостью. Недаром иногда у Лермонтова перевод одной части иностранного стихотворения совмещается с полной переделкой других его отрезков, с вставками, всецело принадлежащими русскому поэту. В одном стихотворении Лермонтов иногда использует одновременно два источника, порой даже из разных авторов. Указание на связь с иностранным произведением нередко заменяет у Лермонтова эпиграф, который, таким образом, выполняет у него своеобразную функцию (ср.: «Они любили друг друга», «Умирающий гладиатор» и др.).
4. Перевод сам по себе не доказывает «влияния» переводимого автора на переводчика, — он может свидетельствовать лишь об интересе к автору оригинала, о характере отношения к нему. Лермонтов в своих переводах и «подражаниях» чрезвычайно самостоятелен и оригинален, передавая специфику подлинника лишь в той мере, в какой ему по пути с данным автором (напр., с Байроном). В интерпретируемом авторе его интересует возможность найти новые оттенки для выражения собственных творческих намерений. Оригинал для него нередко — лишь сюжетный или тематический источник, подобный тому, каким для романиста может являться исторический документ. Из произведения иностранного поэта он черпает лишь определенные данные, облегчающие и ускоряющие для него переход к следующему этапу в развитии той или иной темы. Главную роль для него играют общие смысловые мотивы подлинника, его сюжетные черты, а моменты формальные — роль подчиненную. При этом в литературе Запада Лермонтова привлекает наиболее прогрессивное в ней (Байрон, Гейне как выразители индивидуальности, протестующей против условий своей личной и общественной жизни).
5. Число авторов, переводимых или вольно интерпретируемых Лермонтовым, невелико по сравнению с числом авторов, общее «влияние» которых отмечалось исследователями в его творчестве. Если ограничиться только кругом переводимых авторов, то окажется, что один лишь Байрон имеет для него значение с точки зрения идейно-поэтических принципов.
6. При переводе или переработке иноязычного источника Лермонтов часто следует традиции осмысления данного автора, установившейся в русской поэзии, проявляя новаторство лишь в формальных средствах передачи — напр., в использовании таких ритмов или ритмических вариаций,
- 174 -
которые приближали бы русский текст к подлиннику. Лишь в отношении Байрона он проявляет независимость от традиции как в выборе стихотворений и отрывков из поэм, которые он интерпретирует, так и в самом характере интерпретации, приближающей их (несмотря на ряд отклонений) к подлинному облику английского поэта, в отличие от большинства долермонтовских переводов и подражаний, в которых типично байроновские черты ослаблялись и смягчались.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Круг чтения Лермонтова (в области как русской, так и западной литературы) известен чрезвычайно мало. Упоминания самим Лермонтовьм (в стихах, художественной прозе, письмах, записях-заметках) имен и произведений западно-европейских авторов, а также указания мемуаров в известной своей части лишь подтверждают то, что явствует из самого факта перевода или открытого подражания, т. е. знакомство с творчеством данного писателя. Таковы упоминания Е. А. Сушковой и А. П. Шан-Гирея (цитированное выше) о чтении Лермонтовым Байрона. Таково сообщение П. П. Вяземского о том, что книгу Гейне для перевода «Ein Fichtenbaum steht einsam» он брал у С. Н. Карамзиной30. Такова же цитированная выше заметка Лермонтова о «Вертере», позволяющая с большой уверенностью считать источником «Завещания» отрывок из этого романа, сходство с которым в русском стихотворении все же очень отдаленное.
В какой степени был Лермонтов знаком с творчеством тех авторов, отдельные вещи которых он переводил или вольно «перелагал»? Что касается Байрона, то переводы его стихов, эпиграфы и текстовые реминисценции из его поэзии самым своим разнообразием, принадлежностью к разным жанрам, разделам и хронологическим периодам байроновского творчества показывают, насколько полно было известно Лермонтову наследие английского поэта. Относительно Гёте, из которого поэт перевел лишь немногое, есть два свидетельства, тоже говорящие о том, что Лермонтов был разносторонне знаком с его наследием, знал это наследие в целом. Так, в «Тамани» есть место (V, 236), где девушка-контрабандистка сравнивается с гётевской Миньоной. А Белинский в письме о посещении им Лермонтова во время его ареста рассказывает: «Он славно знает по немецки и Гете почти всего наизусть дует»31. Эти слова могут подкрепить предположение о заимствованиях из Гёте в «Мцыри».
О том, что Шиллер привлекал его не только как автор лирических стихов и баллад, но и как драматург, свидетельствуют не только переводы Лермонтова, среди которых есть и отрывок из переделки «Макбета», но и письмо к М. А. Шан-Гирей (предположительно датируемое 1829 г.), где он упоминает о виденной им постановке «Разбойников» (V, 364).
В записях Лермонтова есть упоминание о чтении им биографии Байрона, т. е. книги о нем Мура (V, 348), «Новой Элоизы» Руссо (V, 351 — см. выше, в связи с отзывом о «Вертере»), в письме к М. А. Шан-Гирей (предположительно 1831 г.) — восторженная оценка Шекспира с большой (но неточной) цитатой из «Гамлета» и строгая критика французского перевода-переделки Дюсиса (V, 364—365). В предисловии к «Журналу Печорина» в «Герое нашего времени» автор вспоминает о Руссо как об авторе «Исповеди»
- 175 -
(V, 229). В «Княжне Мери» Печорин ночью перед дуэлью читает «Пуритан» Вальтер-Скотта. А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях — там же, где он сообщает о чтении Лермонтовым Байрона — говорит, что он «читал Мура и поэтические произведения Вальтера-Скотта». Белинский в указанном выше письме32, излагая содержание своего разговора с Лермонтовым, сообщает, что Лермонтов отдает предпочтение перед Вальтер-Скоттом Куперу. У Лермонтова среди эпиграфов, кроме цитат из Байрона, Мура, Гейне и т. д., есть также эпиграфы из Лагарпа, из трагедии французского драматурга XVII в. Ротру, из поэта-современника Барбье.
ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДА „ГЕРОЯ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ“, ЛОНДОН, 1854 г.
Государственная библиотека СССР им. Ленина, МоскваНесмотря на чрезвычайную отрывочность и даже несколько случайный характер наших сведений о Лермонтове как о читателе иностранных авторов, несмотря на разбросанность этих данных, мы имеем полную возможность сказать, что он был разносторонне знаком с мировой литературой. Языки французский и немецкий он знал с детства, английский он изучил в возрасте 15 лет в связи с интересом к Байрону. Сличение перевода «Вида гор из степей Козлова» с подлинником и переводом того же стихотворения, принадлежащим Козлову, позволяет думать, что Лермонтов знал и польский язык и пользовался для перевода оригиналом, так как он воспроизвел здесь некоторые детали, не отраженные Козловым33 (иначе остается предположить, что в его распоряжении был подстрочник или что кто-нибудь расшифровывал для него оригинал).
- 176 -
То обстоятельство, что некоторые стихотворения, не обозначенные Лермонтовым как переводы, оказываются на самом деле переводными или заимствованными, а также и то, что изучение русских литературных связей поэта обнаружило ряд отдельных мелких совпадений со стихами его русских предшественников, — совпадений, ограничивающихся одной или несколькими строками или единичным образом, — наталкивало исследователей на сопоставление очень мелких единиц лермонтовского текста с определенными местами из западно-европейских авторов. Отмечены были, напр., следующие мелкие соответствия отдельным иностранным источникам.
В «Черкесах», самой ранней из сохранившихся поэм Лермонтова, два стиха (28-й и 240-й) возводятся к совпадающим с ними стихам «Невесты Абидосской» Байрона в переводе Козлова34. Поэма относится еще к тому времени, когда поэт английского языка не знал.
В «Кавказском пленнике» (1828) последний стих поэмы: «„Где дочь моя?“ и отзыв скажет: „Где?“» целиком совпадает (видимо, в результате заимствования) с заключительным стихом предпоследней строфы «Невесты Абидосской» в том же переводе И. Козлова, при отсутствии каких-либо определенных сюжетных соответствий.
В «Еврейской мелодии» 1830 г. («Я видал иногда, как ночная звезда») предполагалось заимствование из «Ирландских мелодий» Т. Мура одного образа — лучей от звезды, отраженной в воде35. Все стихотворение Лермонтова построено на развитии и аллегорическом истолковании этого мотива звезды и ее отражения в темной воде.
К тому же 1830 г. относится стихотворение «Черны очи», в котором, принимая в расчет рассказ Е. Сушковой о сравнении из романа Деборд-Вальмор («Глаза, наполненные звездами» — «Les yeux remplis d’étoiles»), остановившем внимание Лермонтова, тоже предполагается возможность заимствования: главная метафора, развернутая на протяжении этой вещи (глаза-звезды), возводится, в порядке гипотезы, к сравнению из французского романа (см. комментарии изд. «Academia», I, 470).
Стихотворение «Я не люблю тебя» (1831) и другое — «Расстались мы, но твой портрет» (1837), представляющее его переработку, заканчиваются оба одними и теми же строками:
Так храм оставленный — всё храм,
Кумир поверженный — всё бог!Вариация этой поэтической формулы-сентенции есть и в повести «Вадим», которая приходится на 1834 г.: «Мир без тебя что такое?.. Храм без божества!». Этот образ и это сравнение возводятся к одной статье Шатобриана, где есть следующее место:
«Il y a des autels comme celui de l’honneur, qui bien qu’abandonnés réclament encore des sacrifices: le Dieu n’est pas anéanti parce que le temple est désert» («Есть алтари, как алтарь чести, которые хотя и покинуты, еще требуют жертв: бог не уничтожен оттого, что храм опустел»)36.
К Шатобриану же, к его повести «Атала», возводится и образ крокодила, таящегося на дне американского колодца, используемый Лермонтовым сперва всерьез в «Вадиме» (1834), а потом пародически в «Княгине Лиговской» (1836), и тут и там — как элемент сравнения. Образ этот вообще распространен в русской литературе, современной Лермонтову37.
В «Мцыри» (1840) усматривается использование образа Гёте — из стихотворения «Willkommen und Abschied»38. Сравним:
- 177 -
...Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah...И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста.Вспомним, что песня рыбки в том же «Мцыри» представляет известную аналогию песне русалки из баллады Гёте «Рыбак» (см. выше).
Образ листка, оторванного бурей от ветки, — образ, проходящий через ряд стихотворений Лермонтова (1829, 1831), встречающийся в редакции «Демона» 1833 г., в «Мцыри» (1840) и, наконец, дающий основу целого стихотворения «Дубовый листок оторвался от ветки родимой» (1841), напоминал исследователям и комментаторам о стихотворении французского поэта Арно «De ta tige détachée», неоднократно переводившемся на русский язык, причем основной мотив его вошел и в оригинальную русскую поэзию39.
Все это — примеры наиболее ярких и заметных совпадений образа или мотива у Лермонтова, с одной стороны, и автора западно-европейского — с другой, — совпадений, самая последовательность и многочисленность которых должна предполагать знакомство с иностранным источником. Совпадающий образ или мотив в этих случаях сам по себе достаточно своеобразен и как будто оправдывает предположение о преемственной связи по линии отдельных образных элементов между Лермонтовым и его западными предшественниками. Некоторые из этих элементов переходили к нему, очевидно, непосредственно из первоисточника (напр., гётевская метафора «ночного мрака, глядящего из кустов сотней черных глаз», или образ «глаз, наполненных звездами» в романе Деборд-Вальмор). Другие же могли перейти к нему и через посредство русской традиции (образ одинокого листка, образ крокодила на дне колодца и др.).
О чем говорят эти случаи использования готовых образов и мотивов? Менее всего о влиянии данного автора. Бросается в глаза прежде всего то, что совпадение ограничивается пределами небольшого отрезка текста и что в тех случаях, когда какие-либо его элементы Лермонтов развивает более широко, строя на них даже целое стихотворение (как в стихотворениях «Черны очи» и «Дубовый листок оторвался от ветки родимой»), он делает это совершенно самостоятельно, вне связи с оригиналом, и результат обработки заимствованных элементов перерастает их источник. Не менее существенно и то, что места, представляющие заимствование, являясь иногда точным переводом отдельного выражения из чужеязычного источника (напр., гётевский образ в «Мцыри»), совершенно органически включаются в лермонтовский текст, на характер которого (даже в рамках ближайшего окружения) они не оказывают никакого воздействия, поскольку по семантическим и предметным признакам они не выделяются в нем, но который всецело подчиняет их себе, сам, так сказать, «влияет» на них.
Наличие вышеуказанных совпадений-заимствований говорит прежде всего о том, что Лермонтов на всем протяжении своего творчества тесно и неразрывно связан с литературой эпохи как целым — с литературой очень значительного хронологического периода (от последних десятилетий XVIII в., к которым относится ранняя лирика Гёте, до своего времени). Характер этой связи с окружающей литературой у Лермонтова безусловно роднит его с русскими писателями-современниками: использование отдельных словесных формул предшественников встречается и у них (может быть, только менее часто, чем у Лермонтова), и это опять-таки
- 178 -
обусловливается отсутствием полной разграниченности между литературными «владениями» разных авторов, своего рода «обобществленным» характером некоторых стилистических изобретений, ощущением их как достояния современной поэзии вообще и вместе с тем — предпосылкой их общеизвестности, позволяющей применить их в оригинальном творчестве без всякой ссылки на источник. Наконец, самый факт заимствования (там, где имеет место именно оно, а не случайное совпадение) в литературные эпохи, подобные 1820—1830 гг., подготовляется параллелизмом в развитии творчества разных авторов, в развитии разных национальных литератур; литература одной страны проходит иногда путь, пройденный в другой стране несколько ранее, и одинаковость в направлении развития, вызванная сходством в общественно-политических условиях, требует аналогичных стилистических средств. Отсюда — не только совпадения, но и конкретные заимствования.
2
Если связь или совпадение с творчеством западно-европейских авторов более или менее убедительно может быть прослежено на малых отрезках текста, на примере отдельных элементов целого, то применительно к целым стихотворениям, не являющимся ни переводами, ни «подражаниями», ни переделками, или к более крупным отрывкам из поэм и драм это удавалось всегда в гораздо меньшей степени, поскольку заимствование доказывалось сходством самых общих признаков.
Примером подобного доказательства могут служить попытки обнаружить в поэзии Гейне истоки некоторых лирических пьес Лермонтова. Большинство признаков, служивших поводом для сближения отдельных стихотворений, принадлежало к числу тех традиционно поэтических мотивов, которые могут встретиться в самых разнообразных сочетаниях и в самых различных видах поэзии (как, напр., тема извечной противоположности между человеком и природой), не заключая в себе черт, специфически характерных для этого автора, да и степень совпадения бывала настолько неопределенной, что оснований для установления преемственности между двумя пьесами — иностранной и русской — она не давала. Поиски «отзвуков», следов влияния приводили, напр., С. В. Шувалова к таким сближениям:
«В 1837 году Лермонтов пишет стихотворение „Когда волнуется желтеющая нива“, где изображает картины мирной природы и указывает на их благотворное влияние для своей бурной, страдающей души. Этот мотив находит соответствие у Гейне — в пьесе № 98 „Возвращения на родину“40: „Ночь среди чужого края... / Я устал и сердце ноет. / Но взойдет луна, блистая, / И тревоги успокоит“.
Картины природы у Гейне другие, но влияние их на душу поэта одинаковое. Стихотворение „Выхожу один я на дорогу“ относится к тем лирическим пьесам, которые были лебединою песнью поэта. В этом удивительно музыкальном стихотворении можно выделить, между прочим, мотивы: 1) природа прекрасна и спокойна, а находящийся лицом к лицу с нею поэт страдает; 2) поэт ищет забвения и покоя; 3) он и в этом состоянии полного бесстрастия все-таки желает слышать песнь любви. Все эти мотивы найдем мы и в „Книге песен“: первый, напр., в № 31 „Лирического интермеццо“, последние два в № 99 „Возвращения на родину“41. В первом стихотворении Гейне рисует чудные картины природы: голубое
- 179 -
небо, веют ветерки, луг пестреет цветами, — и все же поэт желал бы лежать в могиле. Второе стихотворение приведем целиком в переводе М. Михайлова: „Смерть — прохладной ночи тень. /Жизнь — палящий летний день. / Близок вечер, клонит сон. / Днем я знойным утомлен. / А над ложем дуб растет, / Соловей над ним поет... / Про любовь поет, и мне / Песня слышится во сне“.
Во второй части этой пьесы даже образы напоминают Лермонтова: дерево (в переводе неточно — дуб) и пение о любви (только у Лермонтова поет просто сладкий голос, а у Гейне более определенно — соловей). — Стихотворение „Молитва“ („Я, матерь божия, ныне с молитвою“), заключающее в себе мотив молитвы за любимую женщину, находит полное соответствие в пьесе № 50 „Возвращения на родину“42. Только Гейне обращается с молитвой к богу, а не к богоматери, как Лермонтов, но различие это не существенно, тем более, что в „Книге песен“ есть упоминания о молитвенных обращениях и к „божьей матери“»43.
Эта длинная цитата в своем роде очень показательна, поскольку в целом она прежде всего с полной ясностью обнажает (и компрометирует) те предпосылки, которые ложились в основу очень многих сближений подобного типа. Эти предпосылки сводятся к представлению о творчестве поэта как о чем-то весьма несамостоятельном, требующем постоянной опоры в произведениях других поэтов, в готовых образцах, хотя бы и очень далеких. Но тут же возникает и противоречие: сближаются признаки настолько общие и распространенные, сходство между сближаемыми вещами оказывается столь неопределенным, что даже в том случае, если бы признан был факт заимствования, неизбежно пришлось бы предположить и огромную творческую переработку заимствованного материала, вернее, почти полную его замену.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕВОДА „ДЕМОНА“,
ПАРИЖ, 1860 г.
Литературный музей, МоскваДругой исследователь «влияний» на Лермонтова — Э. Дюшен в своих
- 180 -
сопоставлениях шел еще дальше. Правильно отметив совпадение у Шатобриана и Лермонтова образов «покинутого храма» и «крокодила на дне колодца» (указанное выше), он устанавливает еще и такую параллель между обоими авторами: «Быть может в конце своей жизни Лермонтов, описывая „роскошные долины Грузии“, вспомнил, сам того не сознавая, описание берегов Мешасбе; быть может эта ослепительная картина жила еще в его памяти. Правда, Лермонтов делает лишь беглый набросок, полный скорее неги, чем блеска. Подобно Шатобриану, он прибегает к перечислению: конечное впечатление возникает у него из нагромождения деталей, благодаря которому создается представление о целом, хотя сами по себе детали не заключают в себе ничего особенно знаменательного»44.
Соответствие здесь — уже настолько отдаленное, настолько неконкретное, что С. В. Шувалов в своей статье скептически оценивает догадку Дюшена: «...Это сходство слишком общего характера, чтобы можно было думать, хотя бы и предположительно, что между „Демоном“ и „Атала“ имеется в данном месте генетическая связь»45.
При таком подходе творчество «заимствующего» поэта оказывается складочным местом для самых разнородных и случайных воздействий и «влияний», а его отношение к литературным источникам — глубоко эклектическим, чуждым всяких принципов. Роль поэта, испытывающего те или иные «влияния», оказывается чрезвычайно пассивной. Ускользает тот идейный и художественный смысл, который творчество предшественника — отечественного или иностранного — могло иметь для Лермонтова, не учитываются те обстоятельства, в силу которых он прибегал к данному источнику, и те условия (в частности время и стадия творчества), в которых возникала, или могла возникнуть, связь.
Совпадение идеи или общей, основной темы, сюжетного мотива может служить убедительным доказательством принципиальной связи между двумя произведениями лишь в том случае, если тема или мотив представляет собой нечто более специфическое, чем только-что приведенные примеры, или если совпадение конкретных образов, в свою очередь, подкреплено сходством идеи, общего эмоционального тона сравниваемых вещей, их формальной структуры, наличием одинаковых словесных комплексов.
3
Особый интерес представляют те случаи, когда обнаруживается связь между вполне оригинальным стихотворением и переводным — в том виде, какой оно имеет у Лермонтова (т. е. со всеми индивидуальными особенностями лермонтовской трактовки подлинника). Тем самым перевод оказывается звеном между оригинальным произведением и иностранным источником.
Приведу следующий пример.
Э. Дюшен уже сопоставлял «Утес» (1841) и гейневское «Ein Fichtenbaum steht einsam», но сопоставление имело у него очень общий, неопределенный характер, оно было сделано без указания на какие-либо конкретные признаки сходства; стихотворения сближались по признаку общности «настроения». Дюшен писал: «J. Legras не без основания видит в „Fichtenbaum“ Гейне „стремление к идеальной и далекой любви“. Не проникнуто ли тем же самым настроением и стихотворение Лермонтова? Не
- 181 -
передает ли и оно, в виде той же поэтической мечты, это скорбное чувство невозможности слияния душ?»46.
Между тем есть соображения гораздо более реальные и конкретные, которые могут подкрепить это сопоставление.
«Утес» (не датированный, правда, с абсолютной точностью) хронологически очень тесно примыкает к переводу «На севере диком» (тоже апрель 1841 г.).
Если в переводе стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam» Лермонтов не воспроизвел различия грамматических родов и тем самым придал аллегории другой — более широкий, более общий характер, то в оригинальном стихотворении «Утес» можно усмотреть подобие гейневской романической аллегории.
К «Утесу» протягиваются нити не только от стихотворения Гейне, но и от лермонтовского перевода. Общее с Гейне — это мотив далекой любви, разобщенности, одиночества. Что же касается возможной связи между «Утесом» и стихотворением «На севере диком», то носителями ее являются отдельные слова, которые из одного стихотворения как бы переходят в другое.
Сравним:
1) На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна...
...одиноко
Он стоит...
2) ...И снится ей все, что в пустыне далекой...
...И тихонько плачет он в пустыне...Наконец, 3) совпадает самое слово «утес». Правда, в «На севере диком» утес — не «действующее лицо», а лишь декоративная деталь. Но любопытно, что слово это является лишь в результате творческой переработки первого варианта, где сказано «на скале». Лермонтов заменяет «скалу» — «утесом», и притом «горючим». Этот эпитет взят здесь, в данном контексте, в значении «жаркий, горячий» — в соответствии слову «brennender». Но другое, и более активное, его значение — это «горюющий» (ср.: «горючие слезы»). И отсюда — путь к скорбящему, горюющему «утесу» одноименного стихотворения.
В комментарии к этому стихотворению в изд. «Academia» говорится, что «темы утесов и туч эпизодически и раздельно проходят через всю лирику Лермонтова, служа, большею частью, аллегорическими выражениями различных эмоций» (II, 248).
Тема «утеса», расколотого надвое ударом грома, вернее, двух «утесов», аллегорически знаменующих людскую разобщенность, фигурирует, например, у Лермонтова в гораздо более раннем стихотворении — «Романс» (1832):
Стояла серая скала на берегу морском;
Однажды на чело ее слетел небесный гром
И раздвоил ее удар, — и новою тропой
Между разрозненных камней течет поток седой.
Вновь двум утесам не сойтись, — но всё они хранят
Союза прежнего следы, глубоких трещин ряд.
Так мы с тобой разлучены злословием людским... и т. д.Однако самое стихотворение «Романс» тоже отнюдь не является исходной точкой в развитии этого мотива. Оно представляет совершенно бесспорную переработку бесспорно заимствованного мотива — из поэмы Кольриджа
- 182 -
«Кристабель», из того ее места, которое Байрон взял в качестве эпиграфа к «Fare thee well», переведенному Лермонтовым47. Совпадение у него с Кольриджем настолько значительно, что дает нам полное основание говорить о заимствовании. В «Кристабель» — та же тема «людского злоречия» и клеветы, но только, в отличие от стихотворения Лермонтова, она предшествует там аллегорической теме «утесов».
Alas! they had been friends in youth;
But whispering tongues can poison truth;
And constancy lives in realms above,
And life is thorny, and youth is vain...
.............................
But never either found another
To free the hollow heart from paining —
They stood aloof, the scars remaining,
Like cliffs, which had been rent asunder;
A dreary sea now flows between,
But neither heat, nor frost, nor thunder,
Shall wholly do away, I ween,
The marks of that which once hath been.Но эти же образы Кольриджа вызвали отклик (как выше было указано) и в другом стихотворении 1832 г. — «Время сердцу быть в покое».
Отдельные образные элементы и, главное, аллегорические их значения в этих двух вещах перекликаются, хотя, может быть, и отдаленно, с более поздним «Утесом». Эта связь нисколько не противоречит возможности связи между «Утесом», переводом «На севере диком» и его оригиналом. Предшествующая разработка мотива подготовляет почву для дальнейшего (хотя бы и не тождественного) его использования, даже иногда — для заимствования из определенного источника. В творчестве писателя отдельные моменты связаны между собой, и часто не заимствование само по себе обусловливает в конечном итоге наличие в нем известных особенностей — мотивов, стилистических черт, а, наоборот, пути собственного развития, потребности собственного творчества обусловливают необходимость заимствования — на основе совпадения тех или иных черт. И восприятие стихов Гейне оказывается подготовленным у Лермонтова благодаря стихам Кольриджа, преломленным через Байрона.
4
В работах, посвященных западно-европейским связям Лермонтова (т. е. у Дашкевича, Дюшена, С. Шувалова), в комментариях изд. «Academia» мы встречаем очень много указаний на сходство между определенным произведением Лермонтова и определенным же произведением иностранного автора — сходство, основанное на одинаковости тематических, сюжетных, отчасти вещественно-о́бразных признаков, при отсутствии, однако, словесных совпадений.
Если отбросить такие указания, основанные на сходстве самого общего порядка, какие мы встречаем у Шувалова и Дюшена, и остановиться на случаях более конкретных, притом таких, где стихотворение перекликается с иностранной вещью непосредственно, вне связей с какими-либо ее переводами, придется констатировать, что речь должна итти не о заимствовании, а только об определенном отношении к иноязычному произведению, о некотором, так сказать, «внутреннем сходстве», об отражении принципов творчества его автора. Вот один пример.
- 183 -
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
СЛОВЕНСКОГО ПЕРЕВОДА „ИЗМАИЛ-
БЕЯ“, ЦЕЛАВЕЦ, 1864 г.
Институт литературы, ЛенинградК 1830 г., когда Лермонтов, изучив английский язык и уже читая Байрона в подлиннике, начинает его переводить, относятся стихотворения «Ночь. I» («Я зрел во сне, как будто умер я») и «Ночь. II» («Погаснул день! — и тьма ночная своды...»). Они ни в какой степени не перекликаются с лермонтовскими переводами из Байрона и с «вольными» переложениями его стихов. Как на соответствие им у Байрона указывают на стихотворение «Darkness» (правда, послужившее Лермонтову материалом для прозаического упражнения в переводе, отнюдь не творческого характера) и «The Dream»48. С последним у Лермонтова (по его собственному признанию, вложенному в уста Заруцкому в «Странном человеке» — сцена IV) перекликается, как выше уже отмечено, «Видение» (1831).
Что общего между английскими и русскими стихотворениями? Во-первых, их жанровый тип. И тут и там — это полуповествовательный, полумедитативный монолог поэта. Одинакова и отправная точка монолога в обоих стихотворениях Байрона и в «Ночи. I» Лермонтова — предупреждение читателю о том, что все, рассказываемое в дальнейшем, есть содержание сна — сна знаменательного, своеобразного, страшного; «Ночь. II» — это рассказ о видении, равно как и позднейшее стихотворение «Видение».
Самое содержание сна или видения в смысле «фабулы» очень различно: у Байрона в «Darkness» — это гибель мира, конец жизни на земле, наступление вечного мрака и холода, среди которого уничтожают друг друга враждующие между собою люди; в «The Dream» судьба двух человек — мужчины и женщины, принимающая обобщенно-аллегорическую окраску. Повествующий поэт сам не является действующим лицом, он только пассивный зритель, рассказывающий о том, что он видел и что непосредственно не коснулось его. У Лермонтова в «Ночи. I» поэту снятся собственная смерть и возврат на землю к своему трупу; в «Ночи. II» — видение смерти, персонифицированной и предстающей ему в образе скелета; в обоих
- 184 -
стихотворениях повествующее «я» — главное действующее лицо, и вся фабула носит чисто личный характер, тогда как у Байрона все совершается вовне героя. Однако, несмотря на эти черты различия, «Ночи» Лермонтова и два стихотворения Байрона сближает их идейно-философская основа — мысль об обреченности человека его судьбе, о глубокой безнадежности человеческой жизни, о бессмысленности и жестокости конца, который ждет людей. Сближает их и общий характер того эмоционального тона и тех образных средств, в которых находит себе выражение эта основа: грандиозные космические картины, мировой масштаб декорации сочетаются с медлительным, сдержанно-скорбным тоном повествования, подробно и точно отмечающего все вещественные образы (с усилением эмоциональности в прямой речи от лица лирического «я» у Лермонтова). Совпадает и метрическая форма — безрифменный пятистопный ямб (у Лермонтова, правда, не вполне выдержанный и содержащий в отдельных стихах нарушения числа стоп). Ср. мрачный космический пейзаж в начале «Darkness» и «Ночи. I»:
The bright sun was extinguish’d, and the stars
Did wander darkling in the eternal space,
Rayless, and pathless, and the icy earth
Swung blind and blackening in the moonless air;
Morn came and went — and came, and brought no day......я мчался без дорог; пред мною
Не серое, не голубое небо
(И мнилося, не небо было то,
А тусклое, бездушное пространство)
Виднелось; и ничто вокруг меня
Различных теней кинуть не могло,
Которые по нем мелькали...(Ночь. I).
Погаснул день! — и тьма ночная своды
Небесные как саваном покрыла.
Кой-где во тьме вертелись и мелькали
Светящиеся точки,
И между них земля вертелась наша...
...........................
Вот с запада Скелет неизмеримый
По мрачным сводам начал подниматься,
И звезды заслонил собою...
И целые миры пред ним уничтожались...(Ночь. II).
В «The Dream» у Байрона оба героя стихотворения — «он» и «она» — показаны, так сказать, со стороны, и разные этапы их жизни даны в плане аллегорического видения. Но вместе с тем, при всей сдержанности и сомнамбуличности повествовательного тона, чувствуется глубоко личное отношение поэта к своим героям, а первая часть стихотворения, где он размышляет о природе сна, отображающего прошлое и предвещающего будущее, служит для читателя как бы намеком на лично биографический элемент в содержании видения, давая право понять его и в том смысле, что поэт видит здесь со стороны самого себя, свою судьбу. Этот мотив раздвоенного ви́дения, этот взгляд на себя со стороны находит у Лермонтова в «Ночи. I» соответствие в том эпизоде, где герой — «я» поэта — встречается как бестелесный дух со своим трупом на земле. В «Ночи. II» некоторым соответствием является то место, где поэт видит Скелет, держащий
- 185 -
в каждой руке по человеку («и мне они знакомы были») и заставляющий его решить, кто из этих двоих должен умереть, причем в данном эпизоде все строится на неясности связи между этими двумя и «я» героя:
Вот двое. — Ты их знаешь — ты любил их —...
Один из них погибнет. — Позволяю
Определить неизбежимый жребий...
И ты умрешь, и в вечности погибнешь —
— И их нигде, нигде вторично не увидишь...Наконец, в «Видении» (1831) приближение к байроновскому прототипу сказывается в том месте, где поэт, изображая своих героя и героиню, видит как бы самого себя в лице страдающего юноши. Известное соприкосновение с Байроном есть и в тех строках Лермонтова, где речь идет о смысле виденного сна («К чему мне приписать виденье это?» — и дальше), и в следующем за ними переходе к новому эпизоду и новой декорации («Мой сон переменился невзначай»). Вот те моменты в пьесе Лермонтова, которые персонажу «Странного человека» Заруцкому давали основание сказать: «Она в некотором смысле подражание „The Dream“ Байронову».
Эти примеры не говорят ни о каком конкретном заимствовании, ни о каком совпадении частных деталей или мотивов: нет здесь ни одинаковых слов, ни одинаковых по своему предметному содержанию образов. Совпадает лишь принцип построения образа, та сфера, из которой он выбирается.
В отношении идейно-философском Лермонтов идет здесь дальше, чем Байрон в «Darkness» и в «The Dream». Мысль о безнадежности судьбы человека и человечества, о бесцельности жизни и жестокой бессмысленности конца, лежащая в основе двух стихотворений Байрона, нигде не сформулирована словами, она только вытекает из содержания целого, является неназванным результатом всей совокупности образов. Лермонтова эта мысль приводит к словесно выраженным (от лица поэтического «я») выводам, полным протеста против мирового порядка, полным богоборческого пафоса:
И мне блеснула мысль: — (творенье ада)
Что если время совершит свой круг
И погрузится в вечность невозвратно,
И ничего меня не успокоит,
И не придут сюда простить меня? —......
— И я хотел изречь хулы на небо —(«Ночь. I»).
Я верю: нет свиданья — нет разлуки!..
Они довольно жили, чтобы вечно
Продлилося их наказанье. —
Ах! — и меня возьми, земного червя —
— И землю раздроби, гнездо разврата,
Безумства и печали!..
Все, все берет она у нас обманом,
И не дарит нам ничего — кроме рожденья!..
Проклятье этому подарку!..(«Ночь. II»).
Этого богоборчества, этого протеста ни в «Darkness», ни в «The Dream» нет; не характерны подобные мотивы и для лирики Байрона вообще. Но они есть в его философских трагедиях-мистериях «Каин», «Небо и земля», они проходят в речах демонических героев его поэм. Таким образом,
- 186 -
возникает соответствие не только данным двум стихотворениям, но и всей идейно-тематической системе Байрона — не только как лирика, но и как автора поэм и драматурга. При этом протестующий пафос достигает в этих стихах Лермонтова огромного напряжения и силы, а четкость в постановке проблемы вины и предопределения заставляет предполагать и какой-то чисто философский (уже внехудожественный) источник мировоззрения поэта.
«Ночь. I» и «Ночь. II» предшествуют в тетрадях поэта его первым полупереводам из Байрона. И однако эти два ранних стихотворения, стоящие и в тематическом и в формальном плане особняком среди лермонтовских стихов той же поры, содержат гораздо больше специфически байроновских черт, чем целый ряд переводов (как самого Лермонтова, так и его современников) или даже «Видение», самим Лермонтовым определявшееся как «в некотором смысле подражание» Байрону; чертам этим придана здесь даже бо́льшая резкость, чем в оригинале. В то же время «Ночь. I» и «Ночь. II» — глубоко лермонтовские стихотворения, доказывающие, что импульс извне, импульс, данный творчеством иностранного поэта, приводит к созданию совершенно новой и оригинальной вещи, к разработке мотивов, не совпадающих с первоисточником, а лишь вытекающих из него, служащих его продолжением. Мотивы эти с такой отчетливостью появляются здесь у Лермонтова впервые, во многом предвосхищая содержание тирад и монологов героев его поэм (Арсения, Демона, Мцыри), их философскую проблематику.
Время написания — 1830 г., когда Лермонтов подробно изучал Байрона и переводил в прозе «Darkness», а также своеобразие «Ночей» по отношению ко всему творчеству Лермонтова — вот дополнительные аргументы в пользу связи их с Байроном (независимо от принципиальных соответствий).
Основная тема «Ночи. I» и главный момент в ее раскрытии — возвращение бесплотного духа к трупу того, кем он был на земле, — переходят в стихотворение 1831 г. «Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами»). Переходят туда также целый ряд стихов и целые куски текста (случай, типичный в эволюции творчества Лермонтова). Это новое стихотворение, являющееся по существу второй редакцией «Ночи. I», более поздним ее вариантом, было сопоставлено (Л. Семеновым49) со стихотворением Гейне «Götterdämmerung».
Сопоставление это — более убедительно, чем большинство других бытующих в литературе о Лермонтове сопоставлений его с Гейне, но и оно далеко не бесспорно (не говоря уже о том, что возможность знакомства с Гейне здесь под сомнением в чисто хронологическом разрезе: не ясно, мог ли Лермонтов знать Гейне в 1831 г., поскольку начало широкого проникновения Гейне в Россию относится, как отмечено выше, к 1838 г.).
Основанием для сопоставления, кроме размера, которым написаны обе вещи (пятистопный безрифменный ямб), может служить один из совпадающих мотивов — созерцание трупа и один из образов, связанных с этим мотивом (образ могильного червя); этих мотива и образа у Байрона нет. Но характер совпадения с Гейне все же не таков, чтобы требовалось предположение о заимствовании именно из его творчества. У Гейне поэт, наделенный даром видеть все, что творится за стенами домов и в людских сердцах и что скрыто под землей, созерцает трупы других людей; у Лермонтова же поэт видит свое собственное тело, покинутое духом. То, чему
- 187 -
у Гейне уделено четыре с половиной строки, у Лермонтова в «Смерти», как и в более ранней «Ночи. I», развито в длинное описание и обрастает многочисленными деталями. Совпадает с Гейне (но уже не с «Götterdämmerung», а с другой его вещью, правда, стоящей в «Книге песен» непосредственно вслед за этим стихотворением, а именно — с «Ратклиффом») еще один момент: последний стих у Лермонтова (и в «Смерти» и в «Ночи. I») — «Но голос замер мой — и я проснулся» — приводит на память последний же стих «Ратклиффа»: «Und vor Entsetzen bin ich aufgewacht». Некоторую аналогию началу «Ратклиффа» представляет и начало как «Смерти», так и «Ночи. I» — слова о сновидении, которым мотивируется все дальнейшее содержание (ср. у Гейне: «Der Traumgott brachte mich in eine Landschaft...»; у Лермонтова: в «Ночи. I» — «Мне снился сон, как будто умер я», в «Смерти» — «Ласкаемый цветущими мечтами / Я тихо спал и вдруг я пробудился, / Но пробужденье тоже было сон»). Начало «Смерти» отличается от начала более ранней «Ночи. I» еще и тем, что мотив сна здесь развернут в целое описание-рассуждение, которое имеет известную аналогию у Байрона в «The Dream».
ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДА „ДЕМОНА“,
ПОСВЯЩЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКОМ A. C. STEPHEN’ом И. С. ТУРГЕНЕВУ, ЛОНДОН, 1875 г.
На фронтисписе — гравюра М. Зичи
Государственная библиотека СССР им. Ленина, МоскваЕсли в 1830—1831 гг. связь поэзии Лермонтова с поэзией Гейне представляется несколько сомнительной, то бесспорна связь Гейне с Байроном. И «Götterdämmerung» и «Ratcliff» — вещи, которые по принципам построения, по эмоциональному тону, отчасти даже по конкретной тематике
- 188 -
могут быть сближены с «Darkness» и с «The Dream», причем «Götterdämmerung» в большей степени (хотя бы благодаря эсхатологической теме) напоминает «Darkness», a «Ratcliff» — «The Dream». Возможные связи с одним общим источником — вот причина, по которой между «Смертью» и «Ночью. I», с одной стороны, и названными стихотворениями Гейне — с другой, возникают известные аналогии. Но самое возникновение их, даже если они и не свидетельствуют о знакомстве Лермонтова с Гейне в это время, не случайно, поскольку они говорят о том, что поэзия Лермонтова развивается в том же русле, что и западная поэзия после Байрона50.
И, конечно, не связью с Гейне определяется историко-литературное да и художественное значение «Ночи. I» и «Смерти». Значение их, а также «Ночи. II» — в том, что Лермонтов здесь очень сознательно делает принципиальные выводы из своего опыта по овладению наследием Байрона. С точки же зрения проблемы иностранных поэтических связей в творчестве Лермонтова эти вещи представляют редкий пример такого случая, когда мы можем проследить использование и, главное, развитие общих как идеологических, так и формальных принципов «чужой поэзии» на вполне конкретном материале, перекликающемся с конкретными произведениями иноязычного автора, но без всяких признаков словесного заимствования. Таких случаев у Лермонтова (в противоречии, может быть, с тем представлением, которое может сложиться на основании работ о «влияниях» и комментариев к его изданиям) немного. И при этом следует подчеркнуть: 1) что «Ночи» и «Смерть» — стихотворения ранние, юношеские, — уже свидетельствуют об очень глубоком, нисколько не механическом, нисколько не внешнем характере реагирования Лермонтова на важные для него образцы байроновской поэзии и 2) что при всей общности принципов, при всей значительности идейно-тематических и формальных соответствий, связь между «Ночью. I» и «Ночью. II» и «Смертью», с одной стороны, и названными стихотворениями Байрона — с другой, все же может считаться лишь гипотетической (хотя и с очень большой долей вероятности), при бесспорной связи с поэзией Байрона в целом.
5
Здесь уместен будет хронологический обзор творчества Лермонтова с точки зрения тех соответствий с иностранной литературой, которые ему приписывались разными исследователями51.
Самое начало творчества Лермонтова ознаменовано опытами в жанре поэмы. Это «Черкесы», «Кавказский пленник» и «Корсар». «Кавказский пленник» является как бы продолжением и развитием мотивов одноименной поэмы Пушкина, на что указывает и самый выбор заглавия. Все это вещи 1828 г., к которому в области лирики у Лермонтова относятся всего четыре стихотворения. И в «Черкесах» и в «Кавказском пленнике» несколько стихов полностью совпадает с отдельными стихами козловского перевода «Абидосской невесты» и позволяет говорить о словесном заимствовании именно из этого — переводного — источника. Эти заимствования, ограничивающиеся здесь всего лишь несколькими строками, совершенно одинаковы с заимствованиями Лермонтова из русских авторов. Они являются лишь следом внимательного чтения известного перевода одной из известных поэм английского поэта и, конечно, говорят о том, что интерес к его творчеству у Лермонтова подготовляется уже в это время, а также, что дает себя знать, с некоторым запозданием, и русская традиция
- 189 -
байронической поэмы 20-х годов, тоже подготовляющая почву для дальнейшего самостоятельного восприятия поэзии Байрона. Третья поэма того же 1828 г. — «Корсар», по заглавию совпадающая с одной из поэм Байрона, не давала поводов к сопоставлениям с нею; она содержит ряд словесных заимствований из русских поэтов; эпиграфом к ней взяты стихи такого автора, как Лагарп. Немногочисленная лирика 1828 г., еще очень мало самостоятельная и связанная отчасти с традицией классической темы в русской поэзии («Заблуждение Купидона», «Цевница»), никаких конкретных и прямых реминисценций из западной поэзии в себе не заключает.
На 1829 г. (к которому относятся переводы из Шиллера и набросок «Забывши волнения жизни мятежной» — полуперевод начала гётевского «Рыбака»), приходятся: поэмы «Два брата» и «Преступник», в которых отмечалось влияние Шиллера, однако весьма отдаленное, и такие стихотворения, как «Письмо» (где усматривалась смутная реминисценция из Мицкевича), «Мой демон», по теме своей связанный с западной традицией вообще (но только вообще), «Два сокола», вызывавшие отдаленное воспоминание о пушкинском стихотворении «Ворон к ворону летит» (в свою очередь восходящем к шотландской народной песне), и, наконец, «Веселый час» — видимый перевод с необнаруженного французского оригинала, в котором своеобразно смешиваются традиционно анакреонтические черты и мрачная тюремная тема (воспринятая скорее в сентиментальном, чем в трагическом плане) — несколько противоречивое сочетание Парни и Шенье.
1830 г. — первый действительно байроновский год в поэзии Лермонтова. В этот год он переводит Байрона и, как должно явствовать из анализа «Ночей», творчески воспринимает принципы его поэзии. Этот год в развитии формальных элементов поэзии Лермонтова замечателен появлением в ней новых стиховых форм — использованием безрифменного пятистопного ямба (в «Ночах»), а также пятистопного ямба и ямба четырехстопного с одними мужскими рифмами (поэма «Джюлио», «Гроза шумит в морях с конца в конец», «Звезда», «Наполеон», «Очи N. N.», «Кавказу» и мн. др.). Все эти формы займут потом большое место в поэзии Лермонтова. Все они, несомненно, восходят к поэзии английской, которая для Лермонтова представлена прежде всего (если не исключительно в этот ранний период) Байроном. Четырехстопный ямб с мужскими рифмами в русскую поэзию введен был Жуковским, но формы пятистопного ямба (рифмованные и нерифмованные) у Лермонтова теснейшим образом связаны непосредственно с Байроном, равно как и применение в лирике (а не только в поэме) сплошных мужских рифм в четырехстопном ямбе.
К этому же 1830 г. относятся: «Еврейская мелодия» («Я видал иногда, как ночная звезда») с предполагаемой реминисценцией из Мура, отмечавшейся уже выше; явная реминисценция Макферсона «Гроб Оссиана», выступающая прежде всего в заглавии, и, наконец, тоже упомянутое выше использование сравнения из Деборд-Вальмор в стихотворении «Черны очи». Что касается поэм, то в «Двух невольницах» мы видим эпиграф из «Отелло» Шекспира, а в «Литвинке» были обнаружены отдельные совпадения с «Гражиной» Мицкевича (главным образом по линии пейзажно-декоративной и отчасти сюжетной). Наконец, в «Испанцах», первом драматургическом опыте Лермонтова, еще очень несамостоятельном, — целый клубок «влияний», неоднократно отмечавшихся: Шиллера, Лессинга, Шекспира, В.-Скотта, отчасти Байрона; в другой драме того
- 190 -
же года — «Menschen und Leidenschaften» — сочетание Шиллера с драматургами «бури и натиска» — Клингером и Лейзевицем.
В 1831 г., кроме вольного перевода из Байрона («К Л.—») и «Подражания Байрону» («Не смейся, друг, над жертвою страстей»), возникают поэмы «Ангел смерти», заставлявшая комментаторов вспоминать о восточных поэмах Байрона и об образах его трагедий-мистерий, и «Каллы», предшествуемая эпиграфом из Байрона и вызывающая некоторые ассоциации с «Гяуром». Отдельные места в «Ауле Бастунджи» оказались сопоставленными с «Восточными стихотворениями» («Orientales») Гюго, а драма «Странный человек» — с Шиллером. Баллада «Гость» («Кларису юноша любил») (1830—1831) дала повод к указаниям на сходство с «Ленорой» Бюргера.
Из произведений 1832 г., кроме перевода бёрнсовского четверостишия, вольного переложения отрывка из «Мазепы» Байрона, стихотворения «Время сердцу быть в покое», включающего в себя несколько стихов из Байрона и отзвуки Кольриджа, «Романса», развивающего кольриджевский образ, и «Баллады», начало которой воспроизводит два стиха немецкой народной песни, в сознании исследователей с западной литературой ассоциировался «Измаил-бей», образом героя и сюжетом напоминавший поэмы Байрона и «Конрада Валленрода» Мицкевича. Эпиграф из Байрона, взятый для поэмы «Моряк», ставит и эту поэму в некоторую, правда косвенную, связь с английским поэтом.
В «Хаджи Абреке» (1833—1834) находили известное сходство с «Гяуром» Байрона. Приблизительно в тот же период Лермонтов неоконченным стихотворением (без точной датировки) «Он был в краю святом» пародирует Жуковского — его стихотворение «Старый рыцарь», восходящее к немецким образцам. К 1834 г. относится и первый значительный опыт Лермонтова в прозе «Вадим», по жанровым признакам вызывавший сравнение с Вальтер-Скоттом, а благодаря основным портретно-психологическим чертам героя — с Виктором Гюго как автором «Собора Парижской богоматери», как создателем фигуры Квазимодо.
В «Маскараде» (1835) разными исследователями и комментаторами были обнаружены следы влияния Шекспира, Шиллера, Жорж Санд, не говоря о связях этой вещи с русской традицией (с Грибоедовым) и с современным ей репертуаром.
«Боярин Орша», датируемый 1835—1836 г., вызывает упоминание имен Байрона, Мицкевича, Гюго.
1836 г. — это, кроме двух переводов из Байрона и бесспорной реминисценции из Байрона в «Умирающем гладиаторе», — баллада «Русалка», давшая повод говорить о сходстве с Байроном, Гёте и Гейне, драма «Два брата», по поводу которой вспоминались (как и по поводу «Menschen und Leidenschaften») Шиллер, Клингер, Лейзевиц.
Из произведений 1837 г. с литературой Запада связывались стихотворения: «Узник», возводимый к «Шильонскому узнику» Байрона — Жуковского, «Сосед», относимый к традиции Жуковского как интерпретатора Шенье, и «Расстались мы», в котором обнаруживались следы заимствования из Шатобриана и Ламартина. В том же 1837 г. написаны знаменитые стихи на смерть Пушкина — «Смерть поэта», с эпиграфом из французского драматурга XVII в. Ротру.
В 1838 г. написаны стихотворения «Дума» и «Поэт», в которых видят отзвуки современного Лермонтову французского гражданского поэта Огюста Барбье, и поэма «Тамбовская казначейша», которая в связи с темой
- 191 -
карточной игры и центральным эпизодом была сопоставлена с новеллой Гофмана «Счастье игрока», и, наконец, в этом же году был начат «Герой нашего времени», связываемый с французскими прозаиками — Альфредом де Виньи, Альфредом де Мюссе, Бенжаменом Констаном.
В качестве иностранных источников лермонтовского творчества за 1839 г. называют поэзию Барбье, находящую себе соответствие в стихотворении «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой» (с эпиграфом из этого автора), Гюго, восточным образам которого приписывается влияние общего характера на «Три пальмы», и Лагарп, прозаический рассказ которого «Пророчество Казота» мог послужить материалом для стихотворения «На буйном пиршестве задумчив он сидел».
В 1840 г. наряду с переводами-переделками из Гёте («Горные вершины») и Цедлица («Воздушный корабль») предполагаются реминисценции из Вальтер-Скотта (в «Казачьей колыбельной»), Шенье («Соседка»), а использование жанра разговора в стихотворении «Журналист, писатель и читатель» представляет соответствие аналогичным вещам Гёте и Байрона. Поэма «Мцыри» связывается с «Шильонским узником» Байрона — Жуковского; там же — заимствование двух строк из Гёте.
ОБЛОЖКА ДАТСКОГО ПЕРЕВОДА
„ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“,
КОПЕНГАГЕН, 1909 г.
Институт литературы, ЛенинградНа 1841 г., кроме бесспорных переводов из Мицкевича и Гейне и переделки стихов последнего, падают предположительные отклики Лермонтова на стихи все того же Гейне («Утес»), Байрона и Гейне («Морская царевна»), Арно («Дубовый листок оторвался от ветки родимой»), Альфонса Kappa («Любовь мертвеца»), на публицистическую прозу Гейне («Последнее новоселье»). В этом же году возникает окончательная редакция «Демона» — поэмы, дающей материал для гипотез о разных источниках заимствования и о связи с традицией нескольких поэтов, главным образом английских (Байрона, Томаса Мура, Мильтона, а также А. де Виньи).
- 192 -
Прозаический отрывок того же года «У граф. В.... был музыкальный вечер» своим сюжетом вызывал на сравнение с Гофманом.
В основных работах, специально посвященных разбору, перечислению и классификации иностранных «влияний» на Лермонтова (Шувалова, Дюшена), изложение строится не хронологически, и весь материал распределяется отнюдь не в соответствии с творческой эволюцией Лермонтова, — он распределяется по тем литературам и по тем авторам, к которым возводятся те или иные элементы поэзии Лермонтова. Самый принцип такого построения работы неизбежно замаскировывает творческое лицо изучаемого поэта и подменяет его совокупностью черт, выхваченных из разнородных систем. «Влияющие» авторы совершенно вытесняют того, кому, казалось бы, посвящено исследование, т. е. поэта, претерпевающего их воздействие. От Лермонтова не остается ничего, он распадается на составные части, и его место занимают Байрон, Шиллер, Шатобриан и целый ряд других писателей.
Сделанная выше хронологическая сводка произведений Лермонтова, вызывавших указания на западно-европейские источники, имеет то преимущество, что самое многообразие этих источников не позволяет упустить из виду единство того объекта, на который должно быть направлено их действие, и дает возможность проследить смену этих воздействий, устойчивость одних, непостоянство, единичность других и оценить общее соотношение между ними, а также распределение их по отдельным жанрам. Этот перечень показывает, насколько часто творчество Лермонтова связывалось с поэзией Байрона, что большинство упоминаний о Шиллере относится к драматургическому творчеству Лермонтова и что связи творчества Лермонтова с французской литературой были относимы главным образом к последним годам его деятельности.
Происхождение самих указаний на источники различно. Основой для некоторых из них исследователям и комментаторам послужили эпиграфы из того или иного автора (напр., эпиграф из Барбье перед стихотворением «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой»). Некоторые сделаны современниками Лермонтова (напр., Шевырев обратил внимание на соответствие между «Казачьей колыбельной» и «Lullaby of an Infant Chief» Вальтер-Скотта52), другие же возникли лишь в самые последние годы. Эти указания сведены нами воедино вне зависимости от вопроса о большей или меньшей убедительности и вероятности каждого из них.
Поскольку все они гипотетичны, поскольку данных о процессе творчества, о творческой истории отдельных вещей Лермонтова или хотя бы о круге его чтения у нас очень мало, возможны разные догадки, но, конечно, необходимо, чтобы каждая из них отвечала требованию хронологической и фактической правдоподобности, т. е. имела предпосылкой возможность для Лермонтова ознакомиться с данным автором и с данным произведением. Огромное большинство приведенных указаний отвечает этому требованию. Вызывают сомнение лишь сопоставления более ранних стихотворений Лермонтова с Гейне, а также предположение о связи «Последнего новоселья» с одной из парижских корреспонденций Гейне в аугсбургскую «Всеобщую Газету». Стихотворение «Русалка»53 относится к 1836 г., ранние же баллады Гейне, к числу которых принадлежит сопоставленная с ним «Die Nixen», впервые стали появляться в печати в 1839 г. в «Zeitung für die elegante Welt», а в составе отдельной книги («Neue Gedichte von H. Heine») были изданы только в 1844 г. Указание
- 193 -
на «отзвуки из Гейне» в стихотворении «Ребенку», сопоставляемом с «An die Tochter der Geliebten»54, представляет хронологический курьез по той причине, что немецкий «источник» заимствования возник лишь в 1844 г., т. е. через три года после смерти русского поэта и через четыре года после написания «Ребенку» (не говоря уже о том, что сходство текстов более чем отдаленное). Что же касается парижских корреспонденций Гейне, с одной из которых (от 14 мая 1840 г.) сопоставлено «Последнее новоселье»55, то они были собраны в отдельную книгу («Lutezia», в составе «Vermischte Schriften») только в 1854 г., а первоначально, в пору их написания, печатались в газете («Allgemeine Zeitung» в Аугсбурге, 1840—1843). При этом любопытно, что та часть текста Гейне, в которой могут быть отмечены сколько-нибудь существенные черты сходства с «Последним новосельем», была напечатана только во «Всеобщей Газете», а в позднейшем отдельном издании была опущена. Чтобы иметь возможность констатировать не простой факт совпадения (вполне естественный и закономерный, если принять в расчет одинаковость темы и общность взглядов в вопросе о Наполеоне), а заимствование, сознательное использование высказываний Гейне, — неизбежно предположить, что Лермонтов читал тот номер «Всеобщей Газеты», где была помещена эта корреспонденция. Однако у нас нет данных не только для суждения о том, читал ли Лермонтов аугсбургскую «Всеобщую Газету», но и для решения вопроса, было ли это издание распространено и читалось ли в том кругу, к которому принадлежал поэт. В совпадениях же между стихами Лермонтова и прозой Гейне нет ничего настолько исключительного, чтобы для объяснения их требовалось предполагать заимствование и, во всяком случае, знакомство поэта с данной корреспонденцией.
С точки зрения фактической возможности заимствования несколько сомнительными представляются замечания о сходстве между драмами Лермонтова «Menschen und Leidenschaften» и «Два брата», с одной стороны, и драматургией «бури и натиска»56 (в лице Клингера и Лейзевица) — с другой. Сами по себе ее представители были мало известны в России XIX в., но целый ряд элементов их творчества перешел в драматургию раннего Шиллера, и, таким образом, совпадение некоторых существенных особенностей лермонтовских прозаических драм с особенностями Клингера или Лейзевица может объясняться наличием этого промежуточного звена между ними. Впрочем, Лермонтову немецкая литература была знакома, повидимому, в довольно широких пределах, о чем свидетельствует эпиграф к «Кавказскому пленнику», взятый из малоизвестного поэта конца XVIII — начала XIX вв. Карла-Филиппа Конца, а также прозаический перевод стихотворения Иоганна Гермеса. Эти имена указывают на то, что Лермонтов знал не только знаменитых или популярных немецких авторов, широко известных в России, как Гёте или Шиллер, как Гейне или Цедлиц, но также и совсем второстепенных поэтов, и позволяет предполагать более или менее обширный круг чтения в области немецкой литературы (если только стихи Конца и Гермеса дошли до него не через посредство какой-либо антологии или хрестоматии немецкой поэзии). Что касается Клингера и Лейзевица, то черты совпадения с ними имеют настолько общий характер (тема враждующих и соперничающих друг с другом братьев, страстность, приподнятость, неистовость речей), что не требуют гипотезы прямого заимствования из их драм и вполне допускают мысль о посредствующей роли Шиллера.
- 194 -
Что касается прямых заимствований Лермонтова из немецкой литературы и, в частности, переводов, то, как мы видели, значительная часть их оговорена поэтом с помощью подзаголовков («Из Шиллера», «Из Цедлица») или с помощью эпиграфов. (Не отмечены им, конечно, случаи заимствования отдельных стихов внутри произведения.) То же самое касается большинства прямых заимствований из английской поэзии, которые даже до некоторой степени подчеркиваются; в этом смысле характерны многочисленные эпиграфы из Байрона. Из английских, так же как и из немецких, поэтов он переводит целые стихотворения, и те отклики на их творчество, какие с точки зрения исследователей обнаруживаются у Лермонтова, представляют собой соответствие целым комплексам мотивов и образов (правда, по-своему обработанных и получающих совершенно новое развитие). Иной характер имеет его соотношение с авторами французскими: те заимствования из их произведений, на какие до сих пор делались указания, ограничиваются в большинстве своем небольшими отрезками текста — отдельным образом, сравнением, формулой (ср. образ крокодила на дне колодца или «храма без божества»), которые лишь иногда развиваются в целое стихотворение (напр., «Черны очи» или «Дубовый листок оторвался...»), обычно уже, однако, ничего общего не имеющее со своим источником. Наряду с этой, так сказать, мозаичностью заимствований из французских авторов показательны в большинстве случаев непринципиальный их характер, отсутствие у Лермонтова точек соприкосновения со всей их системой. Если Байрон, Шиллер, Гёте, Мур, Цедлиц — для него авторы со своей индивидуальной характеристикой, более или менее созвучные ему самому, то материал французской поэзии (если не считать Барбье и Шенье) в его преломлении даже иногда не связывается с определенными именами, во всяком случае в той мере, в какой мы можем судить об этом по данным текста. У Лермонтова меньше всего твердых указаний и ссылок на французские источники. Единственный свой перевод с французского, обозначенный им как перевод («Веселый час»), он оставляет без указания на имя автора, на литературный источник. Беря много позднее для «Смерти поэта» эпиграф из трагедии Ротру (в русском переводе), он дает его без имени автора. Из двух других французских эпиграфов, отмеченных именем автора, лишь один — из Барбье — имеет и тематическое и стилистическое отношение к предваряемой им вещи («Не верь, не верь себе, мечтатель молодой»); другой — из Лагарпа, взятый Лермонтовым для ранней поэмы «Корсар», — литературно мало связан с самим произведением, и его сентенциозно морализирующий оттенок мало соответствует общему эмоциональному тону всей вещи, где упор сделан на романтическом мотиве бурных страстей.
Французская литература была, конечно, хорошо знакома Лермонтову. Сказать это позволяет общий характер литературной культуры того периода, к которому принадлежат первые годы его творчества. Однако преимущественная ориентация русской дворянской культуры на культуру и язык Франции приводила к тому, что все традиционно французское приобретало характер привычного, почти бытового явления, в отличие от литературы немецкой и английской, еще не достаточно открытой русскому читателю. В цитированной выше заметке Лермонтова (1830) о «бедности нашей словесности» отрицательная оценка родной литературы в известной мере совпадает с оценкой литературы французской, о которой он, противопоставляя ей русский фольклор, отзывается пренебрежительно.
- 195 -
Критический характер имеют и его отзыв о Руссо в заметке 1831 г. и тот отзыв о нем, который он вводит в «Журнал Печорина».
ФРОНТИСПИС И ОБЛОЖКА ФРАНЦУЗСКОЙ АНТОЛОГИИ СЛАВЯНСКОЙ ПОЭЗИИ,
ЛЬЕЖ, 1918 г.
На фронтисписе — иллюстрация Э. Ванзара к „Песне про царя Ивана Васильевича“
Собрание П. Эттингера, МоскваВ тетради 1827 г. вслед за выписками из Сент-Анжа и Лагарпа — ремарка самого Лермонтова: «Я не окончил, потому что окончить не было сил». Эта неудовлетворенность традиционной, хрестоматийно-привычной французской литературой XVIII в. не мешает ему, правда, три года спустя, взять эпиграф из Лагарпа и, повидимому, воспользоваться одним его рассказом как фактическим (неоговоренным) источником для нескольких, относящихся к разным годам стихотворений на тему пророчества о кровавых, трагических событиях близкого будущего: «Настанет год, России черный год» (1830), «К***» («Когда твой друг с пророческой тоскою», 1830)», «Настанет день — и миром осужденный» (1831), «Не смейся над моей пророческой тоской» и «На буйном пиршестве задумчив он сидел» (1839)57. В последнем, наиболее позднем из этих стихотворений связь с лагарповским рассказом о Казоте особенно тесна, но здесь более чем в каком-либо другом случае заимствования дело идет именно об отклике на изложенный факт и менее чем где-либо — о воспроизведении стиля. Прозаический рассказ Лагарпа насыщен историческими именами и очень конкретен в отношении времени и места действия (1788 г., ужин у герцогини де Грамон, на котором присутствуют Мальзерб, Кондорсе, Николаи и др.)58. У Лермонтова же персонажи — абстрактный «он» и «безумные
- 196 -
друзья», веселые «гости». Эта отвлеченность, это отсутствие каких-либо деталей исторической обстановки находятся в полном соответствии с торжественно-патетическим стилем лермонтовской пьесы, которая тем самым приобретает оттенок символического обобщения, как если бы то будущее, к которому относится пророчество, еще не стало историческим прошлым, а самое пророчество еще имело силу.
Запись в тетради 1830 г., отражающая замысел трагедии на сюжет «Из романа французского Аттала» (IV, 402), говорит о том, что и к Шатобриану молодой Лермонтов обращается прежде всего как к материалу, удобному для заимствования, обращается за готовой фабулой. Шатобриан, правда, не мог не восприниматься Лермонтовым иначе, чем французы XVIII в., будучи одним из деятелей раннего романтизма. Однако для 1830 г., когда Лермонтов уже непосредственно знакомился с Байроном, Шатобриан в отношении идейном и общетематическом вряд ли может дать ему нечто новое. Характерные черты героев Шатобриана и те положения, в которые он ставит их, к 1830 г. давно уже успели стать ходовыми и в европейской и в русской литературе, «обобществиться», утратить печать своего автора. Скорее следует думать, что интерес и обращение Лермонтова к Шатобриану, предшественнику Байрона, объясняются именно значением для Лермонтова всей системы английского поэта и поисками аналогичных мотивов и положений, которые можно было бы развернуть на фоне другой декорации. Совершенно прав С. Шувалов, утверждая, что роль Шатобриана для Лермонтова отнюдь не следует переоценивать. Аналогия остается лишь в пределах самых общих признаков (психологический облик мрачного, скорбящего героя и его уход из цивилизованного общества к людям природы — к дикарям или горцам, и самая тема жизни среди природы). А словесно образные заимствования из него, при всем том, что они повторяются у Лермонтова и принадлежат у него к числу устойчивых формул, отличаются мозаичностью; некоторые перекликаются с заимствованиями из Байрона (образ покинутого храма), а одно из них (образ крокодила на дне колодца в «Княгине Лиговской») подвергается пародическому переосмыслению.
Имена тех ведущих деятелей французского романтизма (Гюго, Альфреда де Виньи, Альфреда де Мюссе), с которыми по поводу отдельных произведений не раз сопоставляли Лермонтова, нигде не упоминаются у него — ни в собственных его заметках, ни в речах персонажей — и не представлены ни одним эпиграфом. В связи со своей лирикой он называет имена только двух французских поэтов, ставя их в связь с содержанием стихов: Шенье и Барбье.
Шенье, погибший в 1794 г., был предметом почитания со стороны романтиков, и как раз в 30-х годах его поэзия была явлением очень актуальным. Лермонтов дает под знаком его поэзии целое стихотворение, которое, несмотря на свое заглавие («Из Шенье»), не есть перевод. Тем знаменательнее намерение поэта подчеркнуть связь с его наследием. Важно при этом, что Лермонтов обращается здесь к последней, предсмертной части его наследия, тогда как в романтическую поэзию, современную Лермонтову, Шенье вошел главным образом как поэт античной темы, по-новому истолковавший целый ряд мифологических и бытовых мотивов и образов древнего мира, преодолевший связанную с ними в XVIII в. условность. Некоторый отклик на эротические мотивы поэзии Шенье был найден в стихотворении «Склонись ко мне, красавец молодой»,
- 197 -
возводившемся к стихотворению Ротчева «Песня вакханки» («Галатея» 1829, ч. I, № 4), которое, в свою очередь, является сокращенным переводом стихотворения «Lydé» французского поэта59. Но и здесь разница огромна. У Шенье — тема счастливой, гармонической любви нимфы к прекрасному юноше, которого она учит любить. У Лермонтова прекрасного робкого юношу бескорыстно любит проститутка. Тема усложнена и психологически и социально, и к тому же нет никаких признаков душевного благополучия, господствующего в подлиннике, и идиллической античной декорации. Таким образом, если предположить здесь заимствование из Шенье, неизбежно будет признать почти-что полемическое отношение к его стихам, приводящее к замене идиллии психологической драмой. Стихотворение же, которое озаглавлено «Из Андрея Шенье» («За дело общее, быть может, я паду»), свидетельствует о том, что Лермонтов останавливается на мрачных, трагических мотивах последних, тюремных стихов поэта, что тема любви воспринимается им в сочетании с темой близкой гибели, трагического конца, причем образ лирического «я» несколько усложняется, подается в байроновском плане («Я много сделал зла, но больше перенес. / Пускай виновен я пред гордыми врагами»), а конкретность обстановки, стоящая за предсмертными «Ямбами» французского поэта, заменяется нарочито неопределенной картиной положения героя и ждущей его участи, лирический пафос Шенье — пафосом ораторским.
Интересом Лермонтова к наиболее трагическим мотивам поэзии Шенье, к последнему ее периоду, могут аргументироваться параллели между стихотворениями «Сосед» (1837) и «Соседка» (1840), с одной стороны, и тюремным циклом Шенье, а также русской его традицией (Жуковский, Козлов) — с другой60. «Сосед» и «Соседка» — стихотворения зрелого периода в творчестве Лермонтова, и их лирический герой несравненно проще и человечнее байронического образа в стихотворении «Из Андрея Шенье». Но это само по себе еще не может служить доказательством связи их с предсмертной лирикой Шенье, а черты сюжетного сходства (образ поющего товарища по заключению в «Соседе») не сопровождаются таким совпадением конкретных образных деталей и словесных средств, какое требовало бы гипотезы непосредственного заимствования. К тому же и общая эмоциональная окраска значительно разнится: у Лермонтова в «Соседе» нет той полной безнадежности, которая отличает положение героя-поэта у Шенье, нет сознания неизбежной обреченности, а мотив возможного бегства в «Соседке» даже прямо противоположен ему, поскольку он вносит оптимистический оттенок. Таким образом, и здесь совпадение одних признаков почти полностью нейтрализуется расхождением других.
Соприкосновение Лермонтова с поэзией Барбье зафиксировано эпиграфом из этого поэта к стихотворению «Не верь себе»:
Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d’emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?Содержание лермонтовского стихотворения безусловно перекликается с этим эпиграфом как отдельно взятым целым: оно является осуждением лирики чувств и утверждением невозможности адэкватной передачи переживаний поэта, который все равно не будет понят, все равно не будет оценен другими. Но эпиграф из Барбье как отдельная цитата, да еще связанная с лермонтовским стихотворением, может дать совершенно
- 198 -
ложное представление об оригинале, из контекста которого оно вырвано (притом с изменением одного слова, которое, однако, играет безусловную смысловую роль: в оригинале данное место начинается словами «que me font»). Барбье говорит о том, что будет писать вопреки общественному мнению и вопреки торговцам поэзией, которым он противопоставляет себя. Все стихотворение («Пролог» к книге «Ямбы») является защитой своего права на обличительное творчество, на грубость и откровенность. Показателен конец:
Or donc, je puis braver le regard pudibond:
Mon vers rude et grossier est honnête homme au fond.Общественно-обличительный характер и оптимистическая энергия Барбье нисколько не похожи на индивидуализм и общественный пессимизм Лермонтова в стихотворении «Не верь себе...». А между тем известные параллели между поэзией Лермонтова последних лет и стихами Барбье возможны. Отрицательно-критический взгляд Лермонтова на современную ему русскую действительность, протест против нее, сочетание пафоса с более простым, чем раньше, словарем и фразеологией, — все это является некоторым соответствием самому жанру Барбье — гражданской обличительной лирике, главным представителем которой он и был во Франции первой половины XIX в., его общественному негодованию, его патетической грубости. О читательском интересе к нему Лермонтова есть свидетельства современников61. В «Поэте», равно как и в том же стихотворении «Не верь себе...», отмечались отзвуки одного места из стихотворения «Melpomène» (мотив падения искусства и увлечения поэтов наживой), а в «Думе» — отзвуки стихотворения «Le Campo Vaccino» (суровый приговор своему поколению, слабому и бесславному)62. Какова степень совпадения в отдельных словах и образах, могут показать следующие два примера:
Avons-nous en dégoût pris toute gloire humaine
Et vivant pour nous seuls, sans amour et sans haine,
N’aspirons nous qu’au jour où le froid du tombeau
Comme un vieux parchemin nous rougira la peau?(«Le Campo Vaccino»).
И ненавидим мы и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь горит в крови...
И к гробу мы спешим без счастья и без славы...(«Дума»).
Non, le gain les excite et l’argent les enfièvre,
L’argent leur clôt les yeux et leur salit la lèvre,
L’argent, l’argent fatal...
...De l’art, de l’art divin, ce bel enfant des cieux,
Créé pour enseigner la parole des Dieux,
Ils ont fait sur la terre un affreux cul-de-jatte...(«Melpomène»).
В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.(«Поэт»).
- 199 -
ОБЛОЖКА НЕМЕЦКОГО ПЕРЕВОДА
„ДЕМОНА“ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
ПОЛУЭКТОВА, БЕРЛИН, 1921 г.
Государственная библиотека СССР
им. Ленина, МоскваСовпадают, в сущности, лишь отдельные слова или даже одни только понятия (при различии в словах), напр., понятие божественности искусства или власти денег, особенно во втором примере. Образы и сравнения у каждого из поэтов — свои. Соответствие может казаться убедительным лишь в пределах малого отрезка текста, но, будучи рассматриваемо в связи с более обширной группой стихов, оно совершенно исчезает и расплывается в контексте. И это при всем том, что общая система данных стихотворений Лермонтова близка к Барбье как по своей направленности, так и по эмоциональному тону и по стилистической окраске. Совпадение в отдельных словах и понятиях становится следствием одинаковости жанра и темы, — одинаковости, объяснение которой лежит в характере самих явлений социальной действительности, вызывающей отклик со стороны обоих поэтов.
Таким образом, даже в отношении тех двух французских поэтов, на которых Лермонтов открыто ссылается, не приходится говорить о сколько-нибудь тесной и решающей связи с его собственным творчеством. Но примечательно другое. Предполагаемые источники поэзии Лермонтова, в той мере, в какой они отражают его вкусы и интересы, сочетаются в отдельные группы, не случайные с точки зрения исторического развития той литературы, которой они принадлежат. Подобно тому, как вокруг Байрона для Лермонтова группируется ряд английских и вообще европейских поэтов (Мур, Кольридж, Шатобриан, Гейне), его предшественников, соратников и преемников, так и в данном случае между Шенье и Барбье есть известная генетическая связь: недаром на «Ямбы» Шенье ссылался Барбье в коротком прозаическом предисловии к своим «Ямбам». Шенье и Барбье в поэзии Лермонтова представлены двумя очень малыми отрезками, но здесь это — два отрезка одной и той же линии.
- 200 -
6
Внимательный разбор случаев совпадения между Лермонтовым и западно-европейскими поэтами в большом числе примеров приводит или к отрицательному решению вопроса о наличии прямой связи и заимствования или же к невозможности дать определенный ответ. Это особенно касается сближений с авторами французскими, но распространяется и на часть примеров связи с немецкой и даже английской поэзией, приводившихся в разных исследованиях.
Истории западно-европейских «влияний» на Лермонтова в их смене и эволюции должна была бы быть предпослана история исследования этих «влияний», история постепенного открытия одного источника за другим и критический разбор каждого из новых указаний. Это критическое изучение истории вопроса о «влияниях» на Лермонтова могло бы дать важные результаты не с точки зрения творческой истории самих произведений или психологии творчества поэта, а главным образом с точки зрения психологии исследования, и могло бы уберечь других литературоведов от дальнейших ошибок.
Возможность открыть то или иное заимствование, совпадение и т. п. определяется кругом материала, который не только знаком исследователю вообще, но и привлекает его внимание, специально занимает его; она определяется как направлением поисков, так и содержанием памяти историка литературы, который, читая «заимствующего» автора, держит в уме определенные цитаты из писателей иноязычных или, читая авторов, «влиявших» на него, вспоминает те или иные моменты в его творчестве. Богатый запас памяти помог целому ряду исследователей сделать ценные открытия, найти действительные источники произведений Лермонтова, отыскать оригиналы переводов и подражаний, словом, установить бесспорные факты. Но односторонность направления, которое иногда принимали эти поиски, и предвзятая мысль о подражательности творчества Лермонтова в целом (и в раннем его творчестве в особенности) приводили к совершенно неосновательным сближениям. Иллюстрацией могут служить приведенные выше примеры из работ С. В. Шувалова (о «влиянии» Гейне) и Э. Дюшена (о «влиянии» Шатобриана на картины грузинской природы в «Демоне»).
К такой же категории относится сделанное В. Д. Спасовичем63 замечание о заимствовании из Мицкевича в стихотворении «Письмо» (1829). В теме стихотворения нет ничего столь исключительного, что требовало бы объяснения фактом «влияния». Перед нами — одна из частых в любовной лирике тем. Сходство ограничивается обращением поэта к отсутствующей возлюбленной и мыслями о том, что она будет при различных обстоятельствах вспоминать его. Все остальное — очень не похоже. У Мицкевича возлюбленная прогнала поэта, сказала, что изгоняет его из сердца и из памяти, и поэт грозит возлюбленной, что она не в силах будет забыть его, что она против воли будет думать о нем. У Лермонтова — прощальное предсмертное письмо к любимой и любящей поэта женщине, которая будет вспоминать его и тогда, когда он умрет. Самые образы, которые соединяются с «нею», у Лермонтова и Мицкевича — разные. Различна и композиция: у Мицкевича — ряд строф, в каждой из которых он ставит свою героиню в разную обстановку, показывает ее за различными занятиями и каждая из которых заканчивается тем, что героиня вспоминает о поэте. У Лермонтова этого тоже нет. Сходство сводится
- 201 -
к общему месту — к теме воспоминания, поданной к тому же совершенно по-разному. Ранние стихи Лермонтова во многом были несамостоятельны, во многом непосредственно, вплоть до заимствования целых больших кусков текста, были связаны с творчеством предшественников, но предвзятая мысль о том, что Лермонтов всегда и всюду подвергался «влияниям», и пристрастие к польской литературе привели Спасовича к открытию более чем сомнительного источника.
К числу неубедительных относится и указание на связь с Шиллером (с «Дон Карлосом») в юношеской поэме «Преступник»64 и с ним же — в поэме «Два брата» (сходство с «Мессинской невестой» и «Разбойниками»)65. Совпадение ограничивается, однако, лишь тем, что в первом случае проходит мотив любви пасынка и мачехи и вражды сына с отцом, а во втором — мотив враждующих братьев. Других соответствий — в сюжете, характерах, образах — не видно. По поводу первого из этих сопоставлений критически высказался Шувалов, сам в других случаях проводящий сомнительные параллели, основанные лишь на тождестве самых общих признаков. Подобно тому, как он сближает мотивы природы и ее влияние на душу поэта у Лермонтова и у Гейне, он сближает общую эмоциональную окраску и мотивы природы у Лермонтова и у Макферсона: «Чтение Лермонтовым „Песен Оссиана“ может быть сказалось в его неоконченной поэме „Олег“ (1832) — на ее общем колорите, мрачном и торжественном. Кроме того Лермонтов в своих стихотворениях первых лет нередко говорит о тучах, луне, осенней природе, а это может указывать, между прочим, на Макферсона, предпочтительно останавливавшего свое внимание на этих предметах»66.
Параллели такого типа обесценивает их неопределенность, а также и то, что сопоставляемые признаки могут быть приурочены к самым различным литературным произведениям. Надо, впрочем, сказать, что в истории работ о «влияниях», испытанных Лермонтовым, подобные сопоставления занимают не самое видное место. Самую многочисленную категорию составляют указания на более или менее реальное сходство, на совпадения в конкретных и принципиально важных признаках, специфических для того или иного памятника западно-европейской литературы.
Такой случай представляет, напр., баллада «Гость» (1830—1831), основной мотив которой — возвращение мертвеца, увлекающего героиню за собой в могилу, — совпадает с аналогичным мотивом в бюргеровской «Леноре», прекрасно известной в России благодаря Жуковскому67. Совпадение это подкрепляется соответствием существенных моментов фабулы (клятва в верности, которую любящие давали друг другу перед разлукой; гибель героя на войне). Некоторое соответствие представляет и стих — чередующиеся четырех- и трехстопные ямбы (у Бюргера, правда, с мужскими и женскими рифмами, у Лермонтова же только с мужскими). И несмотря на то, что другой основной признак фабулы — причина, по которой героиня потерпела наказание и погибла, — представляет существенное отличие (у Бюргера — ее богохульство и «богоборчество», у Лермонтова — измена клятве и брак с другим), все же с полным правом можно предполагать здесь развитие и переработку фабулы именно Бюргера (или Жуковского), тем более, что баллада пользовалась популярностью и мотивы ее были специфически характерны для Бюргера, который, в сущности, только этим своим произведением и вошел в русскую поэзию. Возможности
- 202 -
заимствования нисколько не противоречит то обстоятельство, что совершенно видоизменен идейный смысл баллады в связи с мотивировкой кары героини; что вместо столкновения двух начал — человеческого протеста против несправедливости небес и жестокой, карающей силы божества — появляются чисто земные отношения и земные страсти (обманутый жених даже мертвый сам мстит за себя). Эта разница в ходе фабулы даже скорее подтверждает факт заимствования, поскольку она представляет полную аналогию с тем, что Лермонтов делает не только в вольных «подражаниях», но даже и в переводах как таковых. Метод здесь тот же и, кроме того, такая же, как во многих переводах и подражаниях, связь с биографией, с событиями душевной жизни поэта данного периода, с материалом его собственной жизни. По отношению к тому конкретному психологическому содержанию, которое Лермонтов вкладывает в образы своей баллады «Гость», «Ленора» Бюргера или «Людмила» Жуковского, даже если имеет место заимствование, представляют собой лишь источник, предопределяющий, правда, известные эмоциональные признаки и даже кое-какие формальные черты, но важный прежде всего для фабулы.
Целый клубок «влияний» и заимствований отмечался в юношеской драме Лермонтова «Испанцы», причем с полной конкретностью указывались моменты, напоминающие что-либо из области западно-европейской литературы68. На счет Вальтер-Скотта как автора «Айвенго» и на счет Лессинга как автора «Натана Мудрого» относили все, связанное в этой драме с семейством Моисея, на счет того же Лессинга как автора «Эмилии Галотти» — гибель героини от руки Фернандо, который убивает ее, чтобы спасти от позора; на счет Шиллера как автора «Коварства и любви» и «Дон Карлоса» — конфликт между Алварецом и Фернандо, отдельные эпизоды этого конфликта (как, напр., отказ Фернандо подчиниться властям, когда его берут под стражу); на счет Виктора Гюго как автора «Эрнани» — сцену с портретами предков, переодевание Фернандо, приходящего в дом к своему врагу Соррини, даже жест Фернандо, бросающего кинжал в землю, как это делает Эрнани. Влиянием части этих источников объяснялись и место и время действия трагедии — Испания эпохи инквизиции. Отмечались также отдельные реминисценции из Шекспира и Байрона. В комментарии изд. «Academia» (IV, 481) драма охарактеризована как «драматизация тогдашнего круга чтения Лермонтова. Здесь он проявил себя как активный читатель Шиллера, Лессинга, Вальтера Скотта, Шекспира, отчасти Гюго и Байрона». Множественность источников (имеющая здесь, правда, несколько необычный характер) заставляет вспомнить о некоторых случаях из переводов и переделок Лермонтова, где он контаминирует два иностранных стихотворения в одном, сочетая образы и целые отрезки текста, взятые из разных мест.
Среди указаний на источники «Испанцев» не все одинаково убедительны, особенно те, которые относятся к совпадению небольших конкретных деталей (напр., момент, когда Фернандо бросает кинжал, или его появление у Соррини), поскольку в них самих нет ничего столь специфически неповторимого, что исключало бы мысль о возможности самостоятельного их возникновения. Как бы то ни было, при всем обилии заимствований в «Испанцах», к тому же заимствований из разных источников, при всей наивности в обрисовке персонажей, сказывающейся в чрезвычайно откровенных и обнаженных самохарактеристиках их, все же и этот ранний
- 203 -
драматургический опыт Лермонтова говорит об использовании разнообразного литературного материала не столько как примера или образца для подражания, сколько как источника для отдельных сюжетных положений, получающих единое эмоционально-психологическое и стилистическое освещение. Любопытно при этом, что фабула не только в целом, но даже и на сколько-нибудь значительном отрезке действия не совпадает с фабулой указанных источников, за исключением разве что «Натана Мудрого». Но драме Лессинга с ее строгой уравновешенностью, спокойствием и даже медлительностью в речеведении и в развитии действия отнюдь не соответствуют общая напряженность и страстность лермонтовской драмы, благополучному разрешению конфликта в «Натане» и оптимизму его идейной основы нет никакой параллели в мелодраматическом трагизме «Испанцев» и в глубоко пессимистическом тоне речей их положительных персонажей. Общий тон речи и элементы социального протеста в высказываниях Фернандо, а также и сюжетные принципы, обусловливающие соотношение действующих лиц, во многом близки к Шиллеру. При этом очень важно, что близость к Шиллеру определяется общепринципиальными особенностями и не выражается какими-либо бесспорными конкретными совпадениями частных моментов фабулы. Чем важнее Лермонтову принципиальная сторона в творчестве западно-европейского писателя, тем меньше наблюдается частных фабульных совпадений, и произведения его перестают быть источником для фактических заимствований.
ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ НЕМЕЦКОГО ПЕРЕВОДА „ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“
С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ В. МАСЮТИНА, МЮНХЕН, 1922 г.
Собрание П. Эттингера, Москва- 204 -
Выше мы имели случай проследить это на примере «Ночей» в сопоставлении их с «The Dream» и «Darkness».
Соприкосновения Лермонтова с Виктором Гюго представляют пример, с одной стороны, совпадения отдельных образных деталей (описание коня в «Ауле Бастунджи»69, 1831, мотивы, связанные с образом реки в «Дарах Терека», возводимых к «Разгневанному Дунаю» из «Orientales»70), с другой же — совпадения в общем колорите, одинаковых принципах разработки восточной темы (в «Трех пальмах» — стихотворении, для которого даже не указывается определенных параллелей в поэзии Гюго71) и выборе героя с одинаковыми признаками, как психологическими, так и относящимися к наружности (Вадим, обусловливаемый образом Квазимодо из «Собора Парижской богоматери»72). Некоторые из этих совпадений имеют, повидимому, неслучайный характер: 1) поскольку Гюго в продолжение 30-х годов является одной из самых заметных фигур литературного Запада, 2) поскольку в области восточной тематики, играющей такую большую роль у Лермонтова, «Orientales» были одной из определяющих книг, задавали тон в этом направлении и 3) поскольку образ трагического героя с уродливой внешностью тоже был специфичен для поэтики Гюго. Не будучи документально доказаны, замечания об этих соответствиях имеют характер вполне правдоподобный.
На последние годы жизни Лермонтова приходится меньше таких произведений (если не считать «Мцыри» и последней редакции «Демона»), которые вызывали бы указания на их конкретную связь с тем или иным иностранным образцом. К числу их относятся, между прочим, «Казачья колыбельная песня», в которой еще современник Лермонтова Шевырев увидел отзвуки стихотворения Вальтер-Скотта «Lullaby of an Infant Chief» («Колыбельная ребенку вождя»)73, и «Любовь мертвеца», подавшая повод к сопоставлению с «Le mort amoureux»74 Альфонса Kappa. Как и в прочих подобных случаях, черты сходства, тематического и композиционного, сопровождаются расхождениями: «Казачью колыбельную песню» от «Lullaby» Вальтер-Скотта отличают прежде всего особенности местного колорита, связанные с обстановкой этого стихотворения, а «Любовь мертвеца» от «Le mort amoureux» — разница в душевном облике героя лирического «я», в его переживаниях по отношению к любимой, оставшейся в живых: у Kappa он молится за земное счастье любимой, у Лермонтова же — ревнует и угрожает ей, и в этом смысле «Любовь мертвеца» как бы продолжает развитие того же мотива, который представлен, напр., в «Госте» и в целом ряде других вещей.
Вполне правдоподобный характер имеет замечание о связи между французским стихотворением Лермонтова «L’Attente» («Je l’attends dans la plaine sombre») 1840 г. и стихотворением Шиллера с тем же заглавием «Ожидание» («Erwartung»)75. Стихотворение Лермонтова гораздо короче предполагаемого немецкого прототипа (18 стихов вместо 64), декорация, служащая фоном для нетерпеливого ожидания, в них различна, и соответственно различны образы, различна строфика (у Шиллера — октавы, чередующиеся с четверостишиями, первая половина которых состоит из трехстопных дактилей, а вторая — из четырехстопных хореев, у Лермонтова же — три строфы по шесть стихов). Общим является совершенно одинаковый ход развития основного мотива: ожидание сперва оказывается несколько раз обманутым, влюбленный засыпает; от сна он пробужден поцелуями любимой, неожиданно приблизившейся к нему. Параллелизм
- 205 -
отчетливо наблюдается в моментах перехода от напряженного ожидания к сознанию того, что признаки приближения любимой были обманчивы.
Ср. напр.:
Hör’ ich nicht Schritte erschallen?
Rauscht’s nicht der Laubgang daher?
Nein, die Frucht ist dort gefallen,
Von der eignen Fülle schwer.Je crois entendre sur la route
Le son qu’un pas léger produit...
Non, ce n’est rien! c’est dans la mousse
Le bruit d’une feuille que pousse
Le vent parfumé de la nuit.Параллельны и окончания обоих стихотворений:
So war sie genaht ungesehen,
Und weckte mit Küssen den Freund...Tout à coup, tremblant, je m’éveille:
Sa voix me parlait à l’oreille,
Sa bouche me baisait au front...Впрочем, сам Лермонтов в письме к С. Н. Карамзиной, отсылая ей это стихотворение, находил, что оно «в жанре Парни» (V, 410). Опять, как видим, при сходстве с одним источником — указание (и притом указание самого автора) в совершенно другом направлении.
Основываясь на разобранных или вкратце упомянутых примерах более или менее значительного соответствия или параллелизма между стихами Лермонтова и произведениями западно-европейской литературы, — примерах, число которых легко было бы умножить еще целым рядом других, вполне аналогичных, можно притти к одному бесспорному выводу: при действительном совпадении вполне конкретных тематических, а порой и композиционных признаков в данных случаях нет все же возможности считать заимствование доказанным и говорить о прямой зависимости Лермонтова как автора той или иной вещи от определенного западно-европейского источника. Замечательно то, что при совпадении темы или мотива или даже отдельных композиционных моментов не происходит сколько-нибудь существенного совпадения в общих стилистических принципах. Примеры, рассмотренные выше, относятся к разным годам и к разным периодам деятельности Лермонтова; на последние годы, на период творческой зрелости, как было уже отмечено, их приходится меньше, но характер соотношения между собственно лермонтовским и заимствованным (или тем, что считается заимствованным, «навеянным») эволюционирует очень мало.
Итак, бесспорное решение вопроса о том, что мы имеем во всех этих и подобных им примерах — заимствование или совпадение, невозможно. Однако вопрос этот, важный, может быть, с точки зрения психологии творчества Лермонтова, в историко-литературной плоскости не столь существенен. Гораздо важнее другое: какова историческая значимость всех этих параллелей и конкретных соответствий и что они доказывают — независимо от того, являются ли они совпадением или заимствованием? А этот вопрос может быть разрешен, если мы обратимся к материалу, свидетельствующему о тех западно-европейских связях творчества Лермонтова, которые могут считаться твердо установленными. Имею в виду его связи с Шиллером как драматургом и с Байроном как лириком, драматургом и автором поэм.
- 206 -
Сводка отмечавшихся когда-либо случаев заимствования, следов «влияния», совпадений и т. п. сама по себе не может дать картины эволюции лермонтовского творчества в его отношении к литературному Западу. Эта картина предполагает выделение самого основного в области западно-европейских литературных интересов Лермонтова и учет общего движения его творчества в его связях с современной русской литературой.
7
Лермонтов, чьи первые поэтические опыты, дошедшие до нас, относятся к 1828 г., начинал свою литературную деятельность в совсем иных литературных условиях, чем Пушкин и поэты его поколения. Разница была, между прочим, и в характере интереса к западной литературе, в характере тех ее явлений, которые тогда и теперь привлекали внимание русского читателя и писателя, в системе взглядов на эту литературу.
Прекрасно зная французский язык и, очевидно, французскую литературу в том виде, как она входила в систему школьного или домашнего образования, т. е. с литературой доромантической, Лермонтов очень рано усваивает скептическое отношение к ней. Это не случайно, если вспомнить, что для конца 20-х годов немецкая и английская литературы представляют явление огромной важности и новизны и привлекают к себе большое внимание. В 1829 г. Лермонтов переводит Шиллера, Гёте, через Шиллера знакомится с «Макбетом». К 1830 г. относятся «Испанцы», с их сложным сочетанием предполагаемых и бесспорных воздействий извне (в их числе и воздействия Шиллера), и тем же годом датируется заметка, формулирующая его отрицательный взгляд на французскую литературу. К этому году Лермонтов, раньше уже знакомый с Байроном по переводам, изучил английский язык и может в подлиннике читать англичан, может с подлинника переводить их. В 1831 г. в письме к М. А. Шан-Гирей, восторженно отзываясь о «Гамлете», приводя по памяти довольно большие цитаты, он пренебрежительно говорит о французской переделке трагедии, принадлежащей Дюсису: «Вступаюсь за честь Шекспира... Начну с того, что имеете вы перевод не с Шекспира, а перевод перековерьканной пиесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменил ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен: эти переводы, к сожалению, играются у нас на театре».
Здесь — типичное отрицание «ложно-классической» эстетики драмы, представленной именно французскими писателями XVIII в., и отстаивание подлинного, неискаженного, неприукрашенного Шекспира, характерное для немецких драматургов и теоретиков драмы конца XVIII — начала XIX вв., для французских романтиков 1820—1830 гг. Лермонтов в приведенной цитате выступает убежденным противником французов XVIII в., противником их литературных принципов (слова о «приторном вкусе» французов и их «глупых правилах»).
Однако в области драматургии для Лермонтова решающее значение приобретает не Шекспир, реминисценции из которого и параллели с которым, указываемые комментаторами и исследователями, не идут дальше общих мест и универсальных тем и мотивов (вроде, напр., темы ревности и убийства невинной жены — темы, которая служит основанием для сближения «Маскарада» и «Отелло»76), а Шиллер. Если не зависимость от него, то связь с ним совершенно бесспорно обозначается во всех прозаических
- 207 -
драмах Лермонтова77. И если в «Испанцах» она несколько заслонена признаками сходства с очень обширным кругом литературных произведений, то здесь она становится особенно ясной.
От стиха, которым написаны «Испанцы», Лермонтов в «Menschen und Leidenschaften» переходит к прозе. Из прошлого он переносит действие драмы в настоящее, из Испании времен инквизиции — в современную ему Россию. Вместо героической трагедии с полуисторическим фоном он избирает жанр, близкий к жанру «мещанской драмы» (если и не вполне соответствующий буквальному значению этого термина). Однако, остановившись на прозаической форме и на современном сюжете, Лермонтов не отказался от того приподнятого, риторически условного языка, которым говорили его персонажи в «Испанцах» и который не мог согласоваться с бытовой обстановкой. Получился довольно резкий (и особенно сильно ощущаемый в наше время) разнобой между языком действующих лиц, приемами их характеристики, их поведением, с одной стороны, и предполагаемым реально-бытовым фоном — с другой. Лермонтову здесь не удалось избежать того, что было избегнуто Шиллером в аналогичном случае — в «Коварстве и любви», где тоже сочетаются элементы быта и патетического высокого стиля, но где они даны в иной пропорции, в ином масштабе, благодаря которому персонаж не теряет своей реальности, не превращается в условную фигуру.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ИТАЛЬЯНСКОГО ПЕРЕВОДА
„МЦЫРИ“, НЕАПОЛЬ, 1922 г.
Библиотека Московского
государственного университета,
МоскваИз драм Шиллера именно на «Коварство и любовь» указывали как на прототип «Menschen und Leidenschaften» — произведения, самое заглавие которого носит характер ссылки на некий иностранный источник и своей двучленностью (что тоже отмечалось) напоминает название шиллеровской
- 208 -
«мещанской драмы» или «Бури и натиска» Клингера. Принципы стиля (приподнятая, полная пафоса речь при прозаической форме) могут служить основанием для установления связи и с другой трагедией Шиллера — «Разбойниками», где элементы реального быта, правда, совершенно не ощущаются вследствие исключительности событий, образующих фабулу и совершенно выходящих за пределы обычного. Семейный конфликт, являющийся исходной точкой ранних драм Шиллера (борьба между двумя братьями в «Разбойниках», столкновение сына с отцом в «Коварстве и любви»), быстро перерастает в конфликт социальный, в конфликт между «положительным» молодым героем и несправедливостью, господствующей в обществе. Молодой герой становится носителем социального протеста и тем самым уже оказывается до некоторой степени вне рамок привычного, статического уклада жизни, являющегося фоном (особенно в «Коварстве и любви»). Стиль его речи, а равно и стиль персонажа-злодея (напр., Франца) и девушки, любимой героем, тоже оказывается вне рамок обыденного языка — в соответствии с необычностью положения этих действующих лиц как своего рода социальных символов. Таким образом, устанавливается известное равновесие между сюжетной ролью персонажа и стилем его речи, преувеличенный пафос которой получает мотивировку.
В драмах Лермонтова конфликт не выходит за семейные пределы, его герой в своем поведении и в своих речах гораздо неврастеничнее и пассивнее, чем герои Шиллера, но речь его насыщена таким же пафосом, как и речи шиллеровских героев (если не бо́льшим), уже вне соответствия с его ролью и масштабами событий. Протест его направлен против отношений, господствующих в его семейном кругу. Тема семейного раздора у Лермонтова теснейшим образом связана с фактами его собственной биографии, но тем не менее словесные средства в разработке этой темы явно указывают на литературную традицию, и прежде всего на традицию Шиллера. Точек соприкосновения с ним (и в смысле общестилистических особенностей, и в смысле отдельных сюжетных соответствий, и в смысле сходства некоторых ситуаций) в литературе о Лермонтове-драматурге указывается очень много как по поводу «Menschen und Leidenschaften», так и по поводу следующих двух прозаических драм — «Странный человек» и «Два брата».
Тот протест, который в речах лермонтовского героя направлен против жестокого отца или изменницы-возлюбленной или предателя-друга, выливается в форму патетических сентенций, придающих общее значение частному случаю. И когда Владимир Арбенин в «Странном человеке» после рассказа мужика о зверствах помещицы произносит свою тираду: «Люди! люди! — и до такой степени злодейства доходит женщина, творение иногда столь близкое к ангелу...» и т. д., то связь с шиллеровской традицией выражается здесь не только в сходстве с соответствующей тирадой Карла Моора в «Разбойниках» («Люди, люди! лицемерное порождение крокодилов...»), но и в тождестве эмоционально-стилистического принципа речевой характеристики, в подчеркнуто прямой подаче идейного содержания, носителем которого является герой. Общность принципа здесь важнее частных совпадений, которые, впрочем, в данном случае настолько многочисленны, что и сами по себе позволяют говорить о бесспорной генетической связи.
Нереально приподнятые тон и стиль в главных речевых партиях прозаических драм Лермонтова резко контрастировали с реалистической
- 209 -
трактовкой целого ряда действующих лиц и реалистическим характером целых сцен и эпизодов (особенно в «Странном человеке»). В результате главный герой (Юрий Волин в «Menschen und Leidenschaften», Владимир Арбенин в «Странном человеке», Александр в «Двух братьях») и часть моментов в речах и поведении «злодеев» оказывались вне бытового фона драмы, нарушая всякое единство внутри нее.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
НЕМЕЦКОГО ПЕРЕВОДА „ИЗМАИЛ-БЕЯ“,
ВЕНА — ЛЕЙПЦИГ, 1923 г.
Собрание П. Эттингера, Москва«Странный человек» по сравнению с «Menschen und Leidenschaften» содержит гораздо больше реалистических черт, жизненно правдоподобных реплик, эпизодических сцен и деталей. «Два брата», датируемые 1836 г., т. е. являющиеся произведением более поздним, чем «Странный человек» и даже «Маскарад», возвращают нас, в сущности, к исходным пунктам лермонтовской драматургии — к шиллеровскому прозаическому стилю и к типично шиллеровской расстановке персонажей (напоминающей «Разбойников»). Хронология здесь противоречит внутренней логике развития Лермонтова, и хотя датировка «Двух братьев» 1836 г. установлена на основании письма Лермонтова78, все же трудно представить себе, что после «Маскарада», где в условиях стихотворной формы драматургу удалось добиться несравненно большего равновесия между трагическим героем и его окружением и фоном, известного единства в характеристиках и поведении персонажей, он мог вернуться к совершенно примитивному восприятию раннего Шиллера. Правда, драма, о которой упоминается в письме, не названа по заглавию, а самое письмо не содержит даты, но датируется оно в связи с упоминанием в нем «Арбенина» — второй редакции «Маскарада», представленной в цензуру и внушавшей Лермонтову опасения за ее судьбу. И если не допустить предположения, что неназванная драма, о IV акте которой Лермонтов сообщает в этом письме, просто не дошла до нас, потерялась, то для более ранней датировки «Двух братьев» не остается ни малейшего основания.
- 210 -
Роль Шиллера для Лермонтова-драматурга относится к порядку тех явлений, которые можно назвать влиянием в полном смысле слова, без кавычек. Из наследия Шиллера для Лермонтова имеет значение сравнительно узкий круг произведений: две ранние прозаические драмы («Разбойники», «Коварство и любовь»), отчасти стихотворный «Дон Карлос» и драма позднего периода «Мессинская невеста», содержащая мотив враждующих братьев. Вся драматургия зрелого Шиллера (т. е. такие произведения, как «Мария Стюарт», «Орлеанская дева», «Валленштейн», «Вильгельм Телль») не находит ни единого отклика, ни единой аналогии в драмах Лермонтова. Значение для Лермонтова имеет, таким образом, почти исключительно бунтарский период в творчестве Шиллера, только те его произведения, которые выражают определенный социальный протест, протест молодого поколения буржуазной интеллигенции против устарелых общественных норм, причем носителями этого протеста немецкий драматург делает персонажей из среды феодально-аристократической (Карл Моор или Фердинанд). Четыре драмы («Испанцы», «Menschen und Leidenschaften», «Странный человек», «Два брата»), хранящие на себе следы бесспорного влияния Шиллера, возникшие под его воздействием, принадлежат к той части наследия Лермонтова, которая представляет главным образом историко-литературный интерес. Лермонтов выступает в них еще далеко не тем зрелым художником, умеющим достигать внутренней цельности, единства и равновесия, психологического правдоподобия, каким он проявляет себя в лирике тех же лет и в некоторых хронологически соответствующих поэмах. Таким образом, оказывается, что влияние Шиллера дает себя знать в вещах, еще не имеющих самостоятельной художественной ценности, в вещах, которые сами по себе не могли бы создать автору его всенародной славы и не отмечены еще печатью зрелости. Художественные принципы Шиллера имели для Лермонтова, так сказать, лабораторное значение: применяя их, он еще не приходил к каким-либо окончательным результатам. Эта линия развития в драматургии привела Лермонтова к тупику; после 1836 г. (т. е. после «Двух братьев») он к жанру драмы вообще и к принципам Шиллера уже не возвращается. На путях перехода от романтизма, с его условностями и преувеличениями в характеристиках и элементах фабулы, к методам реалистического изображения жизни, сказывающимся в «Герое нашего времени», шиллеровское начало (по крайней мере в той форме, в какой Лермонтов его воспринимал) утрачивает для него творческий смысл. Положительная же роль, которую сыграли в развитии Лермонтова драмы Шиллера, выражается в том, что их идейное содержание дало ему новые опорные точки для более четкой и более острой постановки идейно-философских проблем, всегда занимающих его, возникающих и в драмах и отсюда переходящих в другие его жанры, где они получают более полноценное художественное разрешение. Проблемы эти — проблемы героя в его соотношении с обществом, средой, проблема вины, проблема протеста против судьбы, против условий, предопределяющих течение жизни героев, проблема сомнения в справедливости мирового порядка. Рассуждения Юрия Волина в «Menschen und Leidenschaften», Владимира Арбенина в «Странном человеке», Александра Радина в «Двух братьях» представляют собой подробную прозаическую разработку (как бы «в сыром виде») тех мыслей, а отчасти тех мотивов и образов, какие проходят в хронологически параллельных и более поздних произведениях лирики Лермонтова и его поэмах. Влияние Шиллера
- 211 -
на Лермонтова приходится оценивать не по художественному значению тех драм, на которых оно сказалось непосредственно, а роль этих драм — не по особенностям их как самостоятельных произведений: драмы эти (в частности в той мере, в какой они связаны с Шиллером) важны и ценны в литературном развитии Лермонтова как своеобразная лаборатория мысли и философской темы, питающей и другие жанры творчества поэта.
Интерес Лермонтова к Шиллеру, начавший активно проявляться в 1829 г., по времени своего возникновения предшествует началу увлечения Байроном, но затем совмещается с интересом его к английскому поэту. Роль Байрона для Лермонтова в еще большей степени, чем роль для него Шиллера, соответствует понятию влияния в прямом смысле. Неоднократные упоминания Лермонтовым — и в стихах и в прозаических заметках — имени этого поэта, свидетельствующие о восторженном отношении к нему, о пристальном внимании ко всему его творчеству, много раз отмечавшиеся и достаточно бесспорные следы отражения в лирике и поэмах Лермонтова как круга идей и тем, так и общих формальных принципов и отдельных частных образов и сюжетных положений Байрона, самое обилие этих следов — все это говорит об очень тесной и глубокой связи. Не случайно и в критике и в истории литературы скоро и прочно установился взгляд, приписавший влиянию Байрона целый ряд особенностей поэзии Лермонтова79. И с одним только Байроном его сближают такие формы «внутреннего сходства» (т. е. одинаковости общих принципов при отсутствии прямых словесных и предметно-логических совпадений), одна из которых анализирована была выше на примере «Ночи. I» и «Ночи. II».
ОБЛОЖКА ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕВОДА
„ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“,
ПАРИЖ, 1926 г.
Собрание П. Эттингера, МоскваПо сравнению с большинством других западно-европейских писателей, относимых к числу тех, кто так или иначе оказывал на него «влияние», Байрон для оригинального (т. е. непереводного) творчества Лермонтова
- 212 -
в гораздо меньшей степени играет роль сюжетно-фактического источника и важен для него принципиальными особенностями своей поэтической системы — идейными и композиционно-стилистическими. Среди произведений Лермонтова есть известное число таких, которые перекликаются не с каким-либо определенным произведением Байрона, а со всей его манерой вообще или хотя бы с целой жанровой группой в его творчестве. Такова, напр., поэма «Джюлио», таково стихотворение «1831-го июня 11 дня». Поскольку речь здесь может итти не о каких-нибудь конкретных частных совпадениях, постольку естественно, что некоторые вещи из этого разряда даже и не комментировались с точки зрения их связи с Байроном.
Доказывать самый факт этой связи не требуется. Задача, встающая сейчас перед исследователем творчества Лермонтова, — это определить значение этой связи для его деятельности, с одной стороны, и ее обусловленность современной поэту исторической обстановкой — с другой.
Раннее творчество Лермонтова достаточно тесно примыкает к творчеству его ближайших русских предшественников, но именно примыкает к нему, а не определяется им. Это примыкание выражается прежде всего в использовании целых готовых отрезков текста. И если поэзия раннего Лермонтова в этом смысле еще как будто непосредственно вытекает из деятельности поэтов первых трех десятилетий XIX в., а отчасти даже и второй половины XVIII в., если в этом смысле она как будто имеет чисто книжное, литературное происхождение, то даже и в этот ранний период в ней уже присутствуют все элементы, которыми вскоре обусловливается ее резкий поворот в сторону, противоположную ее традициям. Несомненно, что среди русских традиций раннего Лермонтова главное место занимает традиция байронической поэмы (1820-х годов) — весьма значительного и наиболее близкого к нему по времени явления русской поэзии. Такие поэмы Лермонтова, как «Кавказский пленник», «Корсар» (1828), «Преступник», «Два брата» (1829), доказывают это. Связаны они не столько с самим Байроном, сколько с русским и общеевропейским восприятием Байрона 1810—1820 гг., с восприятием его как поэта мировой скорби, как создателя меланхолического героя, разочарованного, несчастного, страдающего и действующего на фоне более или менее экзотической декорации. Это был Байрон, осмысленный еще сквозь Ламартина и Шатобриана. К тому времени, когда Лермонтов делает первые опыты в эпическом жанре, т. е. к 1828—1829 гг., для Пушкина байроническая поэма, которую он первый и ввел в русскую литературу, была уже делом прошлого, пройденным этапом. К этому времени она уже была достоянием эпигонов-подражателей, отдельные же ее особенности и мотивы, и прежде всего образ героя, успели превратиться в штампы80. Герой этот утратил то идейное и социальное значение, которое было связано с ним у Байрона, — роль сильной личности, носителя протеста против окружающего общества, против мировой несправедливости. Подражатели и эпигоны Пушкина трактовали его в плане, еще близком к сентиментальной поэзии начала века, а словесный стиль этой трактовки был совершенно далек от энергии стиля Байрона, от его резкости и четкости, а порой и грубости.
Около 1830 г. в европейской литературе намечается новая стадия в судьбе наследия Байрона: интерес начинают привлекать те активные черты в облике героя, которые до сих пор оставались неоцененными, —
- 213 -
протест против социального уклада и против его идейных основ81. Эти черты получают развитие в деятельности молодого поколения французских романтиков, выступающего в 20-х — начале 30-х годов, в частности в драмах Гюго, Альфреда де Виньи, Дюма-отца, в драмах и поэмах А. де Мюссе, а также у Мицкевича. Новый трагический герой (вроде Эрнани или Дидье у В. Гюго, Чаттертона у Виньи, Антони у Дюма, Лорензаччо у Мюссе, Конрада Валленрода у Мицкевича) противостоит байроническому герою сентиментального типа именно как носитель социального протеста, как активный борец с несправедливостью, с угнетением и как представитель критической мысли современности. 1830 г. достаточно значителен в истории западно-европейского (главным образом французского) романтизма82, и то обстоятельство, что к 1830 г. относится соприкосновение Лермонтова с поэзией Байрона, показывает историческую закономерность в развитии творчества русского поэта и его связь с общеевропейским процессом развития литературы. Новые исторические условия, наметившиеся к 1830 г. изменения в социальной психологии и идеологии того поколения русской дворянской интеллигенции, к которому принадлежал Лермонтов, определяли отталкивание от традиции русской байронической поэмы 20-х годов, отказ от ее героя и требовали нового идейного содержания, а также обогащения тематики. И для Лермонтова подлинный Байрон явился лучшим средством борьбы с русской байронической традицией 20-х годов и вместе с тем — центром, вокруг которого располагаются теперь его интересы и сочувствия в области западно-европейской литературы. Если бы Лермонтов даже не ознакомился с подлинным Байроном, все же можно предполагать, что в силу общих литературных и общественных условий начала 30-х годов его поэтическая работа пошла бы по тому же руслу, но медленнее, поскольку Лермонтову пришлось бы проделывать работу, уже сделанную его предшественником. Знакомство Лермонтова с поэзией Байрона, имевшее следствием влияние английского поэта на русского, лишь ускорило для последнего процесс его самостоятельного идейного и художественного развития, ибо всякое влияние одной творческой системы на другую сводится в конечном результате к более быстрому прохождению тех отрезков собственного пути эволюции, которые в той или иной мере совпадают с уже пройденными этапами развития всемирной литературы.
Байрон, несомненно, заслонил для Лермонтова немецкую литературу, из деятелей которой его продолжает интересовать — и притом лишь как драматург — Шиллер. Но начиная с 1830 г., т. е. именно с той поры, когда он знакомится с Байроном, в творчестве Лермонтова появляются те отдельные особенности, которые позволяли исследователям находить параллели во французской новоромантической литературе. Связь лермонтовского байронизма с французской литературой ощущали и современники. Так, П. В. Анненков в своих воспоминаниях «Замечательное десятилетие» сообщает: «Нельзя сказать, чтобы Белинский не распознавал в Лермонтове отголоска французского байронизма, как этот выразился в литературе парижского переворота 1830 года и в произведениях „юной Франции“». (Разрядка моя. — А. Ф.)
Знакомство Лермонтова с французской литературой ограничивалось в его школьные годы, как о том позволяют судить выписки в его тетрадях, только доромантическим периодом, к которому, как выше было отмечено, он отнесся отрицательно. Предполагаемая связь Лермонтова с французским
- 214 -
романтизмом — явление безусловно параллельное его связи с поэзией Байрона. В 1830 г. пишутся «Испанцы», в которых были подмечены черты сходства с «Эрнани» Гюго, как раз в том же году поставленного на сцене; в 1831 г. — «Аул Бастунджи», где предполагаются отзвуки его «Восточных стихотворений»; в 1832 г. — «Вадим», напоминающий исследователям и комментаторам «Собор Парижской богоматери». Реминисценции из Гюго отмечались далее в «Боярине Орше», поэме 1835—1836 гг., где отдельные мотивы, связанные с трагическим героем — Арсением, напоминают все того же Эрнани, и в «Дарах Терека», 1839 г., дававших повод к сближению с «Разгневанным Дунаем» (из «Восточных стихотворений»). Сам Лермонтов ни одним упоминанием, ни одной записью, ни одним эпиграфом не отметил своего знакомства с Гюго, равно как и с другими его романтическими современниками — Виньи, Мюссе. Самые совпадения — выше на это указано тоже — не столь разительны, чтобы возникала необходимость объяснять их прямым заимствованием. Однако историко-литературное значение данных совпадений глубже: они, даже если в них не искать доказательств заимствования, должны говорить о том, что развитие творчества Лермонтова идет параллельно развитию западно-европейской литературы, живет теми же идейными и тематическими интересами и в известной степени черпает образы и мотивы из того же круга представлений, что и творчество его западных современников. В этом смысле характерно сходство в социальном и идейном облике героя и в его поведении у Гюго («Эрнани») и Лермонтова (Фернандо в «Испанцах»), сходство отдельных образов, связанных с восточной темой. Замечания, какие делались относительно совпадения отдельных деталей у Лермонтова в «Герое нашего времени», с одной стороны, и у Мюссе в «Исповеди сына века» или Альфреда де Виньи в «Рабстве и величии воина»83 — с другой, сами по себе не особенно убедительны, поскольку сопоставления основаны на самых общих признаках, но и они в своем роде закономерны, поскольку говорят все о том же факте внутреннего родства творчества Лермонтова с произведениями западно-европейскими. О том же говорят и разобранные выше факты связи между поэзией Лермонтова и Барбье. В некоторых произведениях Лермонтова, справедливо связываемых с Байроном, отмечались вместе с тем отзвуки таких авторов, как Вальтер-Скотт или Томас Мур или Мицкевич. Что касается первых двух, то есть свидетельство А. П. Шан-Гирея, ограничивающее все знакомство Лермонтова с новой английской литературой только Байроном и этими двумя его современниками84 (и данному свидетельству не противоречит факт перевода из Бёрнса или заимствования из Кольриджа, поскольку Лермонтов использовал фрагменты, взятые Байроном в качестве эпиграфов). Заимствование в «Измаил-бее» одного эпизода из «Дамы озера» Вальтер-Скотта85, или в «Испанцах» — отдельных положений из «Айвенго»86, или в «Вадиме» — общих приемов исторического романа этого автора87 вполне возможно, хотя и не может считаться доказанным. Связь с Муром в «Демоне» гораздо более бесспорна, поскольку воспроизведение и контаминация некоторых сюжетных звеньев из «Любви ангелов» здесь налицо88. Но независимо от того, имеется ли в данных случаях заимствование или совпадение, соответствие не является случайным, ибо говорит о поисках мотивов, сюжетных положений или декоративных моментов в том же направлении, в каком они развивались у английских романтических авторов первой трети века.
- 215 -
Что до Мицкевича, знакомство Лермонтова с которым является тоже несомненным (по крайней мере в последние годы), то совпадения между характером героя в «Измаил-бее» и «Конраде Валленроде» или сюжетные и декоративные соответствия между «Литвинкой» и «Гражиной»89 важны и интересны не столько как доказательство прямой связи, сколько как результат работы на одинаковом пути.
ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЧЕШСКОГО ПЕРЕВОДА „АШИК-КЕРИБА“,
ПРАГА, 1931 г.
Собрание П. Эттингера, МоскваС точки зрения относительной роли разных литературных источников очень показателен «Демон». Его ставят в непосредственную связь с трагедиями-мистериями Байрона «Каин» (из которого взят эпиграф ко второй его редакции) и «Небо и земля»90, с поэмой Мура «Любовь ангелов» и поэмой Альфреда де Виньи «Элоа»91; иногда в связи с темой «Демона» упоминается еще (в порядке указания общей традиции) «Потерянный рай» Мильтона92. Знакомство Лермонтова не только с трагедиями Байрона, не только с поэмой Мура, но и с поэмой Альфреда де Виньи сомнений не вызывает. Первый замысел-набросок «Демона» датируется 1829 г. и, видимо, независим еще от примера Байрона. По мере дальнейших переработок поэмы, складывавшихся в несколько редакций, первоначальный замысел видоизменяется и обрастает целым рядом эпизодов, мотивов, образов, позволяющих говорить о вполне конкретной связи с Байроном, Муром или Виньи. Существенно при этом, что наиболее конкретные соответствия «Демону» могут представить поэмы Мура (в отношении фабулы) и Виньи (с точки зрения как фабулы, так и некоторых словесных и образных совпадений), между тем как с Байроном могут быть связаны
- 216 -
лишь общий замысел (тема любви ангела к смертной) и общая концепция героя — демона. Последний стоит в ряду многочисленных аналогичных фигур — других демонических героев Лермонтова, проходящих через все его творчество.
Одной из главных тем Лермонтова с ранней поры является тема добра и зла в их противопоставлении, которым подчеркиваются их соотносительность и взаимозависимость. Наиболее четкую теоретическую формулировку эта мысль-тема получает в гл. VIII «Вадима»: «...что такое величайшее добро и зло? — два конца незримой цепи, которые сходятся удаляясь друг от друга». Самая диалектичность этой формулировки может навести на мысль о каком-либо чисто философском источнике творчества Лермонтова. Такой источник, однако, пока-что не найден, а тематика Байрона как в поэмах, так и в трагедиях-мистериях могла служить если не прямым идейным источником подобной формулировки, то своего рода отправным пунктом для дальнейших более категорических выводов. «Ночь. I», «Ночь. II» и «Смерть» представляют собой, в сущности, аналогичный вывод по отношению к «Darkness» и «The Dream». Мысль о неоправданности, беспричинности человеческих страданий, являющаяся не вполне формулированным лейтмотивом «Исповеди», монологов Арсения в «Боярине Орше» и, наконец, «Мцыри», требует, в качестве вывода (хотя бы и он тоже не был всюду формулирован), протеста против общественного гнета, против несправедливости мирового порядка. Этот протест еще более отчетливо, чем в «Ночах» и «Смерти», был выражен уже в «Азраиле» (1831): «...всесильный бог, / Ты знать про будущее мог, / Зачем же сотворил меня?».
Из всех мыслимых западно-европейских литературных источников наиболее близким Лермонтову по общей идейно-философской концепции придется признать именно философские трагедии Байрона. И значение Байрона для Лермонтова определяется не столько наличием каких-либо готовых концепций и формулировок, которые переходили бы от английского поэта к русскому, а теми импульсами идейного и эмоционального порядка, которые становились исходным моментом в самостоятельном развитии творческой мысли Лермонтова. Идейная смелость тех выводов из поэзии Байрона, которые сделал русский поэт, очень велика для его времени. Они в некоторой мере предвосхищают философскую тематику Достоевского и уж, конечно, несоизмеримы с тем скудным идейным багажом, какой заключала в себе предшествовавшая ранним опытам Лермонтова поэма Подолинского «Див и пери», относящаяся к тому же жанру полуфилософской поэмы, к которому относятся «Азраил», «Ангел смерти», «Демон», «Исповедь» и др.
Вопросу о байронизме Лермонтова посвящено довольно много историко-литературных работ, в которых и регистрируются случаи воздействия на него поэзии Байрона93. В каталоге этих следов влияния большое место занимают примеры того внешнего сходства, которые часто сводятся к одинаковости сюжетного положения или образа или целой словесной формулировки. Качественно эти примеры внешнего сходства с Байроном мало чем отличаются от аналогичных случаев связи поэзии Лермонтова с другими авторами; в целом ряде отдельных случаев наблюдается такое соотношение между чертами сходства и различия, которое не всегда дает бесспорное право говорить о заимствовании. Но у Лермонтова в отношении Байрона характерна самая частота этих случаев сходства, хотя
- 217 -
бы и не абсолютно близкого (напр., положение героя-монологиста в «Исповеди» и «Шильонском узнике»; изображение Каллы и описание монаха в «Гяуре» и т. п.). Однако и эта частота не решала бы сама по себе вопроса о роли Байрона для Лермонтова, если бы не то внутреннее творческое сходство, которое порой сочетается со сходством внешним и один из примеров которого представляют разобранные выше «Ночи» — I и II в их отношении к «Darkness», «The Dream» и поэзии Байрона в целом. Этот пример и некоторые другие, подобные ему (в частности «Азраил»), показывают, что связь Лермонтова с творчеством Байрона выходит далеко за пределы формальных — жанровых, стилистических и композиционных — принципов. Лермонтову ценно и интересно идейное содержание всего наследия английского поэта. Если связь с Байроном ограничивается для Пушкина сравнительно узкими жанровыми рамками поэмы, если принципы восточных поэм Байрона находят отражение именно в «южных» поэмах Пушкина94, то для Лермонтова не меньшую, если не большую, роль играют и трагедии и лирика Байрона. При этом идейно-философские и фабульно-тематические элементы трагедий Байрона получают развитие у Лермонтова не в соответствующем им драматическом жанре, а в поэме или в лирическом стихотворении или даже в прозе. У Пушкина в «южных» поэмах, пожалуй, даже больше внешне формальных соответствий Байрону как автору восточных поэм (т. е. соответствий их композиционным принципам, методам характеристики и описания, их стилистическим особенностям),
ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЭМЫ „ПРЕСТУПНИК“, РЕВЕЛЬ, 1932 г.
Собрание П. Эттингера, Москва- 218 -
чем в поэзии Лермонтова по отношению к поэзии Байрона в целом. Но это не мешает тому, что связь Лермонтова со всей системой Байрона имеет глубоко принципиальный характер.
В творчестве Лермонтова нашли продолжение и получили новое самостоятельное развитие не только существенные черты идейно-философского содержания поэзии Байрона, но и самый тип героя как активного выразителя этого содержания, определяющего всю тематику не только в поэме, но и в лирике. Этот герой проходит почти через все поэмы Лермонтова с трагическим сюжетом, начиная «Литвинкой» и «Исповедью» и кончая последней редакцией «Демона» (не в счет, конечно, «Песня про купца Калашникова» и такие поэмы, как «Тамбовская казначейша»). Наряду с самыми глубокими элементами идейного содержания байроновской поэзии, наряду с фигурой героя как их носителя для Лермонтова, несомненно, большое значение приобретает и та стиховая форма, в которой у английского поэта ведется повествование. Поэзия Байрона переживалась Лермонтовым, совершенно очевидно, как некое целое, в живой органической связи ее особенностей, и образ героя во многих случаях был неотделим для него от характерной черты английского стиха — от мужской рифмы. Усиленное пользование ею в ямбических размерах (пяти- и четырехстопных) является не просто формальным новшеством (к тому же новизна его небезусловна, поскольку отдельные опыты в этом же направлении делал уже и Жуковский), оно — своеобразный эмоциональный аккомпанемент к развитию центральных образов, видимо, очень тесно связанный с ними в сознании поэта95. И оно тоже, хотя и перемежаясь с другими формами стиха, проходит через все поэтическое творчество Лермонтова (особенно в поэмах).
Что специфическая идейная направленность лермонтовской поэмы, ее эмоциональная окраска, ее пафос безусловно отвечали запросам передовой русской интеллигенции, что развитие элементов байроновского наследия шло у Лермонтова по тому же пути, на котором развивались интересы и требования этой новой интеллигенции, подтверждается, напр., восторженным отзывом Белинского о «Боярине Орше» — вещи типичной в данном смысле. В 1842 г. критик писал В. П. Боткину: «Сейчас упился „Оршею“. Есть места убийственно хорошие, а тон целого — страшное, дикое наслаждение. Мочи нет, я пьян и неистов. Такие стихи охмеляют лучше всех вин»96. А в письме к М. А. Бакунину он отзывался так: «Какое страшно могучее произведение!»97.
Связь героя Лермонтова и идейного содержания, вкладываемого в его образ, с наследием Байрона, — несомненна; факт исторической преемственности здесь налицо. Однако, широкий общественный смысл, который поэзия Лермонтова с совершенной очевидностью приобрела еще при жизни поэта, а особенно в ближайшие годы после его смерти, был бы невозможен вне ее творческой самостоятельности. Эта самостоятельность характеризует даже те вещи, которые принято считать наиболее «байроническими» (напр., поэмы 1831—1835 гг.). Дело в том, что восприятие Лермонтовым Байрона, в известной мере аналогичное восприятию английского поэта западно-европейской романтической литературой, не было адэкватно своему объекту. Поэзия Байрона переживалась Лермонтовым, видимо, настолько напряженно, что уже по этому одному нельзя говорить об адэкватности: напряженность переживания влекла за собой изменение стилистического тона сравнительно с первоисточником (как
- 219 -
в переводах и «вольных подражаниях», так и в вещах оригинальных, но связанных идейной и художественной традицией с английским поэтом), бо́льшую его эмоциональность и приподнятость, а вместе с тем и бо́льшую остроту в постановке идейных проблем. Если герой с его мыслями и чувствами, сюжет и обстановка составляют у Байрона в восточных поэмах неразрывное целое, то Лермонтов совершенно видоизменяет внутреннее соотношение этих элементов: герой у него подавляет собой все остальное; обстановка превращается лишь в условный декоративный фон, на котором он выступает, фабула — лишь повод к проявлению его характера и к передаче его речей или мыслей. При этом обстановка (т. е. место действия) и фабула уже теряют связь с восточной поэмой и приобретают черты, характеризующие вообще романтическую поэму 1820—1830 гг. И в этом отношении показательны те аналогии с поэмами Мицкевича, которые отмечались по поводу «Измаил-бея» («Конрад Валленрод»), «Литвинки» («Гражина»), «Боярина Орши» («Конрад Валленрод»)98. Для «Измаил-бея», который с точки зрения места действия соответствует понятию «восточной поэмы» (он даже имеет жанровый подзаголовок: «Восточная повесть»), известное значение мог иметь только сюжет поэмы Мицкевича; что же касается «Литвинки» и «Боярина Орши», то вся их западнорусская декорация, их русское средневековье, стилизованное под феодально-рыцарскую повесть, равно как и отдельные детали сюжета (напр., воинственная Клара), представляют параллель эпическим произведениям польского поэта, в свою очередь восходящим (и в идеологическом и в формальном плане) к Байрону.
Герой поэм Лермонтова, равно как и лирическое «я» его стихотворений, при всей устойчивости его особенностей, эволюционирует. И путь этой эволюции обусловливает соприкосновения или совпадения с теми или иными западно-европейскими поэтами (в лирике, напр., с Барбье). Что касается героя поэм, то Лермонтов разнообразит обстановку, в которую помещает его: чаще всего это Кавказ, постепенно приобретающий все бо́льшую конкретность, — изображаемый то в его легендарном прошлом (как в «Демоне»), то в его настоящем (как в «Мцыри»); иногда это старая Русь («Литвинка», «Боярин Орша»); в раннюю пору — отвлеченно декоративный Восток «вообще» или традиционная Испания или Италия. Поскольку поэмы последних двух лет жизни («Мцыри» и «Демон» в окончательной редакции) представляют частичную переработку более ранних замыслов и их продолжение, постольку началом новых путей в творчестве Лермонтова можно считать неоконченные поэмы 1839 г. — «Сашка» и «Сказка для детей». Это произведения с современным, конкретно обрисованным фоном действия: герой «Сашки» — современный молодой человек, помещенный в очень определенную социально-бытовую среду, с подробной историей детства; персонажем «Сказки для детей» является демон как пародируемый образ, как своеобразное критическое переосмысление излюбленного героя поэта. Обе эти поэмы по своему замыслу — нечто вроде стихотворного «свободного романа», как определял Пушкин «Евгения Онегина». Тот период, к которому они относятся, — период творческой зрелости Лермонтова — принято считать уже более или менее независимым от литературных «влияний» и, в частности, от «влияния» Байрона, которое историки литературы обычно относили к более ранним годам. Страстная реакция более молодого Лермонтова на поэзию Байрона, напряженность переживания ее как целого была принята за доказательство
- 220 -
прямой зависимости его от английского предшественника, и вместе с тем восприятие Лермонтовым Байрона в 1830—1835 гг. приравнено к подлинному Байрону. Представление о Лермонтове 1830—1835 гг. настолько тесно срослось в сознании литературоведов с представлением о Байроне, что дальнейшая эволюция творчества Лермонтова была осмыслена позднейшими историками литературы как освобождение (хотя бы частичное) от байроновского влияния. Между тем, если для Лермонтова последних лет утратили значение «восточные» поэмы, то, напротив, вполне мог привлечь его внимание «Чайльд-Гарольд» (на что указывает парафраза из него в «Умирающем гладиаторе», 1836), равно как и поздняя поэма «Беппо» и недоконченный «Дон Жуан», начинающие собой западно-европейскую традицию шутливой поэмы и «свободного романа» в стихах. Формальная несвязанность фабулой, возможность разнообразных отступлений, переходов от серьезного тона к шутке и иронии, сочетание социальной сатиры с описаниями, лирическими размышлениями, психологическими характеристиками, принципиальная широта масштаба, глубоко личный оттенок, легко вкладываемый в подобную форму, — все это были признаки, свойственные «Дон Жуану» и «Чайльд-Гарольду». Эти вещи, равно как и «Беппо», получили к началу 30-х годов достаточно яркое отражение во Франции в поэмах Альфреда де Мюссе. Для Лермонтова, совершавшего в своем творчестве тот же путь эволюции, который совершала современная ему западно-европейская литература, соприкосновение с этим жанром было естественно и закономерно, равно как и интерес его к поэзии Гейне, выразившийся в переводах-переделках 1841 г. И то и другое могло быть у Лермонтова результатом той эволюции, которую претерпевало его отношение к Байрону, восприятие им элементов его наследия. Именно в переводах из Гейне как продолжателя поэтического дела Байрона и в поэмах «Сашка» и «Сказка для детей» сказалась, может быть, способность Лермонтова правильно воспринять и адэкватно передать такие особенности байроновской поэзии, как простота лексики, большая или меньшая сдержанность эмоционального тона, порой даже грубость (в «Сашке» и «Сказке»).
Но если стихи, переведенные Лермонтовым из Гейне, являлись развитием или вариацией мрачной, пессимистической концепции мира байроновского лирического героя, то жанр, развивавший в поэзии 30-х годов линию «Дон Жуана» и «Беппо», содержит в себе определенную критику трагического героя восточных поэм и отчасти — героя байроновской лирики. Критическое, в известной мере даже ироническое переосмысление этого героя происходило путем обрисовки его на фоне реальной современной обстановки, в конкретных условиях сегодняшнего быта.
Если в своих поэмах Лермонтов переосмысляет героя только в 1839 г., то в прозе он сделал это значительно раньше — тремя годами раньше, уже в 1836 г. («Княгиня Литовская»). Его проза, имеющая свою традицию в области русской беллетристики, не может быть рассматриваема изолированно от эволюции героя в других жанрах литературы — и не только русской, но и западно-европейской. Только исключительно критическим и сознательным отношением к опыту современной ему литературы — и родной и иностранной — можно объяснить невероятно быструю, почти катастрофическую в своей стремительности эволюцию лермонтовской прозы. «Вадим», датируемый по новейшим данным 1834 г., — произведение, еще полное романтических крайностей, условное по языку, мелодраматическое
- 221 -
драматическое по положениям, чрезвычайно далекое от мастерства тех произведений современной ему русской прозы, которые возникали, в сущности, в том же русле исторической повести (Пушкин, Гоголь). Сам Вадим — лишенный всякой реальности, утрированный тип романтического героя-мстителя, фанатика своей мести. Это романтическое неправдоподобие основной фигуры и языковых характеристик большинства прочих персонажей заслоняет собой то новое, исторически ценное и значительное, что заключал в себе замысел романа, — показ жестоких социальных противоречий крепостнической России, глубокого неблагополучия, подготовившего собой пугачевское восстание.
ОБЛОЖКА ПОЛЬСКОГО ПЕРЕВОДА
„ПЕСНИ ПРО ЦАРЯ ИВАНА
ВАСИЛЬЕВИЧА“, ВАРШАВА, 1934 г.
Собрание П. Эттингера, Москва«Герой нашего времени», отделенный от «Вадима» пятью годами, — произведение уже полной творческой зрелости и глубокого реалистического мастерства. Трагический герой прежних (а отчасти и будущих) поэм дается здесь вполне реальным персонажем. Независимо от того, как в плане субъективном относился к нему сам писатель (по указанию Белинского — вполне тождественный с ним), роман дал повод критике рассматривать Печорина как развенчание байронического героя. Главной причиной для этого был объективный тон в подаче этого героя (даже при условии субъективной симпатии Лермонтова к нему), оставлявший в конце концов неясной авторскую оценку. Это было искусство, которого европейская проза достигала лишь в самых мастерских произведениях XIX в. (Мериме, Стендаль, Флобер), из которых иные относятся к годам гораздо более поздним, чем «Герой нашего времени».
Роман Лермонтова был, несомненно, произведением передовым и являлся очень значительным шагом вперед по сравнению с романами даже таких французских авторов, как Мюссе или Бенжамен Констан99, с которыми Лермонтова-прозаика сопоставляли иногда. Известная общность между ними, вовсе не предполагающая влияния или заимствования, — только в характере общей проблемы героя и испытания его жизнью. Лермонтов
- 222 -
идет несравненно дальше в критически объективном отношении к этому герою, при всем том, что его герой — более яркая и сильная личность, чем главные персонажи упомянутых двух французских романистов.
Некоторое, хотя и слабое, представление о том, в каком направлении могла бы развиваться дальнейшая работа Лермонтова-прозаика, дает его отрывок 1839 г. «У граф. В... был музыкальный вечер». Этот отрывок, как известно, перекликается с «Портретом» Гоголя; видят в нем и некоторые аналогии с Гофманом100 (естественные, правда, уже в связи с тем, что и «Портрет» Гоголя содержит известные элементы гофмановской тематики). И вместе с тем Лугин в какой-то мере, может быть, уже предвосхищает некоторые трагические персонажи Достоевского, а фон повести — фон его петербургских повестей и романов101. Это, конечно, лишь догадка, которую трудно доказать установлением фактической связи. Но самая возможность этих аналогий говорит о том, что тот литературный опыт предшественников и современников — русских и зарубежных, с которым Лермонтов был знаком, служил ему отнюдь не для заимствований, не для вариаций на чужие темы, а для творческих выводов, имеющих глубоко самостоятельное значение как в идейном, так и в художественном плане. Характерно и то, что в каждый данный момент его литературный интерес, насколько о том позволяют судить его творчество и немногие свидетельства современников, привлекают наиболее живые явления современной литературы, все наиболее актуальное в ней.
——————
По поводу статьи Шевырева, пафос которой был направлен на доказательство несамостоятельности и несамобытности поэзии Лермонтова, П. А. Вяземский написал критику: «Разумеется, в таланте его <Лермонтова> отзывались воспоминания, впечатления чужие; но много было и того, что означало сильную и коренную самобытность, которая впоследствии одолела бы все внешнее и заимствованное. Дикий поэт, т. е. неуч, как Державин, например, мог быть оригинален с первого шага; но молодой поэт, образованный каким бы то ни было учением, воспитанием и чтением, должен неминуемо протереться на свою дорогу по тропам избитым и сквозь ряд нескольких любимцев, которые пробудили, вызвали и, так сказать, оснастили его дарование...»102.
В этих словах ценным для нас является, конечно, не их снисходительный тон по отношению к Лермонтову, а указание на тот факт, что множественность литературных связей предполагалась самим характером литературной культуры. Историческая обстановка, в которой началось и протекало творчество Лермонтова, была достаточно сложна и требовала овладения большим опытом как предшествующей, так и современной литературы. Таким образом, установление самого факта многообразных связей его творчества с творчеством других авторов мало обогатило бы наше понимание исторической роли Лермонтова. Главное — это те результаты, которых он достигает и по которым (в их соотношении с теми или иными источниками) мы только и можем оценивать глубоко самостоятельный и прогрессивный смысл его деятельности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Главные работы, посвященные вопросу об этой связи: В. Спасович, Байронизм Лермонтова. — «Вестник Европы» 1888, апрель; Н. Дашкевич, Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова. — «Чтения в Историческом об-ве Нестора
- 223 -
Летописца» 1892, кн. VI; Н. Дашкевич, Демон в мировой поэзии. — Там же, 1893, кн. VII; E. Duchesne, M. J. Lermontov. Sa vie et ses œuvres. Paris, 1910. (Русский перевод: Э. Дюшен. Поэзия М. Ю. Лермонтова в ее отношении к русской и западно-европейской литературам, Казань, 1914); С. Шувалов, Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии. — Сб. «Венок М. Ю. Лермонтову», М. — П., 1914; М. Розанов, Байронические мотивы в творчестве Лермонтова. — Там же. — Много внимания западно-европейским источникам Лермонтова уделено в книге Б. Эйхенбаума, Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки, Л., 1924.
2 «Москвитянин» 1841, II, № 4.
3 «Отечественные Записки» 1841, XVIII, № 9.
4 Там же, XIV.
5 О лермонтовских переводах немецких поэтов, среди которых по числу заглавий первое место занимает Шиллер, — см. работу Th. Fröberg, Lermontow als Übersetzer deutscher Gedichte. Berichte der St. Katharinen-Schule, Spb. — В издании «Academia» комментарии, относящиеся к переводам Лермонтова с немецкого и к немецким его источникам, принадлежат Б. Бухштабу.
6 Метрическое своеобразие стиха в «Der Handschuh» ощущалось, видимо, настолько резко, что в двух переводах этой баллады, по времени предшествующих лермонтовскому, была сделана попытка воспроизвести немецкий акцентный стих (переводы И. Покровского в «Благонамеренном» 1822, ч. 17, и М. Загорского в «Северных Цветах» 1825). В то время подобные попытки были еще чрезвычайно редки.
7 Эту же ошибку делает и И. Козлов в своем более позднем (1834) переводе: «Но ах! собою свет пленя, / Ты в нем живешь не для меня!». Ср. правильную передачу смысла этого места у Жуковского: «Ты живешь в сияньи дня, /Ты живешь не для меня».
8 Указание на русскую традицию в переводе этой эпиграммы сделано в комментарии к «Полному собранию сочинений М. Ю. Лермонтова», изд. «Academia», I, 438.
9 Любопытно, что «Баллада» была включена в первое большое собрание сочинений Шиллера на русском языке — «Шиллер в переводе русских писателей под ред. Н. В. Гербеля» (1863, I, 463), где впервые и была опубликована на правах, так сказать, полуперевода.
10 Сб. «Звенья», М. — Л., 1933, II.
11 Известной аналогией «Завещанию» может служить стихотворение «Из Андрея Шенье» («За дело общее, быть может, я паду»). Разница, однако, в том, что оно — не только не перевод (несмотря на характер заглавия, так же как и «Завещание»), но даже не может быть возведено к какому-нибудь определенному стихотворению французского поэта, будучи отражением мотивов целой группы его предсмертных стихотворений, своего рода стилизацией темы, «итогом впечатлений от разных стихотворений Шенье» (формулировка комментария изд. «Academia», I, 510).
12 В. Жирмунский в своей книге «Гете в русской литературе» (Л., 1937, 438) замечает, что «байроническое разочарование молодого Лермонтова питалось отчасти сентиментальной меланхолией „Вертера“, о чем свидетельствует „Завещание“».
13 «Русское Обозрение» 1890, кн. 8, 728.
14 Е. Сушкова, Записки, изд. «Academia», Л., 1928.
15 См. комментарий к Академическому изданию «Полного собрания сочинений Лермонтова», I, 391.
16 Много интересных замечаний о соотношении переводов Лермонтова из Байрона и «подражаний» ему — в комментариях изд. «Academia». Разбор некоторых переводов и «подражаний» см. в статье В. Спасовича, цит. соч. См. также С. Шувалов, Семь поэтов, М., 1927 (статья: «Лермонтов — переводчик Байрона»).
17 На связь между Шендолле и Лермонтовым впервые указал М. Брейтман в статье «Лермонтов, Байрон и Шендолле» («Вестник Литературы» 1922, № 2—3). Сопоставление текстов, сделанное им, убедительно. Оно, однако, нисколько не противоречит связи лермонтовского стихотворения с IV песней «Чайльд-Гарольда», один стих которой («I see before me the Gladiator lie») служит эпиграфом к «Умирающему гладиатору». М. Брейтман считает, что стихотворение Шендолле могло «в одинаковой мере вдохновить как Байрона, так и Лермонтова». В комментарии изд. «Academia» (II, 163—164) высказано другое мнение, заключающееся в том, что источником Лермонтова является только Байрон, для которого, в свою очередь, источником мог послужить Шендолле. А исследователь байронизма во Франции Estève («Byron et le romantisme français»), напротив, утверждает, что Шендолле воспользовался мотивами Байрона.
18 Об этом стихотворении см. в книге Б. Эйхенбаума, Лермонтов, 48—49.
- 224 -
19 Указание на этот источник впервые сделано в «Весах» 1907, № 11, 50.
20 Анализ этого перевода см. А. Сидоров, Гете и переводчик. — «Труды и Дни», М., 1914, тетр. 7.
21 Этому вопросу придается большое значение и в книге E. Duchesne и в статье С. Шувалова.
22 Подробно рассмотрены (с точки зрения их вероятности) эти предположения о заимствованиях Лермонтова из Гейне в моей статье «Лермонтов и Гейне». — «Ученые Записки I Ленинградского Педагогического Института Иностранных Языков», Л., 1940, I.
23 См. мою статью: «Генрих Гейне в царской цензуре». — «Литературное Наследство», М., 1935, № 22—24.
24 См. Лермонтов, изд. «Academia», II, 246 (комментарий).
25 Л. Щерба (в статье «Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. „Сосна“ Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом». — Сб. «Советское языкознание», Л., 1936, II, 130) даже находит, что «Лермонтовское стихотворение является... совершенно самостоятельной по содержанию пьесой, очень далекой от своего quasi-оригинала».
26 Эта разница в соотношении грамматических родов отмечена еще у А. Потебни, Записки по теории словесности, Харьков, 1905, 69.
27 Благодаря лексической заметности этих слов окончания стихов 3-го и 7-го легче воспринимаются как рифмующие, несмотря на расстояние, отделяющее их.
28 «Сын Отечества» 1843, № 3, март, отд. I, 9—10.
29 «Венок Лермонтову», 1914, 346.
30 «Русский Архив» 1887, № 9, III, 142.
31 В. Белинский, Письма, II, 110.
32 Там же.
33 На это указывает С. Шувалов, цит. соч. — «Венок Лермонтову», 340.
34 См. Лермонтов, изд. «Academia», III, 558—559 (комментарий).
35 См. там же, I, 445 (комментарий).
36 См. E. Duchesne, op. cit., 303. — Другую генеалогию этой же формулировки-сентенции дает В. Спасович, Байронизм Лермонтова. — «Вестник Европы» 1888, апрель, 513—514 (указание на польский источник — на Мицкевича).
37 См. E. Duchesne, op. cit., 303 и Б. Эйхенбаум, цит. соч., 47.
38 См. С. Шувалов, цит. соч., 321.
39 См. Б. Эйхенбаум, цит. соч., 52—53; там же — ряд указаний на другие случаи использования образов (50—60).
40 Ссылки С. Шувалова на нумерацию стихотворений Гейне в цикле «Возвращение на родину» не соответствуют авторитетным изданиям. Вместо цифры «98» надо «86» (так, напр., в изд. Elster’a).
41 Номер указан неверно; надо «87».
42 Надо «47».
43 С. Шувалов, цит. соч., 322—323.
44 E. Duchesne, op. cit., 304.
45 «Венок Лермонтову», 329.
46 E. Duchesne, op. cit., 241.
47 См. Б. Эйхенбаум, цит. соч., 48—49.
48 Первым сделал это указание П. Висковатов, М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. — Лермонтов, Соч., М., 1891, VI, 88.
49 В книге «Лермонтов и Лев Толстой», М., 1914, 174.
50 Соотношение между стихотворениями «Смерть» и «Гибель богов» я более подробно рассматриваю в статье «Лермонтов и Гейне» (см. примеч. 22-е).
51 Здесь нет возможности, да нет и необходимости давать все библиографические ссылки, связанные с тем или иным указанием, так как эти ссылки заняли бы почти столько же места, сколько и самая сводка предполагаемых фактов «влияния». В основном все данные заимствованы из тех же общих работ, которые указаны в примеч. 1-м, из книги П. Висковатова (см. примеч. 48-е) и из комментариев изд. «Academia».
52 «Москвитянин» 1841, ч. II, № 4, 534.
53 См. Б. Эйхенбаум, цит. соч., 105—106; см. также комментарий изд. «Academia» (II, 165). — В представлении С. Шевырева то же стихотворение связывалось с совсем другими источниками: «К стилю Жуковского принадлежат также: „Русалка“, „Три пальмы“ и одна из „Молитв“. Изображение в „Русалке“ напоминает Гете; но формы стиха и выражения подслушаны у лиры Жуковского». — «Москвитянин» 1841, ч. II, № 4, цит. статья, 529.
54 См. С. Шувалов, цит. соч., 324. — E. Duchesne возводит то же стихотворение
- 225 -
к Байрону вообще, не указывая никакого конкретного источника и оперируя биографическими аналогиями (op. cit., 259).
55 Лермонтов, изд. «Academia», II, 234—235.
56 Там же, IV, 491, 560; Б. Эйхенбаум, цит. соч., 76 и 81.
57 Лермонтов, изд. «Academia», II, 207. — Стихотворение «На буйном пиршестве задумчив он сидел» долгое время печаталось под заглавием «Казот», не принадлежащим Лермонтову.
58 Ср. следующее место из рассказа Лагарпа («Prophétie de Cazotte»): «Messieurs, vous savez que je suis un peu prophète; eh bien! soyez satisfaits: vous serez tous témoins de la sublime révolution que vous rêvez. Mais quand cet heureux temps sera venu, vous, Monsieur de Condorcet, vous vous empoisonnerez dans un cachot; vous, Chamfort, vous vous couperez les veines de vingt-deux coups de rasoir; vous, Bailly, Malesherbes, Roucher, vous périrez sur l’échafaud; vous, duchesse de Grammont, vous serez conduite au supplice dans une charrette tout comme la reine, et vous n’aurez même pas de confesseur...» etc.
59 См. статью М. Гершензона, Пушкин и Лермонтов. — «Полное собрание сочинений Пушкина», изд. Брокгауз-Ефрон, П., 1915, VI, 514—519.
60 См. Лермонтов, изд. «Academia», II, 185—186 и 213.
61 А. Краевского, которого, однако, опровергает А. П. Шан-Гирей.
62 См. П. Висковатов (Лермонтов, Соч., М., 1891, I, 372, примечания) и E. Duchesne, op. cit., 311—313.
63 «Вестник Европы» 1888, апрель, 512.
64 П. Висковатов, Жизнь и творчество Лермонтова, М., 1891, 52—53.
65 E. Duchesne, op. cit., 238.
66 С. Шувалов, цит. соч., 315—316.
67 См. П. Висковатов, цит. соч., 273.
68 Об источниках «Испанцев» писали: Висковатов (цит. соч., 60), E. Duchesne (op. cit., 308—309), С. Шувалов (цит. соч., 319, 324—325, 329—330), М. Яковлев («Лермонтов как драматург», 76—125), Б. Нейман («Испанцы» Лермонтова и «Айвенго» Вальтера-Скотта. — «Филологические Записки» 1915, вып. V—VI, 709—721).
69 E. Duchesne, op. cit., 306—307.
70 Там же, 311.
71 См. Лермонтов, изд. «Academia», II, 201 (комментарий).
72 E. Duchesne, op. cit., 304, 309—310; С. Шувалов, цит. соч., 330—331.
73 См. примеч. 52-е.
74 См. статью С. Штейна, «Любовь мертвеца» у Лермонтова и Альфонса Kappa. — «Известия Отделения Русского Языка и Словесности Академии Наук» 1916, XXI, кн. I.
75 С. Шувалов, цит. соч., 320, примечание.
76 П. Висковатов, цит. соч., 230; Н. Стороженко, Женские типы, созданные Лермонтовым. — «Русские Ведомости» 1891, № 104; E. Duchesne, op. cit., 290—291; С. Шувалов, цит. соч., 316—317; М. Яковлев, цит. соч., 228—229. — Что касается «Маскарада», то чрезвычайно существенны все указания на связь его с современным Лермонтову мелодраматическим репертуаром, которые есть в статье З. Ефимовой, Из истории русской драмы. «Маскарад» М. Ю. Лермонтова. — Сб. «Русский романтизм», изд. «Academia», Л., 1927. — То, что Лермонтов в «Маскараде» близок к тем драмам и мелодрамам, которые шли в его время на сцене (если он и не делает заимствований из них), доказано в этой статье убедительными примерами.
77 Всего подробнее вопрос о связи Лермонтова с Шиллером рассмотрен М. Яковлевым (цит. соч.), который справедливо утверждает, что драмы Шиллера имели большое значение для Лермонтова.
Особый вопрос, связанный с лермонтовской драматургией, — это вопрос об ее отношении к шиллеровской теории драмы. Он рассматривается в статье Б. Эйхенбаума, специально посвященной драматургии Лермонтова (см. сб. «Классики русской драмы», М. — Л., 1940).
78 С. Раевскому из Тархан от 16 января 1836 г. (Лермонтов, изд. «Academia», V, 387).
79 Кроме работ, указанных в примеч. 1-м, 2-м и 48-м, см.: А. Галахов, Лермонтов. — «Русский Вестник» 1858, № 13-14 и 16; Ап. Григорьев, Лермонтов и его направление. — «Время» 1862, № 10; Н. Стороженко. Влияние Байрона на европейские литературы. — Сб. «Из области литературы», М., 1902.
80 Судьба байронической поэмы у подражателей и эпигонов Пушкина прослежена на богатейшем материале «массовой литературы» В. Жирмунским в книге «Байрон и Пушкин», Л., 1924.
- 226 -
81 Французский литературовед Estève в исследовании «Byron et le romantisme français» характеризует первую стадию в восприятии Байрона как «mélancolie», вторую как «passion» (страсть).
82 Одно из самых значительных событий в развитии французского романтизма — постановка «Эрнани» Гюго приходится именно на этот год (февраль).
83 О связи с Мюссе (а также с Сенанкуром) см. Сочинения Лермонтова под ред. и с примеч. И. Болдакова, М., 1891, I, 436. — О связи с прозой Мюссе и Виньи см. E. Duchesne, op. cit., 319—323, и С. Родзевич, Лермонтов как романист, 1914.
84 А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях говорит, что он «других английских книг <т. e. кроме Байрона, Мура, В. Скотта> у него не видал».
85 См. В. Спасович, цит. соч. — «Вестник Европы» 1888, апрель, 538; E. Duchesne, op. cit., 292—293; С. Шувалов, цит. соч., 315.
86 См. Б. Нейман, цит. соч.
87 E. Duchesne, op. cit., 275.
88 H. Дашкевич, Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова. «Демон». — «Чтения в Историческом об-ве Нестора Летописца» 1893, кн. VII, 227—232; E. Duchesne, op. cit., 295—300; С. Шувалов, цит. соч., 312—314.
89 В. Спасович. — «Вестник Европы» 1891, № 12, 722—724; С. Здзярский в книге «Szkice literackie», 1903.
90 Н. Дашкевич. — «Чтения в Историч. об-ве...» 1893, кн. VII, 226; В. Водовозов, Новая русская литература, 2-е изд., Спб., 1870, 234 сл.
91 А. Шан-Гирей («Русское Обозрение» 1890, № 8, 747) сообщает, что в ответ на его замечания по поводу «Демона» и на предложенный им план Лермонтов сказал: «План твой... недурен, только сильно смахивает на Элоу Sœur des anges, Альфреда де Виньи».
92 Н. Дашкевич. — «Чтения в Историч. об-ве...» 1893, кн. VII, 222 и 232.
93 См. статью В. Спасовича и работы, названные в примеч. 79-м. Из работ, указанных там, фактическими указаниями наиболее богата статья А. Галахова.
94 Соотношение формальных особенностей восточных поэм Байрона и «южных» поэм Пушкина подробно прослежено В. Жирмунским («Байрон и Пушкин», Л., 1924; см. ч. I, гл. I—V).
95 О восприятии особого эмоционального значения ямба со сплошными мужскими рифмами, о восприятии его как размера мрачного, печального, сурового свидетельствуют отзывы современной критики (Плетнева, Сомова, Надеждина) о «Шильонском узнике» в переводе Жуковского. Отзывы эти приводятся в книге В. Жирмунского, Рифма, ее история и теория, Л., 1923, 312—313.
96 В. Белинский, Письма, II, 312.
97 Там же, 318.
98 См. примеч. 89-е. Кроме того, о «Боярине Орше» см.: В. Спасович, Байронизм Лермонтова. — «Вестник Европы» 1888, апрель, 512 и 514.
99 С. Родзевич, цит. соч.
100 С. Шувалов, цит. соч., 325—326; Л. Семенов, Лермонтов и Лев Толстой, 384 сл. — Там же указание на сходство между «Тамбовской казначейшей» и «Счастьем игрока» («Spielerglück») Гофмана.
101 О характере путей, которые открывались перед Лермонтовым как прозаиком, свидетельствует и «Княгиня Лиговская». Чиновник Красинский, мечтающий подчинить себе общество, в какой-то мере, может быть, перекликается с Растиньяком Бальзака. Указывая на это, я вовсе не собираюсь устанавливать новый источник лермонтовской прозы. Скорее думается, что это — именно совпадение на основе развития, идущего от одинаковых исходных точек (Бальзак начинал свое творчество романтическими трагедиями), — совпадение, независимое от того, знал или не знал Лермонтов растиньяковский цикл Бальзака (нам известно лишь по одному упоминанию-сравнению в «Герое нашего времени», что он знал «Тридцатилетнюю женщину»). Но тот же Красинский, оскорбленный Печориным и мечтающий о мести, предвосхищает героя «Записок из подполья» Достоевского (мотив мести офицеру, толкнувшему его). Достоевский не мог знать «Княгиню Лиговскую», когда создавал «Записки из подполья» (она была опубликована позднее). Тем значительнее этот факт совпадения, поскольку он говорит о том направлении (социально-психологическом), по которому могла пойти лермонтовская проза, несомненно связанная и с Гоголем и с жанром чиновничьей повести.
102 См. Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, VI, 237—238.