116
ЛЕ́НИН В. И. о литературе. В. И. Ленин высоко ценил иск-во и особенно лит-ру как средство познания и революц. воспитания. Он наследовал и продолжал традиции Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, видевших в искусстве орудие обществ. борьбы
117
и «учебник жизни». Ленинские суждения о лит-ре (и о культуре вообще) освещают социальную обусловленность иск-ва, его роль в развитии об-ва, намечают пути марксист. разработки вопросов реализма, партийности и народности лит-ры, изучения культурного наследия. Работы Л. наряду с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса (см. Маркс К. и Энгельс Ф. о литературе) содержат философ. и социологич. идеи, ставшие основополагающими для сов. марксистского лит-ведения и критики.
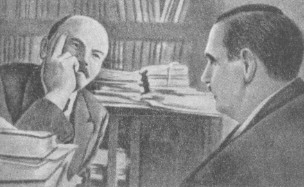
В. И. Ленин и Г. Уэллс. 1920.
1. В. И. Ленин и некоторые вопросы теории литературы. Изучая природу и особенности худож. освоения мира, сов. марксистские эстетики опираются на ленинскую «теорию отражения». Согласно этой теории, мир, данный нам в ощущениях, реален, объективен и познаваем. Человеч. знание мира относительно, но эта относительность не абсолютна. «Исторически условны контуры картины, — указывает Л., — но безусловно то́, что эта картина изображает объективно существующую модель... Исторически условна всякая идеология, но безусловно то́, что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина, абсолютная природа» (Соч., т. 14, с. 123).
Ленинская теория познания признает единство, но не тождество предмета и его образа. В любой идее, понятии, образе есть не только отражение предмета, объекта познания, но и выражение сознания живого человека, всегда ограниченного сегодняшним уровнем науки и всегда выражающего определенные социальные интересы. «Идея есть познание и стремление (хотение) [человека]...» (там же, т. 38, с. 186). Сознание дает нам субъективный образ объективного мира. Нельзя представлять себе истину в виде статичной картины, бледного, тусклого образа без стремления, без движения; идея несет в себе и противоречие мысли с объектом, и преодоление этого противоречия. «Отражение природы и мысли человека надо понимать не „мертво“, не „абстрактно“, не без движения, не без противоречий, а в вечном процессе движения, возникновения противоречий и разрешения их» (Ленинский сб. 9, 1931, с. 209). Познание действительности носит активный, творч. характер.
Ту же общую диалектику объективного и субъективного Л. усматривал и в иск-ве как разновидности познания. Художник, отражая реальность, как человек общественный, неизбежно приносит в творчество черты и веяние своего времени, своего об-ва и вместе с тем — свой индивидуальный идеал и способ худож. освоения мира и воздействия на него. Выражая себя, свое представление о познаваемом мире, истинно большой художник неизбежно отразит дух времени и нации, неизбежно
118
запечатлеет важные стороны объективного обществ, бытия.
В ст. «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908) Л. писал: «Сопоставление имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным... И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» (Соч., т. 15, с. 179). Л. рассматривает творчество Толстого с т. з. объективного отражения в нем реального развития обществ. жизни и классовой борьбы.
Отстаивая последовательно классовый подход к теоретич. проблемам и конкретным явлениям худож. творчества, Л. отвергал представления о «святом искусстве», сводящие лит-ру к воплощению отвлеченных категорий красоты, добра, справедливости. В статьях о Толстом он утверждал, что внесоциальные рассуждения о лит-ре мешают понять реальное идеологич. содержание худож. произведений (напр., идеологию патриарх. крестьянства в произв. Л. Толстого).
Одновременно Л. вел борьбу против вульгарно-социологич. подхода к анализу связей духовного творчества с классами и классовой борьбой. Ленинская «теория отражения» учитывала «не столько генетическую принадлежность писателя, сколько отражение этим последним социальных сдвигов, не столько субъективную прикрепленность писателя и связанность его с определенной социальной средой, сколько объективную характерность его для тех или иных исторических ситуаций» (Луначарский А. В., Статьи о литературе, 1957, с. 41). Очень важны в этом смысле заметки Л. на полях книги В. Шулятикова о зап.-европ. философии, в к-рой содержание философ. учений сводилось к защите узкоклассовых интересов и рассматривалось с т. з. грубо утилитарной. Умозаключения Шулятикова вели к нигилистич. отречению от наследия во имя «марксистской сверхортодоксальности».
Вместе с тем Л. отрицал классовую нейтральность лит-ры. Классовая тенденция властно проявляется и в тех случаях, когда сам писатель открещивается от принципов «классовости» и «партийности» лит-ры. Проповедь «внеклассовости» сама становится орудием определенной классовой политики.
Классовость и партийность для Л. — не тождественные понятия. Партийность «...есть результат и политическое выражение высоко развитых классовых противоположностей» (Соч., т. 11, с. 60); «...есть спутник и результат высоко развитой классовой борьбы» (там же, т. 10, с. 57); партийность — идея социалистическая; «строгую партийность всегда отстаивала и отстаивает только социал-демократия, партия сознательного пролетариата» (там же).
Партийность Л. связывает с сознательными стремлениями литератора выразить определ. взгляды. В статье «Партийная организация и партийная литература» (1905), к-рую сов. марксист. критики понимают как развернутое требование коммунистич. партийности в художественной лит-ре, Л. решительно противопоставил декларативно свободной, «...а на деле связанной с буржуазией...» лит-ре — «...действительно-свободную, открыто связанную с пролетариатом» лит-ру. Ее свобода выражается в том, что писатель свободно служит марксист. партии, ибо видит в ее программе науч. выражение нар. чаяний. Именно овладение коммунистич. партийностью, по мысли Л., ведет и к освобождению от заблуждений, верований, предрассудков, т. к. только марксизм есть истинное и верное учение.
В статье «Партийная организация и партийная литература», которая в дальнейшем, после революции, определяла методы партийного руководства иск-вом,
119
Л. утверждал, что «литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, „колесиком и винтиком“ одного единого, великого социал-демократического механизма...» (там же, с. 30, 27). Одновременно он замечал, что лит. часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с др. его частями, что «...в этом деле безусловно необходимо обеспечение большого простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию» (там же, с. 28). В беседе с К. Цеткин Л. говорил: «Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего», и прибавлял: «Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты» (цит. по кн.: Цеткин К., Воспоминания о Ленине, М., 1959, с. 9—10).
Постоянно ратуя за партийность иск-ва, Л. не забывал отмечать своеобразие этой области идеологии. В письме к И. Арманд от 24 янв. 1915 он прямо отграничивает публицистич. характеристику «классовых типов» от их художественного изображения — «...ибо тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов... А в брошюре?» (Соч., т. 35, с. 141).
Одной из самых острых проблем иск-ва в период революции стало отношение к культуре и иск-ву прошлых эпох. Неоднократно напоминая, что культура бурж. об-ва идеологически обслуживала в первую очередь господствующие классы, Л. вместе с тем подчеркивал: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую». И дальше: «Ставя лозунг „интернациональной культуры демократизма и всемирного рабочего движения“, мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и ее социалистические элементы...» (там же, т. 20, с. 8).
Выдвигая задачу прямого наследования демократич. и социалистич. элементов культуры прошлого, Л. вместе с тем ставил вопрос о критич. переработке и критич. использовании всех культурных ценностей, накопленных человечеством.
А. В. Караганов.
2. В. И. Ленин и русская литература 19 — начала 20 веков. Л. указывал, что освободит. движение в России прошло три осн. этапа: период дворянско-революционный (примерно с 1825 по 1861), разночинский, или буржуазно-демократический (приблизительно с 1861 по 1895), и период пролетарский (с 1895). Осветив историч. содержание этих периодов, Л. показал, как последоват. развитие освободит. борьбы привело к развертыванию движения нар. масс во главе с рабочим классом. Тем самым он наметил путь для марксистского исследования лит. процесса в России 19 в. в его единстве и многообразии. Поучительным примером борьбы Л. за прогрес. традиции рус. культуры является его статья о «Вехах» (сб. статей Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона и др.). «Веховцы» объявили Белинского, Чернышевского, Добролюбова «вождями интеллигентов», далекими от народа. Письмо Белинского к Гоголю, по их словам, — «пламенное и классическое выражение интеллигентского настроения» («Вехи», М., 1909, с. 56). «Так, так, — иронизировал Ленин. — Настроение крепостных крестьян против крепостного права, очевидно, есть „интеллигентское“ настроение. История протеста и борьбы самых широких масс населения с 1861 по 1905 год против остатков крепостничества во всем строе русской жизни есть, очевидно,
120
„сплошной кошмар“. Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?» (Соч., т. 16, с. 108).
Говоря о роли революц. идей в обществ. борьбе, Л. обращался к примеру рус. лит-ры. «...Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это́ означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература...» (там же, т. 5, с. 342).
В числе писателей, воплотивших революц. идеи рус. лит-ры, Л. часто называл Герцена. По мысли Л., Герцен прошел путь развития от дворянской революционности к революц. демократии 60-х гг. У него были либеральные колебания и надежды, к-рые объяснимы условиями эпохи. Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революц. народа в России в 40-е гг. Увидев его в 60-х гг., он безбоязненно встал на сторону революц. демократии против либерализма. Как мыслитель «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом» (там же, т. 18, с. 10).
Уже в ранних работах Л. обращается к трудам Чернышевского. Анализируя характер крест. реформы 1861, он в ряде случаев опирался на суждения Чернышевского, отмечая глубокое понимание им рус. действительности. «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы..., понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер...» (там же, т. 1, с. 263). Л. всегда говорил о Чернышевском в тоне высокого уважения и признательности: «великий русский писатель», «великий русский революционер», «предшественник русской социал-демократии»... Чернышевский, по мнению Л., был не только социалистом-утопистом, верящим в переход к социализму через крест. общину, но и революц. демократом, умевшим через все преграды провести идею крест. революции. Великий мыслитель Чернышевский начиная с 50-х гг. оставался на уровне цельного философ. материализма, хотя и не смог подняться в силу историч. условий до диалектич. материализма.
Мемуаристы свидетельствуют о том, как Л. ценил роман Чернышевского «Что делать?». «Вот это настоящая литература, которая учит, ведет, вдохновляет. Я роман „Что делать?“ перечитал за одно лето раз пять, находя каждый раз в этом произведении все новые волнующие мысли», — говорил Л. (В. И. Ленин о литературе и искусстве, 1960, с. 648).
Видя недостатки, слабости и ошибки Чернышевского с марксист. т. з., Л. пояснял, что они вызваны прежде всего условиями жизни России, неразвитостью обществ. отношений.
Сильное впечатление, по свидетельству мемуариста Н. Валентинова, произвели на Л. критич. статьи Добролюбова; романы «Обломов» И. А. Гончарова и «Накануне» И. С. Тургенева Л. вновь перечитывал, «...можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова» (там же, с. 652). Его привлекло то, что разбор лит. произведений становился у Добролюбова призывом к воле, активности, революц. борьбе. В нач. 900-х гг., когда организовался марксист. журн. «Заря», Л. говорил: «Нам нужны литературные обзоры именно такого рода» (там же).
121
Высоко ценя сатиру М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. в 1912 советовал редакции «Правды» время от времени вспоминать, цитировать, растолковывать в газете Щедрина и др. демократич. писателей. Сам Л. часто использовал в борьбе с врагами революции образы Карася-идеалиста, Угрюм-Бурчеева, Иудушки Головлева и др. Из поэтов рус. демократии Л. особенно любил Н. А. Некрасова за его революц.-патриотич. пафос, ненависть к крепостникам-помещикам. В творчестве Тургенева, Г. И. Успенского, А. П. Чехова Л. ценил знание рус. жизни и демократич., освободит. идеи.
Наиболее полно суждения Л. о худож. лит-ре представлены в статьях о Л. Толстом. Л. любил творчество Толстого, гордился великим писателем. «...Л. Толстой, — писал он, — сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» (Соч., т. 16, с. 293). По мнению Л., писатель выразил в своих книгах страстный протест миллионов рус. крестьянства, но вместе с тем он отразил и отчаяние крестьян, доведенных до нищеты, не знающих истинных путей к достижению справедливого обществ. устройства, их незрелость, непоследовательность в борьбе. «Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними» (там же, с. 323). Л. назвал Толстого зеркалом русской революции.
Признавая высочайший худож. талант Толстого, его умение срывать все и всяческие маски с угнетателей народа, с полной отчетливостью обнажая природу обществ. отношений, Л. вместе с тем был непримирим к т. н. «толстовщине». Он считал, что «...всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его „непротивленства“, его апелляций к „Духу“, его призывов к „нравственному самоусовершенствованию“, его доктрины „совести“ и всеобщей „любви“, его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред» (там же, т. 17, с. 33).
Л. не отделял Толстого-художника от Толстого-мыслителя, что имело место как в дореволюц., так и в сов. лит-ведении. Он доказывал единство худож. творчества, публицистики и философ. соч. Толстого и анализировал противоречия как в мировоззрении, так и в творчестве писателя. Толстой ставил в худож. произв. «великие вопросы» жизни страны, но слабые стороны его мировоззрения сказывались на решении этих вопросов. По мнению Л., дать исторически верную оценку наследия Толстого можно только с т. з. рус. революции, с т. з. рус. пролетариата.
Л. был непримирим по отношению к лит-ре асоциальной или упадочной, лишенной духовной ясности и здоровья. Известно письмо Л. к И. Арманд от 5 июня 1914, где говорится о романе «Заветы отцов» В. Винниченко: «Вот ахинея и глупость! Соединить вместе побольше всяких „ужасов“, собрать воедино и „порок“ и „сифилис“ и романическое злодейство с вымогательством денег за тайну (и с превращением сестры обираемого субъекта в любовницы) и суд над доктором! Все это с истериками, с вывертами, с претензиями на „свою“ теорию организации проституток... В „Речи“ про роман сказано, что подражание Достоевскому и что есть хорошее. Подражание есть, по-моему, и архискверное подражание архискверному Достоевскому. По одиночке бывает, конечно, в жизни все то из „ужасов“, что́ описывает
122
Винниченко. Но соединить их все вместе и таким образом — значит, малевать ужасы, пужать и свое воображение и читателя, „забивать“ себя и его» (там же, т. 35, с. 107).
Ленин радовался статьям М. Горького «О „карамазовщине“» и «Еще раз о „карамазовщине“» (1913), в к-рых пролетар. писатель, протестуя против инсценировки «Бесов» Достоевского, называет его «великим мучителем и человеком больной совести», одновременно признавая его гениальность как художника. По мысли Горького, Достоевский «...глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей...: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и... мазохизм существа забитого…» (Горький М., Собр. соч., т. 24, 1953, с. 147). В статье «О „Вехах“» Л. пишет о религиозных и антидемократических тенденциях в мировоззрении Достоевского (наряду с П. Чаадаевым и В. Соловьевым). Рус. революционер В. Д. Бонч-Бруевич вспоминает: «Беспощадно осуждал Владимир Ильич реакционные тенденции творчества Достоевского ...Вместе с тем Владимир Ильич не раз говорил, что Достоевский действительно гениальный писатель, рассматривавший больные стороны современного ему общества, что у него много противоречий, изломов, но одновременно — и живые картины действительности» («Литературная газета», 1955, 21 апр., с. 2).
М. Горького Л. считал безусловно «...крупнейшим представителем пролетарского искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать» (Соч., т. 16, с. 186). Горький был другом и соратником Л. Придавая большое значение участию Горького в партийной печати, Л. писал А. В. Луначарскому: «Я именно мечтал о том, чтобы литературно-критический отдел сделать в „Пролетарии“ постоянным и поручить его А. М-чу» (там же, т. 34. с. 333). Но зная, что условия худож. творчества специфичны, он прибавлял к этому: «Но я боялся, страшно боялся прямо предлагагь это, ибо я не знаю характера работы (и работосклонности) А. М-ча. Если человек занят серьезной большой работой, если этой работе повредит отрыванье на мелочи, на газету, на публицистику, — тогда было бы глупостью и преступлением мешать ему и отрывать его! Это я очень хорошо понимаю и чувствую» (там же).
Когда же у Горького появилась «богоискательская» и «богостроительская» идея, столь ненавистная мыслителю-материалисту и революционеру, Л. бескомпромиссно и неумолимо, но тактично атаковал ее в дружеских письмах к Горькому. Ведя спор с Горьким, Л. одновременно стремился привлечь его к практич. работе в партийной печати; он неустанно обращал внимание писателя на действительность, полагая, что правда революц. борьбы и нар. жизни подтверждает большевист. взгляды, опровергая идеи «впередовцев», богоискателей и т. д.
Из художеств. произведений Горького Л. высоко ценил роман «Мать» за его революционно-воспитат. направленность. «...Книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают „Мать“ с большой пользой для себя. „Очень своевременная книга“» (цит. по кн.: Горький М., Собр. соч., т. 17, 1952, с. 7).
Известны колебания Горького в период революции и в первое время после нее. Л. резко и прямо критиковал скептицизм и неверие Горького; вместе с тем он настойчиво советовал ему изучать новые явления действительности, что позволит писателю понять происходящие в жизни народа процессы.
Сочувственно отметил Л. появление своеобразного дарования Демьяна Бедного. В письме в редакцию «Правды» Л. возражал против попыток оценивать деятельность
123
Демьяна Бедного лишь на основе слабых сторон его поэзии: «Насчет Демьяна Бедного продолжаю быть за. Не придирайтесь, друзья, к человеческим слабостям! Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать» (Соч., т. 35, с. 68).
Б. С. Рюриков.
3. В. И. Ленин и советская литература. Пристальное внимание уделял Л. вопросам лит-ры после Октябрьской революции. Активно поддерживая пролет. иск-во, Л. решительно выступал против пренебрежительного отношения к культурному наследию: «Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества» (там же, т. 31, с. 262).
Л. отверг попытки А. Богданова и др. теоретиков Пролеткульта противопоставить пролет. культуру культуре предшествующих эпох и создать новую культуру лабораторно-студийным путем в отрыве от экономич. и политич. борьбы масс. Подобные «теории» Л. называл нелепыми выдумками, похожими на болезни ребяческого возраста, хотя и считал, по словам А. В. Луначарского, «...совершенно понятным стремление Пролеткульта выдвинуть собственных художников» («Ленин и литература», сб., 1963, с. 122).
Осуждая нигилистич. отношение к старой культуре, Л. находил бессмысленным и «преклонение перед всем новым только потому, что „это ново“». В беседе с К. Цеткин Л. сказал: «Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих „измов“ высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости» (цит. по кн.: Цеткин К., Воспоминания о Ленине, М., 1959, с. 10).
Именно поэтому Л. отрицательно относился к попыткам футуристов распространять свои идеи под флагом новаторства и революц. иск-ва. М. Н. Покровского Л. просил «помочь в борьбе с футуризмом» и «найти надежных анти-футуристов», а Луначарскому предложил пресечь футуристич. пропаганду в органах Наркомпроса. Отсюда и недоверчивое отношение Л. к В. Маяковскому. Известны его скептические и отрицат. высказывания о поэте. Но после беседы со студентами ВХУТЕМАСа, горячо защищавшими творчество Маяковского, Л., по свидетельству Н. К. Крупской, «подобрел» к поэту, а когда прочитал его стих. «Прозаседавшиеся», то заявил: «Вчера я случайно прочитал в „Известиях“ стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (Соч., т. 33, с. 197).
С неизменным интересом Л. относился к очерковому жанру, изображающему новую действительность. Стать ближе к жизни, к строительству нового об-ва, к повседневному труду и борьбе рабочего класса и крестьянства — такова, по мнению Л., важнейшая задача сов. лит-ры. Когда в 1918 вышел документальный очерк А. И. Тодорского «Год — с винтовкой и плугом», безыскусно и живо рассказывающий о работе коммунистов Весьегонского у., Л. написал о нем специальную статью. Он назвал книжку Тодорского «замечательной» и утверждал, что издание таких правдивых и богатых ценным фактич. содержанием описаний было бы «...бесконечно более полезно для дела социализма, чем многие из газетных, журнальных и книжных работ записных
124
литераторов, сплошь да рядом за бумагой не видящих жизни» (там же, т. 28, с. 363). О книге В. Зазубрина «Два мира» Л., по свидетельству Горького, отозвался так: «Очень страшная, жуткая книга; конечно — не роман, но хорошая, нужная книга...» (В. И. Ленин о литературе и искусстве, 1960, с. 643). Горячо рекомендовал Л. рабочим всех стран и книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».
Поддерживая развитие лит-ры, неразрывно связанной с жизнью и деятельностью партии и Сов. гос-ва, Л. был непримирим по отношению к бурж. изданиям, пытавшимся сохранить свое существование при сов. строе. Столь же резко относился Л. и к проникновению в сов. печать и лит-ру чуждых большевизму философских и социальных теорий — будь то богдановщина, сменовеховство, шпенглерианство и т. п. В выработанном под его руководством Письме ЦК ВКП(б) «О пролеткультах» указывалось на то, что нек-рые теоретики Пролеткульта пропагандируют под видом «пролетарской культуры» свои собственные полубуржуазные философ. выдумки, а в области иск-ва прививают извращенные вкусы. Редактора журн. «Красная новь» А. К. Воронского (журнал был основан при непосредств. участии Л.) он укорял за публикацию воспоминаний меньшевика Н. Суханова о Февр. революции и статьи В. Базарова о Шпенглере, к книге к-рого «Закат Европы» Л. относился отрицательно.
В письмах Горькому (1919) Л. обращал внимание писателя на то, что его окружает и на него влияет озлобленная бурж. интеллигенция, и советовал ему поскорее вырваться из такой обстановки. «Ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике. Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать не можете», — писал Л. (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 51, с. 26). Одна из главных тем писем Л. — тема гуманизма. Известно, что Горький многократно ходатайствовал перед Л. за «гонимых» людей. Л. внимательно относился к его просьбам. Так, он дал указание об освобождении из-под ареста писателя Ивана Вольнова. Но в тех случаях, когда речь шла о заговорщиках и их пособниках, Л. возмущался заступничеством Горького. «...На нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не в праве бороться, сопротивляться?», — говорил он Горькому (цит. по кн.: Горький М., Собр. соч., т. 17, с. 33). В письмах он убеждал писателя в том, что решительное предупреждение белогвардейских «...заговоров, грозящих гибелью десяткам тысяч рабочих и крестьян» — дело справедливое и подлинно гуманное (см. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 51, с. 48). «Вопль сотен интеллигентов... Вы слышите и слушаете, а голоса массы, миллионов рабочих и крестьян, коим угрожает Деникин, Колчак, Лианозов, Родзянко, красногорские (и другие кадетские) заговорщики, этого голоса Вы не слышите и не слушаете» (там же, с. 49). Горький признал правоту Л. Ленинское понимание гуманности оказало сильное влияние на сов. лит-ру.
Но строгая, подчас суровая критика позиции Горького не мешала Л. высоко ценить творчество писателя, заботиться о нем. Л. были чужды комчванство и сектантство в лит-ре, попытки превратить принципы партийности в орудие «проработки» писателей. Он умел видеть в тех или иных произв. противоречивое переплетение правды жизни и ложных идей, находить в них полезное, даже если они написаны с чуждых позиций. Примером может служить напечатанная в 1921 в «Правде» рецензия Л. на книжку писателя-эмиграта А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». «Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки», — писал
125
Л. Характеризуя ограниченность автора, изобразившего революцию с т. з. «...старой помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России», Л. вместе с тем подчеркнул талантливость книжки и рекомендовал нек-рые рассказы перепечатать (см. В. И. Ленин о литературе и искусстве, с. 476).
«…Будет у нас превосходная, первая в мире пролетарская литература», — говорил Ленин А. Серафимовичу, связывая будущее этой лит-ры с появлением новой рабочей худож. интеллигенции (там же, с. 677). Однако «архификцией» назвал Л. утверждение пролеткультовца В. Плетнева, что «задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата...» (там же, с. 573). По мнению Л., в создании новой культуры должна принять участие и старая интеллигенция, и интеллигенция из непролет. среды. «...Пролетариат победит, устраняя неисправимо буржуазных интеллигентов, переделывая, перевоспитывая, подчиняя себе колеблющихся, постепенно завоевывая все большую часть их на свою сторону» (Соч., т. 29, с. 392). Идейное капитулянтство и сектантство — вот две опасности, от к-рых предостерегал Л.
Л. отвергал любые претензии тех или иных лит. организаций на независимость от партии и Советского гос-ва и любые нападки на право партии руководить развитием лит-ры и иск-ва. Вместе с тем Л. не выдавал своих личных суждений о тех или иных явлениях иск-ва за нечто обязательное для всех и был противником командования, «административных воздействий», некомпетентного вмешательства в области иск-ва и лит-ры. В написанном Л. «Проекте постановления Пленума ЦК РКП(б) о „Пролеткульте“» сказано, что «...работа Пролеткульта в области научного и политического просвещения сливается с работой НКПроса и Губнаробразов, в области же художественной (музыкальной, театральной, изобразительных искусств, литературной) остается автономной, и руководящая роль органов НКПроса, сугубо процеженных РКП-й, сохраняется лишь для борьбы против явно-буржуазных уклонений» (В. И. Ленин о литературе и искусстве, с. 471). Л. считал эту мысль, в к-рой отмечена и необходимость партийного и гос. руководства работой Пролеткульта, и своеобразие «художественной области», главной в решении партии по вопросу о Пролеткульте.
А. Г. Дементьев.
4. Высказывания Ленина о зарубежной лит-ре. Образы мировой лит-ры Л. рассматривал не только в рамках их времени; он часто прибегал к ним как публицист для характеристики совр. людей и событий. Одним из любимых произв. Л. была философ. драма И. В. Гёте «Фауст». К практике рабочего движения Л. применял афоризм из этой драмы: «Теория, мой друг, сера, но зелено вечное дерево жизни». Обличая догматиков от политики, Л. вспоминал гетевского Вагнера, этого схоласта и филистера. Меньшевиков Л. подверг суровой критике в статье «Наши Тартюфы» (там же, т. 8, с. 75), использовав сатирич. образ Мольера, а ликвидаторов называл Тартаренами — по имени комич. персонажа А. Доде (там же, т. 17, с. 489). Подробное описание родов в романе Э. Золя «Радость жизни» Л. привел для аналогии между страданиями, с к-рыми связано рождение ребенка, и не менее мучительным рождением нового обществ. строя (см. там же, т. 27, с. 459).
В романтич. стихах В. Гюго «Возмездия», при известной напыщенности, Л. находил искренний и сильный отклик на франц. революцию 1848. Выразительность худож. образов в лит-ре Л. не всегда связывал непосредственно с прогрес. позицией писателя. Об этом свидетельствует не только отзыв о книжке А. Аверченко, но и суждение о пьесе П. Бурже, высказанное в письме к М. И. Ульяновой: «...видел новую пьесу Бурже „La barrícade“. Реакционно, но интересно» (там же, т. 37,
126
с. 371). В иск-ве Л., очевидно, не любил сентиментальности (известно, напр., что в 1922 он не досмотрел до конца пьесу-инсценировку по новелле Ч. Диккенса «Сверчок на печи»). Его влекли к себе произв., в к-рых изображены энергичные характеры, напр. рассказ Дж. Лондона «Любовь к жизни» — о борьбе полуживого, замерзающего человека с волком; но другой рассказ того же автора, где описан моряк, жертвующий собой ради корыстных планов его хозяина-коммерсанта, вызвал у Л. отрицательную реакцию. С большим уважением относился Л. к творчеству поэта-коммунара Э. Потье, автора текста «Интернационала», называя его «одним из самых великих пропагандистов посредством песни».
С пристальным вниманием относился Л. к стремлениям передовых писателей Запада выйти на путь социализма. В переписке Л. встречаются имена Э. Синклера («социалиста чувства»), М. Андерсена-Нексё, идейно близкого рабочему классу. Об А. Барбюсе Л. писал: «Одним из особенно наглядных подтверждений повсюду наблюдаемого, массового явления роста революционного сознания в массах можно признать романы Анри Барбюса: „Le feu“ („В огне“) и „Clarté“ („Ясность“)... Превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера именно под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво» (там же, т. 29, с. 470). Л. радовало завоевание пролет. революцией умов и сердец «последних могикан» бурж. демократии, писателей-гуманистов, к-рым была очевидна неизбежность краха капитализма, но еще не ясны цели и задачи революц. пролетариата. Так, Л. отметил противоречивость статьи Р. Роллана «Над схваткой» (1915) и брошюры Г. Уэллса «Россия во мгле» (1920), где признание историч. закономерности рус. революции совмещалось с нек-рым страхом перед ней и марксизмом. В предисл. к книге амер. писателя Дж. Рида «Десять дней, которые потрясли мир» (1919) Л. указывал, что «...она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата» (там же, т. 36, с. 478). Читая полученную от Б. Шоу драматич. пенталогию «Назад к Мафусаилу», Л. отметил у автора наряду с фабианскими иллюзиями сатирич. обличение капиталистич. мира.
Тот факт, что Октябрь открыл новую эру в истории человечества и стал стимулом громадного ускорения мирового развития, Л. не считал основанием для оправдания экспрессионизма, футуризма, кубизма и др. направлений, порывающих с художественными традициями классического наследия.
В. И. Ефимов.
Соч.: О культуре и иск-ве. Сб. ст. и отрывков, сост. М. Лифшиц, М., 1938; О лит-ре и иск-ве, сб. док-тов, 2 изд., М., 1960; В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы, 2 изд., М., 1961.
Лит.: Горький М., В. И. Ленин, Собр. соч. в 30 тт., т. 17, М., 1952; Полонский Вяч., В. И. Ленин об иск-ве и лит-ре, «Нов. мир», 1927, № 11; Асеев Н., Об отношении Ленина к Маяковскому. Письмо в редакцию, «На лит. посту», 1931, № 10; Роллан Р., Ленин. Иск-во и действие, Собр. соч., т. 14, М., 1958; Наш Ленин. Рассказывают заруб. писатели, «Ин. лит-ра», 1960, № 4; Живой Ленин. Воспоминания писателей о В. И. Ленине, М., 1965; Луначарский А. В., Ленин и лит-ведение, М., 1934; Цейтлин А. Г., Лит. цитаты Ленина, М. — Л., 1934; Нечкина М. В., Гоголь у Ленина, М. — Л., 1936; Мейлах Б., Ленин и проблемы рус. лит-ры конца XIX — нач. XX вв. Исследования и очерки, 3 изд., Л., 1956; [его же], Вопросы лит-ры и лит. критики в работах В. И. Ленина, в кн.: История рус. критики, т. 2, М. — Л., 1958; Строчков Я. М., О статье В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», «Вопросы истории», 1956, № 4; его же, Неиссякаемый источник, «Лит. газета», 1957, 10 янв.; Мейлах Б., Еще об истории статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная лит-pa», «Нева», 1956, № 11; Эйхенбаум Б., О взглядах Ленина на историческое значение Толстого, «ВЛ», 1957, № 5; Яковлев Б., Ленин и Гёте, «Ин. лит-ра», 1957, № 3; Лифшиц М., По поводу статьи И. Видмара «Из дневника», «Новый мир», 1957, № 9; его же, «Философия жизни» И. Видмара, там же,
127
1958, № 12; Старец С., Нужна ясность, «Дон», 1958, № 1; Чуковский К. И., Ленин о Некрасове, в его кн.: Люди и книги, М., 1958; Максимов А. А., В. И. Ленин и сов. лит.-худож. издания, в сб.: Вопросы печати. Л., 1959 («Уч. зап. ЛГУ, Серия филологических наук», 1959, № 257, в. 47); Крупская Н. К., Отзыв о рукописи Е. Бузковой, «Дружба народов», 1960, № 4; Кузнецов Ф., Ленин о народничестве, «ВЛ», 1960, № 4; Менделевич Г., Герберт Уэллс о Ленине (По малоизвестным материалам), «Москва», 1960, № 4; Рюриков Б., Марксизм-ленинизм о лит-ре и иск-ве, М., 1960; Смирнов И. С., Ленин и сов. культура. Гос. деятельность В. И. Ленина в области культурного строительства (окт. 1917 — лето 1918), М., 1960; Фохт У., Ленинская концепция народничества и народнич. лит-pa, «ВЛ», 1960, № 7; Ленин и вопросы лит-ведения. Сб. ст., М. — Л., 1961; Яковлев Б., Ленин читает ...Книги по драматургии и театру в личной библиотеке Ильича, «Театр», 1962, № 4; его же, Великая школа идейной борьбы (Ленин и совр. лит-ра), «ВЛ», 1963, № 11; Давыдов Ю., Надо мечтать! (Ленин об идеале и фантазии), «ВЛ», 1963, № 4; Ленин и лит-ра. Сб. ст., М., 1963; Кох Г., Марксизм и эстетика. Об эстетич. теории Маркса, Энгельса и Ленина, пер. с нем., М., 1964; Уханов И. П., Образы рус. худож. лит-ры в трудах В. И. Ленина, М., 1965; Нинов А., Каприйские встречи (Ленин и Горький в 1908—1910 годах), «ВЛ», 1965, № 7; К 60-летию статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная лит-pa», «Нов. мир», 1965, № 11; Дементьев А. Г., В. И. Ленин и сов. журналистика, в сб.: Очерки истории рус. сов. журналистики. 1917—1932, М., 1966; Желтова Н. И., В. И. Ленин и лит-pa (Библиография за 1955—1960 годы), в сб.: Ленин и вопросы лит-ведения, М. — Л., 1961; Муратова К. Д., История рус. лит-ры 19 в., Библиографич. указатель, М., 1962; Сов. лит-ведение и критика. Рус. сов. лит-pa (Общие работы). Книги и статьи 1917—1962 гг. Библиографич. указатель, М., 1966.