297
АРИСТО́ТЕЛЬ из Стагиры (’Αριστοτέλης ὁ Σταγιρίτης) (384—322 до н. э.) — древнегреч. философ, ученый-энциклопедист, оставивший большой след в истории эстетики и теории лит-ры. Будучи сначала учеником, а потом антагонистом Платона, А. энергично оспаривал его учение об особой идеальной действительности. А. считал, что идеи играют роль материальных, формальных, действующих и целевых причин. Эти причины в своем единстве и образуют каждую вещь, к-рая, т. о., содержит в себе наглядный образ всех своих внутренних возможностей. Это положение А. дало основание ряду исследователей считать, что основные философские категории рассматриваются А. по аналогии с категориями эстетич., отражая структуру худож. произв. (см., напр., H. Meyer, Natur und Kunst bei Aristoteles, Paderborn, 1919). Во всяком случае, обращаясь к эстетике А., нельзя ограничиваться привлечением только его собственно лит. трактатов «Поэтика» и «Риторика». Философско-эстетич. взгляды А. выражены гл. обр. в трактате «Метафизика», к-рый с точки зрения истории эстетики до сих пор еще мало изучен.
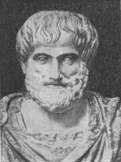
Скульптурный портрет.
Кроме теоретич. эстетики, А. принадлежит разработка общей теории лит-ры и иск-ва. Здесь он выступает с учением о подражании (ми́месис). Термин этот имеется почти у всех античных эстетиков, прежде всего у Платона. Но А. разрабатывает эту тему с позиций, близких к материализму. Для А. подражание — психич. способность, к-рая отличает человека от прочих животных. Оно дает человеку первые познания, сопровождается чувством удовольствия и вовсе не является механич. воспроизведением существующего, но основано на сложной умственной и эмоцион. деятельности и имеет своей целью находить в единичном общее. Понимая под историей внешнее описание единичного, А. резко противопоставляет поэзию истории и полагает, что «поэзия и философичнее и серьезнее истории», потому что история говорит о «действительно случившемся», а поэзия — «о том, что могло бы случиться» «по вероятности или по необходимости» («Поэтика», гл. 9). Учение о подражании, т. о., опирается у А. на диалектику единичного и общего, что уже выходит за пределы одной только эстетики. В античном учении о мимесисе — подражании — сказалась историч. ограниченность античной мысли, выросшей на почве рабовладельч. формации и исходившей из данности объективного мира, к-рый нужно было лишь воспроизводить и к-рый давал с этой точки зрения мало места для творч. фантазии.
В учении А. о лит. жанрах и стилях следует выделить концепции трагедии и эпоса. Из «Поэтики» мы узнаем прежде всего о происхождении трагедии (от сатировской игры и от запевал дифирамба, т. е. из культа Диониса; гл. 4). А. принадлежит знаменитое определение трагедии, во все века доставлявшее ученым-филологам
298
и критикам много труда для своего истолкования. Признаками трагедии, по А., являются: 1) подражание; 2) «важный и законченный» предмет определенного объема; 3) речь, по-разному украшенная в разных своих частях; 4) действие, а не рассказ; 5) сострадание и страх; 6) очищение аффектов. Ввиду отсутствия всяких пояснений термина «очищение» («катарсис») было высказано множество разных мнений о природе этого процесса, из к-рых следует выделить этич., эстетич., религ., физиологич. и общепсихологич. Едва ли, однако, сам А. четко различал все эти моменты. Действительное понимание катарсиса нужно выводить из общетеоретич. взглядов философа, к-рые не позволяют стать ни на одну из указанных позиций, а требуют синтетич. подхода.
В трагедии А. различает 6 моментов: миф, характеры, образ мыслей, сценическая обстановка, словесное выражение и музыкальное сопровождение. Миф является душой трагедии, т. к. он есть «состав происшествий», характеры, по А., не обязательны для трагедии. Исходя из опыта лишь античной и притом архаич. драмы, к-рая еще не знала психологически разработанных индивидуальных характеров, А., хотя и дает классификацию их, однако главными моментами трагедии считает перипетию, узнавание одних действующих лиц другими, страдание. Особое внимание А. обращает на структуру трагедии, т. е. на ее единство, под к-рым понимается единство действия, отчасти единство времени (но не места, как это иногда приписывали А. впоследствии), на ее величину (она должна соответствовать реальным возможностям человеч. восприятия) и на органич. цельность трагедии, исключающую всякие перемены и перестановки в действии. В «Поэтике» говорится о частях трагедии, классификации характеров, о развязке, завязке и разных типах трагедий. Последняя часть дошедшей до нас «Поэтики» посвящена теории эпоса.
А. считал истинным содержанием иск-ва реальную действительность, сущность иск-ва он представлял себе живой и подвижной, исследуя изменения, к-рым подверглась поэзия у разных авторов и в разных жанрах. «...Подражать приходится или лучшим, чем мы, или худшим, или даже таким, как мы...» («Поэтика», гл. 2) — писал А., имея в виду в первом случае героич. эпос, во втором случае — комедию и пародию. Касаясь способов изображения человека, А. снова подчеркивал, что поэт или «...должен изображать вещи так, как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть» (там же, гл. 25). И все эти три способа А. считал законными, если при этом не нарушена правда предмета. В Софокле А. видел поэта, изображающего людей такими, «какими они должны быть», Еврипида же А. считал поэтом, рисующим людей «такими, каковы они есть». При этом, в отличие от Аристофана, А. высоко оценил творчество Еврипида, считая его самым трагичным из всех поэтов. Хотя теория А. является обобщением практики одной греч. лит-ры, его мысли связаны с проблемами, стоящими перед эстетич. мыслью на протяжении всей истории человечества, включая эпоху социализма.
А. выступил как теоретик греч. классики, в к-рой великие события, героич. характеры и потрясающие аффекты получали отчеканенную форму с присущей ей ясной, простой и последоват. структурой, с отсутствием глубоко разработанной психологии и с постоянным приматом общих идей над индивидуальными моментами. В этом смысле показательно учение А. о стиле, гл. достоинством к-рого он считал ясность. А. подробно говорит о способах достижения этой ясности («Риторика», III, 2), рассматривает рецепты против холодности стиля (III, 3). Роль сравнений и метафор (III, 4), наблюдения над правильностью языка (III, 5), вопросы
299
пространности и сжатости стиля (III, 6), полнота чувств, отражение характера героев, соответствие истинному положению вещей (III, 7), срединное положение стиля между метрич. и не метрич. речью (III, 8), изящество и наглядность (III, 10—11), разные типы стилей (III, 12) — такова проблематика учения А. о стиле.
А. уделял большое внимание проблемам эстетич. воспитания. Он стремился насаждать благородные и уравновешенные нравы, давал рецепты для воспитания интеллекта свободно рожденного человека при помощи музыки и поэзии и учил создавать ровные, выдержанные настроения. Замечат. образцом его рассуждений об эстетич. воспитании является «Политика» (VIII, 2—7).
А. занимался также историей греч. лит-ры от Гомера до своего времени, о чем свидетельствуют многочисл. названия его не дошедших до нас трактатов («О поэтах», «О речи», «Гомеровские вопросы», «О трагедиях», «Дидаскалии»). Высказывания А. о Гомере показывают, что в своих толкованиях он избегал всякого аллегоризма и моралистики, подчеркивал у Гомера отражение совр. ему жизни, обсуждал его прежде всего с худож. точки зрения, весьма здраво относясь ко всем странностям и архаизмам, к-рые можно найти у Гомера.
«Поэтика» А. имеет мировое значение. Если исключить переводы ее на араб. и сирийский языки в 9—10 вв. и перевод ее в Испании в 13 в. на лат. язык, то уже в 16 в. в Италии и в 16—17 вв. во Франции она становится широко известной. В 17 в. крупнейший критик классицизма Н. Буало развивал, применительно к франц. лит-ре, традицию поэтики не А., а Горация, к-рый, повторяя в нек-рых моментах А., в целом выступал с иной концепцией. В эпоху Просвещения нем. просветитель Г. Э. Лессинг с его стремлением, отвергнув классицизм, обратиться к живому роднику самой древней классики поднял на щит А. и при этом освободил его поэтику от условностей и навязанной ему традицией теории трех единств. И. В. Гёте и Ф. Шиллер также увлекались «Поэтикой» А. В России А. был популярен благодаря деятельности гл. обр. В. К. Тредиаковского, а также А. П. Сумарокова. После эпохи классицизма «Поэтика» и «Риторика» уже перестали связываться так близко с проблемами конкретного худож. творчества, а сами соч. А. толковались часто лишь как сводка теоретич. принципов, зачастую формалистически воспринимаемых. Об эстетике и поэтике А. можно сказать то же, что сказал В. И. Ленин об его логике: «...из нее... сделали мертвую схоластику, выбросив все поиски, колебания, приемы постановки вопросов» (Соч., т. 38, с. 366). Между тем именно эти вопросы и искания А. как раз и делают его «Поэтику» и «Риторику» неувядаемыми памятниками эстетич. мысли.
Н. Г. Чернышевский указывал, что А. был первый, кто «изложил в самостоятельной системе эстетические понятия», и что его соч. «...имеет еще много живого значения и для современной теории...» (Полн. собр. соч., т. 2, 1949, с. 267, 284). А. строил свою эстетику с точки зрения совр. человека на относительно узком худож. опыте одного только греч. иск-ва, однако его взгляды в эстетике, как и в философии, содержат «массу архиинтересного, живого, наивного (свежего)...» (Ленин В. И., Соч., т. 38, с. 365).
Соч.: О поэзии, перевел [о греч.], изложил и объяснил Б. Ордынский, М., 1854; Поэтика Аристотеля, пер., разбор содержания и коммент. В. И. Захарова, Варшава, 1885; Об искусстве поэзии, греч. текст с пер., объясн. Вл. Аппельрота, М., 1893; новое издание со статьями А. С. Ахманова и Ф. А. Петровского, под ред. и с коммент. последнего, М., 1957; Поэтика, пер., введ. и примеч. Н. И. Новосадского, Л., 1927; Риторика, пер. Н. Платоновой, СПБ, 1894; La poétique d’Aristote. Ed. et trad. nouvelles, précédées d’une étude philosophique par A. Hatzfeld et M. Dufour, P., [1899]; Aristotelis de arte poëtica liber, ed. W. Christ, 5 ed., Lipsiae, 1913; La poetica. Comm. e append. critica di A. Rostagni,
300
Torino, 1928; то же, 1945; Περὶ Ποιητικη̃ς, ed. A. Gudeman, B. — Lpz., 1934; Aristote, Poétique. Texte établi et traduit par J. Hardy, 2 ed., P., 1952; Aristotelis ars rhetorica, ed. A. Roemer, Lipsiae, 1923; Aristotles Rhetoric with a comment by E. Cope. ed. J. Sandys, v. 1—3, L., 1877; The Rhetoric of Aristotle, a transl. by R. Cl. Jebb, ed. with an introd. and with suppl. notes by J. E. Sandys, Cambr., 1909; Aristotle with an english transl. by J. H. Freese, The Art of Rhetoric, L., 1947; более подробную библиографию о «Поэтике» А. см. в указ. выше переводе Н. И. Новосадского, с. 111—15.
Лит.: Шевырев С. П., Теория поэзии в историч. развитии у древних и новых народов, М., 1836, с. 49—82; Чернышевский Н. Г., О поэзии. Сочинение Аристотеля, Полн. собр. соч., т. 2, М., 1949; Горкевич Л., Взгляды Аристотеля и Горация на поэзию, «Гимназия», 1894, № 8, с. 447—70; Лосев А. Ф., Очерки античного символизма и мифологии, М., 1930, с. 695—757; Асмус В. Ф., Реализм в эстетике Аристотеля, «Театр», 1938, № 1—2; Казанский Б. В., Аристотель о началах трагедии, «Вестн. ЛГУ», 1947, № 7; Головня В. В., Поэтика Аристотеля о сценической стороне трагедии, в кн.: Ежегодник ин-та истории искусств. 1958. Театр, М., 1958, с. 263—96; Döring A., Die Kunstlehre des Aristoteles, Jena, 1876; Finsler G., Platon und die aristotelische Poetik, Lpz., 1900; Bachmann W., Die aestetischen Anschauungen Aristoteles, Progr. Nürenb. Altes Gymnasiums, 1902; Vahlen J., Beiträge zu Aristoteles Poetik, Neudruck besorgt von H. Schöne, Lpz. — B., 1914; Borinski K., Die Antike in Poetik und Kunsttheorie, Bd 1—2, Lpz., 1914—24; Fyfe W. H., Aristotle’s Art of Poetry. A greek view of poetry and drama, with an introd. and explan., Oxf., 1940; Epps P. H., The Poetics of Aristotle. The Univ. of North Carol. Press, 1942; Butcher S. H., Aristotle’s theory of poetry and fine art, 5 ed., N. Y., 1955; Else G. F., Aristotle’s Poetics: the argument, Cambr., [Mass.], 1957.
А. Ф. Лосев.