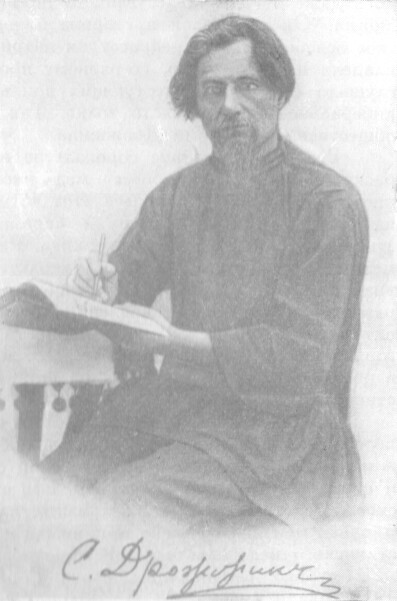- 755 -
Дрожжин и поэты деревни
1
Расслоение пореформенной деревни вызвало к жизни особую мелкобуржуазно-демократическую общественную прослойку, которая выражала интересы мелких хозяев, крестьян, рабочих из недавних крестьян. По своим общественным отношениям эта социальная группа колебалась между буржуазией, к которой она тяготеет и в которую удается попасть лишь небольшому меньшинству счастливцев, и между пролетариатом, к которому ее сталкивает весь ход общественной эволюции. Эта прослойка выдвинула и своих писателей — людей мелкобуржуазно-демократических взглядов, полурабочих, полукрестьян, «предпролетариев», сохранивших еще многие предрассудки собственнического сознания.
Поэтическое творчество И. З. Сурикова, корнями своими связанное с народным песенным творчеством, надолго определило пути развития довольно большой группы писателей-суриковцев, людей трудовой жизни, как он, с детства оторванных от деревенского уклада. Суриков начал группировать их вокруг себя еще в 60-е годы. А в 1872 году содружество суриковцев издало первый сборник «Рассвет».
После смерти Сурикова многочисленные ученики-подражатели подхватили его тематику и тональность. Участники «Рассвета» А. Я. Бакулин (1813—1894) — дед В. Я. Брюсова, С. Я. Дерунов (1831—1909), Д. Е. Жаров (1845—1874), М. А. Козырев (1852—1912), А. Е. Разоренов (1819—1891), И. Д. Родионов (1851—1881), И. Е. Тарусин (1834—1885) и другие по-разному перепевали тему горестей и злосчастья простого человека «из народа».
Суриковцы — поэты-песенники по преимуществу. Лучшие их стихи, родственные стилю крестьянской лирики, иногда прочно входили в народный обиход. Таковы песни «Не брани меня, родная» А. Е. Разоренова, «Потеряла я колечко» М. И. Ожегова и др. Живая связь с трудом и бытом народа, с демократической песенной традицией определила творчество наиболее талантливых из среды суриковцев — в их числе крупнейшего после Сурикова поэта-самоучки С. Д. Дрожжина (1848—1930).
Сын бедного крестьянина, Спиридон Дрожжин двенадцати лет перебирается в Петербург, ведет там скитальческую жизнь, меняет множество профессий — от полового в гостинице «Кавказ» до приказчика в книжной лавке А. С. Суворина. С 1866 года начинается пора поэтических опытов Дрожжина. Дебют в декабрьской книжке «народного журнала» «Грамотей» за 1873 год («Песня про горе добра-молодца») открывает ему доступ
- 756 -
сперва в детские издания типа «Игрушечка», «Семейные вечера», «Детское чтение», затем в «Родину» и, наконец, в толстые журналы: «Слово», «Дело», «Русское богатство».
Еще в юности Дрожжин испытывает плодотворное влияние идей революционной демократии. Особенно высоко он ценит Белинского. «Это наш великий и всеобщий учитель, на котором будет еще воспитываться юношество многих и многих поколений», — писал он.1 Его автобиографические «Записки автора о своей жизни и поэзии» хранят признания о близком знакомстве молодого Дрожжина со значительнейшими произведениями передовой общественной мысли России. Любимым чтением Дрожжина, по его словам, становится сатирический журнал В. С. Курочкина и Н. А. Степанова «Искра», который попадает ему в руки в 1864 году. «Я срисовывал и списывал из него в особую тетрадь, — вспоминает Дрожжин, — карикатуры и особенно нравившиеся стихотворения». В круг чтения юноши входят книги Белинского и Некрасова, Решетникова и Помяловского. Некрасова он, по его признанию, «прочел... с наслаждением», «не отрываясь», видя в нем «выразителя наших дум». Решетников для Дрожжина «вполне и истиннонародный русский писатель». В «Подлиповцах» он находит выражение близких ему стремлений писателя-демократа, строгого и беспощадно правдивого реалиста. «Какая страшная правда в этих „Подлиповцах“!», — пишет он и заключает, в полном согласии с исходным положением революционно-демократической эстетики: «А где правда, там и поэзия». Эти глубоко личные признания поэта не случайны: они подкреплены лучшими страницами его лирики.
В 1867 году Дрожжин посещает собрания кружка студентов-разночинцев. Встречи с разночинной молодежью не прошли для него бесследно. «Какие это были славные и сердечные люди! — вспоминает он в своих «Записках». — От души, бывало, спорят, волнуются, горячо толкуют о науке, литературе и общественной жизни».2 Вопросы литературы и общественной жизни находили здесь демократическое разрешение. Так, разными путями воздействовали на Дрожжина передовые идеи времен его юности. Их он впитывал органически, они много значили для него и впоследствии. Объясняется это прежде всего непосредственной близостью Дрожжина к народной жизни, народным заботам и ожиданиям. Это были собственные интересы поэта, его собственная жизнь, и они-то лучше всего подтверждали правоту его первых учителей.
Идеи демократии будили творческую мысль Дрожжина. Многие его стихотворения и песни 70—80-х годов, такие, как «Песня работника», «Песня швей», «Моя муза», «Песни рабочих», «Вечная память», «Памяти Н. А. Некрасова» и др., по своим идейно-стилевым признакам близки главному направлению развития передовой демократической поэзии той поры. Он призывал в одном из стихотворений 1879 года:
Честным порывам дай волю свободную,
Начатый труд довершай
И за счастливую долю народную
Жизнь всю до капли отдай!3
И в дальнейшем Дрожжин стремится следовать традициям лирики Некрасова, Сурикова и других поэтов крестьянской демократии. Гражданственные,
- 757 -
патриотические мотивы их творчества рождают горячий ответный отклик и в его стихах. Влияние И. З. Сурикова, с которым Дрожжин в последние годы жизни этого поэта находился в оживленной переписке, сказалось особенно отчетливо в песнях Дрожжина, посвященных крестьянству. Поселившись с 1894 года в деревне Низовке Тверской губернии, он отдавал преобладающее внимание темам и образам крестьянской жизни: крестьянским настроениям и нуждам, деревенскому бытовому пейзажу. Созданные им живописные сельские картинки, опоэтизированные портреты жницы и пахаря-труженика с его «лошадкою усталой» дышали искренностью поэтического чувства:
...с любовью величаю
Крестьянский быт, крестьянскую заботу
И выхожу с зарею на работу.(«Растаял снег среди полей»).
С. Д. Дрожжин.
Фотография с автографом. 1900 г.Никому из суриковцев не была так близка песенно-лирическая струя народной поэзии, как Дрожжину. У фольклорной песни он взял ее музыкально-ритмической склад, систему ее выразительных приемов и средств. Он с полным основанием называл себя песнотворцем. Такие его песни, как «У колодца» (из поэмы «Дуняша»), «Жница», «Не полынь с травой-повиликою», «Под душистою рябинушкой» и другие, и поныне живут в народном песенном репертуаре как создания самого народа. В этом жанре раскрывались наиболее сильные стороны его творчества. Песенную природу поэзии Дрожжина отчетливо видели современные ему композиторы, охотно писавшие музыку на дрожжинские тексты. Именно эти черты его дарования особенно ценили передовые демократические писатели. «Милым, ясным певцом простой правдивой русской песни» назвал его в 1914 году А. С. Серафимович.
Дрожжину была органически чужда эстетика «чистого искусства», влияния которой не избегли некоторые поэты-суриковцы. Не коснулись его и воздействия реакционной литературы буржуазного декаданса: ее он решительно отрицал. В его стихах исподволь звучали скорбные, протестующие ноты, призывы к свободе и равенству:
Мне ненавистны рабства цепи
И царство вечное царей...— возвещал он в своих стихах.
И все же достичь подлинной остроты социального обличения, подняться до четко осознанного социального протеста Дрожжину не удавалось
- 758 -
даже в годы общественного подъема накануне первой русской революции. Он находился в стороне от организованной борьбы народа за свое освобождение. Предрассудки патриархального крестьянского сознания владели им неотступно, по-разному проявляясь в его стихах. И это приглушало силу его протестующих призывов, сообщало им расплывчатость либерально-народнического толка. Так обнажалось самое уязвимое место общественной позиции Дрожжина.
«Все пореформенное сорокалетие есть один сплошной процесс этого раскрестьянивания, процесс медленного, мучительного вымирания», — писал В. И. Ленин.1 Процесс этот во многих его конкретных проявлениях наблюдал Дрожжин с позиций «временно обязанного», нищающего крестьянина, и он страшил Дрожжина. Растерянность перед лицом пореформенных потрясений, пессимизм характерны для многих лирических признаний поэта. Дрожжин искренно страдал за крестьянство, неумолимо разорявшееся в ходе становления России на путь капиталистического развития, но исторической закономерности происходящего он не понимал. Он горячо ратовал за просвещение, сострадание, любовь, простодушно верил в целительную силу трудолюбия, не видя иных путей преобразования действительности.
Не удивительно, что заблуждения поэта, опутанного патриархальными пережитками, были на руку «народолюбцам» различных мастей. На Дрожжина они сознательно воздействовали своими критическими напутствиями и своей издательской политикой. Его стихи печатало народническое «Русское богатство». Ряд книжек выпустил толстовский «Посредник». Реакционная критика всячески принижала и порицала мотивы подспудного крестьянского недовольства, присущие поэзии Дрожжина.
Глубоко справедливы слова Горького, высказанные им в январе 1911 года в письме А. А. Яблоновскому: «Я верю также, что попади Дрожжин в юности в хорошие, любовные руки, из него вышло бы не то, что видим ныне».2 В этих словах Горького дана верная оценка поэзии Дрожжина.
Дрожжин не был поэтом революционной борьбы. Он — поэт революционных предчувствий, свободолюбивых ожиданий и надежд. Стихотворение Дрожжина «Дайте крылья мне соколиные», написанное в 1905 году, исполнено радостной веры в близкое торжество народных идеалов. И в годы после поражения первой русской революции он не перестает мечтать о народной вольности, об освобожденной родине:
Да будет ваша жизнь свободна,
Как Волга-матушка река,
Как в поле нива небесплодна,
Чиста, как воздух, и легка...(«Завет крестьянского
поэта»),— пишет он в стихотворении 1910 года, обращаясь к «друзьям».
Дрожжину суждено было дожить до осуществления своих ожиданий. Семидесятилетним стариком он встретил приход Великой Октябрьской социалистической революции, и голос песнотворца зазвучал с новой, бодрой силой, его лирика обрела высокую жизнеутверждающую тему. Ему не пришлось для этого радикально пересматривать свой эстетический кодекс, систему выразительных средств. Народно-песенная основа его лирики сохраняла свою жизненность. Он воспевал революционную действительность
- 759 -
как воплощение народного счастья, как свершение вековой мечты народа. Себя он видел народным певцом, призванным прославить освобожденную отчизну:
О чем поешь, баян народный,
Скажи-ка мне? —
Пою о родине свободной
И о весне.
(«Баян»)
Путь, пройденный Дрожжиным, не был путем крутого и безостановочного восхождения. Поэт, по самой устремленности своего творчества близкий народу, народному труду и народной лирике, стремившийся следовать заветам великой русской демократической литературы, не сумел все же подняться до высот боевой, подлинно революционной народной поэзии. Но при всей ограниченности общественного сознания Дрожжина правда народной жизни побеждала в его поэзии. Дрожжину удалось запечатлеть в своем творчестве порыв народа к свободе и счастью, удалось воспеть пору осуществления вековых народных стремлений. Это и определяет ценность лучших страниц его лирики. Как поэт большой лирической одаренности, далеко не до конца осуществивший свои возможности, Дрожжин и занял свое место в истории русской поэзии.
2
В полосу общественного подъема на рубеже двух веков поэты-суриковцы, к числу которых принадлежал и С. Д. Дрожжин, предпринимают попытки организационного оформления. Около 1895 года вокруг М. Л. Леонова (1872—1929) объединяется группа молодых поэтов, мечтавших оформиться в «Московский товарищеский кружок писателей из народа». Хотя ни кружок, ни задуманный журнал не были разрешены, объединение все же выпустило на первых порах стихотворные сборники «Думы» (1895), «Грезы» (1896) и «Нужды» (1897). Заполненные элегическими размышлениями на узко личные темы, эти сборники уводили далеко в сторону от традиции Сурикова. Суриковцы в силу мелкобуржуазной ограниченности своего мировоззрения оказались неспособными постичь исторический смысл происходящих в стране событий, и это обстоятельство болезненно отозвалось на их произведениях и на их организационной жизни. Не последнюю роль тут сыграла и цеховая замкнутость их содружества. В уставе суриковцев, утвержденном, после долгих проволочек, лишь 10 марта 1904 года товарищем министра внутренних дел П. Дурново, говорилось, что «действительными членами кружка считаются только писатели из народа, не получившие высшего или среднего образования».1 Этот пункт как бы закрывал перед суриковцами перспективы собственного развития.
«Московский товарищеский кружок писателей из народа» за короткий срок переменил несколько руководителей. В 1904 году кружок издал большой альманах «К заветной цели!». В этой своеобразной антологии исчерпывающе были представлены суриковские поэты и прозаики тех лет, со всеми основными мотивами их творчества и первыми признаками размежевания, приведшего к расколу в дни революции. Новые, революционные предчувствия затронули не всех авторов альманаха. «Улетим мы от душного мира с тобой, улетим мы от жалких и пошлых людей», — призывал
- 760 -
Н. Никаноров-Каринский. Но не эти мотивы являлись ведущими в сборнике, а романтические стихи «левой» группировки — Михаила Савина, Филиппа Шкулева, Георгия Нечаева. Правда, творчество и этих поэтов не выражало тогда последовательной революционной программы. Такая программа и не могла быть доступна их сознанию, не вооруженному передовым мировоззрением. Революция рассеяла многие их иллюзии. И не случайно в начале 1905 года, выпустив сборник «Народные досуги», кружок писателей из народа распался.
В полосу первой русской революции объединения суриковцев возникали словно грибы после дождя и так же быстро и незаметно рассыпались. Литературная и издательская деятельность особенно интенсивно протекала в тот краткий отрезок времени, когда, по словам В. И. Ленина, «демократическая книжка стала базарным продуктом».1
В 1905 году московский «Народный кружок» под руководством П. А. Травина подготовил четыре сборника: «Утро», «Волны», «Прибой» и «Огни», причем последний сборник был запрещен цензурой. Почти одновременно с книжками «Народного кружка» появились альманахи «Луч» (1906), изданный «Товарищеской библиотекой», «Думы и жизнь» (1906) — сборник кружка «Обновленный народ» и др. В них отразились попытки преодоления народнических влияний и реформистских иллюзий. Процессы эти протекали тем активнее, чем теснее были связаны писатели с практикой революционной борьбы. И чем более отходили участники сборников от традиционной тематики, тем успешнее отвечали их издания растущему спросу народных масс на «демократическую дешевую книжку».
После «кровавого воскресенья» (9 января 1905 года) «левая» группа повела за собой подавляющее большинство демократических поэтов. В 1905—1906 годах Ф. С. Шкулев и М. Л. Леонов организовали книгоиздательство «Искра». Недолгая деятельность этого издательства — яркое и значительное событие в литературной жизни суриковцев, впервые ставших на путь активной политической борьбы. От «бунта на коленях» они перешли к действенным формам сопротивления. Шкулев в автобиографии, вслед за сообщением о своем руководстве издательством «Искра», рассказывает, как в дни декабрьского вооруженного восстания в Москве он сражался на баррикадах и испробовал казацкой нагайки.
Кроме ряда листовок и дешевых брошюр на политические темы, книгоиздательство «Искра» напечатало два выпуска «свободных песен» — «Под красным знаменем». Среди них были гимн большевистской партии «Интернационал», переведенный А. Я. Коцем, «Марсельеза» в переводе Вл. Ладыженского, песни «Красное знамя» в переводе Г. М. Кржижановского, «Смело, друзья, не теряйте» М. Л. Михайлова, «Дубинушка», «Машинушка», «Мы братья» — почти все без указания авторов, как в большинстве старых песенников. То были песни восстания и борьбы, широко популярные, повсеместно исполнявшиеся и творчески видоизменявшиеся народом. А рядом были напечатаны стихи суриковцев. М. Л. Леонов передавал свои впечатления от событий 9 января, рисовал лирический образ Н. Э. Баумана. Нечаев, Шкулев, Савин создавали боевые, призывные гимны. Их поэтические отклики на победоносные события революции обрели агитационно-ораторский характер. Ф. С. Шкулев славил революцию, подвиги ее бойцов, ее цели и перспективы («В дни революции», «На баррикадах»). Первый выпуск песен «Под красным знаменем» разошелся
- 761 -
в двух многотиражных изданиях. После поражения революции 1905 года руководители «Искры» подверглись тюремному заключению. Леонов, высланный в Архангельск, принял ближайшее участие в газете «Северное утро», а Нечаев и Шкулев перенесли свою деятельность на страницы радикальной газеты «Правда божия», которую издавал в 1906 году заштатный священник Г. С. Петров, «христианский демократ, весьма популярный демагог».1 Суриковцы, завладевшие литературным отделом этой газеты, вскоре перешли к изданию собственных печатных органов, получивших достаточно широкое распространение.
По-иному сложилась литературная деятельность М. К. Савина (1876—1947). В 1905—1906 годах Михаил Савин много печатался (под псевдонимом «Дедушка с Протвы») в профсоюзных органах — «Листке булочников и кондитеров» и журнале «Булочник», который он сам редактировал. В стихах этого периода Савин показывал суровую обстановку труда пекарей и своего излюбленного героя — революционера-пропагандиста, заронившего в сознание людей искры нового, действенного отношения к жизни (стихотворения «Новый пекарь», 1905; «Рассказ пекаря», 1906). Здесь же, на страницах профсоюзной прессы, Савин помещал свои сатирические стихи, памфлеты и фельетоны. В них он клеймил врагов-предпринимателей и славил успехи профессионально-стачечного движения булочников-рабочих, завоевания общенародной политической борьбы. Эти наиболее зрелые стихи Савина не нашли места в его книжке «Новые песни» (1907), появившейся уже после «третьеиюньского переворота». Савин-сатирик был из книги исключен целиком. Но и то, что осталось в этой обедненной, небольшой книжке Савина, называлось «Новыми песнями» с полным правом. Книжка свидетельствовала о переходе Савина с позиций «писателя из рабочих» к деятельности писателя пролетарской идеологии.
Суриковская «левая» группа формировалась в обстановке все возраставшего влияния среди народа идей революционного пролетариата и его партии. И поэтому, примкнув к пролетариату в героических боях 1905 года, она сумела создать такие, в сущности, совсем не суриковские по стилю и идейному содержанию стихи, как романтические гимны Нечаева и Шкулева, сумела овладеть такими до тех пор не изведанными его жанрами, как жанр агитационно-сатирической песни, стихотворного перифраза и фельетона (стихи Савина). С ними поэты суриковской «левой» группы вышли на страницы подпольной большевистской и профсоюзной печати. Революция 1905 года открыла глаза лучшим деятелям суриковского направления на истинную суть мещанского «всеобщего блага», они отшатнулись от буржуазии и отказались от своих былых заблуждений. Другая часть суриковцев продолжала оставаться в плену мелкобуржуазных идей.
Под влиянием первой русской революции в произведения суриковцев все чаще стала проникать общественно-политическая тематика. Возникла обширная пресса суриковцев. Михаил Тихоплёсец (М. А. Логинов, 1871—1912), автор книги стихов «Пробные аккорды» (1904) и сборника рассказов «Звенья» (1910), встреченного ободряющим письмом Горького, выступил редактором-издателем газеты «Мужицкая правда» и ряда журналов. Филипп Шкулев редактировал газету «Новая пашня» и сатирические журналы «Народный рожок» и «Шрапнель». Свыше десятка газет пытался издавать в 1907—1914 годах Петр Травин. «Доля бедняка», самая долговечная из них, просуществовала около четырех лет (1909—1912).
- 762 -
Главным отделом «Доли бедняка» была публицистика, большое место отводилось статьям-раешникам «Деда-Травоеда». В своих обличительных заметках Травин, впрочем, редко шел дальше слезливо-сентиментальных описаний горестей бедняка. Особенно слаба была позитивная «программа» Травина. Он сулил классовую гармонию на земле, как только все труженики достигнут образовательного уровня своих эксплуататоров. И в то же время черты христианско-народнического идеализма сочетались в его взглядах с враждой к интеллигенции. Критически подмечая отдельные уродливые штрихи капиталистического устройства жизни, Травин, подобно большинству своих собратьев, не в силах был обобщить разрозненные явления. Оттого беллетристика Травина и отличалась резкой натуралистичностью стиля, никогда не достигала действенной силы и остроты социального обличения.
Реформистские взгляды Травина разделяли многие суриковцы, в том числе и Григорий Завражный (Г. С. Потов, 1867—1921). Он выразил их в своих сборниках рассказов «Жизнь» (1903) и «В народе» (1911), в газетах «Народная правда», «Сеятель» и журнале «Народная семья», которые он редактировал.
В годы реакции влияние демагогии махаевского типа на отсталую часть суриковцев было особенно сильно. Озлобление против буржуазной интеллигенции, отгородившейся от народа частоколом ренегатских «вех», принимало у писателей «из низов» характер полного ее отрицания.
«Очень жутко и больно отмечать рядом со стремлением „человека страшной жизни“ к благам культуры его скептицизм и недоверие к интеллигенции», — писал Горький в статье «О писателях-самоучках».1
В годы нового подъема революционного движения (начало 910-х годов) наиболее передовые суриковцы потянулись к Горькому, к большевистской прессе. В эту пору «Суриковский литературно-музыкальный кружок», возникший на основе «Московского товарищеского кружка писателей из народа», претерпевал упадок. Поэт С. Н. Кошкаров в письме Н. П. Дружинину (ноябрь 1910 года) оставил неприглядную характеристику этого кружка: «Между прочим, я познакомился с писателями-народниками, а именно с Суриковским литературным кружком. Они издают разные сборники, готовятся к выпуску журнала „Народная мысль“ и проч. Когда я слушал их разговоры — я прямо был поражен их невежеством! Мне показалось, что я приехал не в Москву, а в какое-то глухое село и попал в компанию волостных писарей или псаломщиков или немного лучше этих лиц! Суриковский кружок принял меня очень радушно. Они восторженно отозвались об моих произведениях, а я, слушая их речи, желал себе голову разбить об стену, — только бы не видеть их невежества!.. Мне было ясно, что эти люди ничего не могут дать народу ввиду своего крайнего невежества. Они в Москве никаких книг не читают! Да что! — садясь за стол, многие из них крестятся на образ! Милые мещане!..».2
Сергей Кошкаров, выпустивший свою первую книжку «Стихотворения и басни» еще в 1902 году в Угличе, к 1910 году ставший автором трех десятков стихотворных сборничков, печатавшийся иногда в «Звезде» и «Правде», был избран председателем «Суриковского литературно-музыкального кружка». Но и Кошкаров не мог внести оживления в затхлую атмосферу этой изжившей свой век организации.
- 763 -
В годы империалистической войны Кошкаров и суриковская «левая» группа подписали антимилитаристское воззвание, выдержав борьбу с реакционной частью кружка — М. И. Ожеговым, С. Д. Фоминым и др. В период гражданской войны С. Н. Кошкаров печатался в «Правде», «Известиях», «Бедноте», «Голосе трудового крестьянина» под псевдонимами «Сергей Заревой» и «Иван Голяк». Кошкаров погиб на фронте 27 ноября 1919 года.
Путь Кошкарова — путь лучших писателей-суриковцев, путь, которым шли в революцию Нечаев, Савин, Шкулев, Подлесный (Праскунин) и другие поэты суриковской «левой» группы. Это путь лучшей части литераторов «из низов», ставших активными сотрудниками большевистской прессы и занявших значительное место в предоктябрьской пролетарской литературе.
СноскиСноски к стр. 756
1 Жизнь поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина (1848—1915 гг.). М., 1915, стр. 53.
2 Там же, стр. 49, 54, 66, 52.
3 С. Д. Дрожжин. Избранное. Гослитиздат, М., 1948, стр. 68. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию.
Сноски к стр. 758
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 396.
2 М. Горький. Материалы и исследования, т. I, стр. 327.
Сноски к стр. 759
1 Устав Московского товарищеского кружка писателей из народа, М., 1904, стр. 4.
Сноски к стр. 760
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 286.
Сноски к стр. 761
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 12, стр. 126.
Сноски к стр. 762
1 М. Горький, Собрание сочинений, т. 24, стр. 113.
2 Письмо предоставлено нам в 1940 году ныне покойным Н. П. Дружининым.