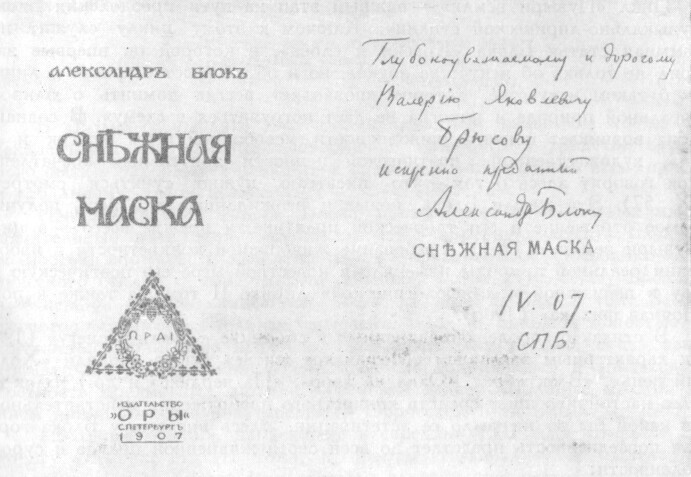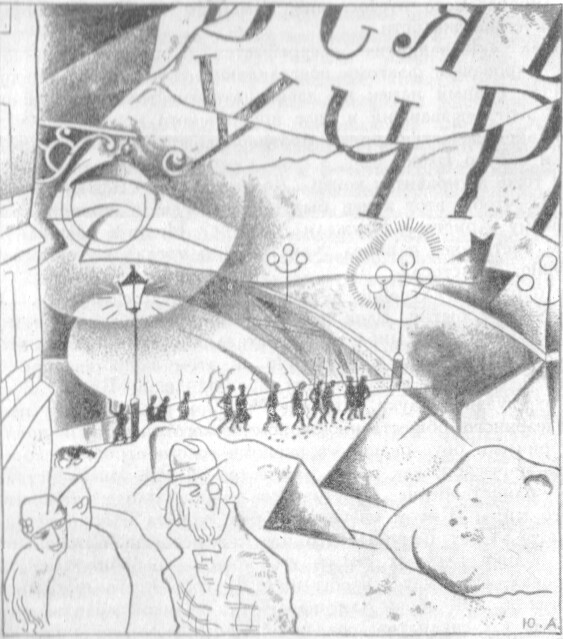- 659 -
Александр Блок
1
Александр Александрович Блок родился 16 (28) ноября 1880 года в Петербурге, в ректорском доме Петербургского университета. Тогдашний ректор, профессор А. Н. Бекетов, видный ученый (ботаник) и известный общественный деятель, приходился Блоку дедом со стороны матери. Отцом поэта был профессор Варшавского университета А. Л. Блок, государствовед и философ.
Детство Блока прошло в семье матери, которая разошлась с мужем сразу после рождения сына. Бекетовы оказали глубокое влияние на Блока, на формирование его первоначальных взглядов.
В автобиографии Блока и в I главе его поэмы «Возмездие», в которой широко использован материал семейных преданий, культурно-бытовой облик Бекетовых охарактеризован довольно точно. Определяющими чертами этого облика были «идеализм чистой воды», либерализм и внешний патриархально-идиллический уклад житейских отношений. На исходе XIX века, в обстановке буржуазного общественного быта, Бекетовы, говоря словами Блока, «немного запутались»; их идеализм и либерализм в духе 40-х годов были в эту пору явлением старомодным. Новый этап русского освободительного движения, ознаменовавшийся вступлением рабочего класса на путь организованной борьбы с самодержавием и капитализмом, оказался для Бекетовых чуждым и попросту непонятным. В новых общественных условиях семья, по верному замечанию Блока, шла «как бы на убыль»: «Теперь уже то, что растет — растет не по ихнему, они этого не видят, им виден только мрак» — «сила тупой и темной „византийской“ реакции» победоносцевского периода (V, 159, 160).1
Для семьи Бекетовых был характерен интерес к литературе и искусству. Даже сам А. Н. Бекетов, погруженный в свои научные дела, уделял внимание художественной литературе (известны его литературно-критические статьи, очерки, рассказ; он писал также большой автобиографический роман). Бабка Блока Е. Г. Бекетова всю жизнь работала над переводами научных и художественных произведений. Все ее дочери также писали и переводили в стихах и прозе. Известностью пользовалась старшая из них, Е. А. Бекетова-Краснова, издавшая два тома своих произведений: «Стихотворения» (1895) и «Рассказы» (1896). Мать Блока переводила французских поэтов, писала и оригинальные стихи.
- 660 -
Не удивительно, что Блок, выросший в столь насыщенной литературными интересами атмосфере, рано проявил свои художественные способности. «Сочинять» он стал чуть ли не с пяти лет. Первые серьезные лирические стихи Блока относятся к осени 1897 года. В это время произошли события, сыгравшие заметную роль в его жизни: первая любовь, оставившая глубокий след в лирике Блока (ряд стихотворений 1897—1900 годов и позднейший цикл «Через двенадцать лет»), встреча с будущей женой Л. Д. Менделеевой (дочерью знаменитого химика), увлечение которой стало на несколько лет основным источником лирических тем Блока — в циклах «Ante Lucem» и «Стихи о Прекрасной Даме». С этого времени и начинается литератураая биография Блока.
Впрочем, и в эти годы (1898—1900) интересы Блока лежали не столько в области литературы, сколько в области театра. Он даже мечтал о поступлении на сцену. Только в 1901 году Блок окончательно осознал себя поэтом и выбрал для себя путь литературной деятельности.
Тогда же, перейдя уже на третий курс юридического факультета Петербургского университета, Блок убедился, что «совершенно чужд юридической науке» и перевелся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, которое и окончил в мае 1906 года, сдав государственные экзамены по первому разряду. Специализировался Блок по истории русской литературы у проф. И. А. Шляпкина, который высоко оценил кандидатское сочинение Блока «Болотов и Новиков» (1905).1
Рассказывая в автобиографии о своей юности, Блок говорит о «полном незнании и неумении сообщаться с миром» (I, 85). Действительно, будучи уже студентом, он по существу оставался столь же далеким от жизни, как и в детские годы. Сторонним наблюдателем остался он в студенческой среде, бурно кипевшей политическими страстями и активно участвовавшей в нараставшем освободительном движении. Много лет спустя, вспоминая массовые студенческие волнения, вспыхнувшие после известного избиения студентов полицией 8 февраля 1899 года, Блок охарактеризовал тогдашние свои настроения как полнейшую аполитичность: «В это время происходило „политическое“... Я был ему вполне чужд, что выразилось в стихах» (I, 272).
Идейные и творческие интересы молодого Блока были бесконечно далеки от запросов передовой демократической молодежи. Он целиком погрузился в мистические настроения и переживания, связанные с интимными событиями личной жизни, и пытался обосновать их на почве реакционной философии Платона. В 1901 году он испытал сильнейшее влияние поэзии идеалиста и мистика Владимира Соловьева.
Обращение Блока к реакционной мистической утопии Вл. Соловьева было, разумеется, явлением исторически и социально обусловленным. Обострение классовой борьбы в условиях победоносцевской реакции и подъема революционного движения определило процесс общественно-политического расслоения русской буржуазно-дворянской интеллигенции. Бо́льшая часть ее, изживая последние остатки своего лучшего прошлого, порывала со всеми традициями демократической общественной мысли и шла на союз с капитализмом. Среди этой реакционной интеллигенции
- 661 -
наблюдался уход в беспочвенную фантастику, в мир отвлеченной мечты, обращение к религии, ко всяческим утонченным и эстетизированным мистическим доктринам. Не понимая реальных закономерностей исторического развития, воспринимая революционную борьбу демократии и грядущую революцию как чуждую и враждебную силу, реакционная интеллигенция пыталась, опираясь на философский идеализм, оказать сопротивление революционно-материалистической идеологии. Решительно отказавшись от славных просветительских традиций передовой русской культуры, она заявляла себя непримиримым противником социал-демократического движения и теории революционного марксизма. Сознанием ее владели философы-идеалисты и субъективисты: Платон и новоплатоники, Кант и Шопенгауэр и — наряду с ними — Ницше как проповедник идей крайнего индивидуализма в его наиболее реакционном выражении.
Для этой, охваченной реакционно-идеалистическими «исканиями» части буржуазно-дворянской интеллигенции соловьевство с его мистическими предчувствиями «конца мира» и надеждами на осуществление «нравственного мирового порядка», якобы долженствующего возродить человечество к новой, «истинно-религиозной» жизни, обладало всеми данными, чтобы сделаться «символом веры». В самом начале XX века на почве увлечения мистикой и эсхатологией Вл. Соловьева в Москве образовался небольшой кружок молодых людей, начинавших в ту пору литературную деятельность в рядах декадентско-символистского движения. Центральной фигурой этого кружка был Б. Н. Бугаев (Андрей Белый). Именно к этому кружку и примкнул на первых порах Александр Блок.
Вместе с тем обращение Блока к соловьевству находило еще и дополнительные предпосылки в той внешне патриархальной, а изнутри разлагаемой декадансом атмосфере, которой дышал он в годы юности в семейном кругу. Мать Блока, оказавшая на него очень глубокое влияние, была подвержена религиозно-мистическим настроениям.
Летом 1901 года Блок впервые познакомился с нарождавшейся в России декадентеко-символистской литературой, прочитав первый выпуск альманаха «Северные цветы», и эта литература (особенно стихи Брюсова) в его представлении тесно слилась с мистическими теориями соловьевства. Пытаясь литературно самоопределиться, Блок ориентируется на символистов: в сентябре 1901 года он посылает свои стихи Брюсову для «Северных цветов». В марте 1902 года Блок устанавливает связи и с другим — петербургским — крылом символистской литературы, с декадентским кружком Д. Мережковского и З. Гиппиус, начавшим с 1903 года издавать «Новый путь» — журнал «религиозно-философского направления». В «Новом пути» (март 1903 года) и состоялся литературный дебют Блока (цикл «Из посвящений»). Однако деятельность Мережковского и З. Гиппиус, их тесная связь с реакционным духовенством — архимандритами, доцентами Духовной академии и синодскими чиновниками, вместе с которыми они трудились над выработкой догматов «нового христианства», очень скоро опротивела Блоку, который крайне отрицательно относился к проповеди «казенной религии» и поэтому решительно отошел от кружка, группировавшегося вокруг «Нового пути».
Почти одновременно стихи Блока появились в «Литературно-художественном сборнике» студентов Петербургского университета и в третьем выпуске альманаха «Северные цветы» (цикл «Стихи о Прекрасной Даме»).
В январе 1904 года Блок поехал в Москву и завязал личное знакомство с московскими символистами. Издательство «Гриф» предложило
- 662 -
опубликовать сборник его стихов. Книга («Стихи о Прекрасной Даме») вышла в свет в октябре 1904 года (помечена 1905 годом). Никакого сколько-нибудь широкого общественного резонанса выступление Блока в печати не вызвало.
Самые ранние стихи Блока, относящиеся к 1897—1900 годам, совершенно не оригинальны и представляют интерес по преимуществу биографический, как первые опыты большого поэта. В этой пейзажной и психологической лирике, исчерпывающейся несколькими мотивами (любовь, тоска, разочарование), Блок по преимуществу варьирует лирические темы Фета и Полонского, ученически копирует их изобразительную манеру, их романсные и медитативные интонации.
Был подхвачен Блоком и «жестокий», надрывный романс Апухтина с его резко подчеркнутым эмоциональным мелодическим строем, ориентированным либо на «цыганщину», либо на интонацию обыденной разговорной речи. «Апухтинская нота» (выражение Блока) особенно резко звучит в стихотворениях молодого Блока, выполненных в форме лирического монолога, который распадается на драматизованные реплики с напряженными интонациями, передающими взволнованность и нестройность живой разговорной речи. Печатью глубокого влияния Фета, Полонского и Апухтина (в этой связи можно назвать еще Тютчева, А. К. Толстого и Майкова) отмечены все ранние стихи Блока — интимная лирика природы и любви.
Вступив в литературу в качестве участника символистского движения, Блок вместе с тем остался чужд эстетско-формалистическим позициям и художественным приемам А. Добролюбова, Миропольского или молодого Брюсова.
В ранней лирике Блока нет и следа того изощренного эстетизма, экзотики и формального экспериментаторства, которые столь характерны. скажем, для раннего Брюсова.
Юношеское творчество Блока характеризует его как узкого субъективиста. Предметом этого творчества служит не объективный мир, а субъективное отношение к миру, окрашенное к тому же в мистические тона. При всем том было бы неверно трактовать мистицизм молодого Блока как способ во что бы то ни стало отъединиться от мира. Напротив, при всей своей отчужденности от реальной действительности молодой Блок был всецело поглощен проблемой соотношения личного и мирового. Но соотношение это в его трактовке носило совершенно абстрактный характер и в самое понятие «мир» молодой Блок не вкладывал никакого социального содержания.
Тему соотношения личного и мирового молодой Блок пытался решить в духе религиозно-мистического учения Вл. Соловьева о «мировой душе» как «единой внутренней природе мира». Именно соловьевская тема «Мировой души» — «Вечной женственности», раскрытая в различных образных ее воплощениях (Вечно-Юная, Прекрасная Дама, Дева-Заря-Купина, Владычица Вселенной, Таинственная Дева и т. д.), получает дальнейшее развитие в лирике молодого Блока. Идеи Соловьева произвели на Блока очень сильное впечатление, поскольку они отвечали его субъективным душевным переживаниям, его собственному, в ту пору еще очень смутному, ощущению обреченности старого мира. На почве соловьевской мистики молодой Блок пытался обосновать свои неясные надежды на обновление жизни. Гармония будущего, преображенного мира и целостный человек будущего, причастный «всемирной жизни», — таков был поэтический идеал Блока в пору его молодости:
- 663 -
Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.Все дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа...Центральная тема I тома лирики Блока (в которой главное место занимают «Стихи о Прекрасной Даме») — тема любви — разрабатывалась поэтом также под влиянием соловьевских идей.
Было бы, однако, неправильно сводить блоковский культ Прекрасной Дамы целиком к отражению соловьевской абстракции «Вечно женственного». В стихах этого цикла при всей их абстрактной, мистической философичности и условной поэтичности явственно различимы черты реальной жизни, моменты автобиографического характера, и в самом образе Прекрасной Дамы сквозят «земные черты» возлюбленной поэта. Красные лампадки в терему у «царевны», голуби, прилетающие к узорчатой двери, зубчатый лес над высокой горой, белая церковь над рекой и т. п., — за всеми этими образными деталями блоковской лирики угадывается пейзаж средней полосы России и обстановки помещичьей усадьбы — имения Шахматово, в котором вырос Блок. Почти все «Стихи о Прекрасной Даме» поддаются биографическому истолкованию, почти каждое стихотворение говорит о реальных взаимоотношениях поэта с его возлюбленной. Но трактованы эти отношения самим поэтом в мистическом духе.
Лирические темы и мотивы молодого Блока — мистически воспринятая любовь, одиночество, отрешенность от общества, устремленность в «миры иные», мечта о чудесном преображении мира и т. д. — получили соответственное стилевое оформление. В стилистическом отношении для юношеской лирики Блока характерны отвлеченно-символические образы. По удачному определению одного из критиков, это «поэзия сонного сознания», поэзия неясных намеков и знаменований, смутных и неуловимых ощущений и «несказа́нных» мистических переживаний, почти непереводимых на язык логических понятий.
В основе творческой работы молодого Блока лежал метод символического импрессионизма, непосредственно вытекающий из его субъективно-идеалистического отношения к миру и связывающий его с поэтической традицией Фета и поэзией ряда символистов старшего поколения (К. Бальмонта, Ф. Сологуба, И. Анненского, отчасти З. Гиппиус).
Игнорирование объективной реальности, уклонение от прямого определения понятий — это типические и характерные черты символизма как художественного мировоззрения и поэтического стиля. Творчество молодого Блока характеризуется этими же чертами.
Поэтический образ в ранней лирике Блока рождался в сопоставлении подчас очень сложных и далеких от реальной повседневности ассоциаций, сравнений, чувств. Ритмически стих строился как романсные напевы, основанные на подчеркнуто эмоциональном звучании мелодии. Эмоционально-музыкальное начало, служившее для многих символистов главным средством стиховой организации словесного материала, является характернейшей стилевой чертой ранней лирики Блока.
Установка на музыкальность стиха была для большинства символистов явлением, тесно связанным с их философско-эстетическими принципами. Призыв Поля Верлена к музыкальному выражению лирических
- 664 -
настроений был подхвачен ими, ибо основой художественного творчества они полагали «чистую» интуицию. Именно поэтому ими были подняты на щит идеалистические теории реакционных немецких философов: шопенгауэровская концепция музыки как наивысшей и идеальной формы искусства (якобы выражающей наиболее полно его «внепрактическую», «чистую» сущность), и темная теория Ницше о «происхождении трагедии из духа музыки».
На молодого Блока эти идеалистические «теории» оказали весьма существенное влияние. Однако, начав с противопоставления «музыки» «логике», он в дальнейшем, не отказываясь от поисков музыкальной выразительности стиха, преодолел взгляд на музыку как на якобы иррациональное искусство, как на порождение «чистой» интуитивной стихии.
2
Блок не долго увлекался реакционной мистической философией Вл. Соловьева. Более того, ортодоксальным соловьевцем (вроде А. Белого или С. Соловьева) он никогда не был. Он брал у Вл. Соловьева далеко не всю его систему воззрений, а то, что принимал, истолковывал по-своему. Блок искал у Соловьева дух недовольства настоящим и беспокойство о будущем. Все догматическое в Соловьеве и соловьевстве, что оборачивалось поповщиной и схоластикой (вроде реакционных идей богочеловечества или всемирной теократии), Блок начисто отвергал.
Идея религиозной природы искусства, провозглашенная Соловьевым, внушала Блоку сомнения: «Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его переходу в религию», — записывает он в дневнике весной 1902 года.1 Кликушеская эсхатология Вл. Соловьева, вещавшего о приближающемся «конце мира» и наступлении «эры Третьего завета», когда, дескать, будут разрешены все противоречия, искони заложенные в природе и человеке, также вызывала в Блоке чувство сомнения. Он приходит к убеждению, что «кончается» не мир, а какой-то этап исторического процесса и что мистическая схоластика Соловьева неспособна помочь действительному разрешению острейших и вполне реальных противоречий современности. В декабре 1902 года Блок признавался в письме к одному из своих знакомых: «Я уже никому не верю, ни Соловьеву, ни Мережковскому».
Эти сомнения у Блока, наперекор его мистическим настроениям, нашли выражение в стихах, объединенных впоследствии в цикл «Распутья» (и позже в драме «Балаганчик»). Блок приближался к пониманию социальных противоречий старого мира. Эти противоречия впоследствии и явились основной темой его творчества.
Революционный подъем начала 900-х годов оказывает влияние и на поэзию Блока. Действительность, пусть еще в смутных, мистифицированных образах, пусть еще «остраненная» апокалиптическими представлениями, начинает входить в сознание Блока. Он вглядывается в реальные противоречия современной жизни, видит человеческое горе и счастье, контрасты городского быта, условность и лживость буржуазной морали и т. д. Начиная с 1903 года в его лирику властно вторгается социальная тема. Неправедный, темный мир капитализма, мир сытых и голодных, мир произвола, эксплуатации и бесправия открылся Блоку как «страшный
- 665 -
мир». Написанное в 1903 году стихотворение «Фабрика», в котором социальная тема впервые у Блока зазвучала с большой силой, ознаменовало резкий сдвиг в его сознании — от романтически-иллюзорного, «сказочного» (по его собственному определению) мистицизма к моральному осуждению и обличению «страшного мира».
Освобождаясь от ложных и схоластических представлений, Блок проникается ощущением реальной, а не иллюзорной непрочности старого мира. Стихи о городе и неоконченная поэма «Ее прибытие» (1904) уже проникнуты тем чувством тревожного ожидания надвигающейся социальной катастрофы, которое затем с такой силой выразится в творчестве зрелого Блока. «Что везде неблагополучно, что катастрофа близка... — это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией», — писал Блок впоследствии (IX, 191).
Решающую роль в дальнейшем идейно-творческом развитии Блока сыграли революционные события 1904—1905 годов. Сам Блок с полным основанием относил их (в автобиографии) к числу «событий, явлений и веяний» (I, 87), особенно сильно на него повлиявших. Революция в громадной степени способствовала прояснению социального и художественного зрения Блока, открыла ему (говоря его словами) «подлинное лицо проснувшейся жизни», пробудила в нем чувства гражданской ответственности, поставила его перед необходимостью произвести решительную переоценку прежних идейных воззрений. Революция определила направление дальнейшего общественного и творческого пути Блока, уводившего его в сторону от подавляющего большинства остальных участников символистского литературного движения. Много лет спустя, уже после Октября, Блок имел все основания сказать в письме к З. Гиппиус: «...нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-ый, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни».1 Революция окрылила Блока как художника, открыла перед ним новые и широкие творческие перспективы, вывела его на путь активного отношения к жизни. «Мы сами ждем от себя вихрей..., — писал Блок в июне 1905 года Е. Иванову, — хочу действенности, чувствую, что близится опять огонь, что жизнь не ждет... Старое рушится. Никогда не приму Христа... Если б ты узнал лицо русской деревни — оно переворачивает; мне кто-то начинает дарить оружие... Какое важное время! Великое время! Радостно».2
В дни революции прежнее равнодушие Блока к окружающей жизни сменилось живым и напряженным интересом ко всему происходящему в стране. Он напряженно следил за ходом революции, взволнованно наблюдал забастовки, демонстрации и другие выступления рабочего класса. В октябре 1905 года он и сам принял участие в одной из демонстраций, шел, неся красное знамя, «чувствуя себя заодно с толпой», как передает близко знавший его человек.3 Меру этих революционных увлечений Блока, конечно, не следует преувеличивать, но нужно по достоинству оценить искренность его сочувственного отношения к освободительной борьбе народа.
Блок откликнулся на революционные события 1904—1905 годов неоконченной поэмой «Ее прибытие» (декабрь 1904 года) и рядом стихотворений: «Поднимались из тьмы погребов», «Барка жизни встала», «Шли на приступ», «Митинг», «Вися над городом всемирным», «Еще прекрасно серое небо», «Сытые» и др. Произведения эти не только свидетельствуют
- 666 -
о сочувственном отношении Блока к революции, но и вскрывают характер понимания им революционных событий. Поэт принял революцию восторженно, но истолковал ее романтически, усмотрев в ней только разрушительную, стихийную силу, долженствующую мгновенно и окончательно уничтожить «прогнивший хлев» буржуазного мира (II, 131). Стихи Блока, написанные под впечатлением революционных событий, проникнуты чувством ненависти и презрения не только к самодержавию и капитализму, но и к предательской политике либеральной буржуазной интеллигенции, составлявшей ближайшее бытовое и литературное окружение поэта. Шумное ликование буржуазных либералов по поводу конституции 17 октября не встретило у Блока никакого сочувствия. Напротив, в двух стихотворениях, датированных 18 октября 1905 года («Вися над городом всемирным» и «Еще прекрасно серое небо») он трактовал конституционные «свободы» как обман революционных чаяний народа:
И, если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен
Сверкнувших колец чешуи.Еще несчастных, просящих хлеба,
Никому не жаль, никому не жаль!..В стихотворении «Сытые», внушенном октябрьскими забастовками в Петербурге, Блок бичевал буржуазию такими гневными и резкими словами, каких раньше вовсе не было в его поэтическом обиходе. Однако заключительная строфа этого стихотворения с полной ясностью свидетельствует о том, что Блок не сумел сделать из своей ненависти к буржуазному миру подлинно революционных выводов. По всему складу своего противоречивого мировоззрения, еще «мало видя и мало сознавая в жизни», он оказался не в состоянии достаточно глубоко вникнуть в исторический смысл происходящего, постигнуть классовый характер революции и различить ее реальные движущие силы. Сама идея революционного преобразования жизни воплощалась им в романтическом образе «больших кораблей», несущих усталым и обездоленным людям какую-то неясную и «нечаянную» радость. В большинстве стихов Блока о революции конкретно-политическая тема — тема революционной борьбы — ослаблена абстрактно-гуманистическим ее осмыслением («Шли на приступ», «Митинг»).
Революционные настроения Блока при всей их искренности оказались настолько расплывчатыми, что он в ту пору еще не сумел увидеть перспективы дальнейшего развития освободительного движения. Блок с большой остротой переживал поражение революции: он, по его словам, отчаялся «в своих лучших надеждах» (X, 129). В декабре 1905 года поэт признавался с горечью: «Отношение мое к „освободительному движению“ выражалось, увы, почти исключительно в либеральных разговорах и, одно время, даже в сочувствии социал-демократам. Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, что могу (из „общественности“), отбросив то, чего душа не принимает... Никогда я не стану ни революционером, ни „строителем жизни“, и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто, по природе, качеству и теме душевных переживаний».1
Темы тогдашних душевных переживаний Блока еще крепко связывали его с буржуазной культурой и искусством буржуазного декаданса. Поэту
- 667 -
предстояло пройти еще очень долгий и трудный путь, чтобы преодолеть ряд сложных противоречий своего мировоззрения. Но именно революция 1905 года впервые открыла перед Блоком этот путь его идейного и творческого развития. Именно она укрепила в его поэзии стремление к преодолению «лирической уединенности», указала выход к темам живой действительности из круга надуманных и отвлеченных представлений.
После 1905 года Блок обращается к драматургии в поисках выхода из индивидуалистической замкнутости к реальной жизни, к живым людям. В предисловии к драматической трилогии 1906 года («Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка») он определил ее основную идею как поиски «жизни прекрасной, свободной и светлой, которая одна может свалить с... слабых плеч непосильное бремя лирических сомнений и противоречий» (VI, 276). Идея эта нашла наиболее четкое выражение в монологе Арлекина (в «Балаганчике»), глазам которого впервые открылся мир свободной и прекрасной жизни, чуждой и недоступной «мистикам обоего пола» (VI, 6).
Блок понимал драматургию как способ объективации своих душевных переживаний. Драматическая трилогия 1906 года выражала настойчивое стремление Блока сойти «с шаткой, чисто лирической почвы».1
При всем том драматическая трилогия Блока является в русской литературе XX века наиболее выразительным примером лирической драматургии, утверждавшейся символистами. «Балаганчик», «Король на площади» и «Незнакомка» — типичные образцы субъективной драмы, предметом которой служили лирические переживания автора. Сам поэт специально оговорил лирический характер своих драм в предисловии к книге, в которой они были собраны: «В заголовке этой книги я подчеркнул слово лирические драмы... считаю необходимым оговорить, что три маленькие драмы, предлагаемые вниманию читателя, суть драмы лирические, т. е. такие, в которых переживания отдельной души, сомнения, страсти, неудачи, падения, — только представлены в драматической форме» (VI, 275—276).
Выдвинув в драматической трилогии 1906 года проблему душевных противоречий человека, Блок был еще очень далек от объективного художественного изображения самой жизни. При всей решительности, с которой Блок иронически переосмыслил в «Балаганчике» мистические темы, увлекавшие его в юности, при всей остроте, с которой был поставлен им вопрос о недостижимости и иллюзорности отвлеченной «мечты», терпящий крах при соприкосновении с живой жизнью, при всей откровенности, с которой он дискредитировал свои недавние духовные искания, — при всем этом и в «Балаганчике», и в других лирических драмах он еще оставался всецело на почве декадентско-символистского искусства, во власти субъективных представлений о жизни.
С особенной ясностью сказалось это в «Короле на площади», где Блок пытался дать символическое истолкование социальной темы, возникшей в его сознании под влиянием революционных событий 1905—1906 годов. Идеи разрушения старого мира, борьбы во имя «юности» и «счастья», воплощенные в символических образах драмы (Дочь Зодчего, Король, Поэт, «корабли» и проч.), выражены здесь в еще более слабой и мистифицированной форме, чем в лирических стихах Блока, связанных с революцией 1905 года. Впоследствии Блок сам охарактеризовал драму «Король на площади» как «петербургскую мистику».2
- 668 -
Тем более разительна сила сатирического изображения обывательской пошлости в бытовых сценах третьей драмы Блока — «Незнакомка» (при ее общей символической тональности). Гротескное изображение кабака и буржуазной гостиной, точность и предметность деталей, реализм отдельных типов и тонкость их речевых характеристик, — все это свидетельствовало о бесспорных возможностях Блока в области реалистического художественного творчества.
И все же, несмотря на настойчивость, с которой Блок пытался «сойти с шаткой, чисто-лирической почвы», сделать это в 1906 году ему не удалось. Но он упорно продолжал свою борьбу с «лирической стихией», пытаясь выйти за ее пределы. В письме к А. Белому от 1 октября 1907 года Блок писал: «...я знаю, что в лирике есть опасность тления и гоню ее. Я бью сам себя, таков по преимуществу смысл моих статей... Бичуя себя за лирические яды, которые и мне грозят разложением, я стараюсь предупреждать и других». И далее Блок указывает единственный, с его точки зрения, верный и реальный путь выхода из лирической уединенности и отвлеченности, — путь через трагедию: «...из болота — в жизнь, из лирики — к трагедии. Иначе — ржавчина болот и лирики переест стройные колонны и мрамор жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни».1
В январе 1907 года Блок написал цикл стихотворений «Снежная маска», названный им «Лирической поэмой». В «Снежной маске» впервые в поэзии Блока с особенным напряжением зазвучала трагическая нота:
...сердце просит гибели,
Тайно просится на дно.(«Обреченный»).
Нет исхода из вьюг,
И погибнуть мне весело...(«Нет исхода»).
Темы обреченной судьбы, трагической страсти, очистительного страдания, отчаяния и гибели разработаны в «Снежной маске» с большой эмоциональной силой. «Снежной маской» завершается тот период творчества Блока, который он сам охарактеризовал как антитезу ранней своей лирики. Здесь еще безраздельно господствует «лирическая стихия». Вместе с тем «Снежная маска» является предвестником нового этапа творческой эволюции Блока.
И в новый мир вступая, знаю,
Что люди есть, и есть дела, —говорит Блок в одном из стихотворений этого цикла («Второе крещенье»).
Тенденция преодоления «лирической стихии», движения к более объективным жанрам и более пластическим формам восходит еще к ранней лирике Блока. Она ощутима уже в цикле «Распутья», где художественная манера молодого Блока претерпевает в ряде случаев довольно разительные изменения, вызванные отказом от поэтической абстрактности, господствовавшей в цикле «Стихов о Прекрасной Даме».
Интересно проследить, как меняются в «Распутьях» приемы Блока в разработке тех самых лирических тем, которые уже были широко представлены
- 669 -
в «Стихах о Прекрасной Даме». Так, например, конкретный образ «розовой девушки» вытесняет в «Распутьях» условно-мистические символы Царевны, Вечной жены, Девы-Зари-Купины. Если в стихотворении 1902 года «Я их хранил в приделе Иоанна» реальное событие жизни Блока переведено в план отвлеченно-мистический, то стихотворение «Ей было пятнадцать лет», излагающее тот же биографический эпизод, начисто освобождено от аксессуаров мистической образности и совершенно точно, почти с протокольной верностью, передает обстоятельства, при которых произошли объяснение Блока с невестой на балу и следующая их встреча (в Казанском соборе).
Книга А. Блока «Снежная маска» с дарственной надписью В. Брюсову. 1907 г.
Наиболее резко поиски Блоком новых стилистических возможностей сказались в его стихах о городе. Крупную роль сыграл при этом для Блока В. Брюсов как поэт-урбанист. В блоковских стихах о городе отчетливо чувствуется общее с Брюсовым, но в то же время и отталкивание от него. В отличие от Брюсова-урбаниста Блок создает стихи, совершенно лишенные эстетизации капиталистического города, стихи, в которых с большой силой звучит обличение и отрицание бездушной буржуазной цивилизации. И вместе с тем Блок многому учится у Брюсова. Под прямым влиянием последнего в стихах о городе (1903—1904) он резко ломает свою музыкально-импрессионистическую манеру, ищет новых средств выразительности. Блок расширяет свои опыты в области тонического стиха и деканонизации точной рифмы, опрощает словарь, конкретизирует всю образную систему. Характернейшим примером в этом отношении может служить стихотворение «Из газет», написанное по материалам газетной хроники происшествий. Всем стилистическим строем, словарем, содержанием оно резко противостоит отвлеченно-мистической лирике «Стихов о Прекрасной Даме».
- 670 -
Цикл «Пузыри земли» — важный этап на пути преодоления Блоком «музыкально-лирической стихии». Ключом к этому циклу служит программная статья Блока «Краски и слова», в которой он впервые заговорил не только об искусстве звуков, но и об «искусстве красок и линий» как о таком искусстве, которое «позволяет всегда помнить о близости к реальной природе и никогда не дает погрузиться в схему». В сознании Блока возникает понятие живописности, «свободной игры красок и линий», художественной, поэтической ценности зрительных впечатлений. Блок говорит здесь о том, что писателю нужно «учиться смотреть» (IX, 57). Эти мысли Блока, новые и неожиданные для него, получили прямое отражение в его творческой практике, и прежде всего — в цикле «Пузыри земли» (1905). Требование живописной конкретности в изображении реальной природы изменило в известной мере его поэтическую манеру в пейзажной и «мифологической» лирике II тома, а также в поэме «Ночная фиалка» (1906).
В стихах о городе, объединенных в сборнике «Земля в снегу» (1908) под характерным заглавием «Мещанское житье» (сюда входили «Холодный день», «В октябре», «Окна на двор», «На чердаке» и др.), Блок еще более настойчиво ищет средств конкретного изображения действительности без какой бы то ни было ее эстетизации. Здесь впервые у Блока городская повседневность предстает во всей своей жизненной правде и суровой оголенности:
Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
Гуляет во дворе...
Да и меня без всяких поводов
Загнали на чердак.
Никто моих не слушал доводов,
И вышел мой табак...
(«В октябре»).
Циклы «Заклятие огнем и мраком» (1907) и особенно «Вольные мысли» (1907) — важнейшие вехи на дальнейшем пути преодоления Блоком влияний декадентско-символистского эстетизма и иллюзионизма.
В «Заклятии огнем и мраком» Блок открыто декларирует свое новое отношение к миру, к действительности:
О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!..Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!В «Вольных мыслях» уже полностью торжествуют принципы того строгого стиля, который характерен для лирики зрелого Блока. «Вольные мысли» проникнуты живым и горячим человеческим чувством могучей силы:
... Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу.(«О смерти»).
С любовью и ненавистью начинает Блок в «Вольных мыслях» прямой разговор о реальной жизни, о живых людях. Поэт чувствует себя
- 671 -
заодно с миром, утверждает свое единство и неразрывную связь с природой, поет
Высокий гимн о том, как ясны зори,
Как стройны сосны, как вольна душа.(«Над озером»).
В «Вольных мыслях» Блок беспощадно, без какой бы то ни было декадентской мистификации разоблачает пошлость и уродство буржуазного быта и утверждает ценность и радость жизни, вопреки всему пошлому и уродливому, что ее искажает.
Изобразительная манера Блока претерпевает в «Вольных мыслях» решительные изменения, можно сказать — коренную ломку. Блок здесь полностью порывает с невнятностью и «красивостью» символико-метафорического стиля, с той «магией звуков», которая особенно проявилась в «Снежной маске», написанной всего за полгода перед тем. В белых пятистопных ямбах «Вольных мыслей» Блок с большой ясностью, конкретностью, точностью выражает свой замысел и придает стиху высокое драматическое напряжение. Точность словаря, образов и эпитетов, конкретность предметных деталей, — все это делает «Вольные мысли» явлением принципиально новаторским в творческом пути Блока.
«Вольные мысли», написанные в середине 1907 года, открыли Блоку дорогу к лирике его III тома, к поэмам «Возмездие» и «Двенадцать», к драме «Роза и Крест», они открыли дорогу к творческой зрелости, к поэтическим достижениям, составившим славу Блока.
3
Годы 1906—1908 были для Блока временем, когда окончательно упрочилось его положение в литературных кругах и выросла его писательская известность. Он деятельно сотрудничает не только как поэт, но и как критик и публицист в основных символистских журналах («Весы», «Золотое руно», «Перевал») и многочисленных альманахах. Он печатается и в других журналах и газетах. Одна за другой выходят книги Блока: в 1906 году — второй сборник стихов «Нечаянная Радость», в 1907 — лирическая поэма «Снежная маска», в 1908 — «Лирические драмы», третий сборник стихов «Земля в снегу» и стихотворный перевод трагедии Ф. Грильпарцера «Праматерь».
Упрочению писательской известности Блока в значительной мере способствовало обращение его к драматургии. В 1906—1908 годах он написал, кроме «Балаганчика», «Короля на площади» и «Незнакомки», драму «Песня Судьбы» и перевел, вслед за трагедией Грильпарцера, средневековый миракль Рютбефа «Действо о Теофиле».1
В символистских кругах писательская репутация Блока стояла очень высоко. Читатели и критика уже воспринимали его как одного из ведущих поэтов символизма. Между тем, именно в это время назревал конфликт Блока с буржуазно-декадентской литературной средой. Блок все более уверенно прокладывал собственный путь в литературе, который в конечном счете и увел его в сторону от символистов.
- 672 -
В годы реакции, наступившей после поражения революции 1905 года, со всей очевидностью определилось идейное ренегатство буржуазной либеральной интеллигенции. Она окончательно порвала с освободительным движением. В ее рядах в эти годы громадное распространение получили контрреволюционные, реакционные идеи, выраженные в сборнике «Вехи», названном Лениным энциклопедией либерального ренегатства.1 В области культуры, философии и искусства «отречение от освободительного движения недавних лет и обливание его помоями»2 сопровождалось расцветом всяческой метафизики, поповщины и мракобесной мистики.
Эта контрреволюционная идеология со всей очевидностью проявилась в символистской литературе. Именно в годы реакции символизм полностью обнаружил свое подлинное лицо реакционного, антинародного искусства. Символистская литература в целом, по меткому определению Блока, превращается в мистико-эротический «словесный кафе-шантан» (X, 132), с необычайно пестрой программой разнообразных «теорий» и «учений», в которых, отражая окончательное разложение идеалистической мысли, анархизм сочетался с религией, мистика с порнографией, апокалиптика и теософия с «народничеством», Ницше с Достоевским, Платон с Бакуниным. Возникали и лопались, как мыльные пузыри, «теории» «мистического анархизма», «мистического реализма», «соборного индивидуализма» и т. п.
Вместе с тем в годы реакции символизм в лице своих ведущих теоретиков окончательно утверждает принцип эстетизации искусства, начисто отвергая связь его с реальной жизнью, с политикой, с задачами социальной борьбы. Эстетическая программа и литературная практика символистов слагались под знаком отказа от традиций русского критического реализма XIX века и борьбы с реалистической литературой современности во имя анархо-индивидуалистической «свободы творчества» и «чистого», эстетизированного искусства, свободного от «служения вопросам общественным». В годы реакции символисты заняли главенствующее положение в русской буржуазной литературе; их контрреволюционные, антидемократические установки получили признание и поддержку со стороны влиятельных кругов буржуазии.
В создавшихся условиях Блок встал на путь принципиального обособления от буржуазно-декадентской среды. Память о героической революции 1905 года была ему дорога, а идейное ренегатство либерально-буржуазной интеллигенции вызывало в нем чувство отвращения и страстной ненависти. Блок чрезвычайно остро и болезненно переживал годы реакции. Впоследствии он писал, что они «утомили и истрепали душу и тело».3 Но вместе с тем именно эти годы, бывшие для подавляющего большинства символистов временем творческого застоя и упадка, оказались для Блока временем стремительного идейного и художественного роста. Отравленный всеми ядами рафинированной буржуазной культуры, долго остававшийся в плену декадентства и эстетизма, долго блуждавший в туманах всяческой метафизики, Блок в годы реакции вырастает в поэта, воодушевленного идеями гражданского долга и жизненной правды, идеями общественного служения художника и его ответственности перед народом. «Может быть, главное — растет передо мной понятие „гражданин“, — писал он в 1908 году, — и я начинаю понимать, как освободительно
- 673 -
и целебно это понятие, когда начинаешь открывать его в собственной душе».1
В годы реакции Блок преисполняется тревогой за судьбы родины и русской культуры. Им целиком овладевает «неотступное чувство катастрофы» (VIII, 22) — неизбежной и близкой гибели старого мира, осмыслявшейся им как исторически справедливое возмездие. Заново продумывая опыт революции 1905 года, он понимал, что несмотря на поражение революции дни старой России сочтены. «Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа», — писал он в том же 1908 году в статье «Стихия и культура» (VIII, 31).
С этого времени темы России, народа и грядущей революции выдвигаются на первый план и в художественном творчестве Блока и в его публицистике. Модные «религиозно-общественные» искания буржуазной интеллигенции, равно как измельчавшее, эстетское, антинародное искусство буржуазного декаданса вызывали резкий протест Блока, оценивавшего их как «постыдную болтовню», в то время как «за дверями стоят» «рабочий и мужик», которым нужны не слова, а дела, в то время, когда в России господствует реакция, когда люди голодают, когда их вешают, когда «в России жить трудно, холодно, мерзко» (VIII, 6—7; X, 130—131).
«Единственно возможным преодолением одиночества» представляется Блоку «приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью».2 Он ищет дорогу «к делу», оговаривая, что «остается живым только одно новое дело» и что «для этого нового дела есть богатая почва во всех областях русской жизни, русской общественности, русского искусства. Такая благодарная почва, как ни в одной стране» (XII, 36). Важными, большими и ответственными представляются ему задачи, стоящие перед русским писателем: «...только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами» (VIII, 6).
В ряде статей и публичных докладов 1907—1908 годов («„Религиозные искания“ и народ», «Три вопроса», «Вопросы, вопросы и вопросы», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура» и др.), в драме «Песня Судьбы», в стихотворном цикле «На поле Куликовом» и других произведениях Блок поднял тревоживший его вопрос о «пропасти», «недоступной черте», лежащей между большей частью интеллигенции и народом. Многократно и настойчиво высказывался Блок в том смысле, что отрыв интеллигенции от народа грозит ей окончательным вырождением и гибелью, потому что народ является единственным источником всякой жизненной и творческой силы.
Одним из наиболее явных и грозных симптомов «интеллигентского вырождения» Блок считал обнищание и измельчание искусства, зашедшего в тупик декадентского эстетизма, ставшего «игрушкой», «утехой» для избранных. Эстетизму и формализму, лежавшим в основе декадентско-символистского искусства, Блок противопоставил требования «правды», «простоты» и народности. Еще в 1906 году он заявлял, что «искусство должно изображать жизнь и проповедывать нравственность».3 Он мечтал о широкой аудитории для художника — читательской аудитории из народных масс, из «рабочих и крестьян» (XII, 50).
- 674 -
Литературные мнения и вкусы Блока претерпевают в годы реакции самые радикальные изменения. Он звал к правдивому и идейному искусству «с большими страстями, с чрезвычайным действием, с глубоким потоком идей» (XII, 46), к искусству, утверждающему ценность жизни и. «красоту долга» (XII, 49). В ряде литературно-критических статей 1907—1908 годов («О реалистах», «О драме», «О современной критике», «О театре», «Письма о поэзии», «Вечера искусств» и др.) он поднял чуждые символистам вопросы о «пользе искусства» и «долге художника», основным критерием художественной ценности выдвигал «правду», «искренность», «исповедь души».
Через головы своих учителей и соратников Блок обращался к традициям русской национальной культуры в ее демократических и революционных проявлениях. В 1908 году он записывает: «Мечты о журнале с традициями Добролюбовского „Современника“... Дрянность „западнических“ компаний... Чтобы не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распроститься с „Весами“. Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение».1
Блок в это время решительно пересматривает свое прежнее отношение к современной реалистической литературе, которую всячески травили эстеты, декаденты и символисты. Блок был тогда единственным из символистов, кто высоко оценил роль и значение Горького как великого национального и народного писателя, выразителя того «великого, необозримого, просторного, тоскливого и обетованного, что мы привыкли объединять под именем Руси» (X, 34). Блок сочувственно приветствовал и других писателей-реалистов, шедших в литературе за Горьким (например Скитальца), — приветствовал за их близость к народу и за «чувство жизни».
Блок видел во всех этих возникавших перед ним проблемах путь преодоления эстетского индивидуализма. Он жадно искал целостного мировоззрения, «простоты», «здорового труда и вольных дум» (X, 126), «трезвого и простого отношения к действительности», искал способов избавиться от «сомнений, противоречий, отчаянья, самоубийственной тоски, „декадентской иронии“».2 Он открещивался от идейных и художественных доктрин символизма. «Не могу принять, — записывает он в 1908 году — ни двух бездн — бога и дьявола... (мистика, схоластика, диалектика, метафизика, богословие, филология), ни теории познания (Белый), ни иронии (интеллигентский мистический анархизм), ни „всех гаваней“ (декадентство)».3
Тенденции, руководившие Блоком и определявшие характер и направление его идейно-творческой эволюции, находились в полном противоречии с идеологическими установками и общественно-литературной практикой символистов. Прежнее восторженное отношение их к поэзии Блока сменилось ожесточенными нападками на нее. Публицистические и критические выступления Блока в 1907—1908 годах также были встречены в штыки.4 Брюсов со своих тогдашних позиций эстета-антиобщественника откликнулся эпиграммой («Не писал бы ты статей об интеллигенции»). Один за другим выступали в печати с нападками на Блока З. Гиппиус,
- 675 -
Мережковский, Розанов, Философов и другие реакционные литераторы из символистского лагеря.
Разумеется, конфликт Блока с символистами не следует трактовать слишком прямолинейно: по всем внешним связям и отношениям он оставался в рядах буржуазной литературы и общественности. Но внутренний (и полностью в ту пору еще не осознанный) разлад его с символистами явственно определился в 1908 году. Он приветствовал этот разлад, радовался ему: «Хвала создателю! С лучшими друзьями и „покровителями“ (А. Белый во главе) я внутренно разделался навек. Наконец-то! (Разумею полупомешанных. — А. Белый и болтунов — Мережковских)».1
В дальнейшем творческий путь Блока все более уводил его в сторону от путей декадентско-символистского искусства, несмотря на частые и довольно резкие колебания общественных настроений Блока, несмотря на все рецидивы его субъективно-мистического восприятия действительности.
Таким «искривлением пути» Блока была, как он писал, «темная полоса убийственного опустошения», пережитая им примерно с весны 1909 по осень 1910 года и ознаменованная новой, но уже последней вспышкой антиобщественных настроений. Испытывая упадок жизненной и творческой энергии, с особенной остротой переживая «тяжелые условия действительности» эпохи реакции, Блок в это время проявляет стремление уйти в самого себя, отгородиться не только от столыпинщины и азефовщины, но и от «всякой политики», обрести свой мир в «великом» и «вечном» искусстве. «Я считаю теперь себя в праве умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях».2 С такими настроениями весной 1909 года Блок совершил поездку за границу — в Италию и Германию.
Темная полоса, пережитая им в 1909—1910 годах, была именно полосой, но не больше. В конце концов Блок приходит к выводу, что «настоящее произведение искусства... может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром».3 В феврале 1911 года он пишет о своем «чувстве мира»: «Я думаю, что последняя тень „декадентства“ отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел... я „общественное животное“, у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми — все более по существу».4 В октябре 1911 года Блок записывает: «...нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек... Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное». Символизм он называет «несуществующей школой», «мутной водой», высказывает убеждение, что «реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете», а в феврале 1913 года записывает: «Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше».5
Неуклонно растет интерес Блока к общественной жизни, к политическим событиям. Он «с остервенением читает газеты», в том числе большевистскую «Звезду»: «Спасибо Горькому и даже „Звезде“. После эстетизмов, футуризмов, аполлонизмов, библиофилов — запахло настоящим».6 В 1911—1913 годах Блок полон предчувствий новых грозных событий,
- 676 -
«неслыханных перемен» (V, 42). «Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой», — писал он накануне империалистической войны (VIII, 44).
Крупную роль в обострении социального зрения Блока сыграли его заграничные путешествия в 1911 и 1913 годах (первое: Париж, Бретань, Бельгия, Голландия, Берлин; второе: Париж, Бискайское побережье Атлантического океана). Европейская «оглушительная и усталая ярмарка» произвела на Блока тягостное впечатление. Он воочию убедился в кризисе, «чудовищной бессмыслице» европейской буржуазной цивилизации — этой лужи, «образовавшейся от человеческой крови, превращенной в грязную воду».1 В письмах из-за границы Блок обнаруживает трезвое понимание социально-политической обстановки. Сообщая о массовых стачках английского пролетариата, он дает острую характеристику Англии — этой «самой демократической страны» (кавычки Блока), где «рабочие доведены до исступления 12-часовым рабочим днем (в доках) и низкой платой, и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку „супердреднаутов“».2 Зарубежные впечатления Блока отразились и в его художественных произведениях — в цикле гражданской лирики «Ямбы» и во вступлении к I главе поэмы «Возмездие».
В 1912 году творческое внимание Блока было направлено по преимуществу на создание большой драмы «Роза и Крест» (законченной и напечатанной в 1913 году). Драма была построена на историческом материале, действие ее происходит в южной Франции и в Бретани в начале XIII века. В своей работе Блок широко использовал литературные и фольклорные источники времен французского средневековья.
Новые издания стихов Блока: «Ночные часы» — четвертый сборник лирики (1911), трехтомное «Собрание стихотворений» (1911—1912), две небольшие книжки стихов для детей — «Сказки» и «Круглый год» (1912), драма «Роза и Крест» расширили круг его читателей. Особенно упрочилась известность Блока в годы империалистической войны, когда широко распространенная газета «Русское слово» отвела целую полосу для его поэмы «Соловьиный сад» (25 декабря 1915 года), а Московский Художественный театр принял к постановке драму «Роза и Крест» (постановка проектировалась вплоть до 1918 года, но осуществлена так и не была), когда появилось новое четырехтомное издание «Стихотворений» и «Театра» Блока (1916) и первая глава «Возмездия» была напечатана в журнале «Русская мысль» (январь 1917 года).
Империалистическую войну Блок, в отличие от подавляющего большинства символистов, встретил без всякого энтузиазма. Шовинистических настроений, охвативших все станы и школы буржуазной литературы, он не разделял ни в малейшей мере. Своеобразным откликом Блока на войну был небольшой сборник «Стихи о России» (1915), в который вошли «На поле Куликовом», «Новая Америка» и другие стихи о родине, проникнутые чувством ожидающих ее «неслыханных перемен». Посылая эту книжку матери, Блок имел все основания с гордостью сказать: «Все — не заказное».3 Характерно, что в те же годы эта небольшая, но правдивая и честная книжка «долго лежала у Горького на рабочем столе, и он не раз открывал ее в пылу беседы».4 Несомненно, интерес Горького к «Стихам о России» был вызван их патриотическим содержанием, глубокой любовью
- 677 -
поэта к родному народу, запечатлевшимся в ряде стихотворений Блока сознанием великой исторической миссии русского народа. Это подлинно патриотическое сознание пришло к Блоку далеко не сразу и далось ему не без трудностей.
Идею народа как главной движущей силы истории Блок тесно связывал с проблемой русской революции. Однако в понимании революционной перспективы Блок долгое время стоял на неверных, «жертвеннических» позициях. В представлении поэта революция вступала в роковое противоречие с его личной судьбой. Рассматривая народную революцию лишь как завершение «векового спора» между черной и белой костью, как неизбежное и справедливое «возмездие», которое творит народ за все муки и унижения, выпавшие на его долю, Блок проникался убеждением, что это возмездие неизбежно падет и на него, потому что и он принадлежит к белой кости, потому что и на нем отяготели «грехи отцов». Он приходил к сомнению: есть ли для него место в революции — на «барке жизни», за рулем которой стоит «кто-то сильный в сером армяке» (стихотворение «Барка жизни встала»). На этой почве возникали покаянно-жертвенные настроения Блока, отчасти напоминающие настроения «кающегося дворянина» в литературе XIX века. Признавая высшую правду и справедливость народной революции, Блок готов был принести себя в жертву грядущему миру:
Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые люди!..
Затопили нас волны времен
И была наша участь мгновенна.(«Поднимались из тьмы погребов»).
Представляя себе грядущую революцию, как стихийный взрыв подземно таящихся сил, как катастрофическое крушение старого мира, Блок опасался, что революция приведет к трагическому столкновению народа и интеллигенции. Поэтому он одновременно и страшился этой надвигающейся катастрофы и готов был приветствовать ее во имя уничтожения ненавистного ему буржуазного общественного строя и государственного строя царской России. Он писал, что приближаются события, «которых мы все страстно ждем, которых боимся, на которые надеемся».
Однако, при всей противоречивости своего отношения к надвигающейся революции, в самом главном и основном Блок не ошибался — в революционной воле народа, в его моральной правоте и творческой силе, в том, что правда на его стороне и будущее за ним:
В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?..Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.(Из цикла «Ямбы»).
Постепенно освобождаясь от своих покаянно-жертвенных настроений, Блок приближался к гораздо более правильному пониманию проблемы народа и революции. В годы реакции у него складывается концепция «живой, могучей и юной России», в которой демократическое начало является определяющим.
- 678 -
«Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века, в светлых и неподкупных, лишь временно помутившихся взорах русских мужиков — огромная (только не схваченная еще железным кольцом мысли) концепция живой, могучей и юной России, — писал Блок в 1909 году. — Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия „мужает“, то уж, конечно, только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, одержанно раздумывающего думу „все об одном“, и юного революционера с сияющим правдой лицом, и все вообще непокладливое, одержанное, грозовое, пресыщенное электричеством. С этой грозой никакой громоотвод не сладит».1
Таких слов, проникнутых любовью к народу и верой в историческую справедливость революции, в годы реакции не произносил ни один из символистов и вообще ни один из представителей тогдашней буржуазной литературы.
Темы народа и грядущей революции сливаются в творчестве Блока в теме «юной» России, накапливающей свою революционную энергию. Самый образ России с течением времени претерпевает в лирике Блока существенную трансформацию. Первоначально он разрабатывался Блоком в традициях Тютчева и Хомякова, отчасти Аполлона Григорьева (Россия — «цыганка»). Это «колдовская», «дремучая», «нищая» и прекрасная» Русь, «почиющая в тайне», романтически «необычайная»:
Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел,Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах...Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...(«Русь»).
Этот романтизированный, сказочный образ России Блок насыщал лирической патетикой, связанной с творчеством Гоголя. «Юная» Россия, устремленная в будущее, предстала Блоку в образе гоголевской необгонимой тройки. В своих стихах о России Блок развил этот динамический образ:
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
(«На поле Куликовом»).
- 679 -
В дальнейшем, в связи с общей эволюцией художественного мировоззрения и поэтического стиля Блока, лирическая патетика и романтическая «сказочность» в значительной мере выветриваются в наиболее характерных его стихотворениях, посвященных теме России («Новая Америка», «На железной дороге», «Грешить бесстыдно, непробудно», «Петроградское небо мутилось дождем», «Коршун»).
«Новым ты обернулась мне ликом, и другая волнует мечта», — писал Блок о России в 1913 году (III, 196), и она, в самом деле, обернулась ему «новым ликом». Это уже не «темная», «колдовская» Русь «с болотами и журавлями», а реальная историческая Россия 10-х годов XX века. На первый план в патриотической лирике зрелого Блока выдвигается тема борьбы за будущую Россию как «Великую Демократию»,1 которой предстоит сыграть всемирно-историческую роль в жизни человечества. И даже обращаясь к героическому прошлому русского народа, Блок останавливается на таких событиях истории, которые позволяли ему связать их с темой борьбы за будущую Россию. Поэтому столь важное значение приобрела в творчестве Блока тема Куликовской битвы как «символического события русской истории», которому «суждено возвращение» (цикл «На поле Куликовом»).
Характер и идейный смысл национальной проблематики в творчестве зрелого Блока определялись историчностью его художественного мышления. Эта черта резко отделяла поэта от подавляющего большинства русских символистов. Эпоха разложения буржуазной культуры, в условиях которой творил Блок, характеризуется катастрофическим упадком исторической мысли. На своем закате буржуазия как общественный класс, утративший веру в будущее, уже не только не могла создать обобщающих исторических концепций, но в ее идеологии вообще игнорировались закономерности истории, самые основы исторического понимания действительности. Антиисторичным было и буржуазное искусство, в частности литература русского символизма, в которой живое чувство истории как правило подменялось мертвой ретроспекцией и внешней декоративностью и стилизацией.
Совсем иное встречаем мы в творчестве зрелого Блока. Оно исторично прежде всего потому, что служит художественным отражением исторического процесса, а, во-вторых, потому, что поэт ощущал себя самого участником этого беспрерывного, берущего начало в прошлом и обращенного в будущее процесса, связывая свою личную судьбу с судьбами своей страны, своего народа и его культуры.
Блоку было присуще необыкновенно живое, органическое ощущение «связи времен» — прошлого, настоящего и будущего. Неслучайно «перевоплощение» лирического героя в разные эпохи истории занимает в его творчестве заметное место (см., например, «Все это было, было, было» или «Венеция»). Чувство личного участия в историческом процессе приобретало в поэзии Блока характер отчетливого и на редкость конкретного ощущения прошлого в его неразрывной связи с настоящим («Нет! Все, что есть, что было, — живо!»). Образы истории никогда не были для поэта ни мертвой ретроспекцией, ни условно-«исторической» декорацией, ни предметом эстетской стилизации. Древнерусский воин из ополчения Дмитрия Донского (в стихотворном цикле «На поле Куликовом») — это герой лирический, это сам поэт, ощутивший себя участником Куликовской битвы. С еще большей отчетливостью это ощущение передано в драматической
- 680 -
поэме «Песня Судьбы», в монологе ее центрального героя Германа (в образе которого явно проступают автобиографические черты). Вся образная ткань этого монолога («Все, что было, все что будет, — обступило меня: точно эти дни живу я жизнью тех времен, живу муками моей родины» и т. д.), взятая из народного сказания, та же, что и в стихах: «На поле Куликовом»: «Я знаю, как всякий воин в той засадной рати, как просит сердце работы, и как рано еще, рано!.. Но вот оно — утро! Опять — торжественная музыка солнца, как военные трубы, как далекая битва... а я — здесь, как воин в засаде, не смею биться, не знаю, что делать, не должен, не настал мой час. — Вот зачем я не сплю ночей: я жду всем сердцем того, кто придет и скажет: „Пробил твой час. Пора!“». Ср. пятое стихотворение цикла «На поле Куликовом»:
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск, и трубы лебедей.Не может сердце жить покоем,
Не даром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал. — Молись!Здесь история явно перекликается с современностью. И в стихах «На поле Куликовом» и в драме «Песня Судьбы» образы далекого исторического прошлого были привлечены Блоком для решения актуальной современной проблемы, особенно глубоко волновавшей его, именно проблемы взаимоотношений народа и интеллигенции. Фаина в «Песне Судьбы» — это персонифицированный образ «юной» народной России, в котором оттенены типические черты национального женского характера (вечное «горение», высокое напряжение воли, неукротимая душевная страсть, душевное беспокойство). Таков же образ героини в лирических стихах цикла «Фаина», по времени примыкающего к драме «Песня Судьбы». Герман же в «Песне Судьбы» — это образ современного героя, заблудившегося на перепутьях тщетных интеллигентских исканий и пытающегося обрести прямые пути к России, к народу. В финале драмы заблудившегося в снежных полях героя выводит на верную дорогу некрасовский коробейник (в черновой редакции просто «мужик»).
При всех идеологических заблуждениях Блока, при всей противоречивости и незрелости его общественного сознания перед ним в годы реакции «забрезжили» величественные очертания будущей России, «мужающей в сердце русской революции». В разгар столыпинского террора Блок характеризовал «современную русскую государственную машину» как «гнусную, слюнявую, вонючую старость семидесятилетнего сифилитика, который пожатием руки заражает здоровую юношескую руку», а революционно-демократическое движение — как «юность с нимбами вокруг лица», — юность, которая «завтра возмужает».1
Это — «Россия в мечтах». Но мечты о будущей России помогали Блоку вынести «непроглядный ужас» и пошлость окружавшей его «лживой жизни», спасли его от полного отчаянья и декадентской духовной опустошенности. Его Россия — это «легкий образ рая», утешение и надежда обездоленного человека. Вспоминая «все, что мучило когда-то, забавляло иногда» — лесть, коварство, славу, злато, «человеческую тупость», все, что составляет «круг постылый бытия», — поэт спрашивает: «Что ж, конец?». И отвечает:
- 681 -
Нет.. еще леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...(«Последнее напутствие»).
В лирике Блока тема родины постепенно все более насыщается конкретно-историческим содержанием и проникается социальным пафосом. Образ «нищей России» с «серыми избами» и «ветровыми песнями» сменяется образом фабричной, промышленной России, пробуждающейся: к новой жизни «под знаком мужественности и воли», вступающей на новый путь исторического развития.
... Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.
Путь степной — без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...С этой темой тесно связан круг увлекавших Блока мыслей о «фабричном возрождении России». Это те мотивы «угля», «руды», «черного бриллианта» и т. п., которые столь отчетливо звучат в «Новой Америке», в «Ямбах», «Возмездии» и некоторых других произведениях и набросках Блока. Сюда же относится интересный замысел драмы «Нелепый человек», к которому Блок возвращался несколько раз в течение ряда лет. В 1916 году Блок записал: «Драма о фабричном возрождении России, к которой я подхожу уже несколько лет, но для которой понадобилось бы еще много подступов (даже исторических) — завещается кому-нибудь другому».1
В основе замысла Блока, поскольку можно восстановить его по схематическому плану, лежала мысль о житейской неприспособленности, лени, «отвлеченности» и душевной вялости человека, искалеченного и опустошенного эпохой «безвременья». Этим качествам, которые Блок обозначал понятием «дворянская сентиментальность», он хотел противопоставить в своей драме «мужественность» и «волю», олицетворенные в образе «инженера» — человека нового душевного склада и нового социального поведения. Эту же мысль о житейской неприспособленности и о необходимости ее преодоления Блок предполагал развить в поэме «Возмездие». В предисловии к поэме он писал: «Путем катастроф и падений, мои „Rougon-Macquar’ы“ постепенно освобождаются от русско-дворянского èducation sentimentale (сентиментального воспитания, — Ред.), „уголь превращается в алмаз“» (V, 30). К тому же кругу мыслей примыкает относящийся к началу 1913 года замысел исторической драмы о сильном, волевом человеке, который рисовался Блоку как антипод Бертрана — «униженного» жизнью героя драмы «Роза и Крест»: «Бродит новая мысль: написать о человеке, власть имеющем — противоположность Бертрану».2
Тема мужественности и воли по существу лежит также и в основе поэмы «Соловьиный сад» (1915) — одного из центральных произведений зрелого Блока. Здесь воля и долг противопоставлены убаюкивающей и расслабляющей душу человека эгоистической страсти, соблазнам и очарованиям
- 682 -
«сладких песен», которые, однако, не могут заглушить голоса живой жизни. Герой поэмы, ушедший от трудной и горькой жизни в волшебный соловьиный сад, забывший о «каменистом пути» труда и борьбы, терпит духовный крах, дорогой ценой платит за свое бегство от жизни, за измену общественному долгу. Таков основной смысл поэмы. В ней резко подчеркнута тема труда, вообще говоря не получившая в творчестве Блока значительного развития, но, тем не менее, возникавшая в некоторых его стихотворениях более раннего времени («Май жестокий с белыми ночами», «Холодный день», «Работай, работай, работай»). Имея в виду, конечно, не рабский, а свободный и творческий труд, Блок писал в 1908 году М. И. Пантюхову:1 «...одиночество преодолимо только ритмами действительной жизни — страстью и трудом. Остальное — сны».2
Вопрос о человеке, активном творце жизни, был очень важным для зрелого Блока вопросом. Он стал одной из главных поэтических тем поэта в лирике 910-х годов, в поэме «Возмездие», отчасти в драме «Роза и Крест». Обоснованию этой темы посвящены многие страницы публицистической, критической, мемуарной и эпистолярной прозы Блока. Гармонический человек, способный «жадно жить и действовать» (VIII, 131), свободно развивающий свои духовные и физические силы, «дитя добра и света», воплощение «свободы торжества» (III, 65), безусловно был поэтическим идеалом Блока, и во имя этого идеала он отвергал и разоблачал «лживую жизнь» в «страшном мире»:
О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!..Этот идеальный образ свободного человека был насыщен гуманистическим содержанием. Любовь к человеку и вера в человека глубочайшим образом свойственны Блоку, эти чувства звучали наперекор всем трагическим нотам его лирики, не имевшей ничего общего с декадентским человеконенавистничеством многих современных ему поэтов. В этой связи следует упомянуть о горячем отклике Блока на одно из выступлений Горького. В статье по поводу книги Горького «Землетрясение в Сицилии и Калабрии» Блок с величайшим сочувствием писал о простом человеке — «живучем, сильном и благородном»: «...обыкновенный человек... прекрасней и выше самого бесплотного видения... Он поступает страшно просто, и в этой простоте только сказывается драгоценная жемчужина его духа» (IX, 50).
Вопрос о человеке будущего, человеке общественном, бесстрашно преобразующем жизнь, о котором мечтал Блок, связан в его творчестве и с проблемой бесстрашия художника, верующего в жизнь, не боящегося ее противоречий и мужественно глядящего в лицо миру. Тема эта с замечательной поэтической энергией выражена в прологе поэмы «Возмездие», имеющем для Блока программно-декларативное значение:
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, — поймешь, где тьма.
- 683 -
Пускай же все пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума...В том же прологе поэмы «Возмездие», в первый раз напечатанном под знаменательным заглавием «Народ и поэт», отчетливо звучит идея служения народу искусством. Задача поэта, по мысли Блока, «неспешно и нелживо» поведать
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом — юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа...В центральных лирических циклах III тома, созданных в 910-х годах, и в «Возмездии» Блок сумел в значительной мере реализовать эти свои декларации.
Творчество зрелого Блока характеризуется отрицанием «страшного мира» русской действительности предреволюционной эпохи и утверждением романтического идеала. Соотношением этих двух начал определяется в основном движение лирических тем и формирование образа лирического героя в III томе стихотворений Блока. Критическое начало и мотивы разоблачения представлены здесь гораздо шире и в более четких художественных формах, нежели мотивы, утверждающие положительный идеал.
Вникая все глубже в реальные противоречия своей эпохи, Блок стал поэтом трагической темы. Современная ему жизнь в буржуазном мире, охваченном общественной и политической реакцией, раскрылась перед Блоком как историческая трагедия, а человек, остро переживающий общественно-исторические противоречия своей эпохи, приобрел в поэзии Блока резко выраженные черты трагического героя. Этого героя преследует жестокая «трагедия раздвоения» — любовь к жизни в ее идеальном образе «нового мира» и отвращение от жизни в ее исторически сложившихся «неправедности» и «неподлинности» (четкую формулу такого раздвоения находим в «Возмездии»: «И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь»). Блок считал, что такое двойственное отношение к жизни («любовь-вражда») свойственно именно трагическому мировоззрению, которое исключает примирение с действительностью, не отвечающей идеальному о ней представлению. В одном из важнейших своих стихотворений Блок с большой отчетливостью обрисовал душевный облик человека того поколения, к которому принадлежал и от имени которого хотел говорить:
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы1 —
Кровавый отсвет в лицах есть.Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.(«Рожденные в года
глухие»).«Душа мытарствует по России в XX столетии», — сказал однажды Блок (IX, 215). Об этих мытарствах человеческой души в мире капитализма,
- 684 -
в мире сытых и голодных, и говорит его лирика. Подавляющее большинство стихотворений III тома (и значительная часть более ранних, вошедших во II том) написано от лица страдающего человека с «роковой пустотой» в некогда восторженном сердце, с «загражденными устами», с усталой и изверившейся душой:
Было время надежды и веры большой —
Был я прост и доверчив, как ты.
Шел я к людям с открытой и детской душой,
Не пугаясь людской клеветы...
А теперь — тех надежд не отыщешь следа...
И сама та душа, что, пылая, ждала,
Треволненьям отдаться спеша, —
И враждой, и любовью она изошла,
И сгорела она, та душа...(«Ты твердишь, что я холоден»).
Усталый, страдающий, сгоревший человек — лирический герой Блока — обречен на безрадостное скитанье в «одичавшем мире», где «нестерпим окружающий мрак», где «лжи и коварству меры нет», где «богатый зол и рад», и «унижен бедный», где царят «лесть, коварство, злато», где опошлено и унижено все высокое, чистое и прекрасное, где человек забывает «о доблестях, о подвигах, о славе», где любовь оборачивается мукой и унижением, а искусство — адом («К музе» и «Художник»), где нет и не может быть истинного счастья. В страстном отрицании этого «одичавшего» и «страшного» старого мира, в разоблачении всяческих утешающих и украшающих иллюзий о нем творческий гений Блока сказался во всей своей могучей силе.
С течением времени все более четко выявлялась в поэзии Блока обличительно-сатирическая тенденция. Она сказалась уже в цикле «Вольные мысли» (1907), в котором в романтическом духе критикуется и разоблачается духовное убожество буржуазно-мещанской среды. Установка на сатирическое разоблачение вполне очевидна в таких характерных для зрелого Блока циклах, как «Пляски смерти» и «Жизнь моего приятеля», и в таких стихотворениях, как «Поэты», «Друзьям», «За гробом», «Грешить бесстыдно, непробудно». Резкие сатирические ноты звучат и в поэме «Возмездие», по словам поэта, «полной революционных предчувствий» (особенно в частях, исключенных из первоначального текста). В этом произведении Блок ставил целью показать, как мельчает и вырождается, душевно-дряблый, озлобленный и чувствительный» человек, искалеченный в «водовороте» буржуазного мира, утративший связь с природой и обществом, человек с «вялой плотью» и «тлеющей душонкой» (см. предисловие к поэме).
Свою ненависть к старому миру, идею отрицания его Блок выразил с большой поэтической силой:
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне, —
Дай гневу правому созреть
риготовляй к работе руки...
Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только — лживой жизни этой
Румяна жирные сотри
И, как пугливый крот, от света
Заройся в землю — там замри,
- 685 -
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молви: нет!(«Да. Так диктует вдохновенье»).
Однако не нота отчаяния, звучавшая в поэзии Блока, в конечном счете, определяет смысл его зрелого творчества. Он отрицал настоящее во имя будущего.
В конце жизни Блок как-то сказал одному собеседнику: «Не принимайте во мне за „страшное“... то, что другие называют еще „пессимизмом“, „разлагающим“ и т. д. Я, действительно, хочу многое „разложить“ и во многом „усумниться“, — но это... происходит от большой требовательности к жизни... Совсем не считаю себя пессимистом».1 А об одном из мрачных своих стихотворений («Голос из хора») он однажды отозвался так: «Лучше бы было этим словам оставаться несказанными. Но я должен был их сказать. Трудное надо преодолеть. А за ним будет ясный день».2 Эта вера в то, что «будет ясный день» и спасла Блока от беспросветного отчаяния. «Мир прекрасен и в отчаянии — противоречия в этом нет», — утверждал Блок,3 и эта мысль всегда лежала в основе его отношения к миру и человеку:
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен...(«Возмездие»).
И я люблю сей мир ужасный,
За ним сквозит мне мир иной,
Неописуемо прекрасный
И человечески-простой...(«Возмездие»).
Мятежность, непримиримость, «свободная мечта», «огонь и тревога» — все это жило в душе и сознании Блока наперекор его падениям и отчаянию и привело его к идее борьбы за лучшее будущее для униженного и страдающего человека:
Я верю: новый век взойдет
Средь всех несчастных поколений...
Пусть день далек — у нас все те ж
Заветы юношам и девам:
Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева — есть мятеж.(«В огне и холоде тревог»).
В стихах, написанных после поражения революции 1905 года, в период разгула реакции, и обращенных «К рабочему», тема революции выражена с особенной прямолинейностью:
Эй, встань и загорись и жги!
Эй, подними свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!..
Как зерна, злую землю рой
И выходи на свет. И ведай:
За их случайною победой
Роится сумрак гробовой.
Лелей, пои, таи ту новь,
- 686 -
Пройдет весна — над этой новью,
Вспоенная твоею кровью
Созреет новая любовь.(«Я ухо приложил
к земле»).В другом стихотворении, тесно связанном с только что цитированным, содержится гневное пророчество о судьбе тех, кто одержал «случайную победу» над народом:
Овеют призраки ночные
Их помышленья и дела,
И загниют еще живые
Их слишком сытые тела.
Их корабли в пучине водной
Не сыщут ржавых якорей,
И не успеть дочесть отходной
Тебе, пузатый иерей!
Довольных сытое обличье,
Сокройся в темные гроба!
Так нам велит времен величье
И розоперстая судьба!..(«Тропами тайными,
ночными»).В 1912 году Блок говорил, что он хотел написать в своих стихах, «больше того, чем сумел», и обращался к своему почитателю с просьбой: «...если Вы любите мои стихи, преодолейте их яд, прочтите в них о будущем».1 Художник, говорил Блок, «должен честно смотреть, а смотреть художественно-честно значит — смотреть в будущее». В глухое время реакции поэт верил в наступление новой жизни. «Мы стоим перед лицом нового и всемирного... новый мир уже стоит при дверях», — писал Блок, добавляя, что «с полным правом и ясной надеждой ждет нового света от нового века» (IX, 186).
На примере творчества Блока с особенной наглядностью и убедительностью видно, как сближение поэта с действительностью неизбежно и закономерно приводило его к отказу от декадентско-символистской поэтической системы, заставляло его по-новому решать проблемы стиля и поэтики. В январе 1908 года Блок писал, что «весь яд декадентства и состоит в том, что утрачены сочность, яркость, жизненность, образность, не только типичное, но и характерное... А в жизни еще очень много сочности, которую художник должен воплощать».2
Блок неуклонно движется от отвлеченного к конкретному, успешно преодолевает беспредметность, «загадочность» и «недоговоренность», характерные для его ранних стихов, стремится достичь смысловой точности поэтического слова и цельности художественного образа. Изменяется интонационный строй его лирики, поэтический словарь обогащается элементами живой разговорной речи, формы стиха становятся более строгими и стройными.
Примером того, как на путях преодоления импрессионистической и символической «недоговоренности» слагалась художественная манера зрелого Блока, могут служить «Итальянские стихи» (1909), замечательные классической строгостью своих структурных форм и живописной точностью зрительных образов. Многое в пейзаже «Итальянских стихов» идет от
- 687 -
живописи Возрождения, но еще больше — от непосредственных личных впечатлений. В этой связи интересно отметить, что образная ткань большинства «Итальянских стихов» находит весьма точные соответствия в путевых очерках Блока «Молнии искусства»: источником казалось бы даже отвлеченных образов, как выясняется, служили впечатления поэта от природы, быта, памятников старины и искусства Италии.
Для поэтической работы зрелого Блока характерны непрерывное расширение поэтического диапазона, широкий творческий охват различных, порой очень далеко друг от друга лежащих литературных традиций, свободное сочетание элементов различных стилей — от романсно-элегического до куплетно-частушечного. Проблема создания нового лирического стиля заключалась для Блока в значительной степени в творческой переработке элементов разных стилей, а отнюдь не в разрушении старых форм и не в отказе от традиций. Он ничего не отвергал из исторически сложившегося наследия русской поэзии. В этом отношении он был совершенно не похож на большинство поэтов русского символизма, чуждавшихся старых традиций и предававшихся формалистическому экспериментаторству.
Напротив, Блок неоднократно подчеркивал свою верность традициям русской поэзии XIX века. Отсюда, в частности, и обилие реминисценций и прямых цитат в стихах Блока. Чаще всего это целые словосочетания из различных поэтов (Пушкина, Лермонтова, Жуковского, А. Григорьева, Майкова, Тютчева, Фета и Брюсова). Разумеется, такие реминисценции, будучи поставлены в новую смысловую и интонационную связь, приобретали новое звучание и не противоречили самостоятельности поэзии Блока! в целом, но сама по себе восприимчивость его ко всякого рода «заимствованиям» примечательна, равно как и свобода в обращении с традиционными сюжетами. Примером последнего может служить стихотворение «Шаги командора», представляющее собой новый вариант старой европейской легенды с переосмыслением ее темы.
В стихах зрелого Блока различимы в основном три стилевые линии.
Одна из них — напевно-эмоциональная, интонационно ориентированная на мелодику старинного или «цыганского» романса («О доблестях, о подвигах, о славе», «О, нет! не расколдуешь сердца ты», «Черный ворон в сумраке снежном», «Опустись, занавеска линялая», «Была ты всех ярче, верней и прелестней»). В творчестве Блока романс, эта второстепенная песенно-декламационная форма лирической поэзии, обрела новые черты и усложнилась.
С течением времени в творчестве Блока все более ощутимым становился процесс вытеснения напевно-эмоциональных интонаций интонациями разговорными и ораторскими. Блок стремится шире использовать многосторонние традиции русской поэзии. Некрасовские интонации звучат во многих стихах Блока, посвященных теме родины, народа. Значительное воздействие оказал Некрасов и на формирование драматизированного лирического стиля Блока, включающего элементы живой разговорной речи.
Заметное место в стихотворениях зрелого Блока занимает также ораторская интонация, преемственно связанная с лирикой Лермонтова. Наиболее четким выражением ее служат «Ямбы» с их гражданским пафосом и образом поэта-«бойца», обличителя социального зла, а также такие стихи, как «Голос из хора», «Друзьям», «Поэты», «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух», «Рожденные в года глухие» и др. Линия эта в творчестве Блока завершается в стихотворении «Скифы» (1918), которое может рассматриваться как наивысшая точка пройденного им
- 688 -
пути от камерной импрессионистической лирики к монументальной оде «гражданского состава» и ораторского стиля, связанной с традицией русской политической оды XIX века, наиболее характерным образцом которой является стихотворение Пушкина «Клеветникам России».
Поэтические традиции связывали Блока с реалистической русской поэзией XIX века. Однако при этом Блок оставался до конца на почве романтического понимания искусства, и в творчестве его лишь проявлялись отдельные реалистические тенденции. Тенденции эти весьма ощутимы в стихах III тома, но тем не менее не определяют стилистического облика поэзии Блока в целом.
Стремление к более широкому охвату действительности влекло Блока за пределы лирики — к эпосу и драме. Его давнее и настойчивое желание сойти с «шаткой лирической почвы» вновь проявилось в 1910 году, когда он приступил к работе над поэмой «Возмездие». Эта поэма была задумана под впечатлением смерти отца (первоначальная редакция поэмы была озаглавлена «Отец»). Блок работал над поэмой в общей сложности (со значительными перерывами) в течение одиннадцати лет, особенно интенсивно в 1911 и 1916 годах; последние наброски относятся к лету 1921 года. Поэма осталась незаконченной: из задуманных четырех глав с прологом и эпилогом были написаны: пролог, первая глава, вступление во вторую и бо́льшая часть третьей.
«Возмездие» было задумано очень широко, как монументальный исторический и общественно-бытовой «роман в стихах» с лирическими и историко-философскими отступлениями. Каждая глава поэмы, повествующая о судьбах «рода», семьи, должна была обрамляться «описанием событий мирового значения». Центральная проблема «Возмездия» — проблема становления человеческой личности — решалась Блоком на широком историческом фоне «мирового водоворота». Жизнь России и Польши, русско-турецкая война 1877—1878 годов, возвращение русской гвардии в столицу из заграничного похода, народовольческое движение, быт научной и художественной интеллигенции, Петербург в глухие «победоносцевские» годы, революционное брожение, баррикады 1905 года, Цусима и 9 января — таков был громадный исторический диапазон замысла Блока.
На широком историческом фоне русской жизни Блок хотел показать целую галерею человеческих образов. Из них далеко не все получили творческое воплощение, и прежде всего невоплощенным остался главный герой — «сын», о судьбе которого Блок хотел рассказать в ненаписанной второй и наполовину написанной третьей главах поэмы. Но и то, что создано из этой галереи — образы «деда» и, особенно, «отца», говорит о том, что зрелому Блоку было доступно многостороннее изображение сложного человеческого характера.
Творческая работа Блока над поэмой свидетельствовала о стремлении выйти за пределы субъективной лирики к вольному и широкому эпическому повествованию. Как передает один из мемуаристов, Блоку «хотелось увидеть в русской поэзии возрождение поэмы с бытом и фабулой».1 Уже одно это означало резкое нарушение эстетических и жанровых норм символистской поэзии, и не случайно «Возмездие» не встретило сочувственного приема в среде символистов.
И в самом деле, «Возмездие» было прямым вызовом символизму. Здесь нашли отчетливое и широкое выражение реалистические тенденции
- 689 -
в художественном мировоззрении и стиле Блока. Никогда раньше он не писал с такой пластичностью и живописной яркостью, с такой конкретной изобразительностью, с такой реалистической верностью в целом и в деталях:
Востока страшная заря
В те годы чуть еще алела...
Чернь Петербургская глазела
Подобострастно на царя...
Народ толпился в самом деле,
В медалях кучер у дверей
Тяжелых горячил коней,
Городовые на панели
Сгоняли публику... — «Ура» —
Заводит кто-то голосистый,
И царь — огромный, водянистый,
С семейством едет со двора...«Возмездие» — поэма, в которой заметно проявились традиции пушкинского реализма. Пушкинское начало явственно присутствует в общественно-политических характеристиках эпохи («Век девятнадцатый, железный», «В те годы, дальние, глухие», «Страна под бременем обид»), в бытовых сценах и развернутых описаниях первой главы, в системе лирико-философских отступлений, в приемах свободного включения исторического материала в сюжетную ткань повествования, в трактовке человеческих образов, в классической стиховой форме четырехстопного ямба, вообще во всей художественной структуре «Возмездия». Самый жанр исторической, общественно-бытовой хроники, избранный Блоком, преемственно связан с «Евгением Онегиным».
История присутствует в «Возмездии» уже не в лирическом опосредствовании (как в стихах о России — «На поле Куликовом» и др.), но как эпическая тема повествования о судьбах России:
Переговоры о Балканах
Уж дипломаты повели,
Войска пришли и спать легли,
Нева закуталась в туманах,
И штатские пошли дела,
И штатские пошли вопросы:
Аресты, обыски, доносы
И покушенья — без числа...
............
Прошло два года. Грянул взрыв
С Екатеринина канала,
Россию облаком покрыв.
Все издалека предвещало,
Что час свершится роковой
Что выпадет такая карта...
И этот века час дневной —
Последний — назван первым марта.Такой прямой, непосредственный разговор об истории и о реальных исторических деятелях (Степняк-Кравчинский, Софья Перовская, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Скобелев, Победоносцев и др.) мог возникнуть у Блока лишь в свете творческого опыта Пушкина. Также и во вступлении ко второй главе «Возмездия» Блок безусловно отправлялся от философско-исторической проблематики «Медного всадника», окружая новыми ассоциациями образы Петербурга и Петра, в которых у него, как и у Пушкина, раскрывается тема исторического пути России:
- 690 -
Царь! Ты опять встаешь из гроба
Рубить нам новое окно?
И страшно: белой ночью — оба —
Мертвец и город — заодно...
Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?..Блоку не удалось закончить поэму, но и в написанной части она остается в русской поэзии XX века (дооктябрьского периода) самым значительным и глубоким произведением эпического жанра. То, что было сделано Блоком в «Возмездии», свидетельствует о том, что перед ним раскрывались широкие творческие перспективы за пределами лирических жанров, что в его возможностях было создать большой национально-исторический эпос. Однако решение этой задачи выпало на долю Маяковского, гениального новатора, начавшего свою работу над эпосом еще до революции и блестяще завершившего ее в советскую эпоху.
Попыткой выйти за пределы лирики была также драма «Роза и Крест» (1912—1913) — лучшая, самая зрелая и мастерская драма Блока. В этом большой, четырехактной пьесе Блок решительно переходит от театра «маски» к театру человеческого образа и характера, ставит перед собой проблему психологического реализма.
Для характеристики творческих установок Блока в период работы над «Розой и Крестом» интересны такие его высказывания: «Очень люблю психологию — в театре», или: «...мне неудержимо нравится „здоровый реализм“, Станиславский и „Музыкальная Драма“. Все, что получаю от театра, я получаю оттуда».1 В «Розе и Кресте» Блока интересовали уже не разные стороны души одного человека, как это было в его ранних лирических драмах, а судьбы разных людей. Центральный герой «Розы и Креста» — Бертран — был задуман как образ человека «со всем житейским», но человека-неудачника, лишенного «власти» над жизнью и потому обиженного и искалеченного ею. В душевной драме Бертрана раскрывается характерная творческая тема Блока — трагедия современного человека. Блок настойчиво подчеркивал, что психология действующих лиц «Розы и Креста» показана им на историческом материале только потому, что он «еще не созрел для изображения современной жизни» и не владеет «современным языком»; нужно помнить, указывал Блок, что герои и персонажи «Розы и Креста» — «„современные“ люди, их трагедия — и наша трагедия».2
При всем том Блоку не удалось в этом произведении полностью преодолеть лирический характер своей драматургической манеры (хотя он и стремился ориентироваться на реалистическую манеру Шекспира). Он сделал значительный шаг вперед в этом направлении. В «Розе и Кресте» действуют уже не персонифицированные «идеи», как это было в «Балаганчике» и других ранних драмах Блока, а живые, полнокровные люди, изображенные пластично и выпукло, в ряде случаев — с настоящей реалистической точностью. Но все же «Роза и Крест» воспринимается как лирическая драма одного человека, именно Бертрана, в образе которого Блоку и удалось решить проблему создания драматического характера (все остальные персонажи, включая и Изору, воспринимаются лишь в соотношении с Бертраном).
В годы войны творческая деятельность Блока была очень интенсивна. Кроме «Стихов о России», он написал поэму «Соловьиный сад» и ряд
- 691 -
стихотворений, обработал много черновых набросков, сделанных в прежние годы, принял активное участие в подготовке сборников армянской, латвийской и финской поэзии, которые организовывались по инициативе Горького (Блок перевел ряд стихотворений армянского поэта Аветика Исаакяна, «Реквием» латышского поэта Плудониса, стихи финских поэтов Л. Онерва, И. Рунеберга, З. Топелиуса, Я. Тегенгрена и Н. Рунеберга).
Творческая работа Блока прервалась в июле 1916 года, когда он был призван в действующую армию и назначен табельщиком инженерно-строительной дружины Союза земств и городов, расположенной в прифронтовой полосе, в районе Пинских болот. Здесь окончательно определилось его резко отрицательное отношение к империалистической войне. Здесь же застала его февральская революция.
4
Из армии Блок вернулся в Петербург 19 марта 1917 года. Свержение самодержавия он воспринял как «начало жизни»: «Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России... Для меня мыслима и приемлема будущая Россия, как великая демократия», — таков был первый отклик Блока на революционные события.1 Блок сразу понял, что революция не ограничится свержением самодержавия. Он был убежден в неизбежности ее дальнейшего нарастания; свержение самодержавия было с его точки зрения только прелюдией «еще не развернувшихся событий».
Почти с самых первых дней февральского режима Блок испытывал чувство неудовлетворенности и некоторого разочарования. Как и в 1905 году, шумные ликования буржуазных либералов и всяческих «революционных» краснобаев вызывали в нем чувство протеста. Правда, реальная расстановка классовых сил и перспективы дальнейшего развития революции, как и в 1905 году, были ему не ясны: порою он находил, что «кадеты правы», но тут же добавлял, что «и в большевизме есть страшная правда». Он сам признавался, что «не имеет ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы поставлен свидетелем великой эпохи».
Однако «все кадетское» все более начинает «ужасно беспокоить» Блока своим «благополучием», «неуменьем и нежеланьем радикально перестроить строй души и головы». О кадетах он пишет: «Мне стыдно было бы быть с ними». Он подметил активизацию контрреволюционных сил, «поднимающих голову» в условиях февральского режима. «Юнкера, ударники, империалисты, буржуа, биржевики», буржуазная пресса, генерал Корнилов — все это вызывало в нем чувство тревоги за судьбу революции: «Неужели? Опять в ночь, в ужас, в отчаянье?». В июне 1917 года он говорил, что склоняется к большевикам, к «интернациональной точке зрения». Симпатии его на стороне «всего революционного народа», обладающего «социалистической психологией», «умного, спокойного и понимающего то, чего интеллигенции не понять». Под впечатлением посещения съезда Советов солдатских и рабочих депутатов (21 июня) Блок писал жене: «...содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия».2
- 692 -
Озабоченный вопросом «Как же ему теперь русскому народу лучше послужить?»,1 Блок приходит к убеждению, что должен «заниматься своим делом», делом художника.2 Но заняться «своим делом» в 1917 году ему не удалось. Он был назначен одним из редакторов стенографического отчета Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования преступной деятельности царских министров и сановников. Работа эта увлекла Блока, и он отдавал ей почти все время. Присутствуя на допросах видных деятелей царского режима, Блок воочию убедился в том, что «гигантская лаборатория самодержавия» представляла собой «ушаты помоев, нечистот, всякой грязи, колоссальную помойку».3 По материалам следственной комиссии Блок написал ценную документальную работу «Последние дни императорской власти», в 1919 году напечатанную в журнале «Былое», а в 1921 году изданную отдельной книгой. В Следственной комиссии Блок работал до Великой Октябрьской социалистической революции. Кроме того, осенью 1917 года он был назначен членом Литературно-театральной комиссии государственных театров, для которой написал ряд отзывов о новых пьесах.
Очень крупную роль в формировании критических настроений Блока по отношению к Временному правительству сыграло резкое неприятие им лозунга продолжения империалистической войны, провозглашенного буржуазными партиями и правительством Керенского. Накануне Октября Блок записывает в дневнике: «Один только Ленин верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране».4
Великую Октябрьскую социалистическую революцию Блок принял восторженно как событие всемирно-исторического значения, открывающее новую эру в жизни всего человечества под знаком «мира и братства народов» (VIII, 48). Он связывал социалистическую революцию с «тем потоком мыслей и предчувствий, который захватил его десять лет назад» (VIII, 45), и на предложенный одной из буржуазных газет вопрос: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» — он (единственный из участников анкеты) ответил: «Может и обязана» (VIII, 236).
Октябрьская революция поистине окрылила Блока и заставила его пережить величайший творческий подъем. «Одно из благодеяний революции, — говорил Блок, — заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты» (IX, 204). В замечательной статье «Интеллигенция и революция» (1918, январь) он призывал русскую интеллигенцию «всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушать Революцию» (VIII, 55). Он утверждал, что революция ставит своей задачей «переделать все»: «Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (VIII, 48).
Призывая современников всем сердцем, всем сознанием, «слушать революцию», Блок сам как бы весь превратился в слух в этот «грозный и крылатый час истории», и в январе 1918 года создал лучшее свое произведение — поэму «Двенадцать». Впоследствии он утверждал, что «во
- 693 -
время и после окончания „Двенадцати“... несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)» (V, 134). Его вдохновенный творческий порыв был настолько велик, что при всей своей авторской скромности он записал день, когда кончил «Двенадцать»: «Сегодня — я гений».1 Вслед за поэмой были написаны «Скифы» — последнее крупное поэтическое произведение Блока. «Двенадцать» и «Скифы», опубликованные 18 и 20 февраля 1918 года, явились значительнейшими художественными памятниками начала революционной эпохи, свидетельствующими о восторженном признании поэтом, стоявшим вне пролетарской борьбы, высшей правды и справедливости великой пролетарской революции.
Тема отречения от старой России с громадной силой прозвучала в «Двенадцати»: «Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь». С неменьшей силой прозвучала в «Скифах» тема исторических задач новой, революционной России. В то время, когда люди старого мира оплакивали его крушение, когда в буржуазной литературе появились всякие «Плачи о погибели русской земли», когда западноевропейские империалисты пошли крестовым походом на Советскую республику, раздался мужественный, твердый голос Блока, славившего великую роль и мировое назначение молодой Советской державы и обратившегося к старому миру с грозным предупреждением и последним призывом: («Попробуйте, сразитесь с нами!», «В последний раз — опомнись, старый мир!» и т. д.).
Общественный резонанс «Двенадцати», «Скифов» и статьи «Интеллигенция и революция» был очень велик. Поэма «Двенадцать» широко распространилась по всей стране, перепечатывалась в провинциальных изданиях, издавалась отдельно (между прочим, подпольно — в Сибири, при Колчаке); вскоре появились многочисленные переводы ее почти на все иностранные языки. Советская общественность по достоинству оценила революционный порыв Блока, высказала ему свое сочувствие и оказала моральную поддержку. Совершенно иное отношение, естественно, встретил Блок в лагере врагов народа и революции.
Безоговорочно признав и приняв пролетарскую революцию, Блок тем самым вступил в открытый и острый конфликт с буржуазной интеллигенцией всех мастей и оттенков, в массе своей настроенной контрреволюционно. Литераторы буржуазного лагеря не подавали руки Блоку (и сообщали об этом в печати), отказывались выступать с ним на литературных вечерах, публично кричали по его адресу: «изменник», писали о нем в еще выходивших тогда буржуазных газетах всевозможные гнусности. В этой подлой травле Блока самое активное участие, наряду с мелкими репортерами желтой прессы, принимали известные представители реакционной буржуазной литературы: Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов, Ф. Сологуб, Ю. Айхенвальд и др.
Но Блока ничуть не смущала эта злобная травля со стороны врагов революции. «Трусы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи», — записал он в дневнике (II, 98). Теперь, в 1918 году, Блок полностью осознал свой издавна подготовлявшийся разрыв с теми, кто в прошлом составлял его ближайшее литературное окружение. Получив от З. Гиппиус ее гнусную контрреволюционную книжку «Последние стихи», Блок ответил ей так: «В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это
- 694 -
было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить. Великий Октябрь их и разрубил».1
Блок вступил в советскую эпоху с сознанием величия этой эпохи и ответственности тех задач, которые она ставит перед художником. Отвечая на вопрос, что делать сейчас русскому художнику, он писал (в мае 1918 года): «Художнику надлежит знать, что той России, которая была, — нет и никогда не будет... Мир вступил в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия — умерли... Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп... Художнику надлежит готовиться встретить еще более великие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед ними».2
И все же блоковское восприятие революции было ограниченным. Блок воспринял Великую Октябрьскую социалистическую революцию как стихийный взрыв, знаменующий катастрофическое крушение старого мира. Революция представлялась ему в образе «мирового пожара..., который разгорается и будет еще разгораться долго и неудержимо..., пока не запылает и не сгорит весь старый мир до тла» (VIII, 96). Это романтическое понимание революции, обусловленное всеми исконными идеологическими представлениями Блока, всем строем его мировоззрения, сказалось и в «Двенадцати». В этой поэме на образах двенадцати красногвардейцев, разрушающих старый мир, лежит явственный отпечаток стихийного бунтарства. Социалистическое содержание Октябрьской революции, ее созидательное начало не получили в «Двенадцати» должного отражения, — хотя в те же дни, когда создавалась поэма, Блок записал в дневнике: «Вот что я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой».3
Октябрьская революция, пережитая Блоком со всей силой человеческой и поэтической страсти, еще более обострила в нем чувство нового. Смысл и задачу революции Блок видел в том, «чтобы все стало новым» (VIII, 48). Именно после Октября Блок пытается обосновать (в «Крушении гуманизма» и других выступлениях) свою концепцию новой культуры и нового искусства, проникнутых «русским революционным пафосом». В это время окончательно складывается его представление о великом, «артистическом» искусстве как прежде всего искусстве общенародном, искусстве «для всех». Узкая художественная среда, с точки зрения Блока, не может создать «артиста»; он рождается только в процессе «революционных, народных, стихийных движений». Из этого убеждения вырастает и приобретает особенно страстный и непримиримый характер протест Блока против эстетизма и «всяческого формализма», нашедший яркое выражение в целом ряде его статей и докладов 1918—1921 годов. Как показывает запись в дневнике, относящаяся к 1919 году, он пришел к ясному пониманию враждебности формализма и эстетства самой природе творчества, искусства. «Я боюсь, — писал он, — каких бы то ни было проявлений тенденции „искусство для искусства“, потому что такая тенденция противоречит самой сущности искусства и потому, что, следуя ей, мы, в конце концов, потеряем искусство».4
- 695 -
Иллюстрация Ю. Анненкова к поэме А. Блока «Двенадцать».
Практическое решение проблемы общенародного искусства Блок стремился осуществить в «Двенадцати» и «Скифах». Тема революции как гибели старого мира и рождения нового неразрывно связана в этих поэмах Блока с темой народа как главной движущей силы истории и творца нового мира.
Социальная природа героев «Двенадцати» определена Блоком совершенно точно: это «рабочий народ». Признав историческую правду пролетарской революции, Блок признал и моральную справедливость революционного насилия над старым миром. «Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька?», — спрашивал он в полемическом гневе «надменных политиканов» из кругов буржуазно-либеральной интеллигенции (VIII, 51). Перед самим Блоком такого вопроса не возникало. По частному поводу (в связи с лермонтовской повестью «Вадим») он с замечательной прямотой высказался на ту же тему (в 1920 году): «...Лермонтов, как свойственно большому художнику, относится к революции без всякой излишней чувствительности, не закрывает глаз на ее темные стороны, видит в ней историческую необходимость» (XI, 421). Блок тоже относился к революции без «излишней чувствительности», и в этом сказался его воинствующий гуманизм, свободный от вялой сентиментальности
- 696 -
и либерального пустословия, гуманизм социальной борьбы, а не филантропической жалости.
Замысел «Двенадцати» раскрывается и в символическом образе Христа, с «кровавым флагом» возглавляющего шествие двенадцати красногвардейцев (явный намек на двенадцать апостолов). Нужно сказать, что образ этот, вызвавший в свое время много недоумений и споров и подвергавшийся зачастую прямо противоположным толкованиям, не удовлетворял и самого Блока.
«Мне тоже не нравится конец „Двенадцати“, — сказал он однажды. — Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Неужели Христос? Но чем больше я вглядывался, тем явственнее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос».1
Этот образ не случайно возник в поэме «Двенадцать». Обдумывая революционные события, Блок искал исторические параллели и аналогии. Крушение буржуазного мира он сопоставлял с падением Римской империи (очерк «Катилина», 1918). Но в этом сопоставлении отчетливо выявилась и слабость исторических представлений Блока, ограниченных рамками буржуазной науки. Падение Рима он рассматривал не как падение определенного общественно-экономического уклада и появление нового, исторически обусловленного экономического строя, а скорее в плане религиозно-эпическом, как смену язычества эпохой христианства. Поэтому Христос — олицетворение христианства — для Блока становится символом нового мира. В этом значении образ Христа и появляется в поэме «Двенадцать». Поэт понимал, что этот «женственный призрак» не соответствует облику главных героев его поэмы — рабочих-красногвардейцев, он чувствовал, что «надо, чтобы шел Другой» с его героями, но он не сумел найти другой образ для выражения великой правды нового мира.
В поэме «Двенадцать», созданной в первые месяцы после Октября, отразилось противоречивое понимание Блоком сил и задач революции. Однако не в этом заключаются смысл и значение поэмы, но в осознании Блоком исторической правды грандиозного социального переворота, в верности его духу времени, в живом ощущении величия и размаха русской пролетарской революции. Пусть поэт не до конца еще сумел правильно понять образ нового героя, но он верно отразил его основные черты: беззаветную преданность делу революции, беспощадность к врагам, силу и твердость, какие дает человеку великая и справедливая цель. А самое главное — поэт прославляет этих безымянных героев революции, неудержимо, «державным шагом» идущих вперед, в будущее:
...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.Ко всему готовы,
Ничего не жаль...В очи бьется
Красный флаг.Раздается
Мерный шаг...Вперед, вперед,
Рабочий народ!..У Горького есть замечательное высказывание о «Двенадцати». Говоря о том, что истинно-романтическая (революционно-романтическая) литература
- 697 -
это та, которая «верует в завтрашний день», в которой «сквозит сияние будущего», Горький указал на «Двенадцать»: «Современный литератор должен быть романтиком и писать примерно так, как написана поэма Блока „Двенадцать“ — произведение, которое не позволяет рассматривать себя с точки зрения хулы или хвалы действительности».1
«Двенадцать» — произведение, завершающее многие из идейных и художественных исканий Блока, и вместе с тем — это поэма новаторская. В «Двенадцати» есть много общего и родственного с лирикой Блока; мы встречаем в поэме излюбленные блоковские образы: зимнюю петербургскую ночь, снежную вьюгу, даже Христа. Но личное, субъективное начало в «Двенадцати» объективировано: наряду с голосом Блока мы слышим голоса его героев, их специфический словарь, характерные для них интонации, и лишь в финале поэмы звучит со всей силой прямая лирическая речь. И все же «Двенадцать» — поэма лирическая; поэтическая сущность ее — в отношении автора к предмету и теме его произведения.
«Двенадцать» — наивысшее творческое достижение Блока. Проникающий поэму революционный пафос наложил отпечаток и на ее ритмы, и на всю ее художественную структуру. Утверждая в очерке «Катилина», что историческое время внушает поэту даже «ритм и размеры стихов», Блок в галлиямбах Катулла почувствовал ту «напряженную грозовую атмосферу», в которой жил Рим времени Катилины: «Вы слышите этот неровный, торопливый... шаг революционера, — писал Блок, — шаг, в котором звучит буря ярости, разрешающаяся в прерывистых музыкальных звуках?» (VIII, 102, 104). Грозовая атмосфера Октября явно ощущается в поэме Блока — в ее прерывистых ритмах, в напряженности и динамике ее стихового темпа, в полифоническом богатстве ее интонаций. Эта атмосфера ощущается и в пейзаже поэмы, очерченном резкими, плакатно-четкими чертами — «в две краски» («Черный вечер. Белый снег»). На чередовании мотивов ночной темноты и снежной вьюги строится вся изобразительная сторона поэмы.
«Двенадцать» — произведение глубоко национального, ясного и простого поэтического стиля. Блок смело применил в своей поэме куплетные формы стиха и частушку — эту народную песенную форму, подняв ее на высоту громадного драматического напряжения.
В поэме сочетаются воедино почти прозаический рассказ с разговорными интонациями («Сколько бы вышло портянок для ребят» и т. д. — вся 1-я главка), чеканные лозунговые формулы, приобретающие особую выразительность в своей краткости («Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!»), солдатская и фабричная частушка («Как пошли наши ребята» и др.), народная песня-«заплачка» («Ох, ты, горе горькое»), городской «мещанский» романс» («Не слышно шуму городского»), торжественная патетика высокого стихового строя («Так идут державным шагом»). Народные — песенные и частушечные — формы стиха, фольклор петроградской улицы 1917 года («Ну, Ванька, сукин сын, буржуй», «У ей керенки есть в чулке» и т. п.), специфический жаргон городского просторечия («Поддержи свою осанку! Над собой держи контроль!»), огрубленный словарь (портянки, брюхо, стервец, падаль, толстозадая, холера, подлец, девка, жрала и пр.) — все это делало «Двенадцать» произведением для Блока в известной мере неожиданным. Буржуазная эстетская критика ничего не поняла в поэме как в произведении искусства и встретила ее глумлением не только из-за ее содержания, но
- 698 -
также из-за «грубости» формы и языка. Раздавались голоса о «полном падении» таланта Блока, о его «творческом вырождении».
Зато в молодой советской литературе «Двенадцать» встретили горячий и положительный отклик. Поэма Блока оказала значительное влияние на новейшую русскую литературу, отозвалась во многих произведениях советской поэзии. В частности, народные песенно-частушечные формы стиха и четкие стиховые лозунги, с таким блеском разработанные в «Двенадцати», в перспективе дальнейшего развития русской советской поэзии должны рассматриваться в соотношении с творчеством Маяковского, который сам отмечал родственную близость своей поэтики с поэтикой «Двенадцати» (в статье «Как делать стихи»). Бесспорное влияние оказала поэма «Двенадцати» и на Демьяна Бедного, автора «Главной улицы».
В последнем своем крупном поэтическом произведении, в «Скифах», Блок заново, в свете своего восприятия революционной современности, поставил вопрос о России и Западе, о всемирном значении Октябрьской революции, об исторической миссии и великом будущем новой, освобожденной России. Блоковский пафос обличения буржуазного мира, его бесчеловечной цивилизации, фальшивой демократии и лицемерной морали приобрел в «Скифах» отчетливое политическое звучание, поскольку это стихотворение было направлено против западноевропейских империалистов, собиравшихся крестовым походом на молодую Республику Советов. В «Скифах» с большой эмоциональной силой прозвучал гневный голос Блока, обличающий замыслы интервентов, и в этом заключается сильная сторона произведения.
Однако в «Скифах» прозвучали и мотивы, связанные с реакционной философией истории, в частности с соловьевской концепцией «пан-монголизма». Отсюда противоречия, без труда обнаруживаемые в «Скифах».
Но эти пережитки прошлого в сознании и творчестве Блока все больше отступали перед ведущими революционными тенденциями. Восславив силы революции, Блок одним из первых из числа старых литераторов заговорил о предстоящей поре революционного созидания. Вскоре после революции он написал: «Во всяком движении бывает минута замедления... В революции это — особенная минута. Разрушение еще не закончилось, но оно уже убывает. Строительство еще не началось. Музыки старой — уже нет, новой — еще нет» (XII, 222).
Таким образом, идея строительства нового мира присутствовала в сознании Блока. Поэт искал в новой действительности источники нового творческого воодушевления. Он был полон стремлением практически участвовать в созидании нового мира и честно отдал все свои силы и знания революционной родине. Он утверждал, что в условиях революционного переустройства жизни каждое, хотя бы самое скромное дело должно быть проникнуто «русским революционным пафосом, который отражал бы в себе всю тревогу, все надежды и весь величавый романтизм наших дней».1 Этим революционным пафосом была проникнута вся многообразная и плодотворная деятельность Блока в области строительства советской культуры.
Каждому делу Блок старался придать широчайший размах, потому что считал, что революционная эпоха «малых дел не примет»: «Величие эпохи обязывает нас преследовать синтетические задачи к видеть перед собою очерки долженствующих возникнуть высоких и просторных зданий» (XII,
- 699 -
120). Одну из главных задач культурного строительства Блок видел в том, чтобы сделать доступными народу все утаенные от него богатства отечественной и мировой культуры. В таком направлении Блок и работал в 1918—1921 годах — преимущественно в области литературы и театра, будучи тесно связан в своей работе с Горьким. Он участвовал в комиссии по изданию классиков русской литературы, в Театральном отделе Наркомпроса, в издательстве «Всемирная литература» (где был редактором отдела немецкой литературы и редактировал сочинения Гейне), в Союзе деятелей художественной литературы, в Союзе поэтов (был первым его председателем) и в Большом драматическом театре. По предложению Горького Блок разрабатывал план «Исторических картин» — небольших драматических произведений для театра и кино, цикл которых должен был охватить всю мировую историю; в 1919 году Блок написал для этой серии пьесу «Рамзес» — «сцены из жизни древнего Египта», любопытные как новый для него опыт реалистического бытового театра.
Поэтическое творчество Блока после «Двенадцати» и «Скифов» оборвалось. Он не писал больше стихов, если не считать переработок старого, немногих альбомных и шуточных стихотворений и малоплодотворных попыток продолжить поэму «Возмездие». Необычайный творческий взлет в январе 1918 года поставил Блока перед необходимостью новых поэтических поисков, ибо возвращение к старому опыту потеряло для него всякий смысл. «Опять весь старый хлам в книги?», — записывает он в записной книжке в 1918 году. У него было много творческих планов, но они остались нереализованными в значительной степени из-за длительной болезни, оказавшейся смертельной.
В последние годы жизни Блок, углубляя свои идейно-эстетические воззрения, продолжал активно бороться против последышей буржуазного декадентства в литературе и искусстве. Он призывал художников не уходить от революционной современности, от политики, а «больше ходить перед событиями с непокрытой головой» (XII, 187). Он предостерегал их от «узкого и черного колодца дендизма», безидейного и аполитичного искусства. «Быть вне политики?», — писал он в 1919 году. — С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм... Нет, мы не можем быть „вне политики“».1 Последняя статья Блока «Без божества, без вдохновенья» (1921) была посвящена разоблачению эстетской антинародной поэзии акмеистов: они «топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они спят непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще» (X, 208).
Эти прекрасные и гневные слова были написаны Блоком незадолго до его смерти. С 1920 года здоровье его резко ухудшилось. 7 августа 1921 года Блок скончался.
5
Творческий путь Блока связан с эпохой подготовки и осуществления величайшего в истории человечества революционного перелома, когда в России рушился старый мир и когда победивший пролетариат приступил к строительству нового, социалистического мира. Блок отчетливо понимал величие своей эпохи, ознаменованной глубокими изменениями как
- 700 -
в мире социальных отношений, так и в душевном мире человека. «Значительность пережитого нами мгновения истории равняется значительности промежутка времени в несколько столетий, — писал он после Октября. — Наше время сравнивают с временем великой французской революции... Чем дальше развертываются события, тем больше утверждаюсь я в мысли, что такое сравнение недостаточно, — оно слишком осторожно, в некоторых случаях даже трусливо. Все отчетливее сквозят в нашем времени черты не промежуточной эпохи, а новой эры» (VIII, 132, 133).
Понимая величие своей эпохи, Блок в пору своей творческой зрелости был преисполнен жадным стремлением подняться на высоту выдвигавшихся эпохой исторических задач и служить своим искусством интересам родины и народа, не замыкаясь в кругу узко эстетических интересов. Блок утверждал, что «личная страсть» всякого истинного художника всегда «насыщена духом эпохи» и что поэтому «в эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой» (VIII, 102). Примером этому может служить творчество самого Блока, проникнутое необыкновенно острым ощущением катастрофичности и обреченности старого мира и не менее острым чувством будущего — тревожным ожиданием и предвидением близящихся «неслыханных перемен». Свидетель и участник грандиозных исторических событий, развернувшихся в России в начале XX века, Блок отразил существенные черты своего времени, и отблеск русской революции лежит на его творчестве.
Однажды Блок записал (по поводу переиздания своих книг): «...в них — одно лучше, другое хуже, а третье и вовсе без значения, без окружающего. Но какое освобождение и какая полнота жизни (насколько доступной была она): вот — я — до 1917 года, путь среди революций; верный — путь».1 Действительно, в творческом пути Блока при всей его противоречивости была своя закономерность и неуклонность. Это был действительно путь освобождения от ложных субъективистских представлений о жизни и об искусстве, сложившихся на декадентской почве, путь медленного и противоречивого, но неуклонного развития в сторону все более глубокого понимания и правдивого отражения объективной действительности. На этом пути Блоку удалось в значительной мере преодолеть резкие противоречия своего общественного и художественного мировоззрения и создать предпосылки для перехода на позиции общенародного искусства.
Мировоззрение Блока слагалось в борьбе тенденций, отражавших противоречия буржуазного общества, в условиях которого жил и творил поэт. На всем протяжении своего творческого пути Блок испытывал не только многообразные воздействия различных доктрин, лежащих в сфере буржуазной идеологии, но и воздействие окружавшей его реальной исторической действительности. Именно глубоко присущие Блоку чуткость к жизненной правде и чувство моральной и общественной ответственности помогли ему осознать кризис агонизирующей буржуазной культуры и усомниться в ее ценностях. Уже в раннем творчестве Блока обнаруживается круг проблем, решением которых он был занят в течение всей своей творческой жизни, и прежде всего проблема отношения художника к действительности. На разных этапах своего пути Блок решал эту проблему по-разному, однако важно учесть, что она возникла в его сознании очень рано.
- 701 -
Творческий метод Блока слагался постепенно, отражая в процессе своего формирования этапы идейной эволюции поэта. При всем том формирование творческого метода и поэтического стиля Блока не может быть целиком и полностью истолковано в свете его философского и художественного мировоззрения. Непосредственный творческий опыт Блока складывался в значительной мере независимо от тех или иных мистических и мистифицированных представлений. Блок-художник был неизмеримо сильнее Блока-мыслителя; гениальный поэт побеждал в нем мятущегося «теоретика». Не говоря уже о творчестве зрелого Блока, содержание даже юношеской его лирики, как уже сказано, не исчерпывается ее мистическими идеями. При общем мистическом колорите этой лирики в ней слышится взволнованный и искренний человеческий голос, выражены живые и конкретные человеческие чувства. Именно благодаря тому, что Блок уже в ранних стихах был поэтом большой лирической силы, проникавшей, казалось бы, самые отвлеченные и абстрактные темы его переживаний, «Ante Lucem» и «Стихи о Прекрасной Даме» воспринимаются как полноценное явление искусства, как лирика природы и чувства, вызывающая непосредственные эмоционально-художественные впечатления.
Общее направление творческого развития Блока может быть определено как путь от камерной лирики в духе символического импрессионизма к поэзии больших моральных, культурно-исторических и социальных проблем. На этом пути стиль и поэтика Блока не оставались неизменными, причем обращение его к темам действительности и к психологии реального исторического человека, к постановке больших моральных, культурно-исторических и социальных проблем сопровождалось все более отчетливым выявлением в его творчестве реалистических тенденций.
В лирике Блока, изданной при жизни поэта в трех томах, отражены не только три этапа идейно-творческого развития поэта, но и три поэтических системы, существенно отличавшихся одна от другой в своих основных чертах. Конечно, и в «Стихах о Прекрасной Даме», и в «Нечаянной радости», и в «Снежной маске» Блок был уже большим поэтом, создавшим свою самобытную художественную манеру и существенно обогатившим русскую стиховую культуру. Но только в свете замечательных достижений Блока в его зрелых лирических произведениях, в поэмах «Возмездие» и «Двенадцать» приобретают окончательный историко-литературный смысл и значение все предшествующие этапы его творческого пути.
В стихах о России, в «Возмездии», «Двенадцати» Блок выступил не только как последователь традиций классической русской поэзии, но и как поэт с отчетливо выраженными новаторскими тенденциями. В «Двенадцати», в этом выдающемся произведении русской поэзии, Блок впервые ощутил себя национальным поэтом, которому дано право говорить от лица народа. И не случайно, конечно, написав «Двенадцать», он назвал себя гением, — если учесть, что в представлении Блока «гений прежде всего народен».
Гражданская доблесть и революционный порыв Блока, его ненависть к старому, буржуазному миру и его свободная мечта о будущем, — все это несмотря на то, что поэт по своему мировоззрению оставался чуждым пролетарскому революционному движению, оказалось во многом созвучным пафосу, героике, ненависти и мечте народных масс, совершивших величайшую в истории человечества социальную революцию.
Ощутив, почувствовав историческую правду Октябрьской революции, Блок откликнулся на нее с величайшим эмоциональным сочувствием и
- 702 -
«восторгом самозабвенья», однако, по всему строю своего сознания оказался бессилен с достаточной глубиной и трезвостью постичь ее социалистическое содержание и реальные ближайшие перспективы. Но ясная и твердая вера в «новый век» не покидала Блока до конца, и в последних своих стихах он говорил, что видит величественные очертания будущего:
...в дали я вижу море, море,
Исполинский очерк новых стран...Самый значительный русский поэт предоктябрьского периода, Александр Блок был современником смены двух всемирно-исторических эпох — эпохи буржуазии и эпохи социализма. В истории русской литературы творчество Блока знаменует собой рубеж, лежащий между поэзией старого мира, в лучших своих проявлениях служившей освободительному движению русского народа, и поэзией советской эпохи, отражающей формирование нового, социалистического общества.
СноскиСноски к стр. 659
1 Здесь и дальше тексты Блока цитируются по «Собранию сочинений» в 12 томах (Л., 1932—1936). В скобках указываются том (римская цифра) и страница (арабская цифра) этого издания.
Сноски к стр. 660
1 В дальнейшем Блок неоднократно выступал в роли историка литературы как составитель компилятивного «Очерка литературы о Грибоедове» (1905) и примечаний к лицейским стихам Пушкина (1907), как автор статей «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906), «Судьба Аполлона Григорьева» (1915) и ряда других, наконец, как редактор и комментатор сочинений Лермонтова, Ап. Григорьева и Гейне.
Сноски к стр. 664
1 «Литературное наследство», кн. 27—28, 1937, стр. 328.
Сноски к стр. 665
1 Дневник Ал. Блока. 1917—1921. Л., 1928, стр. 118.
2 Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. М. — Л., 1936, стр. 38, 39.
3 М. А. Бекетова. Александр Блок. Изд. 2-е, Л., 1950, стр. 98.
Сноски к стр. 666
1 Письма Александра Блока к родным, т. I. Л., 1927, стр. 151.
Сноски к стр. 667
1 А. Блок. Записные книжки. Изд. «Прибой», Л., 1930, стр. 84.
2 «Феникс», кн. I, 1922, стр. 156.
Сноски к стр. 668
1 А. Блок и А. Белый. Переписка. — «Летописи Государственного Литературного музея», кн. VII, М., 1940, стр. 220.
Сноски к стр. 671
1 Поставлены на сцене из них были «Балаганчик» (в театре Комиссаржевской, премьера 30 декабря 1906 года), «Действо о Теофиле» (в «Старинном театре», премьера 7 декабря 1907 года) и «Праматерь» (в театре Комиссаржевской, премьера 29 января 1909 года). Постановки «Короля на площади», «Незнакомки» и «Песни Судьбы» проектировались в нескольких театрах, но осуществлены не были.
Сноски к стр. 672
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 107.
2 Там же.
3 Дневник Ал. Блока. 1917—1921, стр. 72.
Сноски к стр. 673
1 Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову, стр. 68.
2 А. Блок. Записные книжки, стр. 88.
3 Фраза из не дошедшего до нас письма Блока к С. Городецкому; ее цитирует Городецкий в своем ответном письме к Блоку (архив Блока).
Сноски к стр. 674
1 А. Блок. Записные книжки, стр. 88 (цитируется с поправками по рукописи).
2 А. Блок, Сочинения в одном томе, М. — Л., 1946, стр. 531.
3 А. Блок. Записные книжки, стр. 89.
4 Так, например, статью Блока «О реалистах» А. Белый назвал «прошением», т. е., иными словами, обвинил Блока в заискивании из тактических соображений перед писателями враждебного символистам лагеря.
Сноски к стр. 675
1 А. Блок. Записные книжки, стр. 81.
2 Письма Александра Блока к родным, т. I, стр. 257.
3 Письма Александра Блока к родным, т. II. Л., 1932, стр. 125—126.
4 Там же, стр. 124.
5 Дневник Ал. Блока. 1911—1913. Л., 1928, стр. 28, 97, 96, 88, 177.
6 Там же, стр. 85.
Сноски к стр. 676
1 Письма Александра Блока к родным, т. II, стр. 162.
2 Там же, стр. 167.
3 Там же, стр. 266.
4 Вс. Рождественский. А. М. Горький. — «Звезда», 1944, № 4, стр. 84.
Сноски к стр. 678
1 Александр Блок. О родине. М., 1945, стр. 124.
Сноски к стр. 679
1 Письма Александра Блока к родным, т. II, стр. 338.
Сноски к стр. 680
1 Александр Блок. О родине, стр. 124.
Сноски к стр. 681
1 А. Блок. Записные книжки, стр. 182.
2 Дневник Ал. Блока. 1911—1913, стр. 182.
Сноски к стр. 682
1 М. И. Пантюхов — автор повести «Тишина и старик» (СПб., 1907).
2 А. Блок, Сочинения в одном томе, стр. 530.
Сноски к стр. 683
1 Блок имеет в виду дни «кратковременной свободы» в 1905 году.
Сноски к стр. 685
1 А. Блок, Сочинения в одном томе, стр. 571.
2 «Звезда», 1945, № 3, стр. 113.
3 Дневник Ал. Блока. 1911—1913, стр. 92.
Сноски к стр. 686
1 А. Блок, Сочинения в одном томе, стр. 555.
2 Письма Александра Блока к родным, т. I, стр. 193.
Сноски к стр. 688
1 «Феникс», кн. I, 1922, стр. 157.
Сноски к стр. 690
1 А. Блок. Записные книжки, стр. 160.
2 Там же, стр. 175, 176, 173.
Сноски к стр. 691
1 Письма Александра Блока к родным, т. II, стр. 338.
2 Приведенные цитаты взяты из книг: Письма Александра Блока к родным, т. II, стр. 374, 378; А. Блок, Сочинения в одном томе, стр. 567.
Сноски к стр. 692
1 Судьба Блока. Л., 1930, стр. 212.
2 А. Блок. Записные книжки, стр. 186.
3 Письма Александра Блока к родным, т. II, стр. 362.
4 Дневник Ал. Блока. 1917—1921, стр. 86.
Сноски к стр. 693
1 А. Блок. Записные книжки, стр. 199.
Сноски к стр. 694
1 Дневник Ал. Блока. 1917—1921, стр. 118.
2 «Литературное наследство», кн. 27, 28, стр. 675, 676.
3 Дневник Ал. Блока. 1917—1921, стр. 101.
4 Там же, стр. 161.
Сноски к стр. 696
1 «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 160.
Сноски к стр. 697
1 А. Блок, Полное собрание стихотворений в двух томах, т. I, 1946, стр. XLII.
Сноски к стр. 698
1 А. Блок, Сочинения в одном томе, стр. XXII.
Сноски к стр. 699
1 Дневник Ал. Блока. 1917—1921, стр. 153, 154.
Сноски к стр. 700
1 Дневник Ал. Блока. 1917—1921, стр. 146.