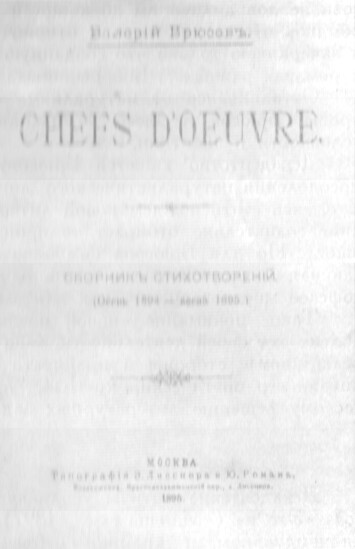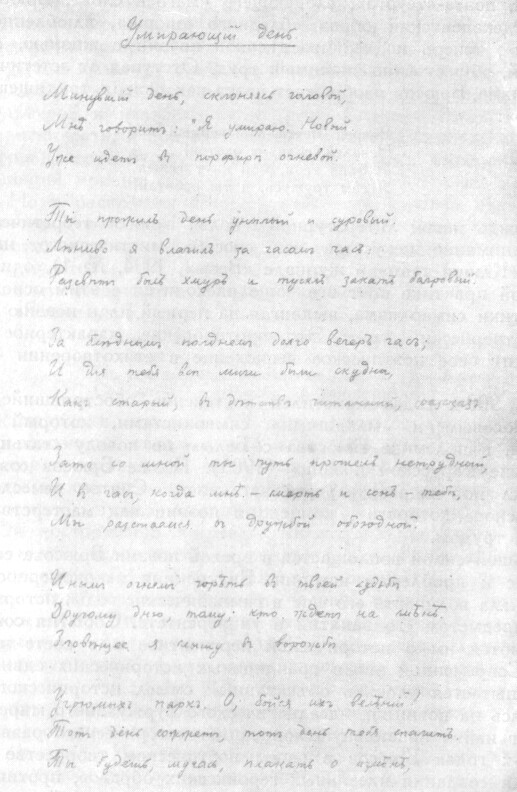- 627 -
Брюсов
1
Валерий Яковлевич Брюсов родился 1 декабря 1873 года в Москве, в зажиточной купеческой семье. Дед писателя по отцу был из крепостных; после освобождения крестьян он разбогател и записался в купцы второй гильдии. Дед по матери А. Я. Бакулин — литератор-самоучка из уездной мещанской среды. Родители В. Я. Брюсова в молодости испытали воздействие революционной демократии, пытались порвать со своей средой, увлекались Чернышевским, Некрасовым. Они воспитывали сына в духе идей 60-х годов, знакомили со статьями Добролюбова и Писарева, произведениями Некрасова.
Литературные интересы появились у Брюсова очень рано. Еще на гимназической скамье он издает рукописные журналы, пишет стихи и поэмы, рассказы и сценки. Первое известное стихотворение Брюсова датировано 1881 годом. Юношеское творчество Брюсова отличается жанровой и тематической широтой: трагедии в духе шекспировских (набросок под названием «Гамлет», посвященный юным автором Шекспиру «как братом брату»), романтические драмы, лирика, критические статьи, мысли об истории. Уже в годы литературного ученичества наметились некоторые черты, свойственные впоследствии зрелому Брюсову: обращение к теме трагической гибели мира (поэма «Содом и Гоморра», наброски поэмы-драмы «Земля»), интерес к истории, особенно к античной (замыслы трагедий о Цезаре, о Помпее, наброски повестей «Легион и фаланга», «Два центуриона»), внимание к изысканным поэтическим формам (сонеты, триолеты, октавы).1
К началу 90-х годов Брюсов пытается выразить свои собственные взгляды на задачи русской поэзии. Он произносит решительный приговор эпигонской народнической поэзии в обширной неизданной статье о Надсоне. Он обращается к поискам новых литературных путей, и в его тетрадях 1892—1893 годов появляются стихи и наброски под общим заглавием «Символизм».
Брюсов начал свою творческую деятельность в период обострения идеологической борьбы, когда в буржуазной литературе все сильнее начинает звучать проповедь «чистого искусства», в мир которого писатели хотят увести своих читателей от нарастающих революционных событий. Выразителем этих настроений и выступил молодой Брюсов, который в дневнике 1893 года писал о своем стремлении стать вождем и организатором новой литературной школы: «Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее:
- 628 -
это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается и будущее будет принадлежать ему, особенно, когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!».
Первые литературные выступления Брюсова были осуществлением этой программы. Три выпуска альманаха «Русские символисты» (1894—1895) состояли из стихов и переводов преимущественно самого Брюсова. Продолжением и развитием «Русских символистов» был первый сборник стихов Брюсова «Chefs-d’oeuvre» (1895).
Преследуя цели литературной пропаганды нового течения, Брюсов стремился продемонстрировать формы символистской лирики. Образцом для него, как и для других представителей зарождавшегося упадочнического искусства преждевременно одряхлевшей русской буржуазии служили французские символисты. Отсюда его обращение к переводам стихотворений Рембо, Метерлинка, «Романсов без слов» Верлена. Легко выделить в ранних произведениях Брюсова мотивы и образы, навеянные творчеством этих поэтов: тяготение к экзотике, воспевание первобытных чувств и тропической природы («На журчащей Годавери», «Полдень Явы»). Подчеркнуто экзотическую окраску приобретает под пером Брюсова даже будничная обстановка купеческой Москвы (стихотворение «Ночью», 1895).
В декадентском духе разрабатывается молодым Брюсовым эротическая тема, с самого начала делающаяся одной из основных линий его творчества. Эта тема часто сводится к изощренно-пряной чувственности с налетом патологии и гротеска («Предчувствие», «К моей Миньоне», «Змеи» и др.). Любовь в ранних стихах Брюсова неизменно влечет за собой мрачный призрак смерти — «вечной героини декадентских стихов».1
Другим важнейшим мотивом поэзии молодого Брюсова является противопоставление идеального и реального, мечты и действительности. С почти навязчивым постоянством варьируются в ранних сборниках Брюсова образы «фантазии», «снов», «мечты», «грез»; показательны в этом смысле самые заглавия циклов и стихотворений: «Первые мечты», «Заветный сон», «Новые грезы», «Мечты о померкшем», «Моя мечта» и т. д. В мелодически-напевных ритмах, в импрессионистических штрихах, возможно не без влияния Бальмонта, впоследствии своего ближайшего союзника в борьбе за эстетику символизма, молодой поэт воплощает идеальный мир своих видений, подчеркнуто противопоставленный «скудной» реальности («После грез» и другие стихи).
В полном соответствии с декадентской поэтикой решаются начинающим Брюсовым и вопросы литературного языка. В словаре поэта преобладают экзотические слова: баядера, орхидеи, бананы, лианы, удавы. Он культивирует сложные и изысканные, подчеркнуто субъективные ряды метафор: дремлющая Москва — самка спящего страуса; любовь — знойный полдень тропической Явы, и т. д.
Брюсов неоднократно подчеркивает значение принципов индивидуализма и субъективизма в деле создания утонченной поэзии настроений и намеков, изысканных и изощренных форм. Апологией крайнего творческого субъективизма является стихотворение «Фантазия», впоследствии переименованное в «Творчество», где Брюсов демонстративно выдвигает на первый план иррациональность творческого процесса, предвосхищая многочисленные позднейшие декларации символистов об интуиции как основе истинной поэзии:
- 629 -
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне.
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене...Всходит месяц обнаженный,
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне...1В своих основных произведениях и многочисленных высказываниях 90-х годов Брюсов выступал, таким образом, как проповедник «искусства для искусства», как защитник идеалистической эстетики декаданса, противопоставляющей творчество социальной действительности. Однако декадентские мотивы все же не исчерпывают содержания раннего творчества Брюсова.
Обложка первой книги В. Брюсова. 1895 г.
Наряду с импрессионистическим восприятием действительности в его стихах подчас возникают картины вполне жизненные, появляются реалистические детали. В реальной бытовой обстановке развертывается действие лирической поэмы «Три свидания»; зарисовки современного поэту городского быта даны в стихотворениях «Подруги», «Первый снег». Тема любви иногда разрабатывается молодым Брюсовым и в тонах свежей искренности, целомудренной чистоты («Из письма», «Осенний день»). Впервые прозвучало в «Гимне Папину» столь типичное для зрелого Брюсова прославление технического прогресса и его носителей, энтузиастов труда и науки. Восхищение перед пытливостью человеческого ума, неустанно стремящегося разрешить загадки природы, определило содержание и образы стихотворений «С кометы» и особенно «На острове Пасхи».
Картины реальной действительности встречаются и в прозе начинающего Брюсова. Многие его ранние рассказы и наброски построены на эмпирически воспринятом бытовом материале; таковы «Картинка с натуры», «Обольщенная», «Рассказ портнихи», где центральным является образ соблазненной девушки из мещанской среды; таковы наброски романа «Берег» или «Декадент». Целой группе своих юношеских набросков Брюсов дает заглавие «Рассказы реальной школы».2
Неудовлетворенность натуралистическим методом, характерным для писателей-эпигонов 90-х годов (Боборыкин и др.), и бессилие его преодолеть были причинами, по которым прозаические наброски молодого Брюсова
- 630 -
не доводились им до конца и не печатались. «Зачастую мне бывает обидно, что я так строго отношусь к написанному. Почти со слезами я зачеркиваю только что созданную главу... Глава не хуже десятков глав в романах разных... Боборыкиных, Баранцевичей — чего же еще».1
Отталкиваясь от натурализма современной ему русской буржуазной прозы, Брюсов и здесь не находит другого пути, кроме декадентской условности и экзотики.
Декадентство кажется Брюсову единственным возможным способом преодоления натуралистического эпигонства — как в поэзии, так и в прозе. Стремясь стать вождем новой литературной школы, он для своих первых книг сознательно отбирает те произведения, которые соответствуют этой школе. Но для Брюсова символизм с самого начала исторически возникающая на определенном этапе развития литературы школа, а не философское миросозерцание, как для «младших» символистов.
Такое понимание «новой поэзии» Брюсов сохранил на протяжении долгих лет своей деятельности. Оно позволяло Брюсову видеть некоторые реакционные стороны и крайности символистского движения, но ограничивало его поэтический кругозор, приводило подчас к чисто формалистическому решению литературных задач.
2
Декадентские мотивы усиливаются во втором сборнике стихов Брюсова «Это я» («Me eum esse», 1897), в котором на первый план выступает индивидуализм и крайний субъективизм поэтического мироощущения. Школа, видимость которой пытался создать Брюсов в «Русских символистах», стала формироваться вокруг него на самом деле: он сближается с Бальмонтом; под его влиянием пишут стихи друзья его юности А. Миропольский (Ланг) и А. Курсинский.
Еще резче, нежели в первых сборниках, в этой книге подчеркивается примат искусства над реальностью, идеала над земной действительностью, личных переживаний художника над всем окружающим миром. Таков смысл заветов Брюсова «юному поэту». Оживает идеалистическая концепция «двоемирия», созданная в начале XIX века романтизмом:
Есть что-то позорное в мощи природы,
Немая вражда к лучам красоты:
Над миром скал проносятся годы,
Но вечен только мир мечты.Усиливаются пессимистические настроения, подчас принимающие форму прославления смерти, мечты о самоубийстве, столь типичных для декадентства в целом (цикл «Веянье смерти»). В 90-е годы Брюсов разделил судьбу многих представителей буржуазной науки и искусства, которых крах позитивизма толкнул в объятия философского идеализма и мистики.
Философские воззрения молодого Брюсова, однако, не отличались последовательностью. Его внимание привлекали различные философские системы, он изучает Лейбница, Спинозу, Шопенгауера, изучает и Плеханова, относясь ко всем одинаково скептически. В своих политических высказываниях, разоблачая ложь и лицемерие буржуазного парламентаризма, Брюсов противопоставлял ему идеал твердой единой власти. Современники
- 631 -
вспоминают о монархических убеждениях Брюсова конца 90-х — начала 900-х годов (П. Перцов, Г. Чулков). Однако эти монархические убеждения не выливались в последовательную систему и не оставили сколько-нибудь заметного следа в его раннем творчестве.
Теоретически провозглашая беспартийность художника, необходимость для него стать «выше» политической борьбы, Брюсов на деле откликается на все более или менее значительные политические события своего времени. Среди неопубликованных при жизни поэта стихотворений 90-х годов есть вещи, проникнутые ощущением социальных противоречий современности («Бедняки», 1899). В его юношеском дневнике есть строки об исходе нашумевшего дела Дрейфуса, проникнутые возмущением и гневом; страстное негодование по поводу политики французского правительства, осудившего Дрейфуса, высказывает Брюсов в беседе с начинающим рабочим поэтом Авениром Ноздриным;1 в неопубликованном письме к А. А. Курсинскому он рассказывает о своей неудачной попытке разделить судьбу запертых полицией в Манеже студентов.2
Экзотическая окраска и ориентация на западные образцы постепенно сменяются в творчестве Брюсова пристальным вниманием к русской поэзии, к творчеству Пушкина, Баратынского, Тютчева.
В «Русском архиве» печатаются первые работы Брюсова о Тютчеве (1898), Баратынском (1898), Пушкине (1899), имеющие в основном биографический и текстологический характер. Брюсова интересует в то время более всего романтическая струя русской дворянской поэзии: «родоначальник поэзии намеков» Ф. И. Тютчев привлекает его больше, нежели «создатель... классической поэзии» Пушкин.3 Историко-литературные работы Брюсова рассматривались им как этюды к грандиозному труду — «История русской лирики». Множество установленных им новых фактов истории русской поэзии должно было, по замыслу исследователя, позволить «создать такую фактическую историю русской поэзии, к которой прибегали бы все, во все времена».4
Замысел Брюсова не осуществился, сделаны были только частные разыскания. Поскольку Брюсов — историк литературы — с самого начала был в значительной мере чужд субъективно-импрессионистической методологии декадентской критики, его ранние историко-литературные этюды насыщены фактическим материалом. Но они не выходят за узкие рамки чисто текстологических или биографических разысканий. Подобно большинству представителей буржуазного литературоведения эпохи империализма, отрывавших литературу от общественной жизни и политической борьбы, Брюсов не мог поднимать большие историко-литературные проблемы и нередко становился на путь формализма.
3
С 900-х годов — кануна первой революции в России — начинается новый период в творчестве Брюсова, когда он превращается в зрелого поэта и завоевывает признание критики и руководящее положение среди сторонников символистского движения.
- 632 -
Окончив в 1899 году Московский университет по историческому отделению историко-филологического факультета, Брюсов целиком отдается литературной деятельности.
С начала 900-х годов Брюсов играет руководящую роль в книгоиздательстве «Скорпион», ставшем организационным центром русского символизма. К этому же времени относится и попытка петербургской группы символистов в лице Мережковского и Гиппиус привлечь Брюсова к активному сотрудничеству в реакционном журнале «Новый путь». Брюсов, мечтавший о собственном символистском журнале, охотно берет на себя выполнение обязанностей секретаря редакции «Нового пути». Но так называемое «неохристианство» Мережковского и Гиппиус осталось совершенно чуждым Брюсову, рационалисту и скептику; пренебрежение же редакции к литературной стороне журнала, являвшегося для нее прежде всего органом пропаганды «нового религиозного сознания», приводило Брюсова, для которого литература была смыслом всей жизни, в отчаяние. Отсюда его многочисленные гневные тирады по адресу «мутного, грязного... потока новопутейской беллетристики».1 На страницах журнала были опубликованы политические обозрения Брюсова, написанные в духе неославянофильства. Впоследствии, когда под влиянием событий 1904—1905 годов его политические взгляды изменились, он пытался отречься от своих статей в «Новом пути», а еще позднее в своей автобиографии упоминал о них как об одной из самых мучительных и неприятных ошибок молодости.
Вехами творческого пути Брюсова-поэта являются выходящие один за другим сборники его стихов: «Tertia vigilia» («Третья стража», 1900), «Urbi et Orbi» («Граду и Миру», 1903), «Stephanos» («Венок», 1906). Брюсов выступает в них как певец сильных чувств, в его поэзии появляются бодрые настроения. Сборник «Tertia vigilia» открывается поэтической декларацией возвращения поэта к действительности («Возвращение»), «Urbi et Orbi» — вступлением, изображающим живую связь поэта с действительностью, подсказывающей ему звуки его песен; с людьми, для которых эти песни предназначены («По улицам узким» и другие стихи). Признаки перелома в творчестве Брюсова, отхода поэта от крайнего субъективизма и экзотики заметил Горький, напечатавший 14 ноября 1900 года в «Нижегородском листке» рецензию на сборник «Tertia vigilia». Горький указывал, что Брюсов в этой книге «раскланивается с прошлым», хотя и не вполне освободился от ненужной претенциозности, от «странных и эксцентричных» одежд.2 В то же время Горький предупреждает автора «Третьей стражи» об опасности того ухода от социальных проблем в «бездны духа», который намечался в некоторых стихотворениях Брюсова и вскоре стал типичным явлением для всего русского символизма.
Одна из основных тем его лирики — тема страсти, возвышающей человека до неких мистических откровений. Окружение эротики жречески-религиозными образами — одна из основных особенностей лирики символизма, и эта особенность ярко выражена во многих стихотворениях Брюсова («Путь в Дамаск», цикл «Мгновения», «К близкой»).
Однако в целом ряде случаев («Помпеянка», «Дон-Жуан», «Первые встречи» и др.) любовная лирика Брюсова выходит за рамки декадентской интерпретации темы любви и превращается в гимн чисто земному
- 633 -
и глубоко человечному чувству, искренность и сила которого облагораживают человека:
В любви душа вскрывается до дна,
Яснеет в ней святая глубина,
Где все единственно и неслучайно.(«Дон-Жуан»).
Автограф стихотворения В. Брюсова «Умирающий день».
Единственный из всех представителей русского символизма, Брюсов связывает с темой любви тему материнства, слагает восторженное славословие женщине-матери («Habet illa in alvo»), звучащее как отголосок гуманистических традиций классической литературы XIX века.
Брюсов явно отходит от символистской концепции и в понимании задач поэзии. В то время как «младшие» символисты выдвигают образ
- 634 -
поэта-жреца, поэта-«теурга», владеющего «магией слов», Брюсов, некогда создавший декадентский образ «бледного юноши», влюбленного в свои «откровенья», теперь подчеркивает связь поэзии с жизнью, осознает ее как упорный, общественно значимый труд. Отступая от эстетических канонов символизма, Брюсов изображает поэта как пахаря, трудящегося «в поте лица своего»:
Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!(«В ответ»).
Как вождь новой литературной школы, Брюсов теоретически провозглашает понимание искусства как способа мистического, интуитивного познания («Ключи тайн» в журнале «Весы», 1904, № 1), однако в своей литературной практике поэт все чаще расходится с этим основным принципом эстетики символизма, выдвигая на первый план поэзию как мастерство, как творческий труд. Это противоречие, характерное для Брюсова, находит свое поэтическое выражение в стихотворении «Младшим» (1903).
Уже в 900-х годах наметился постепенно обострявшийся конфликт между Брюсовым и «младшими» символистами, который выразился, в частности, в полемике Брюсова с Белым по поводу статьи последнего «Апокалипсис в русской поэзии» (1905). Позже Брюсов создает поэтический цикл под выразительным заглавием «Святое ремесло» (1909—1911), в основе которого — концепция поэзии как мастерства, добытого неустанным трудом.
С большой силой воплощается в зрелой поэзии Брюсова свойственный ему интерес к проблемам истории. Внутренняя закономерность мировой истории начала волновать его еще в гимназические годы, история являлась основным предметом его занятий в университете. События современности воспринимаются им в исторической перспективе и в свете исторических аналогий. Современник эпохи грандиозных исторических сдвигов и катастроф, он пытается уловить объективный смысл исторического процесса. Но, оставаясь на позициях идеалистического буржуазного миросозерцания, поэт не мог найти правильную концепцию исторического развития.
В 900-х годах Брюсов в своем поэтическом творчестве привлекает историю для создания идеальных героических образов, противопоставленных «новому средневековью», буржуазно-обывательской современности. Один за другим следуют циклы «Любимцы веков» (в сборнике «Tertia vigilia»), «Правда вечная кумиров» (в сборнике «Stephanos»); мифологические образы лежат в основе стихотворений «Нить Ариадны», «Блудный сын», «Во храме Бэла» (в сборнике «Urbi et Orbi»). Сравнительно скупо рисуя исторический фон, Брюсов ставит на материале истории и мифологии проблему борьбы страсти и долга, отношений между вождем и массой, конфликта между гением и его современниками. Подчас при этом исторический герой и события абстрагируются, отрываются от конкретно-исторических условий и превращаются в символ той или иной идеи. В силу того же буржуазного миросозерцания, поэт не мог дать и верного решения проблемы роли личности в истории. В его стихотворениях часто проявляется культ сильной личности, воспевается крайний индивидуализм, что свойственно всей декадентско-символистской культуре эпохи империализма.
Самое обращение к истории свидетельствовало о стремлении Брюсова преодолеть свойственный ему в 90-х годах крайний субъективизм, найти
- 635 -
выход из мира фантазии в реальную действительность. Но, преодолевая субъективизм, Брюсов приходил к буржуазному объективизму.
Диапазон исторических интересов Брюсова-поэта очень широк: он воскрешает и культуру древнего Востока, и античную Грецию, и скандинавскую мифологию. Особенно привлекает Брюсова контраст между высокой культурой и неизбежным упадком древнего Рима. Повышение интереса к античности, и при этом именно к периоду гибели античного мира — характерная черта буржуазной идеологии эпохи империализма, поскольку нарастающий кризис капитализма подсказывал поиски исторических аналогий. Но в раскрытии исторической темы Брюсов идет иными путями, нежели его соратники, его привлекает не столько мистика и религия античности, сколько ее героика. В его произведениях на исторические темы ощущается пафос истории, чувство движения вперед. Ключ к эмоциональному восприятию истории Брюсовым дает стихотворение «Фонарики» («Stephanos»).
К сырой земле лицом припав, я лишь могу глядеть,
Как вьется, как сплетается огней мелькнувших сеть.
Но вам молюсь, безвестные! еще в ночной тени
Сокрытые, не жившие, грядущие огни!Рассматривая историю как некое поступательное движение, Брюсов считает основными силами этого движения энергию и труд человека, и тема истории органически перерастает у него в прославление созидательной деятельности человечества. Пафос борьбы человека с природой, обуздания стихий, чудеса созданной человеком техники воодушевляют Брюсова. Он восторженно воспевает «электрические луны», осуществление вековой мечты человечества о полете («Кому-то»), победу человека над «седой мятежницей-землей» («Хвала человеку»). Особенно замечательно последнее стихотворение Брюсова. Человек предстает здесь как активная творческая сила. Это настоящий гимн человеку-победителю, преобразующему землю, заставившему стихии служить себе. Произведение проникнуто жизнеутверждающим мировоззрением, его пафос — безграничная вера в возможности науки, в будущее человечества. Прославление человека существенно отличает Брюсова от пессимистической, проповедовавшей бессилие и обреченность человека декадентской поэзии.
Но, воспевая Человека с большой буквы, Брюсов, изолированный от народного освободительного движения, проживший, по собственному признанию, двадцать лет только среди книг («Дневники»), не сумел увидеть небывалый в истории героический подъем широких народных масс России под руководством рабочего класса. Поэтому его гуманистические настроения оказывались чрезвычайно расплывчатыми, отвлеченными и воплощались в образы, далекие от живой современности. Еще в 1901 году Горький писал Брюсову, пытаясь пробудить в талантливом молодом поэте настроения активного политического протеста против произвола самодержавия:
«Если вас, сударь, интересуют не одни Ассаргадоновы надписи, да Клеопатры и прочие старые вещи, если вы любите человека — вы меня, надо думать, поймете.
«Я видите ли чувствую, что отдавать студентов в солдаты — мерзость, наглое преступление против свободы личности и идиотская мера обожравшихся властью прохвостов...
«Вы, мне кажется, могли бы хорошо заступиться за угнетаемого человека, вот что».1
- 636 -
Однако Брюсов остался в стороне от политической борьбы. В ответ на пламенный призыв Горького заступиться за избиваемых полицией студентов он писал: «Давно привык я на все смотреть с точки зрения вечности. Меня тревожат не частные случаи, а условия, их создавшие. Не студенты, отданные в солдаты, а весь строй нашей жизни, всей жизни».1
В сборниках «Urbi et Orbi», «Stephanos», «Все напевы» (1909) Брюсов выступил как крупнейший в России того времени поэт-урбанист. Он создал монументальный образ города-исполина, исполненные динамики городские пейзажи, бытовые зарисовки городской жизни («Ночь», «Конь блед», «Голос города», цикл «Картины» и т. д.). Город в представлении Брюсова связан с современной индустриальной техникой, с капиталистическим строем. Поэт пытается заглянуть в будущее человечества и увидеть результаты развития современной техники и городской культуры. Образ мирового города-гиганта, «города-земли» встает не только в лирике Брюсова; полнее раскрывается этот образ в его прозе и драматургии (роман «Семь земных соблазнов», драма «Земля»). Этот город, в котором противоречия современного строя дойдут до предела, одновременно и пугает, и притягивает поэта. И он то слагает гимны «улице-буре», то мечтает о «последнем запустении», апокалиптической катастрофе, обрушивающейся на всемирный город, об освобождении человечества от города-тюрьмы. Иногда он с исключительной остротой ощущает бездушие, механистичность и пошлость капиталистической городской цивилизации и создает клеймящие ее патетические строфы:
И, как кошмарный сон, виденьем беспощадным,
Чудовищем размеренно-громадным,
С стеклянным черепом, покрывшим шар земной,
Грядущий Город-Дом являлся предо мной...(«Замкнутые»).
Спасаясь от этого надвигающегося кошмара механической, мертвящей душу человека культуры капиталистического города, поэт пытается найти убежище в вечной стихии природы. Брюсов, в 90-х годах провозгласивший превосходство поэтической мечты, «идеальной природы» над земным прахом, теперь готов просить прощения у «матери-земли» («У земли»). Он противопоставляет городской цивилизации, созданной человеком, первобытную мощь природы. Лирический пейзаж, то импрессионистически причудливый («Желтым шелком, желтым шелком по атласу голубому шьют невидимые руки...» и др.), то реалистически-отчетливый («Мох, да вереск, да граниты...»), занимает все больше места в его творчестве.
Призывая к разрушению современного города-тюрьмы, пытаясь спастись от этого кошмарного видения в мире вечной природы, Брюсов в то же время неразрывно связан с той самой городской капиталистической цивилизацией, которую он в ее худших антигуманистических проявлениях ненавидит и проклинает. Большой город, являющийся порождением этой цивилизации, живущий необычайно шумной, напряженной жизнью, поэтически возвеличивается Брюсовым; он, например, дал одному из своих урбанистических стихотворений подзаголовок «Дифирамб». Город для поэта, сознание которого сформировалось в условиях высоко развитого, уже стоящего перед своей неизбежной гибелью капиталистического общества, — воплощение новых эстетических возможностей, «чарователь неустанный», «нержавеющий магнит». Все новые и новые гимны и дифирамбы
- 637 -
слагает в его честь Брюсов, вслед за которым обратились к эстетически узаконенной им теме города представители «младших» символистов — Белый, Блок. Особенно близко подошел к брюсовским урбанистическим пейзажам из «Вечеровых песен» Блок. Подчас поэт делает предметом своего любования и самые чудовищные, отталкивающие явления города (проституция, игорные дома и т. д.).
В урбанистической лирике Брюсова отчетливо выступает социальная окраска картин жизни буржуазного общества. За внешним обликом города-гиганта, притягивающего поэта своей мощью, обнажаются скрытые смертельные язвы, ужасы нищеты и эксплуатации. Голос городской улицы звучит в некоторых брюсовских имитациях песенного фольклора, написанных от лица фабричного, прачки, гулящей девицы в духе чувствительного «жестокого романса» (цикл «Песни» в сборнике «Urbi et Orbi»).
Социальные мотивы в творчестве Брюсова крепнут и углубляются по мере того, как приближается революционный взрыв 1905 года. С большой отчетливостью вскрывает поэт социальные противоречия городской цивилизации эпохи империализма в стихотворениях «Городу», «Ночь», в общеизвестном «Каменщике» (1902), одном из редких произведений символистской поэзии, проникших в народный песенный репертуар.
4
По мере того как поэзия Брюсова освобождалась от «декадентских одежд» и сближалась с реальной действительностью, в ней все отчетливее намечалась тема родины — России. Уже в конце 90-х годов Брюсов страстно опровергает в письме к Перцову обвинение в оторванности «новой поэзии» от родной почвы и пишет произведения, построенные на материале русской старины («Разоренный Киев», «О последнем рязанском князе Иване Ивановиче») и фольклора («Сказание о разбойнике», «На новый колокол»). «Народный склад речи» и сохранение народно-эпического миросозерцания в опытах Брюсова отметил в 1900 году Горький.1 В 900-х годах Брюсов погружается в изучение народного стихосложения. Следует заметить, что у большинства символистов тяготение к «народности» выливалось в глубоко реакционные — как политически, так и эстетически — формы мифотворчества, превращалось в воскрешение архаических, отживших элементов фольклора. Брюсова привлекают не столько мистические мотивы, сколько героическое начало народной поэзии и ее эстетическое своеобразие. Он ищет в эпических картинах национальной старины материал для воплощения своих патриотических настроений. Чувство кровной близости родному прошлому, истокам русской культуры усиливается в связи с историческими событиями начала XX века. Большое значение для формирования политических взглядов и развития «гражданской» лирики Брюсова имела русско-японская война 1904—1905 годов.
Патриотизм поэта, не опирающийся на передовое политическое миросозерцание, неизбежно оказывался, по его собственному признанию,2 «географическим», а объективно сводился к идеализации захватнической политики господствующих классов. Войну с Японией Брюсов воспринял как выполнение вековой исторической миссии России («К Тихому океану», январь 1904 года), облек ее в абстрактные образы, заимствованные из
- 638 -
мифологического арсенала («Война», 1904). Во имя этой миссии в стихотворении «К согражданам», написанном в декабре 1904 года, когда в стране явно нарастает революционное движение, он призывает к классовому миру:
Теперь не время буйным спорам,
Как и веселым звонам струн.
Вы, ликторы, закройте форум!
Молчи, неистовый трибун!Страстно и напряженно переживает Брюсов дальнейший ход событий, его не оставляет мысль об их грандиозном историческом значении, о наступлении «новых эр истории». Страшным ударом для него были известия о поражении под Мукденом, падении Порт-Артура, Цусимской катастрофе, об огромном количестве напрасно принесенных жертв. Эти настроения отразились в стихотворении «Цусима» (июнь 1905 года). Позорный конец войны привел к полному краху монархических иллюзий Брюсова. Разочаровавшись в правительстве, пролившем потоки народной крови, Брюсов приходит к выводу о необходимости его насильственного устранения. «Увенчав позором» трусливое, безвольное правительство («Да! Цепи могут быть прекрасны», 1905), поэт с нетерпением прислушивается к нараставшим раскатам революционной бури и горячо приветствует переход от «либеральной болтовни» к «революционному действию» (письмо к Чулкову).1
Предчувствия и первые отголоски приближающейся революции можно уловить в творчестве Брюсова и несколько раньше. Еще в 1901 году он писал Горькому о своей ненависти к строю современной жизни.2 Призыв «смыть лавиной» «плесень» городской цивилизации прозвучал в стихотворении «Братья бездомные» (1901); в 1901—1903 годах было написано стихотворение «Кинжал», в котором Брюсов объясняет совершившийся в его творчестве поворот к политической современности изменением общественной обстановки и провозглашает близость поэзии к революции (хотя впоследствии и отходит от такого понимания искусства). Широкое развитие революционные мотивы в творчестве Брюсова получают в момент высокого подъема революционной борьбы: в августе — октябре 1905 года написаны «Юлий Цезарь», «Знакомая песнь», «Уличный митинг», «Паломникам свободы», «Довольным». Героика и широкий размах народного движения в первую очередь привлекают внимание поэта. Его восхищает мощь «океана народной страсти», в шуме которого он слышит «знакомую песнь» истории, воскрешающую в его памяти имена Робеспьера и Марата.
Брюсов стремится понять историческую и социальную закономерность революции, вытекающую из невыносимого положения трудящихся масс («Гребцы триремы»). Патетическое изображение размаха событий и эстетическое любование ими сочетается в лирике 1905—1906 годов с утопическими попытками заглянуть в будущее, открываемое революцией («К счастливым»). Восхищаясь героикой событий, Брюсов одновременно клеймит пошлое самодовольство обывателей, едко иронизирует над половинчатостью буржуазного либерализма, наглядно раскрывшейся в дни революции. Издавна свойственная поэту ненависть к лицемерной и трусливой буржуазной «общественности» приобретает особенное значение в стихотворениях 1905 года. Он разоблачает трусость «пилигримов», испугавшихся,
- 639 -
когда народ «яростной рукой» открыл наконец двери «Храма свободы» («Паломникам свободы»); издевается над теми, кто ищет защиты «в уступках» («Цепи»). В ответ на царский манифест 17 октября 1905 года, встреченный ликованием в стане либералов, Брюсов создает гневную политическую сатиру на «довольных малым»:
Довольство ваше — радость стада,
Нашедшего клочок травы.
Быть сытым — больше вам не надо,
Есть жвачка — и блаженны вы!В ряде произведений — главным образом незавершенных или в свое время не напечатанных — мы находим реалистические наброски отдельных событий 1905 года. Так, в черновиках поэмы «Плач о погибшем городе» дано описание опустевшего города, некогда служившего ареной революционных битв, несомненно подсказанное воспоминаниями самого поэта о декабрьском вооруженном восстании в Москве:
...в темный лабиринт
Старинных улиц бросился я слепо,
И узнавал священные места
Последних битв, разыскивал теснины,
Где подымались дерзко баррикады,
И целовал заветные углы,
Обрызганные мучеников кровью.1В новелле Брюсова «Последние мученики» сцена расстрела правительством собравшейся на площади безоружной толпы, отстаивающей свои человеческие права, — явный отклик на события 9 января. Непосредственное описание декабрьского вооруженного восстания дано и в поэме «Агасфер в 1905 году»,2 возникшей в связи с работой Брюсова-пушкиниста над «Медным всадником».
Плодотворное воздействие первой русской революции на творчество Брюсова неоспоримо. С несомненной искренностью он старался осмыслить поэтически те «роковые минуты истории», которые выпали на долю его поколения. Однако Брюсов, по собственному признанию, «лишь свидетель, не участник» событий. Крах монархических иллюзий заставил Брюсова пересмотреть свои убеждения, но доминирующей нотой этих убеждений попрежнему остался индивидуализм, столь типичный для буржуазного сознания. Отталкивание от всякой «догмы», боязнь «предрешенности», «обязательности» суждений красной нитью проходят через дневники Брюсова (записи 1907 года), его переписку (письма Чулкову, Перцову), публицистику («Свобода слова», 1905; «Истины», 1901).
В условиях революционного подъема 1905 года ненависть к либеральной половинчатости в сочетании с индивидуалистическим отталкиванием от всякой «партийности» приводит Брюсова к анархическому миросозерцанию, органическую связь которого с индивидуализмом следующим образом вскрывает И. В. Сталин: «Краеугольный камень анархизма — личность, освобождение которой, по его мнению, является главным условием освобождения массы, коллектива. По мнению анархизма, освобождение массы невозможно до тех пор, пока не освободится личность, ввиду чего его лозунг: „Всё для личности“».3 Тяготение к анархизму, выросшее на
- 640 -
индивидуалистической почве, ощущается и у других представителей символистского лагеря в момент увлечения революцией — у Г. Чулкова с его проповедью «мистического анархизма», у В. Иванова, Ф. Сологуба. Брюсова революция захватила глубже, нежели большинство его соратников, и отразилась она в его творчестве полнее, но и его отношение к революции определяется ленинской характеристикой Брюсова как поэта-анархиста.1
Поэтому революция воспринимается Брюсовым прежде всего как мощная стихия разрушения, сметающая с лица земли ненавистный мир «довольных», «позорный, мелочный» обывательский строй жизни. Элемент стихийности выступает на первый план в брюсовских уподоблениях революции «лику Медузы», демону разрушения («Уличный митинг»).
Ленинская оценка раскрывает смысл и многих других образов политической поэзии Брюсова. С анархистских позиций Брюсов мог гневно обрушиваться на буржуазный либерализм, вполне удовлетворившийся подачками самодержавия. Выразительным автокомментарием к стихотворению «Довольным» является отзыв о «кадетской думе» в письме к Перцову от 22 марта 1906 года; но, считая себя и близкую ему группу интеллигенции «левее» пролетариата, Брюсов в том же письме иронизирует и над Советом рабочих депутатов, а в своей лирике изображает «неискусных звонарей» революционного набата («Знакомая песнь»). Развернутой декларацией анархистского максимализма Брюсова является стихотворение «Близким» (1905), где он прямо формулирует свою близость и свое расхождение с пролетариатом:
Где вы — как Рок, не знающий пощады,
Я — ваш трубач, ваш знаменосец я,
Зову на приступ, с боя брать преграды
К святой земле, к свободе бытия.Но там, где вы кричите мне: «Не боле!»,
Но там, где вы поете песнь побед,
Я вижу новый бой во имя новой воли.
Ломать — я буду с вами, строить — нет!2Поэт мечтает о «земном рае» освобожденного человечества, но картина этого рая в стихотворении «К счастливым» и в поэме «Замкнутые» нарисована как утопия, окрашенная в анархические тона: всеобщее разрушение, освобождение от всяческих уз, торжество вернувшегося к первобытной свежести чувств человека.
Максимализм Брюсова был выражением буржуазной ограниченности его восприятия революции, неспособности понять грандиозные созидательные задачи, стоящие перед пролетариатом, «ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность».3 В политической лирике Брюсова отразились буржуазно-индивидуалистические представления о революции как гибели всей созданной человечеством культуры, как возвращении к варварству, — мысли, которые несколько раньше (1903) легли в основу статьи Брюсова «Торжество социализма», предназначавшейся для журнала «Новый путь» и оставшейся в рукописи.4 Признание закономерности революции, страстные призывы к «детям пламенного
- 641 -
дня» сплетаются с картинами гибели сокровищ культуры, с которой так неразрывно связан сам поэт («Грядущие гунны»). Отсюда настроения обреченности, звучащие в финале этого произведения:
Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам.
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.Даже в момент наибольшего сочувствия революционному движению творчество Брюсова отразило непоследовательность, противоречивость и буржуазную ограниченность его политической позиции; по собственному его признанию, им был написан одновременно ряд революционных и антиреволюционных произведений (письмо к Перцову от 24 сентября 1905 года). Период сочувствия революции был к тому же непродолжительным, хотя отголоски его звучали в творчестве Брюсова и много позднее.
Уже с конца 1905 года, по мере того как намечается спад революционной волны, тематика политической современности в творчестве Брюсова ослабевает, а настроения обреченности, жертвенности усиливаются: характерны в этом отношении новелла «Последние мученики» и второе стихотворение под названием «Близким», где изображается казнь героя, в детстве мечтавшего о братстве людей. Не доводятся до конца и не печатаются при жизни Брюсова наброски, развивающие основную тему «Кинжала»: «Ужель доселе не довольно?», «К народу. Vox populi...». В публицистике конца 1905 — начала 1906 года Брюсов снова возвращается к теории «чистого искусства».
В качестве защитника буржуазного мифа о «свободном», надклассовом искусстве Брюсов выступил в журнале «Весы» против статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература».1 С позиций анархического индивидуализма, от имени «искателей абсолютной свободы», противников всякой идеи «архе» (власти) он пытается утверждать независимость «новой поэзии» от капиталистического строя. Признавая, что свобода слова, хотя и неполная, достигнута только благодаря энергии социал-демократической партии, Брюсов, тем не менее, восстает против «социал-демократической доктрины», противопоставляя ей анархический идеал «свободы исканий». Большевистский принцип партийности литературы оказался чуждым эстету-индивидуалисту, воплотившему в своей статье реакционные иллюзии «надклассовости искусства, свойственные деятелям буржуазной культуры. Эти иллюзии особенно наглядно выразились в ссылках Брюсова на пример отвергнутых буржуазным миром поэта Рембо, художника Гогена — пример, как раз говорящий против концепции Брюсова и иллюстрирующий слова Ленина о позорной зависимости искусства в буржуазном обществе от «денежного мешка». Неумолимая логика идеологической борьбы заставила Брюсова в его полемике с Лениным сомкнуться с лагерем столь ненавистных поэту «ремесленников из либеральных журналов», в котором принцип партийности искусства подвергся злобным нападкам. Выступление Брюсова лишний раз подтверждает ленинское положение о буржуазно-индивидуалистической сущности теории надклассового беспартийного искусства.
Только опыт мировой войны и победоносной пролетарской революции помог писателю впоследствии освободиться от буржуазно-анархического
- 642 -
миросозерцания. Но события 1905 года обострили конфликт поэта с существующим строем, убедили его в неизбежности крушения буржуазного мира, и под их влиянием с особой силой и глубиной зазвучала свойственная Брюсову и прежде тема исторической обреченности буржуазной цивилизации.
5
Для воплощения этой темы Брюсов обращается к жанрам более объемным, нежели лирика: к эпической поэме (наброски поэмы «Плач о погибшем городе», 1906), к драме («Земля», 1906), к роману (первоначальный замысел «Огненного ангела», 1905; «Семь земных соблазнов», 1909—1911; «Алтарь победы», 1911—1912).
Прозаические опыты 900-х годов нашли свое место в сборнике «Земная ось» (1907). Первое серьезное выступление Брюсова в роли прозаика осуществляется сравнительно поздно, когда вполне установилась его поэтическая репутация и когда символистская проза в России была довольно широко представлена. Но уже в первой книге своих новелл Брюсов стремится найти свой особый путь, отличный и от исторической прозы Мережковского, и от бытового гротеска Сологуба, и от явной тенденциозности неохристианской беллетристики Гиппиус, и от крайнего импрессионизма «Симфоний» А. Белого.
В новеллах «Земной оси» наряду с типичными декадентскими мотивами намечается характерный для Брюсова рационализм и тяготение к историческому и утопическому жанрам. Большинство рассказов сборника представляют либо социально-фантастическую утопию («Республика Южного Креста», «Последние мученики»), либо историческую стилизацию («В подземной тюрьме», «В башне»). Несмотря на подражательный характер многих новелл и налет стилизации, здесь уже начинает вырабатываться и язык Брюсова-прозаика. Лаконизм фразы, сравнительно редкое употребление метафор, точность словоупотребления свидетельствуют об учебе Брюсова у Пушкина-прозаика, а также показывают влияние прозы латинских авторов, хорошо знакомых Брюсову — историку и филологу.
Линия социальной утопии нашла свое продолжение в драме «Земля» и набросках романа «Семь земных соблазнов»; линия исторического повествования — в романах «Огненный ангел» и «Алтарь победы». Но и та, и другая не были для Брюсова средством ухода от современности, чисто эстетического отгораживания от нее. На материале будущего и на материале прошлого Брюсов вновь и вновь решал волновавшую его проблему надвигавшейся социальной катастрофы.
В космических масштабах изображается подобная катастрофа в драме «Земля», замысел которой зародился еще в 1890 году, но нашел свое окончательное воплощение лишь в 1906 году под влиянием опыта революции. Будущее человечества, истощенного искусственной цивилизацией капиталистического общества, замкнутого в подземных коридорах гигантского города, рисуется Брюсовым в довольно мрачных тонах. Но и в этих условиях проявляются энергия и гений лучших представителей человечества, и отважному Неватлю удается сплотить вокруг себя смельчаков, пытающихся возродить землю. В финале пьесы, несмотря на картину гибели тысяч людей, осмелившихся поднять крышу подземного Города, звучат оптимистические ноты, выражается вера в торжество новой жизни на развалинах старого мира.
- 643 -
Некоторые отзвуки событий первой русской революции можно уловить и в первом историческом романе Брюсова «Огненный ангел» (1907—1908). Творческая история романа свидетельствует о значительной эволюции основного замысла.
Первоначально автор предполагал изобразить в нем только мистические оккультные учения Германии XVI века и на этом фоне психологию исступленной женской души. Но в 900-х годах, под влиянием мощных выступлений революционного народа в России, Брюсов обращается к теме массовых социальных движений прошлого. Создаются наброски романа, в которых действие развертывалось на фоне крестьянских войн XVI века. Об исторических ассоциациях с обстановкой 1905 года в России свидетельствует письмо Брюсова к Г. И. Чулкову: «Среди залпов казаков, между двумя прогулками по неосвещенным и забаррикадированным улицам, я продолжал работать над своим романом. И как-то хорошо работалось (тем более, что в начальных главах пришлось изображать религиозно-революционное движение в Германии 1553 года)».1
Однако окончательная редакция «Огненного ангела» оформлялась уже в период реакции (1908). Тема «религиозно-революционных движений» потускнела в сознании Брюсова, снова отступившего на позиции «чистого искусства». Ее рудиментами оказались некоторые сцены (встреча Рупрехта в кабачке с крестьянином, проклинающим рыцарей и епископов). Историческая перспектива романа сузилась, судьбы героев оказались изолированными от основных событий эпохи, центр тяжести переместился на историю мучительной любви Рупрехта и Ренаты, «любви-поединка» в духе эротической поэзии Брюсова. Образ основного героя романа, рационалиста и книжника, неутомимого испытателя таинственных сил, но вовсе не мистика по натуре, — явно близок самому автору. Загадочная, изломанная героиня романа более напоминает героиню декадентских литературных кругов, нежели «средневековую ведьму» — жертву святейшей инквизиции.
Долголетнее тщательное изучение эпохи сказалось в документальной точности описаний всех подробностей быта и культуры, в тонкой отделке языка, искусно стилизованного под подлинную хронику XVI века. Последнему способствовала и избранная Брюсовым форма повествования от первого лица. Но широкую картину эпохи автор дать не смог, сузив и обеднив основную идею романа.
6
В 900-е годы Брюсов развертывает активную деятельность не только как поэт, но и как журналист, критик, историк литературы. В 1904—1908 годах Брюсов возглавлял основной орган русского символизма — журнал «Весы». Исключительная работоспособность и энергия Брюсова-редактора единодушно отмечается в воспоминаниях современников. Но эта неутомимая энергия шла на обслуживание небольшой группы рафинированной буржуазной интеллигенции. Выражая ее эстетические вкусы, порожденные реакционной политической ориентацией, «Весы» систематически ведут борьбу с реализмом в современной литературе, отстаивают позиции «чистого искусства», пропагандируют образцы упадочнической декадентско-импрессионистической литературы Запада, полемизируют с марксистской критикой.
- 644 -
Брюсов неустанно трудится и в качестве переводчика. Именно в тот период (900-е годы) он «открывает» русским читателям Верхарна. Особенное значение приобрела для Брюсова революционная, насыщенная современностью поэзия Верхарна в период русской революции 1905 года. Имея в виду наступившую «свободу печати», Брюсов писал Г. Чулкову в 1905 году: «...умоляю, воспользуйтесь этой свободой, чтобы напечатать мои переводы из Верхарна. Этого очень хочу. Верхарн воистину революционный поэт, и надо, чтобы его узнали теперь».1 Многие произведения Верхарна, благодаря Брюсову, появились в русском переводе раньше, нежели были напечатаны во Франции (поэма «Золото», драма «Елена Спартанская»).
Широкий размах приобретает в эти годы и научная работа Брюсова. Он печатает ряд работ о творчестве Пушкина, восстанавливает тексты лицейских стихов и «Русалки», издает часть эпистолярного наследства Пушкина. Если для ранних работ Брюсова-пушкиниста характерно чисто эстетическое восприятие Пушкина, то теперь Брюсова интересуют проблемы творческого метода великого классика, проблемы связей его творчества с общественной и бытовой обстановкой. Особенно интересна статья о «Медном всаднике», где Брюсов предлагает своеобразную трактовку философского смысла поэмы, несомненно подсказанную ему только что пережитыми событиями 1905—1906 годов.
Глубже и значительнее становятся теперь и работы Брюсова по истории русской поэзии. Из них особенно следует отметить очерк жизни и творчества Тютчева, направленный против славянофильской легенды о поэте. Современная русская поэзия также находит в лице Брюсова внимательного и серьезного критика: трудно назвать сколько-нибудь известный сборник стихов, появившийся в 1904—1917 годах, который не был бы встречен рецензией Брюсова. Брюсов требует от поэта искренности, самостоятельности мысли, высокой профессиональной культуры. Он умеет различать проявления новых литературных течений и дарований: Брюсов сочувственно отзывается о рабочих поэтах Авенире Ноздрине, Евгении Тарасове, благожелательно встречает дебют Маяковского, отмечает, что «проникновение в стихию русского духа составляет своеобразие и очарование» первых выступлений А. Н. Толстого.2 Брюсов был единственным представителем символистской критики, положительно оценившим поворот поэзии Блока от романтического соловьевства в сторону реальной действительности.3
Как литературовед и критик Брюсов постепенно становится на несколько иные позиции, нежели в своих ранних работах. В конце 90-х — начале 900-х годов, когда еще шла ожесточенная борьба за признание русского символизма, Брюсов в качестве главы школы создает ряд эстетических деклараций, утверждавших принципы «новой поэзии», заостренных против реализма и «тенденции» в искусстве («О искусстве», 1899; «Ключи тайн», «Священная жертва»). Но во второй половине первого десятилетия XX века Брюсов одним из первых ощущает творческую бесплодность символизма, культа «чистого искусства». Все чаще теоретические высказывания Брюсова касаются проблемы реализма, возможности которого подвергаются решительной переоценке: «...новые идеи... одержали победу. Реализм должен был сдать... свои позиции... Но... тем ощутительнее
- 645 -
стало, что и он сам тоже из числа исконных, прирожденных властелинов в великой области искусства. Стало яснее, что начало всякого искусства — наблюдение действительности, как вместе с тем стали виднее те опасности, к которым ведет безудержная фантастика».1 В собственной творческой практике Брюсова попытки выйти за рамки декадентства и символизма наблюдаются уже в начале 900-х годов.
7
«Классическое начало» в творчестве Брюсова, т. е. тяготение к реалистическому воспроизведению образов внешнего мира, к законченной, строгой поэтической форме, неоднократно подчеркивалось современниками Брюсова. «Чистейшим классиком» среди «неоромантиков» назвал Брюсова С. А. Венгеров.2 В поэзии зрелого Брюсова заметно усиливается эпическая струя. Лирические образы все чаще приобретают пластический, зримый характер. Стихи Брюсова тяготеют к сюжетности (цикл «Баллады»), к форме монолога или диалога («Ассаргадон», «Орфей и Эвридика»). Глубина и отчетливость мысли, свойственные лучшим произведениям Брюсова, выливаются в композиционные формы, замечательные по строгости чеканки, законченности. Характерным свойством поэзии Брюсова становится тщательно продуманное объединение отдельных стихотворений в тематические или жанровые циклы и дальнейшее объединение этих циклов в сборники, построению которых автор уделяет столько же внимания, сколько и композиции отдельного стихотворения. Он пытается возродить традицию устойчивых лирических жанров (циклы «Элегии», «Баллады», «Оды и послания» и т. д. в сборнике «Urbi et Orbi»), охотно обращается к классическим видам строфы (терцина, сонет, октава). Умеренно, по сравнению с другими поэтами-символистами, пользуясь метафорами и другими видами тропов, Брюсов мастерски владеет искусством синтаксических параллелизмов и антитез, придающих его стиху особую интонационную выразительность. В 900-х годах он вырабатывает торжественно-приподнятый, лаконически-сжатый, звучный, но не напевный стих, столь типичный для Брюсова. Сборник «Urbi et Orbi» поражает исключительным богатством ритмов и размеров (в нем можно найти образцы приблизительно сорока размеров, известных русской поэзии). Поэт выходит за пределы силлабо-тонической системы, широко пользуется дольниками, употребляет свободный стих. Однако в основном поэзия Брюсова определенно тяготеет к классическому ямбу, что придает ей оттенок строгости, размеренности.
На языке поэзии зрелого Брюсова также сказываются те противоречия, которые характеризуют всю его литературную деятельность. С одной стороны, подобно другим символистам, он отдаляет поэтический язык от народного, нагромождая иноязычную терминологию, подчеркнуто используя для названия своих сборников латинские и греческие изречения. С другой стороны, в своих лучших, политически и гуманистически окрашенных произведениях он достигает относительной простоты и ясности языка («Каменщик», «Кинжал», «Хвала человеку»). Иногда он даже пародирует напыщенную мистическую фразеологию символизма («Эллису», эпиграммы на Бальмонта).
- 646 -
В основном в своей лирике Брюсов пользуется торжественным поэтическим языком, соответствующим тем поискам большой темы и героических характеров, которые свойственны его поэзии 900-х годов. Постоянно встречающиеся в языке Брюсова мифологизмы и славянизмы часто используются им в плане отталкивания от буржуазной современности, обличения ее. Они подчас звучат так, как звучали образы античности и славянской древности в «гражданской» лирике пушкинской поры: «все под ярмом клонили молча выи» («Кинжал»), «Пел ее в свой день Гармодий, Повторил суровый Брут» («Знакомая песнь») и т. д.
Совершенно наглядно выступает в зрелой поэзии Брюсова стремление овладеть классическими формами поэзии и, в первую очередь, пушкинской поэзии. Брюсов обращается к некоторым пушкинским темам, образам (Послание «Медному всаднику», 1905; «Последнее желание», 1902; «Памятник», 1912; окончание «Египетских ночей», 1916; вариации на тему «Медного всадника», 1922). Однако поэту-символисту остается чуждым жизнерадостное миросозерцание Пушкина, и обращение к наследию великого поэта у Брюсова часто ограничивается использованием тех или иных элементов поэтической формы.
Другим русским поэтом, неизменно привлекавшим Брюсова как литературоведа и художника, был Тютчев. Эротическая лирика Брюсова ближе всего стоит к теме любви-страсти, наметившейся у Тютчева. Острое ощущение «роковых минут» истории, предчувствие катастрофы, стремление осмыслить эти минуты в широком философско-историческом аспекте также роднят обоих поэтов. Непосредственно перекликаются с патриотической лирикой Тютчева патриотические стихи Брюсова о судьбах России, о ее исторической роли. О сближении с Тютчевым свидетельствуют и такие особенности политической лирики Брюсова, как сознательное обращение к архаическим жанрам (ода, инвектива), намеренная архаизация языка и образов, торжественность интонаций.
Некоторые оттенки городской темы у Брюсова — бытовые картины улицы, социальные контрасты города, введение элементов деловой прозаической речи — могут быть сопоставлены с поэзией Некрасова. На «некрасовские темы» в сборнике «Urbi et Orbi» и особенно в стихотворении «Каменщик» указывала и критика тех лет. Но влияние Некрасова на творчество Брюсова было очень незначительно. В основном оно проявилось накануне революции 1905 года в цикле «Картины».
8
В мрачной общественной атмосфере периода реакции политическая окраска лирики Брюсова ослабевает. Воспоминания о пережитых событиях продолжают питать творчество Брюсова. В сборнике «Все напевы» (1909) повторяется цикл «Современность», в который входят несколько стихотворений, посвященных событиям 1905 года («Служителю Муз», 1905; «Флореаль 3 года», «Дух Земли», 1907), но это уже тема недавнего прошлого. Настоящее же смущает и тяготит поэта: революция подавлена, ненавистная партия «довольных» торжествует, устои обывательского существования восстановлены. Мечты о гибели «неправого, некрасивого строя» не осуществились, и разочарование в революции приводит Брюсова к политическому нигилизму и растерянности. «Куда теперь кинуться, — пишет он отцу в 1907 году, — справа реакция дикая, слева бомбы и экспроприации,
- 647 -
центр (Твой) лепечет умилительные или громкие слова».1 Писатель не сочувствует ни тому, ни другому лагерю, но не привлекает его и «центр», хотя в 1906 году Брюсов с «благородной безнадежностью, — по собственным словам, — проголосовал за 17-е» число, т. е. за буржуазную партию октябристов.2 Единственный выход Брюсов, как и многие другие представители буржуазной интеллигенции того времени, видит только в культе искусства и снова провозглашает первенство чисто литературных интересов. Сборник «Все напевы» открывается программным обращением к поэту:
Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.(«Поэту»).
Сравнение этой декларации с образом «поэзии — кинжала», суждения о поэзии как о «сочетании слов» — с прежней формулой «песня с бурей вечно сестры» («Кинжал») свидетельствует о новом усилении тенденций «чистого эстетизма» во взглядах поэта. Попытки Брюсова заглянуть в будущее страны приводят его к полной растерянности («Наш демон», 1907). Прямым следствием упадочнических настроений эпохи реакции являются мрачные тона брюсовской лирики этих лет: славословие смерти и самоубийству в сборнике «Зеркало теней» (1912), воспевание «искусственного рая» наркотиков, извращенных наслаждений в поэме «Подземное жилище». Любовь связывается у поэта с гибелью, умиранием, становится любовью-ненавистью, взаимным и неизбежным мучительством.
Те же мотивы патологической эротики определили основное содержание второй книги рассказов Брюсова «Ночи и дни» (1913). С модернистской беллетристикой эпохи реакции сближает эту книгу образ «сверхчеловека» Модеста (родственный Санину).
Отдавая, таким образом, дань реакционным настроениям близкой ему среды, Брюсов все же стремился в ряде произведений преодолеть эти настроения. По мере того как эпоха реакции сменяется новым общественным оживлением, в стихах Брюсова все более отчетливо звучит мотив утверждения жизни. «Sed non satiatus» («Но не утоленный») — так называет поэт программное стихотворение своей новой книги «Семь цветов радуги» (1915); «останемся и пребудем верными любовниками земли», — восклицает он в предисловии к ней. Подобно Фету, поэт мечтает вечно ловить «трепет жизни молодой». В то же время кризис символизма, приведший к ликвидации «Весов» и к расколу в среде его сторонников, активизирует борьбу Брюсова против «мистиков», их теургических и теософских теорий.
Борьба эта не могла быть последовательной и плодотворной. Противопоставляя «мифотворчеству» и «неохристианству» лишь порочную теорию «чистого искусства», поэт сам не мог избежать идейного оскудения, обеднения своего творчества. Мотивы жизнеутверждения, не связанные с прогрессивными, революционно-демократическими настроениями предоктябрьской эпохи, неизбежно завершались принятием буржуазной действительности, примирением с ней.
- 648 -
9
Очевидное разложение символизма заставляет Брюсова искать новые творческие пути. Он углубляет свои исторические разыскания, при помощи которых вновь пытается постичь будущие судьбы современной культуры. К этому времени относится замысел цикла «Сны человечества» — поэтической антологии мировой культуры, начиная от песен первобытного человека и кончая утонченными стихами декадентов.
Характерная для Брюсова тема грандиозной социальной или космической катастрофы вновь варьируется в замысле романа «Семь земных соблазнов», первые главы которого были напечатаны в 1911 году. Действие романа развертывается на фоне 40-этажных небоскребов исполинского города будущих времен; основным героем является бедный юноша, на собственном опыте познающий чудовищное лицемерие и бездушие эксплуататорского строя. В финале романа, по замыслу автора, должно было разразиться «грандиозное восстание», сметающее с лица земли город и его хозяев-банкиров. Контраст между развратом и роскошью в быту финансовых королей и полным рабством трудящихся намечался с исключительной остротой. Связь утопии, действие которой развертывалось в «далеком будущем», с буржуазной современностью подчеркивалась предисловием Брюсова.
Идея этического оправдания революции как насильственного восстановления попранной социальной справедливости, проникающая в некоторые стихи Брюсова («Бедняки», «Гребцы триремы»), выразилась в романе с достаточной отчетливостью. Однако отсутствие четкого представления о задачах и возможностях победоносной революции помешало Брюсову довести до конца свой интересный замысел.
Все более привлекает Брюсова как художника и как исследователя античный мир. Брюсов печатает ряд богатых фактическим материалом этюдов по истории римской поэзии, переводит Пентадия, Авсония, работает над переводом «Энеиды». Он становится активным участником специального научного журнала «Гермес». На этой почве вырастают трагедия Брюсова «Протесилай умерший» (1913) и лучший роман его «Алтарь победы» (1911—1912). Последний — наиболее законченное воплощение той темы исторически неизбежной гибели старого мира, которая красной нитью проходит через целый ряд произведений Брюсова дооктябрьской поры.
Брюсов избирает для своего романа эпоху, которую он тщательно изучал как историк и литературовед, — эпоху распада языческой культуры Рима. Тщетно пытаются удержать былое величие Рима последние защитники старых традиций — молодой патриций Юний, писатель Симмах, жена сенатора Гесперия. Сам Юний становится участником восстания христиан-еретиков. В «Алтаре победы» осуществилась та сюжетная ситуация, которая первоначально намечалась для «Огненного ангела»: герой (Юний) в качестве лазутчика попадает в стан борцов за новые исторические идеалы и вынужден признать неизбежность победы этих идеалов, пересмотреть свои первоначальные убеждения. В конце концов Юний склоняется перед решением истории и в дальнейшем примыкает к христианам, носителям будущего (это было показано Брюсовым в более позднем продолжении романа — «Юпитер Поверженный»).
Познавательное значение романа неоспоримо. Политическая борьба, семейный быт, литературная жизнь Рима в IV веке даны с огромным знанием материала, тщательно документированы.
- 649 -
Не случайно Брюсов избрал для своего романа о гибели римской культуры почти ту же эпоху, которая ранее привлекла внимание Д. Мережковского. «Юлиан-отступник» был одним из первых творческих манифестов символизма, и Мережковский исходил в нем из ницшеанского индивидуализма, с одной стороны, из богоискательских, впоследствии вылившихся в «неохристианство», религиозных устремлений — с другой. Отказываясь от модернизации истории, произведенной Мережковским, Брюсов стремится дать объективное изображение античного мира, ему чужды тенденциозность и антидемократизм Мережковского, так же как и идеализация христианства в некоей его мистической сущности, пронизывающая всю трилогию Мережковского о Христе и Антихристе. Композиционной «мозаичности», фрагментарности прозы Мережковского, скрепленной только общей тенденцией, Брюсов противопоставляет свой, выработанный постепенно, начиная с условно-исторических новелл «Земной оси», повествовательный стиль строгого внутреннего единства. Логическая последовательность композиции романа, спокойный тон повествования при внутренней его напряженности, точность словоупотребления и сжатость фразы привлекали Брюсова, стремившегося в период творческой зрелости не только в поэзии, но и в прозе опереться на традицию классического повествования, в противовес основной импрессионистической линии прозы символистов.
Однако окончательно преодолеть творческий метод символизма Брюсову и здесь не удалось. «Огненный ангел» связан с эротической лирикой Брюсова. Вся судьба героя подчинена роковой, непреодолимой и жестокой страсти. Эротические сцены порой не лишены привкуса патологии (любовь подростка Намии к Юнию, бред Юния в темнице и т. д.). В духе символистской прозы разработаны и женские образы романа (инфернальная Гесперия, женщина-ребенок Намия, полубезумная пророчица Рея).
По своему идейному содержанию и художественному методу роман противоречив, как противоречиво и все дооктябрьское творчество Брюсова. В поисках объективной закономерности истории Брюсов привлекает огромный фактический материал, доступный ему как ученому-специалисту, и создает глубокую и полную картину избранной эпохи. Но буржуазная историческая наука не могла дать писателю возможности раскрыть закономерности исторического процесса. Отсюда философские и художественные срывы Брюсова: элементы модернизации истории (особенно в речах и размышлениях Юния), некоторое любование отживающим рабовладельческим обществом, стилизация «под латинский синтаксис» в языке.
Как бы своеобразным эпилогом к «Алтарю победы» является повесть из римской жизни VI века «Рея Сильвия» (1914), где Брюсов показал лежащий в развалинах Рим, о былом величии которого вспоминает лишь бедная чета влюбленных, нашедших приют в подземельях императорского дворца.
При всех попытках Брюсова, поэта и прозаика, найти выход из литературного тупика, созданного распадом символизма, он не мог достичь цели, оставаясь в плену буржуазного миросозерцания, противопоставляя мистическим увлечениям и идейному измельчанию современной литературы лишь реакционную проповедь «свободного искусства». Отсюда чувство творческой исчерпанности, возвращение к прежним поэтическим темам, перепевы самого себя, внешне подчеркнутые системой автоэпиграфов в «Зеркале теней» и «Семи цветах радуги». Этим же объясняется непомерно возрастающее внимание к чисто технической стороне стиха, прямое экспериментирование, наметившееся еще в сборнике «Все напевы», в котором
- 650 -
Брюсов дал образцы самых редких и изысканных поэтических форм (там можно найти секстины, октавы, триолеты, рондо, газэллы и т. д.).
Экспериментальной попыткой передать поэтическими средствами музыкальную композицию являются поэмы-сонаты в сборнике «Все напевы» и поэма-симфония «Воспоминание» (1914—1916). Произведения, написанные с целью проиллюстрировать теоретические положения стиховедения, вошли в сборник Брюсова «Опыты» (1912—1918).
Одновременно, не без влияния книги А. Белого «Символизм», усиливаются формалистические тенденции в литературоведческих и критических работах Брюсова. Он дает чисто формальный анализ стихотворной техники Пушкина, объясняет создание «Маленьких трагедий» потребностью освоения определенной композиционной формы. Однако крайние проявления формализма вызывают возражения со стороны Брюсова. Он предупреждает молодых поэтов: «Содержание в художественном произведении то же, что стебель для цветка. Мы дорожим цветком, но он не может жить без стебля».1
В период организационного разложения символизма Брюсов старается завязать связи с другими литературными кругами, найти своего читателя не только в небольшой группе поклонников «новой поэзии». После ликвидации «Весов» деятельность Брюсова — журналиста, критика, библиографа в течение нескольких лет (1909—1914) связана с «Русской мыслью», к сотрудничеству в которой он привлекает ряд символистов. Стремясь поднять литературный уровень журнала, Брюсов, однако, не разделяет кадетской платформы «Русской мысли», над которой он сам неоднократно издевается. «Странное это для меня прибежище», — иронически сообщает он Перцову.2 Сочинив пародийный гимн в связи со смертью идола либералов, председателя I Государственной думы С. Муромцева, он язвительно замечает в письме к тому же Перцову: «„Русская мысль“, вероятно, оный не напечатает».3 Стремление Брюсова отделить литературу от политики, усилившееся под воздействием эпохи реакции, наглядно выражается в его отношении к «Русской мысли». Решительный удар этим иллюзиям «надпартийности» литературы и всему индивидуалистическому мировоззрению Брюсова нанесли события мировой войны и революция 1917 года.
10
Война 1914—1917 годов заставляет поэта вновь обратиться к политической современности. Развертывающиеся события помогают Брюсову глубже и полнее почувствовать свою связь с народом, историческую ответственность за его судьбу. «Наша эпоха считается временем торжества индивидуализма. Но сколько ни уходим мы в себя, сколько ни замыкаемся в своем одиночном я, мы все-таки не в силах порвать тех уз, которые против нашей воли и против нашего желания привязывают нас к нашим близким, к нашим родным, к нашему народу», — писал Брюсов в ненапечатанной статье «Мысли о войне» (1915).4
В 1914 году писатель отправляется на Западный фронт в качестве военного корреспондента. Серия его корреспонденций с передовых позиций,
- 651 -
из Варшавы, из освобожденного Перемышля появляется в «Русских ведомостях». Внимание Брюсова останавливает прежде всего варварство германских милитаристов, разрушителей европейской культуры. Брюсов пишет о «литературе немецких окопов»,1 представлявшей смесь сентиментальности и жестокости; сообщает свидетельства очевидцев о разрушенных музеях, храмах, дворцах Бельгии.
Другая проблема, выдвинутая на первый план в корреспонденциях Брюсова — проблема техники в современной войне. Авиация, артиллерия, попытка использования «блиндированных автомобилей», появление в русской армии первых «прирожденных авиаторов» и теоретиков механизированной войны занимают в письмах Брюсова значительное место. Отмечая выдвижение техники как особую историческую черту современной войны, Брюсов вместе с тем как гуманист протестует против того бесчеловечного культа машины, который уже тогда являлся основной ставкой разбойничьего империализма.
Впечатления фронта, сценки в окопах, картины битв отразились в батальной лирике Брюсова, занимающей большое место в книге «Семь цветов радуги» («Поле битвы», «В окопе», «Казачье становье»). Однако патриотический подъем, пережитый в начале войны, приводил поэта к идеализации действительности. Он мечтает, что грозные события приведут к преображению мира; империалистическая война кажется ему «последней войной», которая превратится в путь к «миру и свободе», и он готов приветствовать «страшный год борьбы» («Последняя война», 1914, июль).
Волна шовинистических настроений, охвативших в те годы буржуазных литераторов, увлекла и Брюсова. Как и в 1904—1905 годах, он, не понимая подлинной империалистической сущности войны, изображает войну в абстрактно-героических очертаниях, украшает излюбленными образами античности и средневековья. Этими слабыми сторонами поэзия Брюсова смыкается с низкопробными шовинистическими стихами, которые изготовляли в то время декаденты различных направлений (молодой Маяковский в статье «Поэты на фугасах» очень остроумно показал безличность, трафаретность милитаристской поэзии, объединив в одно стихотворение строфы Брюсова, Бальмонта и Городецкого). Но шовинистические иллюзии не исчерпывают содержание политической лирики Брюсова в годы мировой войны.
Во время войны особую актуальность приобретает для Брюсова вопрос о мировом значении русской культуры, которому посвящено одно из лучших его стихотворений «Старый вопрос», где поэт с гордостью говорит о русском народе, давшем миру таких титанов, как Пушкин, Толстой.
По мере того как война обнажала социальные противоречия отжившего общественного уклада и будила политическую активность широких трудящихся масс, изменялись и позиции Брюсова, рассеивались его шовинистические настроения 1914 года. «В мае 1915 года <он> окончательно возвратился глубоко разочарованный войной», — вспоминает И. М. Брюсова.2 Недовольство войной перерастает в критику царского правительства. В лирике Брюсова появляются картины тяжелых страданий и великих жертв, понесенных народами мира; угару буржуазного шовинизма противопоставляется идея братства народов («Круги на воде», «Западный
- 652 -
фронт»). Несколько позже написаны стихотворения «За что?» и «Тридцатый месяц», гневно обличающие виновников войны.1
В эти годы Горький объединяет вокруг своих разнообразных начинаний передовые силы русской литературы. Антивоенные стихи Брюсова, рост гуманистических мотивов в его творчестве, широкий размах его культурно-просветительской деятельности привлекают сочувственное внимание Горького. Горький берет на себя инициативу в деле сближения этого большого «мастера культуры» с передовой демократической литературой. В свете этой задачи надо рассматривать и оживленную переписку Брюсова с Горьким в 1914—1917 годах, и помещение в «Новой жизни» стихотворения «Тридцатый месяц», и посредничество Горького между Брюсовым и издательством «Парус», и приглашение Брюсова участвовать в горьковской «Летописи». Политический смысл сближения Брюсова с Горьким сумела разгадать в свое время буржуазная печать, разразившаяся нападками на Брюсова, упрекавшая его в отступничестве и измене собственным идеалам, когда «Тридцатый месяц» появился в июне 1917 г. на страницах «Новой жизни». Особенно сближала Горького и Брюсова активная борьба с реакционной шовинистической политикой самодержавия, пытавшегося отсрочить свой неизбежный крах натравливанием друг на друга народов страны.
По совету Горького в 1915 году представители Московского армянского комитета предлагают Брюсову создать антологию армянской поэзии на русском языке. Приняв это предложение, Брюсов проделывает огромную подготовительную работу: в течение шести месяцев он изучает армянский язык, совершает поездку по Закавказью, углубленно занимается историей Армении.
Высокий художественный уровень переводов, богатство фактического материала в предисловии и комментариях, полнота и систематичность в подборе материала способствовали тому, что сборник «Поэзия Армении» (1916) до сих пор сохранил свое литературное и научное значение. Пропаганда армянской поэзии велась Брюсовым очень интенсивно: он выступал с публичными лекциями о поэзии Армении в Тифлисе, Баку, Эривани, Москве, Петербурге.
Подлинное значение работы Брюсова по освоению армянской литературы могло быть оценено по заслугам только в условиях советского строя, и в 1924 году правительство советской Армении награждает Брюсова званием народного поэта Армении.
Одновременно с переводами армянских поэтов Брюсов принимает участие в подготовке для печати антологий латышской и еврейской поэзии, создававшихся по инициативе и под руководством Горького.
Влияние Горького, осуществлявшееся в процессе совместной культурной работы, было одним из сильных толчков, побудивших Брюсова «в самой основе, в самом корне пересмотреть все свое мировоззрение» в «конце 10-х годов».2 Более решительный разрыв Брюсова со своим буржуазным окружением проявился в посылке летом 1917 года сонета Горькому, которого тогда травила буржуазная пресса. В своем ответе Брюсову Горький подчеркнул те особенности творчества бывшего вождя символистов, которые он считал наиболее значительными и ценными:
- 653 -
«Давно и пристально слежу я за вашей подвижнической жизнью, за вашей культурной работой, и я всегда говорю о Вас: это самый культурный писатель на Руси! Лучшей похвалы не знаю; эта — искренна».1
11
В феврале — марте 1917 года Брюсов приветствует падение самодержавия и мечтает о том, как легко и радостно будет работать писателю, освобожденному от невыносимого гнета царской цензуры (письмо к Горькому от 3 марта 1917 года). Однако подлинное освобождение от всех язв и пороков старого мира, от всех видов эксплуатации и гнета приносит лишь Великая Октябрьская революция. Она открывает новый этап деятельности Брюсова, когда широко развертывается его общественная инициатива и происходит решительный перелом в его творчестве. Переход его на позиции победившего пролетариата был подготовлен ненавистью к буржуазному строю и окончательно закреплен вступлением Брюсова в партию большевиков в 1920 году. Решительно и твердо порывает Брюсов со своим прежним литературно-бытовым окружением, многие представители которого скатились в болото эмиграции и стали злейшими врагами советской России. Его не остановили злобные сплетни и шипенье буржуазных интеллигентов, упрекавших поэта в том, что он якобы «продался большевикам», потребовавших исключения Брюсова из дирекции Московского литературно-художественного кружка, бессменным председателем которой он был в течение нескольких лет. Переход бывшего вождя символистов на позиции активного культурного деятеля революции имел большое политическое значение в исторической обстановке первых лет существования советского государства, когда партия вела борьбу против саботажа старой интеллигенции, за сотрудничество лучшей ее части с пролетариатом.
Брюсов сознавал огромное значение победы пролетарской революции для всего человечества. С первых дней советской власти он становится в ряды лучших представителей старой интеллигенции, отдавших свои силы и знания строительству социалистического общества. В автобиографическом стихотворении 1920 года («Я вырастал в глухое время») Брюсов писал:
Шли дни, ряды десятилетий.
Я наблюдал, как падал плен,
И вот предстали в рдяном свете,
Горя, Цусима и Мукден.Год пятый прошумел, далёкой
Свободе открывая даль,
И после гроз войны жестокой
Был Октябрем сменен Февраль.Мне видеть не дано, быть может,
Конец, чуть блещущий вдали,
Но счастлив я, что был мной прожит
Торжественнейший день земли.2Тема революционной современности становится одной из основных в его пооктябрьском творчестве (циклы: «В зареве пожара» — в сборнике «В такие дни», 1921; «Из прежде в теперь» — в сборнике «Миг», 1922;
- 654 -
«В наши дни» — в сборнике «Меа», 1924). Стремление передать героику событий, патетическая окраска, торжественность интонаций роднят пооктябрьскую политическую лирику Брюсова с его стихами о революции 1905 года, но идейно-политические позиции, занятые Брюсовым теперь, позволяют ему ближе подойти к пониманию сущности совершившегося переворота. Тема революции освещается Брюсовым с точки зрения закономерностей исторического процесса, как осуществление вековой мечты о свободе. Отсюда любовь к историческим параллелям: «слепительный Октябрь» воспринимается поэтом как завершение «календаря столетий». Полнее развивается в творчестве Брюсова патриотическая тема. Поэт видит, как осуществляется его давняя мечта о родине-России, к голосу которой с уважением прислушиваются все народы мира, — мечта, так резко расходившаяся с действительностью в эпоху самодержавия. В ряде стихотворений Брюсов говорит о своей кровной связи с народом, с русским прошлым, русской природой, русской культурой («Весной», «Родное», «Только русский»). Одним из центральных образов его поэзии становится величественный образ родины:
И вновь, в час мировой расплаты,
Дыша сквозь пушечные дула,
Огня твоя хлебнула грудь, —
Всех впереди, страна-вожатый,
Над мраком факел ты взметнула,
Народам озаряя путь.(«России»).1
Вначале в патриотической лирике Брюсова еще не всегда последовательно и полно освещалось значение социалистической революции. Так, в стихотворении «Парки в Москве» Октябрь рассматривался лишь как прямое продолжение «нити веков», тянущейся от времен «Ивана Калиты». Но по мере того, как развертывалась созидательная деятельность советского государства, углублялось содержание патриотической лирики Брюсова. Символом освобождения родины для него становится советская столица — Москва, ее средоточием — Кремль; поэт воспевает освобождение всех народов страны от национального гнета и розни («Советская. Москва»). Брюсов одним из первых отметил нарождающееся братство народов советского государства («ЗСФСР»). С другой стороны, в поэзии Брюсова освещается интернациональное значение революции, которая сделала Россию «вожатаем» для всего человечества; вся земля следит за «призраком Кремля» на «рассветном пылающем небе».
По-новому разрешается в поэзии Брюсова и проблема героя, как и проблема народа. Пролетарская революция дала ему возможность подняться до правильного понимания роли народных масс. На первый план выдвигается образ народного вождя, сила и величие которого — в его живой связи с массами. Поэт создает в своих стихотворениях образ великого вождя русской революции — В. И. Ленина (стихотворения «Ленин», «После смерти В. И. Ленина»).
Гневным сарказмом заклеймил Брюсов испуг и растерянность враждебных революции представителей старой культуры, былых «фантастов и эстетов», завершив тем самым свой разрыв с прежним литературно-общественным окружением (инвектива «Товарищам-интеллигентам»).
Революция помогла поэту также преодолеть реакционную теорию «чистого искусства». Однако над ним еще продолжали тяготеть традиции
- 655 -
литературного прошлого. Пользование старым творческим методом по большей части лишало революционные стихи Брюсова свежести и конкретности: обилие исторических параллелей убивало непосредственность мысли, широта диапазона превращалась в абстракцию, пафос — в риторику. Непреодоленные остатки символистского стиля выглядели анахронизмами в применении к новой, советской тематике.
Иллюстрация:
Титульный лист антологии «Поэзия Армении»,
редактированной В. Брюсовым. 1916 г.Подобные противоречия можно обнаружить и в других областях творчества Брюсова советской эпохи, и они, разумеется, не случайны. При всей решительности разрыва Брюсова со старым миром, ему приходилось преодолевать в самом себе, своем мировоззрении, связях, быту наследие этого мира. «Великие события конца 910-х годов, Европейская война и Октябрьская революция, побудили меня в самой основе, в самом корне пересмотреть все свое мировоззрение. Переворот 1917 года был глубочайшим переворотом и для меня лично: по крайней мере, я сам вижу себя совершенно иным до этой грани и после нее», — писал Брюсов в 1923 году в неопубликованном при жизни предисловии к собранию своих сочинений.1 По этому пути Брюсов шел упорно и настойчиво.
Обновление философских и научных интересов Брюсова, его стремление преодолеть пережитки идеалистического и анархического мироощущения нашли выражение в его поэзии. Огромное место занимают в ней научные темы.
Повышение интереса к материалистической философии, к успехам науки и техники объяснялось воздействием на Брюсова новой, советской эпохи, сделавшей науку достоянием всего народа, открывшей путь для воплощения научных завоеваний в жизнь. По свидетельству И. М. Брюсовой, относящемуся к 1920 году, поэт «с удвоенным вниманием следил за успехами науки, очень много читал по математике, изучал Маркса, Энгельса, Ленина».2
Брюсов создает многочисленные стихотворения о принципе относительности, теории электрона, различных общественных формациях и т. д. (сборник «Дали», 1922). Положительными сторонами научной поэзии
- 656 -
Брюсова являются широта кругозора, вера в науку и труд, приводящая поэта к глубокому философскому оптимизму. Теоретически Брюсов был совершенно прав, когда писал в предисловии к «Далям»: «Все, что интересует и волнует современного человека, имеет право на отражение в поэзии».1 Появление научной темы в его собственной поэзии было также вполне закономерно. Но, работая над ней, он постоянно срывается на ложный путь чисто механического перенесения научной терминологии и проблематики в стихи, превращавшиеся в каталог образов, имен, ассоциаций. За этими перечислениями исчезали живые человеческие чувства, составляющие первооснову всякого искусства.
Борьба поэта с пережитками прошлого нашла свое противоречивое отражение и в его интимной лирике 1917—1924 годов. Рецидивом буржуазного мировоззрения была гипертрофия эротической темы, окрашенной в тона трагической обреченности, фатализма, смертельной усталости (цикл «Над мировым костром»). Груз прошлого давит поэта, собственная душа представляется ему «домом видений», где в углу скулит «о прошлом, прежнем, давнем, старом» одинокий домовой. Наряду с этим Брюсов создает стихотворения, проникнутые идеей утверждения жизни («У смерти на примете», «Пятьдесят лет»).
Отталкиваясь от продолжавшего тяготеть над ним символистского стиля, Брюсов жадно впитывает творческий опыт нового поколения поэтов, восторженно отзываясь о стихах Маяковского, «бодрый слог и смелая речь» которых «были живительным ферментом нашей поэзии».2
Пооктябрьская проза Брюсова развивалась в основном по той линии исторического повествования больших масштабов, которая была намечена «Огненным ангелом» и «Алтарем победы». Брюсов с увлечением продолжает работу над начатым в 1913—1914 годах романом «Юпитер поверженный» — второй книгой эпопеи о закате Римской империи. Однако довести этот роман до конца автору не удалось.
Большой культурный интерес представляет и другой труд Брюсова — прозаика революционных лет, также не доведенный им до конца; цикл исторических новелл, который должен был охватить жизнь всех стран и народов, начиная с древнего Востока. О масштабах замысла говорят различные варианты заглавий: «Фильм веков», «Кинематограф столетий», «В подзорную трубу веков». По своему литературному оформлению цикл приближается к жанру научно-художественной прозы. Брюсов строго ограничивал элементы художественного вымысла, делал героями своих новелл лишь подлинных исторических лиц, строил сюжет только на основе фактов, действительно имевших место в истории. Написанные простым языком, совершенно лишенным элементов стилизации, исторические рассказы Брюсова преследовали, очевидно, научно-популяризаторские цели.
Значение подобного замысла в послеоктябрьской прозе Брюсова можно правильно истолковать, лишь вспомнив о его научно-популяризаторской и педагогической работе и о том, какое политическое значение имела научная пропаганда в массах в годы только начинавшейся борьбы за культурную революцию. Аналогичный план-конспект инсценировок на исторические темы для театра и кинематографа был разработан приблизительно в те же годы Горьким и Блоком.
- 657 -
12
Революция захватила не только Брюсова-художника. Как ученый, как «мастер культуры» он отдал всю свою огромную эрудицию, педагогические и организаторские способности делу созидания нового, советского общества. С большим чувством ответственности он выполняет возложенную на него партией организаторскую работу в Отделе научных библиотек, а затем в Литературном отделе Наркомпросса. Широко развертывается его педагогическая деятельность: с 1921 года Брюсов состоит профессором Московского университета, где читает курсы истории греческой, римской и новейшей русской литературы.
Брюсов заканчивает перевод «Фауста» Гете, напечатанный уже после его смерти, принимает участие в работе издательства «Всемирная литература», организованного и руководимого Горьким, где выходят сделанные Брюсовым переводы Эдгара По и Верхарна. Очень широкий размах принимает деятельность Брюсова-пушкиниста, также отразившая перелом в его мировоззрении: значительная часть пушкинских этюдов Брюсова и осуществленных им изданий Пушкина имеет популяризаторский характер, предназначается для массового читателя. Особенно интересует Брюсова вопрос о политических взглядах Пушкина, он выдвигает на первый план свободолюбие поэта, его ненависть к деспотизму.
Внимательно следя за развитием молодой советской поэзии, Брюсов энергично выступает как критик и публицист. В своих статьях он беспощадно разоблачает художественное вырождение последышей буржуазной поэзии и всяческие попытки бывших своих соратников-символистов сохранить старые литературные позиции, забаррикадировавшись от современности. В творческом соревновании поэтов, стремящихся как можно правдивее выразить настроения своей эпохи, Брюсов видит путь к созданию новой революционной поэзии. Интересна его оставшаяся в рукописи предсмертная работа «О литературных школах», где бывший пламенный защитник «свободного» от общественности искусства теперь рассматривает ряд проблем литературного стиля с точки зрения зависимости литературы от «определенного склада общественных отношений».1
Брюсов был инициатором создания и руководителем Высшего литературно-художественного института в Москве, в котором он стремился осуществить свою мысль о необходимости для писателя высокой профессиональной культуры, создающейся лишь путем специальной и длительной подготовки. В связи с преподаванием в институте Брюсов много занимается теоретической разработкой вопросов стиха. Несмотря на частые срывы к формализму, попытки Брюсова создать науку о стихе сыграли известную роль в деле дальнейшей разработки теоретических основ стиховедения.
Замечателен размах деятельности Брюсова-лектора и популяризатора: от античных литератур до современной русской поэзии и от стиховедения до истории математики, — таков был диапазон освещавшихся им тем. Подобную широту и активность культурных интересов он воспитывал и в своих слушателях. Своей педагогической деятельностью он прививал молодежи любовь к творческому труду. «Мой вывод тот, который применим ко всем „избранным“, т. е. людям, предназначенным к поэзии: „Работайте! Без работы не бывает Пушкиных, Гете“», — советовал он молодым писателям.2
- 658 -
Советское правительство высоко оценило разностороннюю культурную деятельность Брюсова. В 1923 году, в связи с 50-летием, он одним из первых деятелей культуры был награжден почетной грамотой Президиума ВЦИК. Литературная общественность также отметила 50-летие Брюсова. Вскоре после этого, осенью 1924 года, возвращаясь из Крыма, он простудился и 9 октября скончался в Москве.
Влияние Брюсова на развитие русской поэзии было весьма значительно. Под этим влиянием формировались так называемые «младшие» символисты и в их числе А. Блок, писавший в 1907 году: «Брюсова я считал, считаю и буду считать своим ближайшим учителем».1
С некоторыми прогрессивными сторонами творчества Брюсова связано становление поэзии Маяковского. Так, городские пейзажи Брюсова, проникнутые острым ощущением социальных противоречий капиталистического города, подготовили урбанизм Маяковского; недаром образ города-тюрьмы у Брюсова так близок к образу города-лепрозория у Маяковского.
В истории русской литературы Валерию Брюсову принадлежит видное место как художнику, который показал историческую обреченность капиталистической цивилизации и отдал свой незаурядный талант победившему революционному народу, как большому мастеру, носителю высокой профессиональной культуры, как выдающемуся критику, ученому, переводчику.
СноскиСноски к стр. 627
1 Н. К. Гудзий. Юношеское творчество Брюсова. — «Литературное наследство», кн. 27—28, стр. 198—238.
Сноски к стр. 628
1 М. Горький, Собрание сочинений, т. 23, стр. 136.
Сноски к стр. 629
1 Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: В. Я. Брюсов, Полное собрание сочинений и переводов, тт. 1—4, 12, 13, 15, 21, Изд. «Сирин», СПб., 1913—1914. Случаи цитирования по другим изданиям оговариваются особо.
2 Ранняя проза Брюсова до сих пор не опубликована. Перечисленные выше рассказы и наброски входят в состав его рабочих тетрадей 1888—1898 годов, которые хранятся в архиве Брюсова.
Сноски к стр. 630
1 Архив Брюсова, рабочая тетрадь № 20, 1895.
Сноски к стр. 631
1 Из воспоминаний рабочего поэта Авенира Ноздрина. — «Литературное наследство», кн. 15, 1934, стр. 181.
2 Архив Брюсова, черновик письма в рабочей тетради № 29, 1896.
3 В. Брюсов. Далекие и близкие. Изд. «Скорпион», М., 1912, стр. 17.
4 Архив Брюсова, тетрадь № 38, 1898.
Сноски к стр. 632
1 Десять писем Валерия Брюсова к П. П. Перцову. — «Печать и революция», 1926, № 7, стр. 41.
2 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи, стр. 47.
Сноски к стр. 635
1 Письма Максима Горького к Валерию Брюсову. — «Печать и революция», 1928, № 5, стр. 56, 57.
Сноски к стр. 636
1 А. Ильинский. Горький и Брюсов. — «Литературное наследство», кн. 27—28, 1937, стр. 642.
Сноски к стр. 637
1 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи, стр. 48.
2 Г. Чулков, Годы странствий. М., 1930, стр. 329.
Сноски к стр. 638
1 Г. Чулков. Годы странствий, стр. 336.
2 А. Ильинский. Горький и Брюсов. — «Литературное наследство», кн. 27—28, стр. 642.
Сноски к стр. 639
1 В. Брюсов. Неизданные стихотворения. Гослитиздат, М., 1935, стр. 496.
2 Опубликована в «Литературном наследстве» (кн. 27—28, 1937, стр. 245—252).
3 И. В. Сталин, Сочинения, т. 1, стр. 296.
Сноски к стр. 640
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 11, стр. 428.
2 В. Брюсов. Стихотворения, 1939, стр. 435 («Библиотека поэта», малая серия).
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 30.
4 Отрывки из этой статьи опубликованы Д. Е. Максимовым в его книге «Поэзия Валерия Брюсова» (Л., 1940, стр. 186—187).
Сноски к стр. 641
1 Свобода слова. — «Весы», 1905, № 11, стр. 61—66.
Сноски к стр. 643
1 Г. Чулков. Годы странствий, стр. 337.
Сноски к стр. 644
1 Г. Чулков. Годы странствий, стр. 336.
2 В. Брюсов. Далекие и близкие, стр. 199.
3 Основные литературно-критические статьи Брюсова собраны в книге «Далекие и близкие».
Сноски к стр. 645
1 В. Брюсов. Далекие и близкие, стр. 145; см. также: Карл V. Диалог о реализме в искусстве. — «Золотое руно», 1906, № 4.
2 С. А. Венгеров. Победители или побежденные. СПб., 1909, стр. 63.
Сноски к стр. 647
1 И. Г. Ямпольский. Валерий Брюсов и первая русская революция. — «Литературное наследство», кн. 15, 1934, стр. 211.
2 Десять писем Валерия Брюсова к П. П. Перцову. — «Печать и революция», 1926, № 7, стр. 45.
Сноски к стр. 650
1 В. Брюсов. Здравого смысла тартарары. — «Русская мысль», 1914, № 3, стр. 94.
2 «Печать и революция», 1926, № 7, стр. 46.
3 Там же, стр. 47.
4 Архив Брюсова.
Сноски к стр. 651
1 «Русские ведомости», 1915, № 46, 26 февраля.
2 В. Брюсов. Избранные стихи, Изд. «Academia», М., 1933, стр. 139.
Сноски к стр. 652
1 Впрочем, и после Февральской революции у Брюсова были рецидивы «оборонческих настроений» (брошюра «Как прекратить войну», М., 1917).
2 «Литературное наследство», кн. 21—28, 1937, стр. 472.
Сноски к стр. 653
1 Письма Максима Горького к Валерию Брюсову. — «Печать и революция», 1928, № 5, стр. 61.
2 В. Брюсов, Избранные стихотворения, М., 1945, стр. 428.
Сноски к стр. 654
1 В. Брюсов, Избранные стихотворения, 1945, стр. 313.
Сноски к стр. 655
1 «Литературное наследство», кн. 27—28, 1937, стр. 472.
2 В. Брюсов, Избранные стихи, 1933, стр. 145.
Сноски к стр. 656
1 В. Брюсов. Дали. Стихи 1922 г. ГИЗ, М., стр. 7.
2 «Печать и революция», 1922, № 7, стр. 56.
Сноски к стр. 657
1 Архив Брюсова.
2 «Комсомольская правда», 1939, № 232, 9 октября.
Сноски к стр. 658
1 Письма Александра Блока. Изд. «Колос», 1925, стр. 143.