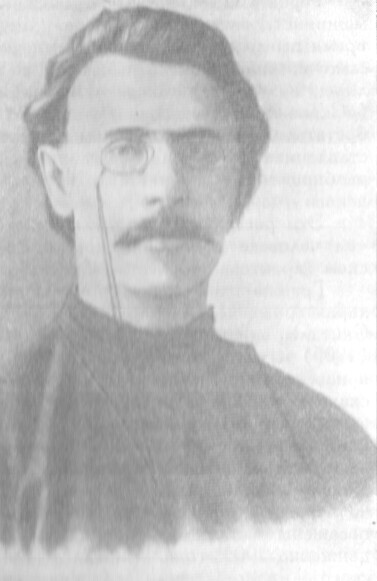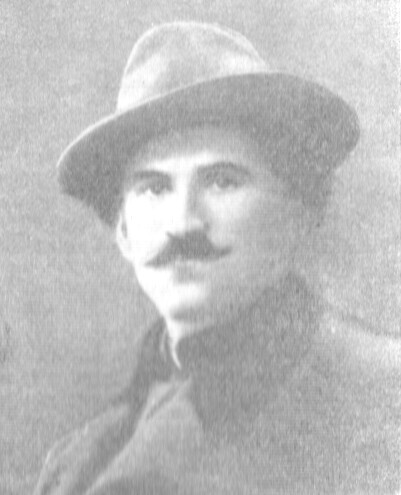- 574 -
Гусев-Оренбургский, Елеонский, Чириков,
Скиталец, Муйжель, Телешов, Сергеев-Ценский1
Сергей Иванович Гусев (Оренбургский — псевдоним писателя) родился в 1867 году в семье казака-торговца. Учился он сначала в гимназии, а затем в Уфимской духовной семинарии.
В семинарии будущий писатель знакомится с русскими классиками. Особенно сильное впечатление произвел на него Глеб Успенский. Книги Гл. Успенского для Гусева-Оренбургского «сделались как бы евангелием». «Он первый пробудил во мне желание писать. Первые шаги сознательной жизни и творчества окрасились его влиянием», — признавался Гусев-Оренбургский в своей автобиографии.1
После окончания семинарии Гусев-Оренбургский пошел в народные учителя, а затем в 1893 году стал деревенским священником и шесть лет служил в глухом мордовском селе. В 1898 году Гусев-Оренбургский снял с себя сан священника. Снять сан в ту пору было актом большого мужества. Подобного рода случаи были единичными.
Первый рассказ Гусев-Оренбургский напечатал в «Оренбургском листке», еще будучи семинаристом. «Это была, — по словам автора, — сентиментально-трогательная история слепого». Второй рассказ его в той же газете был снят цензором. Литературную работу Гусев-Оренбургский возобновил спустя несколько лет, когда был уже священником. В 1893 году он написал рассказ «Самоходка» из мордовской крестьянской жизни.
К началу 900-х годов Гусев-Оренбургский — уже писатель-профессионал.
Для раннего творчества Гусева-Оренбургского характерен жанр небольшого рассказа из быта крестьянства и сельского духовенства.
Деревню Гусев-Оренбургский изображал как шестидесятники, особенно, как Слепцов: он показал темноту, грубость, жестокость деревни как следствие политического и экономического бесправия крестьянства. Соответственным было и воспроизведение деревенского пейзажа.
Русский крестьянин в ранних рассказах Гусева-Оренбургского — вечный страдалец и скиталец, путь его «темен и мрачен». Свои думы о народе писатель обобщил в рассказе «Агасфер», в котором обрисованы страдания крестьян-переселенцев. Мытарства переселенцев описаны также в рассказе «Сквозь преграды»: на несчастьях переселенцев наживаются кулаки, купцы, чиновники, духовенство.
- 575 -
Показывая расслоение деревни, Гусев-Оренбургский рисует образ деревенского бунтаря. Таковы: бедняк-крестьянин Еремеев в рассказе «Капитан Кук», герой рассказа «Конокрад», у которого сердце ожесточилось на богачей за горькие обиды. Но особенно яркой фигурой «мирского радетеля» надо признать Чекмырева из рассказа «Последний час». «Сам бобыль и голяк, — пишет Гусев-Оренбургский, — он сделался настоящим предводителем деревенской голытьбы в борьбе с мироедами, слишком широко и откровенно разевавшими рот на общественный пирог».1
С. И. Гусев-Оренбургский.
В первых рассказах из жизни духовенства Гусев-Оренбургский рисовал образы идеальных сельских священников. Галерея этих образов открывается рассказом «Пастырь добрый» о священнике Феофилакте Средокрестове — идеалисте, поборнике правды, защитнике народа. Ради интересов народа Средокрестов забывал себя, работал и копейки не брал с прихожан. Он был всегда на стороне бедных: «...всякое горе, всякая нужда находили у него совет, утешение и заступничество» (I, 17). Средокрестов воевал за бедняков с церковным начальством, с местной властью (становым, старшиной), с кабатчиками, с кулаками; он обличал их в проповедях.
«Правду попирают, невинных губят! — говорил с амвона Средокрестов, — поедают домы вдов! Горе им, ибо гнев господень близок!» (I, 23).
Похожи на Средокрестова герои рассказов «Идеалист», «Миша», «Капитан Кук» и др. Назвать жизненно правдивым такой образ «народного заступника» в рясе, конечно, нельзя. Такие «добрые пастыри» были случайным, редким явлением. Это вскоре понял и сам автор.
С каждым новым рассказом идеализация духовенства все более уступила место критическому показу его жизни и быта. Священника Памфила («Отец Памфил») уже трудно назвать «добрым пастырем», в нем намечены черты, ставшие впоследствии у Гусева-Оренбургского господствующими в образах героев из духовенства: эгоизм, стяжательство, эксплуатация крестьян.
В критическом изображении духовенства Гусев-Оренбургский следовал традиции демократа-шестидесятника Помяловского. Эта традиция
- 576 -
явственно обнаружила себя в повестях и рассказах Гусева-Оренбургского эпохи 1905 года и дальнейших лет.
Уже на первом этапе литературной деятельности Гусева-Оренбургского в его творчестве выявляется демократическая тенденция — защита народа, крестьянства. Он сотрудничает в передовых журналах 90-х годов — «Жизнь» и «Журнал для всех», а затем становится активным участником сборников товарищества «Знание».
Влияние Горького Гусев-Оренбургский испытал еще в 90-х годах. Не без воздействия горьковских рассказов о босяках им был написан рассказ «Без приюта» о типах и быте столичного «дна».
В 1903 году «Знание» издало первый том произведений Гусева-Оренбургского, куда было включено все написанное им до 900-х годов.1 Второй том своих произведений, в который вошла лучшая из его повестей «Страна отцов», Гусев-Оренбургский посвятил Горькому.
Под влиянием Горького накануне 1905 года в творчестве Гусева-Оренбургского обозначился сдвиг в сторону революционно-демократических настроений; писатель стремится более глубоко изображать действительность. Об этом свидетельствует первая повесть писателя «В приходе», опубликованная в I сборнике товарищества «Знание» за 1903 год. В центре этого произведения стоит уже не образ «доброго пастыря», а более жизненно правдивая фигура священника Викторина Голгофского. Голгофский объективно стал пособником помещика и кулака, так как стремился примирить противоречия в деревне, советуя крестьянам смириться. Повесть овеяна предреволюционными настроениями. В деревне, отданной «на поток и разграбление капиталу и фиску»,2 появились свои «народные заступники» вроде кузнеца Зосимы, в котором автор имел явное намерение дать собирательный образ русского народа по типу некрасовского Савелия — богатыря Святорусского. Об этом свидетельствует нарочитая монументальность и аллегоричность образа Зосимы, особенно явно проступающая в конце повести. Зосима не хочет смириться, как предлагает ему о. Викторин. Он начинает сознавать, что правду нужно искать и брать силой. Напуганному о. Викторину Зосима представляется великаном, народным мстителем, со «сверкающими глазами, с молотом в руках», священнику кажется, что кузнец «шагает верстовыми шагами» (IV, 76).
В IV сборнике товарищества «Знание» Гусев-Оренбургский напечатал самое значительное свое произведение — повесть «Страна отцов», которая воспроизводит широко и разносторонне картину русской жизни за четверть века (конец XIX — начало XX века). Рисуя историю городов Старомирска и Житницы, писатель показал процесс капитализации России и рост социальных противоречий, с неизбежностью приближающих революционный взрыв. Одновременно с усилением власти новых хозяев государства — капиталистов, с ростом многоэтажных домов, складов, амбаров, заводов и фабрик возникают рабочие поселки, множатся нищета и голод, растут недовольство, протест, которые выливаются в забастовки, в мощные политические демонстрации. Деревню раздирают на части — «завоевывают» новые «аргонавты», которые из кулаков становятся капиталистами: Шаповалов, Стриженков, Широкозадов. Но и в деревне растет новая демократия. Представителем новой, поднимающейся на своих притеснителей деревни
- 577 -
является в повести молодой крестьянин Назар; через него деревня связывается с революционными организациями города.
Если в крестьянине Зосиме, в его протесте еще много стихийного бунтарства, анархизма, индивидуализма, сближающих его с Чекмыревым и другими бунтарями-одиночками, героями ранних рассказов Гусева-Оренбургского, то в Назаре намечается тип политически сознательного крестьянина, крестьянина-революционера.
Идейное влияние Горького на эту повесть в свое время было отмечено критикой. Так, критики «Слова» (1905, № 96) и «Русских ведомостей» (1905, № 80) ставили «Страну отцов» в связь с рассказами Горького «Человек» и «Тюрьма». Безусловно, в революционном пафосе повести многое от Горького; в речи студента Синайского можно усматривать даже прямые реминисценции из «Человека». В художественном отношении повесть «В стране отцов», выдержанная в основном в эпическом тоне, — явление значительное в реалистической литературе тех лет. Но повесть не лишена и некоторых недостатков.
Революционеры-интеллигенты обрисованы Гусевым-Оренбургским очень бледно. Это не живые, одетые в плоть и кровь образы, а только схемы, носители определенных идей и тенденций.
Бледно и схематично показаны также рабочие.
В повести много авторских отступлений, порой чрезмерно растянутых, риторичных. В ней проявилось пристрастие писателя к гиперболам и длинным без нужды разговорам героев.
В ряде произведений этих лет Гусев-Оренбургский, развивая и углубляя обличительную тенденцию С. Елеонского, рисует образ священника — слуги самодержавия, союзника кулака и купца, врага прогресса, революции. Он выводит новый тип священника-бюрократа, полицейского в рясе. Такими в «Стране отцов» являются о. Рудометов и о. Матвей — надежные ломощники начальства и купцов. Рудометов, крупный пайщик акционерного предприятия, беззастенчиво называет себя и себе подобных «полицейскими бога вышнего» (III, 133). Воинствующий реакционер о. Матвей требует отдать под церковный надзор гимназии и университеты; он пропагандирует знаменитую триаду «православие, самодержавие и народность» как основу всей русской жизни.
В «Стране отцов» Гусев-Оренбургский начал изображать распад духовенства как результат революционных веяний. Среди духовенства появляются свои «блудные дети» — вольнодумцы, протестанты, новоявленные еретики; это — наиболее честные и сильные, талантливые люди. Таков в повести о. Иван Гонибесов, вступивший в борьбу с миром своих отцов, с деревенскими кулаками, с купцами. О. Иван не выдерживает страшной картины разорения деревни кулаком Широкозадовым, которого поддерживает духовенство. Он снимает с себя сан священника.
Образ Гонибесова автобиографичен. Автобиографические элементы есть и в образе о. Геннадия из рассказа «Девушка в белом». Он тоже поднял бунт против духовенства, церкви и религии, подвергая их страстному обличению в своих «еретических» речах.
Однако выступления героев Гусева-Оренбургского, равно как и самого писателя, против церкви не являются отрицанием религии вообще; это преимущественно борьба с официальной церковью и религией. Герои Гусева-Оренбургского приходят к приятию обновленного христианства, сочетающегося у них с передовой общественной и даже революционной работой. Этот своеобразный христианский социализм именуется у Гусева-Оренбургского «народной» религией. Таким образом, религиозный бунт
- 578 -
Гусева-Оренбургского имел очень ограниченный идейный характер и вносил путаницу в сознание читателей.
Но тем не менее Гусев-Оренбургский ярко и убедительно показал, что церковь — орудие самодержавия, содействующее укреплению «твердого порядка», показал враждебную политику церкви в отношении революции, предательскую роль в отношении народной демократии. Писатель подвергался за это гонениям со стороны гражданской и духовной цензуры. В частности, за повесть «Призраки» он был привлечен к суду, его обвиняли в оскорблении православной церкви и христианской религии.
Гусев-Оренбургский был одним из немногих знаньевцев, который не изменил «Знанию» после поражения революции и продолжал печататься в сборниках издательства до прекращения выпуска их. Однако в манере письма Гусева-Оренбургского в годы реакции (1908—1910) стали более заметны следы влияния литературной «моды», так называемого модернизма, что особенно сказалось на «Сказках земли» и повести «Грани». В этих произведених «романтический» элемент занял весьма значительное место, причем он стал принимать абстрактный характер: появились «экстазы миров», «огненные крылья гроз», «с воплем счастья» сливались в поцелуе «два угасших мира», а «тусклые солнца» объединялись «в порыве страсти, как два усталые сердца». Героине повести «Грани» Анне чудится, что преследователь ее превратился в чудовище и зверя: «казалось — кто-то лохматый скачет, кувыркается через хаты в угрюмо-бешеном веселье» (V, 228). Этот апокалиптический образ должен был символизировать реакцию. Романтизированные космические образы можно было встретить и в повести «Страна отцов». Возьмем ее конец: «А за окном все разгоралась гроза... властно рокотал гром и вспыхивали молнии, точно освещая неведомые пути в безграничные, влекущие дали» (III, 287). На фоне этого бушующего космоса Голиафом высилась фигура Ивана Гонибесова. В «Сказках земли» и в «Гранях» эта романтическая патетика становится основой стиля. Однако тематика Гусева-Оренбургского оставалась неизменной: провинция, духовенство, крестьяне; среди последних писатель попрежнему выделяет передовых, сознательных людей («Рыцарь Ланчелот»).
В повести «В глухом уезде» (1912), в рассказах начала 910-х годов (например «Портрет») обозначился явный поворот к временно утраченному Гусевым-Оренбургским реалистическому письму. Но революционные мотивы и образы постепенно теряют свою силу и организующую роль в произведениях писателя.
Повести «В приходе», «Страна отцов», «Рыцарь Ланчелот», «В глухом уезде», т. е. все, что было напечатано в «Знании», составило самое художественное, самое демократическое в творчестве этого талантливого писателя. В 1913—1916 годах издательство «Жизнь и знание» выпустило 14-томное «Собрание сочинений» Гусева-Оренбургского.
В период Великой Октябрьской социалистической революции, в годы гражданской войны раскрывается со всей очевидностью мелкобуржуазная природа позиции Гусева-Оренбургского, со всей ее неустойчивостью, приведшей писателя в лагерь эмигрантов.
2
С. Елеонский — псевдоним талантливого писателя-демократа Сергея Николаевича Миловского (1861—1911). Елеонского можно назвать и предшественником и современником Гусева-Оренбургского по разработке
- 579 -
общей для них темы сельского духовенства и духовной школы. Оба они — выходцы из духовной среды, быт, жизнь которой знали великолепно.
С. Н. Елеонский.
Елеонский родился в семье священника Пензенской губернии. Сначала он учился в духовном училище и семинарии, а затем в духовной академии, по окончании которой в 1885 году до самой смерти работал в духовной школе. Елеонский был учителем русского языка в Лысковском духовном училище Нижегородской губернии, а затем помощником смотрителя и смотрителем духовных училищ: Арзамасского, Починковского Нижегородской губернии, Сарапульского Казанской губернии, в 1894—1895 годах он был инспектором Вятской духовной семинарии.
На своем посту учителя и начальника духовной школы Елеонский не был охранителем «устоев», наоборот, в течение двадцатипятилетней своей работы он вел упорную неравную борьбу с глухой провинциальной мещанской средой, с духовным начальством. За свои взгляды и литературную деятельность Елеонский подвергался постоянным преследованиям со стороны духовных властей. Из цензурных соображений он переменил в конце 900-х годов свой псевдоним Елеонский на новый — Н. Шиханов. Вечные преследования и гонения начальства довели Елеонского до нервной болезни и трагического конца — самоубийства.
Литературную деятельность Елеонский начал в конце 80-х годов. Сначала он печатался в «Русском богатстве», потом в «Жизни», «Образовании» и других журналах. В 1904 году «Знание» издало первый том сочинений Елеонского.1
Горький ценил Елеонского как писателя и питал к нему симпатию как к человеку. Знакомство с Елеонским состоялось еще в период «казанских университетов» Горького в казанских революционных кружках.
Елеонский прекрасно знал быт и нравы духовенства и духовных учебных заведений среднего Приуралья, Вятской, Пермской, Казанской, а также Нижегородской губерний. Эту среду он и описывал в своих рассказах. Елеонский создал галерею типов духовенства: благочинных, священников, дьяконов и дьячков, а также бурсаков, семинаристов, учителей духовных училищ и начальных школ.
- 580 -
В своей теме и в художественном методе Елеонский продолжал тенденцию шестидесятников — Помяловского, Н. Успенского, Левитова. В отличие от своих современников — Потапенко и раннего Гусева-Оренбургского, — Елеонский не пытался изображать идеального священника типа героев повести Потапенко «На действительной службе» и рассказа «Пастырь добрый» Гусева-Оренбургского, так как не находил их в жизни. Единственный в этом роде герой — о. Василиск Адамантов из рассказа «Под опекой» — лишь доказывает всю иллюзорность, несостоятельность идеалистов-романтиков в рясе. Образ Адамантова по существу своему полемичен по отношению к таким «пастырям добрым», как герой повести Потапенко о. Яков. О. Василиск в начале своей деятельности очень напоминает этого героя-«идеалиста», он тоже решил стать в своем приходе добрым гением: завел школу, волшебный фонарь, вечера собеседования, воскресные чтения, общество трезвости, чайную, читальню. Но «все „батюшкины затеи“ являлись жалким украшением нищей жизни, как мальва на заброшенной могиле. Масса попрежнему оставалась грубой, невежественной и вдобавок раздраженной, взбудораженной..., преступления увеличивались, голодовки сделались хроническими, болезни росли» (II, 1911, 238). Адамантов бежит в город, но и там его культуртрегерство терпит крах. После безуспешных попыток просветительской деятельности «идеалист» Елеонского находит свой конец в пьянстве. «Идеалист» Потапенко, да и «пастырь добрый» Гусева-Оренбургского преуспевают в своих подвигах. О. Якову у Потапенко судьба посылает влиятельных друзей-покровителей, о. Феофилакт Гусева-Оренбургского моральную поддержку находит в народе, который любит и ценит своего пастыря и тем самым помогает ему в борьбе с богатеями и властями. Но жизненная правда на стороне Елеонского. Рассказом «Под опекой» он развенчал никчемную филантропию «добрых пастырей», которая при социальной и политической кабале крестьянства была для него все равно, что «галстух на шее нищего», как сказал один из героев Горького.
Герои Елеонского на свое поприще идут не в силу каких-то высоких целей, благородных побуждений, а ради корысти; они равнодушны и к службе, и к народу, который для них интересен лишь как источник доходов. Герои Елеонского на своем посту поглощены одной заботой — изысканием способов выколачивания из своих прихожан «копейки»; они не стесняются в выборе способов и средств к этому: о. Григорий Зубарев («Грубиян») заставлял свою тещу-старуху ходить по огородам и выпрашивать у баб кочан капусты, редьку, морковку.
Как правило, молодой священник Елеонского быстро опускается, теряет добытый в школе скудный духовный багаж и становится обывателем, приобретателем, скопидомом, часто по изощренности в добывании наживы приближающимся к типу Иудушки Головлева. Таков, например, о. Никандр Тропин («Папаша-крестный»), который скупостью перещеголял даже «сквалыгу» о. Григория Зубарева.
Из поколения в поколение, от отцов к детям переходит прочно установившийся кодекс «законов» жизни духовенства, своего рода сословный домострой. Весь этот не очень богатый и мудрый устав иерейского бытия особенно выпукло представлен в назидательных уроках, которые преподает своему зятю о. Аполлону его тесть о. Роман в рассказе «Неизреченный свет»: за требы брать неукоснительно, не взирая на бедность крестьянина; отличать, в оказании предпочтения, богатого от бедного («смешон... тот священник, — говорит о. Роман, — который бы вздумал, положим, из какой-нибудь идеи, ставить всех на одну доску — и миллионера, его степенство
- 581 -
Кубышкина, и мосольника, чеботаря какого-нибудь» (I, 1903, 21); держать себя с прихожанами «солидно, серьезно, даже хмуро» и т. п.
Низким моральным качествам соответствует и умственный уровень героев Елеонского. Вот как характеризуется с этой стороны в рассказе «Огорчение» о. Лаврентий Сацердотов: «Читать газету он находил лучше с конца, со „Смеси“, отдела самого подходящего и более других приноровленного, по его словам, для „сварения желудка“», к передовицам относился он с большим осуждением, на сельскую интеллигенцию смотрел, как на «предвестие антихриста» (I, 1903, 315, 316).
Елеонского иногда обвиняли в том, что у него сюжетом рассказов о духовенстве зачастую служили мелкие бытовые и даже анекдотические случаи: ссора благочинных из-за галош («Неизреченный свет»), переполох в духовной среде из-за корреспонденции в газете о неприглядной картине обучения в церковно-приходских школах («Огорчение»), наем священником работника на условии, что тот не будет курить («Зарок»). Но такова была «духовная» жизнь сельского духовенства, и Елеонский с точки зрения законов художественной правды был более прав, чем Гусев-Оренбургский, отказавшись от изображения священников-бунтарей, вольнодумцев и таких же вольнодумных, героически настроенных матушек. Подобные лица не были характерным явлением; более или менее заметными такие «блудные дети» духовенства стали в эпоху 1905 года.
Трезвая правда о жизни духовного сословия в рассказах Елеонского была несомненно в интересах демократии, так как духовенство служило оплотом борьбы против передовых и революционных идей. Самодержавие насаждало церковно-приходские школы, усиливало миссионерскую деятельность, всемерно старалось другими казенными мерами поднять авторитет духовенства как хранителя «устоев» и «народности».
В добросовестности, правдивости изображения быта сельского духовенства Елеонскому надо отдать преимущество перед другими бытописателями этой среды.
С глубокой симпатией, сердечностью, задушевностью, но без всякой сентиментальности, без снисходительной жалости к «меньшему брату» писал Елеонский о людях из народа, об интеллигентах-демократах.
Елеонский писал эпически просто, но ярко и живо, пронизывая свои рассказы тонкой иронией, напоминающей иронию Глеба Успенского.
3
Детство Евгения Николаевича Чирикова (1864—1932) прошло в селах и захолустных городках Казанской и Симбирской губерний, где его отец служил по акцизу, становым, помощником исправника. По окончании Казанской гимназии Чириков поступил в Казанский университет на юридический факультет, но через год перешел на математический, по разряду естественных наук. В 1887 году он был исключен с четвертого курса университета за участие в беспорядках и выслан в Нижний Новгород.
В 1887—1902 годах, вынужденный жить в Царицыне, Астрахани, Казани, Самаре, Минске и т. д., он перепробовал массу профессий: смотрителя керосиновой станции, чиновника особых поручений, счетовода и контролера на железной дороге, ревизора в пароходном обществе и т. п. Но одновременно с этим Чириков все время занимается литературной работой, сотрудничает в провинциальной прессе: в «Астраханском вестнике» и «Астраханском листке», в казанском «Волжском вестнике», в «Самарском вестнике».
- 582 -
Чириков выступил впервые в печати со стихами, в 1887 году. Серьезная литературная деятельность Чирикова начинается с 90-х годов, когда он становится сотрудником больших журналов: в 1893 году в «Мире божием» печатается его рассказ «Ранние всходы», а в «Русском богатстве» — «Бродячий мальчик» и «Gaudeamus igitur». За простоту, безыскусственность и добродушный юмор впоследствии критика оценила рассказ «Ранние всходы» как значительное явление.
Политические взгляды молодого Чирикова слагались преимущественно под влиянием народничества (Лавров, Михайловский). «Письма» Миртова (Лаврова) для студента Чирикова были евангелием.
Разрыв Чирикова с народническими идеями наметился около середины 90-х годов, когда он сближается в Самаре с легальными марксистами, группировавшимися около газеты «Самарский вестник». Повесть «Инвалиды» (1897), содержавшая критику народников, послужила причиной ухода Чирикова из «Русского богатства». Чириков становится сотрудником журнала «Жизнь», в котором наряду с рассказами и повестями печатает свои фельетоны под заглавием «Провинциальные картинки».
Фельетоны Чирикова в свое время были популярны и принесли известность их автору. Газетная работа писателя, его фельетоны имели решающее значение для всего дальнейшего его творчества. В фельетонах определились основные черты творческого метода Чирикова: умение выхватывать яркие факты из злободневной текущей жизни и описывать их без достаточного углубления в сущность явления, заменяя сентенциями художественные обобщения. Фельетонистом, если говорить о принципах творческого метода, оставался Чириков и в своей беллетристике.
Чириков начал почти одновременно с Чеховым разрабатывать темы из жизни российской провинции, и его вполне обоснованно называли «знатоком нашей провинции». Он действительно щедро изобразил ее, заглянув во все уголки и описав быт помещиков, купцов, мещан, офицеров, чиновников, учителей, врачей, студентов, гимназистов. Чириков выступил с критикой и обличением пошлости уездного обывателя, серого, убогого мещанского бытия. Захолустный уездный городок кочует у него из рассказа в рассказ. Писатель старался придать ему обобщающий характер. За городком упрочивается название Сердянск. В этом городке процветает «торжествующая пошлость, подлость и скука» («Фауст»). Люди скучают, сплетничают, играют в карты, плодятся, умирают. Тема однообразного, скучного, чисто мещанского существования составляет содержание большинства рассказов и драм Чирикова 80—90-х годов. В итоге получалась весьма безотрадная картина. И нет, кажется, сил, которые бы всколыхнули стоячее болото. В одном из ранних рассказов «Студенты приехали» учащаяся молодежь пытается расшевелить обывателей, пробудить от мертвой спячки, но безрезультатно. В комедии «Марья Ивановна» заезжий актер думает взбудоражить городок искусством, но в итоге получается та же уездная пошлость, инициаторы «живой жизни» выглядят теми же обывателями, не поднимающимися над местным уездным людом.
Обычным героем большинства ранних рассказов Чирикова был уездный обыватель, а сюжетом — эпизод из убогой и нудной жизни, часто граничившей с анекдотом. Так, пьянице-чиновнику пришла идея — лететь на воздушном шаре, в результате чего получился маленький скандал («Царь природы»). Другой убогий чиновник решил держать экзамен на чин, но на экзамене все перепутал, с горя напился, нагрубил начальству, а утром пошел извиняться («Калигула»). Обитатели Сердянска, бывшие
- 583 -
универсанты, и другие, никогда не видавшие университета, отметили университетскую годовщину безобразной попойкой («Gaudeamus igitur»).
Эти и другие многочисленные картины в рассказах Чирикова выглядели набросками, фельетонами, снимками с натуры. Они были лишены проблемности, обобщающего идейного принципа.
Н. К. Михайловский, отмечая у Чирикова наблюдательность, местами неподдельный юмор, местами тонкую, художественную передачу красок природы, в то же время справедливо указывал, что трудно объединить его очерки и рассказы в одно целое, так как в них отсутствует связующее начало.
Иногда чириковские герои протестуют, но их протест принимает карикатурную форму. Так, чиновник Платон Ильич в пьесе «На дворе во флигеле» свой «протест» выражает в чихании в канцелярии и эту свою вольность отстаивает перед управляющим таким доводом: чихание самим богом установлено.
Протестующими личностями против скуки, обыденщины в семейном быту в рассказах Чирикова чаще всего оказывались женщины («Фауст», «Муж», «Испортилась» и др.), но их «протест» лишь сильнее подчеркивал мертвенность жизни провинции, ее растлевающее влияние, которое в конце концов обезоруживает «протестанток» и даже приводит их к примирению с мещанским бытом.
Для произведений Чирикова 80—90-х годов характерен тип не-героя; это вполне соответствовало реальному положению вещей в изображаемой писателем среде, но вместе с тем говорило и об идейной ограниченности позиции самого Чирикова, о недостаточной широте его политического кругозора. Типичен рассказ «Капитуляция» (1890), в котором обстоятельно повествуется о том, как Степан Михайлович постепенно и в сущности легко расстается с былыми свободолюбивыми идеями и становится образцовым чиновником, получающим и дворянство, и орден «в воздаяние отлично усердной службы и особых трудов».
Чириковская «энциклопедия» уездного быта не дополняла Чехова, она оставалась на уровне рассказов Лейкина. Чирикову нехватало чеховской силы обобщения, тонкости анализа, остроты зрения, умения за частным, обыкновенным увидеть большое и страшное.
Возьмем, например, рассказ Чирикова «В лощине меж гор» (1897). Перед нами типичный чеховский мир: уездный город с его властями, чиновниками, интеллигенцией. Центральной фигурой рассказа является идеалист-«протестант» врач Окунев, пытающийся в своей медицинской деятельности оставаться честным человеком, демократом. Окунев — разновидность чеховского доктора Старцева («Ионыч»). Но Чириков изобразил в сущности уездного Дон-Кихота. Борьба Окунева с уездными властями безуспешна, да и бесполезна. Окунев был уволен, и едва ли в другой раз он рискнет выступить в роли борца. Если Чехов в «Ионыче» показал в завершенном виде процесс превращения идеалиста-романтика в обывателя, создал типический образ, свидетельствующий о тупике, конце романтического периода народнической интеллигенции, то у Чирикова все описанное в рассказе выглядит частным случаем, а поскольку нет обобщения, нет и принципиальной критики. Изображенная Чириковым картина жизни не могла как должно вооружать читателя на борьбу.
Один из критиков очень верно заметил по поводу первых пьес Чирикова, что изображенные в них картины жизни «оставляют тяжелое впечатление, потому что являются точным снимком действительности».1
- 584 -
Чириков часто выступал с открытым обличением. Публицистичность — характерная черта его творчества, и тем не менее он не вскрывал сущности явлений и в своей риторичности часто обнаруживал эмпирический характер своего метода.
Очень меткую характеристику Чирикову дал в свое время Ю. Александрович: «Сегодня он — здесь, а завтра — там, пять минут назад в провинции, пять минут спустя на крестьянском съезде, и везде он один и тот же, улыбающийся и заносящий в записную книжку ваши приметы, манеры, промахи. Что-то в роде маленького Боборыкина, — вечно трудолюбивое, кропотливое, мелочное. И все это не идет дальше внешности, не углубляется в психологические переживания, скользит по верху, порхает и, как теперь принято говорить, „чирикает“. Вы не видите ни нервов писателя, ни его миросозерцания, ни его „я“».1
Наиболее значительными произведениями Чирикова конца 90-х годов были пьеса «Иван Мироныч», рассказ «Блудный сын» и повести «Инвалиды» и «Чужестранцы».
В пьесе «Иван Мироныч» Чириков художественно показал, как протест женщины против мещанской рутины, пошлости в семейной жизни выливается в настоящую драму, завершающуюся самоубийством героини. Бунт Веры Павловны, жены инспектора прогимназии Ивана Мироныча Боголюбова — не прихоть, не минутная вспышка, сменяющаяся затем примирением со своим бытом, а протест против «устоев», обезличивающих человека, протест во имя иной, живой, содержательной, умной жизни. Во враге Веры Павловны — в ее муже — Чириков нарисовал не просто обывателя, а черствого, жестокого собственника в семейном быту, страшного своим животным эгоизмом хранителя «устоев». В этом образе нельзя не видеть обобщающей силы, позволяющей в принципиальном плане сближать инспектора Боголюбова с чеховским Беликовым.
В повестях «Инвалиды» и «Чужестранцы», перекликающихся с повестями Вересаева, Чириков пытался отобразить общественный кризис, крах иллюзий народнической интеллигенции. Он показывает «инвалидность», несостоятельность, растерянность народнической интеллигенции перед фактом капитализации России. В популярной в 90-е годы повести «Инвалиды» Чириков сталкивает тип старых народников с новым типом марксиста. Народническая критика резко нападала на писателя за эту повесть.
На тематике произведений Чирикова сказалось его сближение с марксистскими кружками. Но Чириков был близок к кругам легального марксизма и далек от подлинно революционного марксизма. В его произведениях 90-х годов много места уделено описанию машины, тогда как основной вопрос о рабочем классе, о противоречиях пролетариата и буржуазии остался вне поля зрения Чирикова.
Именно в проблемных повестях «Инвалиды» и «Чужестранцы» наиболее отчетливо сказалась внешняя публицистичность, рационалистичность метода Чирикова. В повестях много места отведено идейным спорам и доказательствам превосходства марксизма над народничеством. Писатель выступает с меркой, схемой, согласно которой сортирует своих героев, в результате они выглядят односторонними, надуманными. В таких случаях Чириков не столько художник, сколько популяризатор и иллюстратор. Эта нарочитость чувствуется также и в системе художественных средств.
Чириков широко пользовался сопоставлением — антитезой, но лишь для того, чтобы довести жизненные несоответствия до публицистической
- 585 -
осязательности, чтобы тем самым проиллюстрировать нужные автору этические и политические выводы. Например: в санях сидит закутанный в шубу Коля — гимназист, а на облучке сидит Колька, в рваном зипуне и в отцовской шапке; или другая антитеза: жена начинает говорить об искусстве, а муж в ответ на это предлагает ей пришить к его брюкам пуговицу.
Чирикову не удавался юмор, неподдельный комизм, ибо писатель во всех этих случаях оставался в области внешне комических положений. Юноша залез на забор, чтобы достать сирень для любимой девушки, поранил руку. Вместе с букетом он подает ей и платок, обагренный кровью, но юноша разорвал штаны, и девушка со смехом покидает его («Сирень»). Старый идеалист-народник много лет трудится над проектом устройства трудовых поселков, куда, по его мнению, надо выселять кулаков как для охраны целомудрия деревни, так и для нравственного исправления их самих («Инвалиды»), и т. д.
В эпоху 1905 года в творческом методе писателя появились новые черты — попытки социально-психологического раскрытия темы.
Это новое мы видим в рассказах на старую тему «отцов и детей» («На поруках» и др.). В них Чириков начал изображать с большей глубиной картину тех же семейных противоречий между «отцами» и «детьми», которую он неоднократно затрагивал и раньше, но теперь эти противоречия были взяты в более сложном виде и обусловлены уже не бытовыми и психологическими, а идеологическими, социально-политическими мотивами. Эту тему Чириков затронул еще в рассказе конца 90-х годов «Блудный сын», который впоследствии переделал в пьесу «Белая ворона».
Рассказ «Блудный сын» повествует о том, как усталый, обманутый жизнью интеллигент Григорий, вернувшись в отчий дом, мечтает о покое, примиряется с отцом. Но проходит некоторое время, и Григорий снова начинает свои скитания, ибо в нем сильно высокое сознание человеческого достоинства, он не может примириться с косным мироощущением «отцов». Рассказ «На поруках» (напечатан во II сборнике товарищества «Знание») кончается трагически — самоубийством студента Николая, высланного в родной город на два года за участие в студенческих беспорядках. До самоубийства Николая доводят косность, мертвенность, а, по сути дела, враждебность окружающей жизни. Путем тонкого и глубокого анализа моральных мук юноши Чириков приводит читателя к выводу, что в гибели Николая повинен общественный строй России.
В годы первой революции Чириков написал несколько злободневных социально-политических пьес. Критика отмечала философичность, афористичность языка их героев. Наиболее острыми были «Мужики» и «Евреи».
В пьесе «Мужики» Чириков поставил перед собой задачу дать социальную психологию крестьянина эпохи 1905 года. В его пьесе изображен гуманный барин-народник, в свое время пострадавший за свои убеждения. Перед нами вариант толстовского Нехлюдова. Он хочет отдать землю в долгосрочную аренду, а на эти деньги выстроить для народа баню и школу. Мужики относятся с недоверием к этой затее доброго барина и, захваченные общей волной движения, убивают его. Дядя погибшего смотрит трезвее на дело. В его глазах затеи племянника — пустячок, барская филантропия, которой экономического положения народа не исправишь. Надо отдать землю крестьянам, и тогда не будет грабежей и разгромов, но он — помещик и не в состоянии этого сделать, классовая психология в нем сильнее всех разумных мыслей. Крестьяне громят имение
- 586 -
этого помещика. «Жить стало невозможно народу», — так объясняют мужики свое восстание. Чириков показывает расслоение деревни, внутреннюю гражданскую войну в ней.
Но и эти пьесы с революционной тематикой, как по своей конструкции, так и в обрисовке действующих лиц, были схематичны. Чириков не понимал и не хотел понять существа революции, основной силы в ней — рабочего класса — он не видел. Поэтому когда писатель хотел изобразить революцию, он прибегал к условному языку — к аллегоризму, символике. Драматическая фантазия 1906 года «Легенда старого замка» насквозь символична, начиная от «Красной смерти», олицетворяющей социальную революцию, и кончая фигурами принца и его свиты. «Легенда старого замка» свидетельствовала об отходе писателя от знаньевского направления, что сразу заметил и осудил В. Воровский.
Чириков одним из первых покинул «Знание».1 Он пришел в горьковское издательство идейно вполне сложившимся, со своей политической программой, которая была программой буржуазного либерала, в конечном итоге, кадетской. Если в годы революции, в дни общедемократического подъема Чириков еще мог как-то уживаться с платформой «Знания», то с наступлением реакции ему было уже не по пути с Горьким, политическая линия которого не менялась.
Отход Чирикова от «Знания» одновременно был отходом от актуальных общественных тем. Писатель снова вернулся к изображению эпизодов провинциального быта, с его пошлостью и глупостью, с нищетой души, убогостью ума. Сочувствие Чирикова попрежнему было на стороне обиженных жизнью «маленьких» людей провинции.
В рассказах Чирикова снова встречаемся с «чеховской» темой, столь типичной для него в 90-х годах. Так, в рассказе «Учитель» (1908) изображен одинокий несчастный человек, учитель греческого языка Иннокентий Васильевич, умирающий от чахотки. «Обличительство» Чирикова стало выражаться в аллегорически-абстрактной форме, как, например, в рассказе «Чортова жалость» (1912), где говорится о мужике Спирьке, ставшем купцом через союз с чортом. Чириков писал о людях революции, но столь осторожно и поверхностно, что эта тема принимала в его произведениях иногда почти анекдотический характер. В рассказе «Человек с прошлым» (1912) показан святочный вечер-маскарад в городе Пронске, закончившийся скандалом. Земский агроном Степанов замаскировался под мужичка из «Плодов просвещения» Л. Толстого, чем вызвал неудовольствие исправника и подозрение жандармского ротмистра, который арестовал агронома. Агроном Степанов, видимо, принадлежал к эсерам, организовывал в 1905 году восстания в деревне, но потом он совсем отошел от революционных дел и превратился в обывателя.
С конца 900-х годов Чириков начал все более и более углубляться в столь не характерную для него в прошлом область — в изображение сферы интимных чувств своих героев. Он пишет романы «Юность» и «Изгнание». Они носят характер мемуаров, основное содержание их — история любви героев. Теме любви посвящает Чириков и ряд своих новых рассказов («Цветы воспоминаний» и др.).
Объективистский метод письма, рассудочность, рационалистичность сменяются в этих произведениях сентиментальной манерой со всеми ее
- 587 -
стилевыми чертами: лирическими красками, восклицаниями «ах!» и т. п. То же характерно и для драмы. «Легенду старого замка» сменяют такие романтические драмы-сказки, как «Колдунья» и «Лесные тайны», в которых Чириков отходит от постановки социальных и политических вопросов.
Чириков пытается уйти в мир фантастики, начинает идеализировать примитивную жизнь, слитую с первобытной природой. Этой жизни-сказке Чириков противопоставляет город, индустриальную культуру как злую, разрушительную силу.
В последующие годы, не создав ничего сколько-нибудь значительного, он постепенно превратился в самого заурядного беллетриста.
После Октября Чириков ушел в стан белой эмиграции. Эмигрантский период у Чирикова, как и у других порвавших с родиной писателей, отличался ярко выраженным упадком творчества.
4
Скиталец (Степан Гаврилович Петров, 1868—1941) родился в деревне Обшаровке Самарской губернии, в семье крестьянина-мастерового, талантливого самоучки. Образ своего отца Скиталец вывел в повести «Сквозь строй». Отец Скитальца был певцом, музыкантом, поэтом, замечательным рассказчиком; артистом он был и в своих технических изобретениях.
Многое к Скитальцу перешло от его незаурядного отца, в частности, дар песенника-гусляра. Скиталец, по его признанию, прошел «сквозь строй» тяжелого гнета и лишений. Шестнадцати лет он с трудом поступил в учительскую семинарию, но через два года был исключен из последнего класса за «политическую неблагонадежность», за революционную пропаганду среди крестьян. Подобно Горькому, Скиталец много странствовал, отсюда и его псевдоним. Он перепробовал много профессий — был писцом, хористом, архиерейским певчим, бродячим актером и т. п. В 1893—1897 годах Скиталец странствовал по югу России (Украина, Крым, Бессарабия, Западный край). Впечатления от этой долгой бродячей жизни нашли свое отражение в повести «Этапы» (1908). В 90-х годах Скиталец начал писать корреспонденции в провинциальные газеты. С 1897 по 1900 год он живет в Самаре, сотрудничает в «Самарской газете». В 1898 году в газете стали печататься стихотворные фельетоны Скитальца. На них обратил внимание Горький. В этом же году состоялось знакомство писателей, сохранивших близкие отношения вплоть до отъезда Горького в 1906 году за границу.
Горький воспитывал Скитальца и политически и литературно. При его непосредственном воздействии и помощи малоизвестный фельетонист «Самарской газеты» быстро вошел в литературу. Под прямым и настойчивым руководством Горького Скиталец написал свое первое значительное произведение — повесть «Октава»; Горький содействовал также напечатанию в «Журнале для всех» стихотворений Скитальца.1
Псевдониму С. Г. Петрова — Скиталец — Горький придавал большое значение, да и возник он, вероятно, не без его участия. В одном из писем В. Миролюбову Горький писал: «Псевдоним — ни в каком случае изменять нельзя, об этом усиленно прошу. Это очень важно для меня,
- 588 -
Петрову — безразлично, для всех — тоже безразлично. Пускай, кто хочет смеется, потом я попытаюсь заставить задуматься над такой штукой как Скиталец, — не Петров, а вообще скиталец».1
Дружба с Горьким революционизировала Скитальца и послужила поводом к зачислению его в категорию людей «противоправительственного направления». В представлении департамента полиции он не отделим от Горького и его революционной деятельности.2 Как известно, обыску, аресту и заключению в нижегородскую тюрьму вместе с Горьким был подвергнут и Скиталец. Горький вскоре после этого писал В. А. Поссе: «Три месяца тюрьмы подействовали на Скитальца очень благотворно: он стал сразу серьезнее, глубже и тоньше».3
Выходец из народа, Скиталец импонировал Горькому демократичностью своих воззрений, смелым критическим отношением к старому миру, гражданским пафосом, боевым тоном своего поэтического голоса, что и позволяло Горькому быть на первых порах снисходительным к невысокому уровню поэтического мастерства своего ученика. Так, Горький писал Телешову 22 декабря 1900 года: «...обращаю внимание на стихи Скитальца в декабрьской книге „Жизни“. Стих — груб, но настроение — ценное». О том же говорил он и Поссе.
Горький был литературным редактором Скитальца. По свидетельству Дм. Семеновского, Горький в одной из бесед с ним заметил о стихах Скитальца: «В них много моих строчек».4 Это подтверждал и сам Скиталец. «А вот это рука Алексея Максимовича..., — заявил он работникам Литературного музея г. Горького в 1935 году, когда те показали ему рукопись его ранних стихов. — Помню, как он правил эти стихи. Он очень поощрял меня в моих занятиях поэзией и радовался... почти до слез, когда я приносил удачное стихотворение. Это были незабываемые часы, и они меня поднимали как поэта в собственных глазах, они вселяли в меня сознание своего собственного человеческого достоинства».5
Своим вступлением в литературу Скиталец считал публикацию в 1900 году в журнале «Жизнь» повести «Октава». Несколько ранее Скиталец напечатал в «Жизни» свои стихотворения. В течение нескольких лет он писал одновременно и стихи, и рассказы. Со стихами Скиталец расстается после 1906 года, но именно они, а не повести и рассказы, сделали известным его имя. Стихотворения ходили по всей России, постоянно исполнялись на эстраде; некоторые из них становились модными романсами и песнями. Стихотворение «Хорошо в ночи бубенчики звенят» распевалось демократической молодежью провинции даже в 910-х годах. Стихи Скитальца импонировали молодому, революционно настроенному поколению своим бодрым, жизнерадостным тоном, своим эмоциональным пафосом и даже своей декламационностью. Скиталец очень удачно схватывал и передавал революционное настроение эпохи, хотя по форме его стихи часто бывали несовершенны.
Весьма примечательно, что В. И. Ленин в брошюре «Победа кадетов и задачи рабочей партии» (1906) для характеристики политической обстановки
- 589 -
тех лет пользуется образами и цитатами из стихотворения Скитальца «Тихо стало кругом»1 (напечатано в IX сборнике товарищества «Знание», 1906).
С. Г. Скиталец.
Риторический стиль лирики Скитальца, поэтическая лексика ее достаточно определенно говорили о влиянии Горького, таких горьковских произведений, как «Песня о Буревестнике».
И в своей прозе Скиталец шел от Горького. Лучшие его произведения — повести «Октава» и «Огарки» — варьируют тему горьковских босяков.
В одобренной Горьким повести «Октава» рассказывается о самородке-певце Захарыче, простом плотнике, которого сманили в церковный хор. Захарыч не прижился в новой среде. Его здоровая натура восстала против тлетворного духа городской богемы. Захарыч ушел снова плотничать.
В 1901 году, отбывая срок заключения в нижегородской тюрьме, Скиталец написал автобиографическую повесть «Сквозь строй» и рассказ «За тюремной стеной». В 1902 году «Знание» издало первую книгу сочинений Скитальца — «Рассказы и песни».2
Рассказы и песни Скитальца кануна 1905 года были полны бунтарских настроений. Бунтует Захарыч в повести «Октава», бунтуют герои повести «Сквозь строй», воюет с купцами-хозяевами в рассказе «Кузнец» рабочий человек, кузнец Федор Иванович, человек «непокорного характера», «геройская натура», «без врагов и без сражений» ему «и жизнь не в жизнь». Однако протест, возмущение героев в этих рассказах Скитальца носили характер стихийного анархического индивидуалистического бунта. Более примечательным надо считать то, что все герои этих предреволюционных рассказов ощущают в себе «гордость и человеческое достоинство», чувствуют себя не только воинственными, но и сильными, смелыми, правыми. Некоторые из этих бунтарей выглядят монументальными фигурами, чем-то былинным богатырским веет от них. Таков в рассказе «За тюремной стеной» арестант, считавший себя вольным человеком. Само тюремное начальство относилось почтительно к его геркулесовой силе, к его независимому виду.
- 590 -
Герои Скитальца награждены душой артистов-художников. «Хороший машинист, слесарь и токарь» Федор Иванович («Кузнец»), в то же время певец и музыкант. Герои повести «Сквозь строй» — оба талантливые самоучки-изобретатели и вместе с тем они — замечательные певцы, гусляры, поэты. В рассказе «Икар» Скиталец снова вывел кузнеца Назара («Сквозь строй»), показал поэтическую сторону его натуры. Этого изобретателя, с мечтой о вечном двигателе, «доку и хитреца», прельстила выставленная в витрине магазина фарфоровая статуэтка, изображавшая разбившегося Икара. Назар купил Икара, израсходовав на него все свои деньги — 25 рублей.
Эти рассказы о талантливом, мужественном и сильном русском рабочем человеке достаточно красноречиво свидетельствовали о демократическом характере творчества Скитальца накануне 1905 года.
Гражданский пафос, романтичность образов, приподнятость тона — характерные черты творчества Скитальца в эту эпоху. В годы революции Скиталец преимущественно писал о деревне. Рассказы его «Полевой суд» (1905) и «Лес разгорался» (1906) отделяет друг от друга один год, но в изображении деревни между ними значительная разница. В первом рассказе крестьяне волжского села Селитьба оспаривают право на отобранную у них помещиком землю, опираясь на легендарную хартию-грамоту царя Алексея Михайловича. С молебном, иконами, хлебом-солью ветречают они начальство на поле, которое на основании решения «окольных людей» начали пахать. Мирный бунт крестьян окончился печально: 43 человека, самых старых, почтенных были жестоко высечены, судимы и посажены в тюрьму. В рассказе «Лес разгорался» изображено аграрное движение 1905 года. Скиталец так интерпретирует лозунг Гл. Успенского — «власть земли»: мужики силой решают захватить землю. «Мы, мужики, знаем одно: землю! — говорит один крестьянин. — Там вы как хотите, а нам перво-наперво землю подайте!.. А не дадите — сами возьмем!». «И чувствовалась в нем (голосе крестьянина, — Ред.), — добавляет автор, — могучая жажда земли, нежная любовь к ней».1 У мужиков сначала руководителем был агроном Михайло Васильич, но они сменили его на молодого крестьянина Мирона, призывающего деревню к восстанию.
В рассказах Скитальца активную идейную функцию выполняет пейзаж. В характере пейзажа чувствуется влияние Горького. Так, в рассказе «Лес разгорался» описан лесной пожар: гигантское зарево освещает кровавым светом ночное небо. Эта реальная картина лесного пожара одновременно и символическая: поднимается народная стихия, разгораются народный гнев и месть.
В 1906 году Скиталец напечатал в X сборнике товарищества «Знание» свою повесть «Огарки», о которой одобрительно отозвался А. Блок в статье «О реалистах». В теме и сюжете эта повесть варьирует «Бывших людей» Горького; однако именно в ней ярче всего сказалась творческая индивидуальность Скитальца. В создании характеров Скиталец показал себя большим мастером. Каждый образ получился ярким, запечатлевающимся, индивидуальным: бывший студент украинец Толстый, певчий Северовостоков, рабочий Михельсон, кузнец Соко́л и художник Савоська. Стихийный, анархический бунт «огарков» носит некоторые черты социально-политического
- 591 -
протеста против господствующих классов. Веяния революции чувствуются в самом тоне повести — бодром, оптимистическом.
Однако в этой повести отчетливо проявились и серьезные недостатки общественного мировоззрения писателя, поверхностное понимание им классовой борьбы. В качестве носителей социального протеста Скиталец представил только деклассированные элементы, опоэтизировал стихийный, анархический бунт люмпен-пролетариев, признав их значительной силой в освободительном движении.
Скиталец, так же как и Горький, любил изображать «оригиналов», чудаков, прототипы которых он часто находил в волжском мире. Таковы все герои повести «Огарки», герои рассказов «Талант», «Икар», «Несчастье», таков Редедя (из рассказа того же названия) — волжский купец, миллионер. Редедя после всех чудачеств пропал, ушел на Афон, где и постригся в монахи. В описаниях своих чудаков («Редедя», «Несчастье») Скиталец впадал часто в крайний гиперболизм. Но то, что было оправдано в рассказах революционного настроения и в повести «Огарки», в таких произведениях, как «Редедя», «Несчастье», переводило образы героев, которыми автор явно любуется, в несколько юмористический, анекдотический план.
Скиталец часто насыщал свои произведения фольклором; на народное творчество опирался он и в создании монументальных фигур своих героев. В последнем случае фольклор осваивался Скитальцем творчески и органически входил в повествование.
Подобно Горькому, Скиталец вводил в произведения стихи своих героев поэтов-самоучек, но порой, не зная меры, он так переполнял повествование этими стихами, что они выглядели нарочитыми, искусственно вставленными. Примером может служить рассказ «За тюремной стеной». В приемах художественных зарисовок, особенно в художественных описаниях Скиталец бывал неровен, неумерен в использовании художественных средств, среди которых нередко можно встретить и трафареты, образы-штампы («Полная красавица луна..., как чародейка, околдовала своими волшебными лучами эту нежную весеннюю ночь» и др.).
Пытаясь освежить, обновить художественный образ, заимствованный из произведений классиков, Скиталец обычно терпел неудачу. Вот, например, характеристика Захарыча: «...от него веяло несокрушимым здоровьем, силой и крепостью, как от смолистой крупной сосны, глубоко пустившей крепкие корни в чаще тихого, девственного леса. Все в Захарыче было аляповато, грубой, топорной работы, но крупно и крепко. Казалось, что природа, создавая его, имела идею слепить что-то выдающееся, наскоро затратила на эту мощную фигуру огромные куски дорогого материала с целью обработать его после, но потом почему-то так и оставила Захарыча неотесанным».1
Если в начальной фразе, в сравнении Захарыча с сосной, Скиталец самостоятелен, то далее нельзя не почувствовать переклички с гоголевской характеристикой Собакевича. Но насколько ярко, живописно и рельефно сказано Гоголем о Собакевиче, настолько бледно, расплывчато, невыразительно и противоречиво получилось у Скитальца.
Не обладая большими литературными данными, не имея четких политических убеждений, Скиталец исчерпал себя в годы первой революции. Не найдя в себе сил противостоять политической реакции, Скиталец превратился после 1905 года в заурядного писателя. После 1908 года он
- 592 -
порывает со «Знанием». Последним его произведением в сборниках была хроникальная повесть «Этапы». В ней, как и в последующих произведениях Скитальца, наметился уже явный отход от горьковской позиции. Горький писал об этом в своих письмах к Скитальцу, но Скиталец не внял Горькому, что и привело его в дальнейшем к крупнейшим политическим ошибкам.
После разрыва со «Знанием», происшедшим в годы реакции, Скиталец больше не смог подняться в своем творчестве до того идейного и художественного уровня, на котором он, руководимый Горьким, стоял в конце 90-х — начале 900-х годов.
Отдельные произведения Скитальца, в которых он пытался вернуться к былой демократической позиции, например пьеса «Вольница» (1915), запрещенная цензурой, не меняли основного направления писателя, все более и более уходившего в сторону от Горького и его платформы.
В первые годы Великой Октябрьской революции Скиталец писал мемуарные произведения: «Воспоминания», «Утро жизни», «Семинария», «Южность». В его творчестве не было никаких откликов на великие события.
В 1921 году Скиталец эмигрировал за границу, в Харбин. Там в 1929 году он написал роман «Дом Черновых». Роман этот представляет собой хронику семьи миллионера — купца Силы Гордеича Чернова, а по существу историю вымирания рода, параллельно которой развертывается история жизни талантливого художника. Роман охватывает период в двадцать пять лет, он заканчивается Великой Октябрьской революцией и первыми годами жизни Советской страны.
В 1934 году Скиталец вернулся из-за рубежа на родину. По возвращении он написал воспоминания о Чехове, Л. Толстом и др., после смерти Горького — о Горьком.
В 1936 году Гослитиздат издал двухтомник сочинений Скитальца (I. Повести и рассказы; II. «Дом Черновых») и «Избранные стихи и песни», а в 1937 году — роман «Этапы», который был Скитальцем переработан.
5
Виктор Васильевич Муйжель (1880—1924) родился в деревне Узе Порховского уезда Псковской губернии. Отец его — крестьянин, латыш, а мать Елена Ивановна Петрусевич — дочь участника польского восстания И. В. Петрусевича, в имении которого отец Муйжеля был старшим работником.
Детские годы будущего писателя прошли в скитаниях по России, так как отец его часто менял род занятий и места службы (конторщик, управляющий на винокуренном заводе и т. д.). Кочевая жизнь отца была причиной того, что Муйжель не получил законченного среднего образования. Он учился в Псковской и Петербургской гимназиях, а затем перешел в Великолуцкое реальное училище, но не закончил и его.
С 1894 года начинаются служебные скитания Муйжеля. Подобно своему отцу, он перепробовал много разных профессий (писец в акцизном управлении, у земского начальника, в земской управе, приказчик по рубке и сплаву леса и т. д.). Задумав стать художником (страсть к рисованию была с детства), Муйжель приехал в Петербург. Около года он прожил в страшной нужде, ютясь в ночлежке, пока не поступил в канцелярию министра финансов Витте. Тогда же Муйжель начал посещать и
- 593 -
Художественное училище Штиглица. Но вскоре его как политически неблагонадежного выслали в Псков, где он работал в земском статистическом бюро. Эта служба еще более сблизила Муйжеля с народом, хорошо знакомым ему с детства. Только в 1902 году Муйжель смог вернуться в Петербург; вскоре он стал работать рисовальщиком-иллюстратором, главным образом в издательстве Сойкина, где числился помощником заведующего художественным отделом. В то же время Муйжель продолжал работать и как писатель.
До 1904 года Муйжель печатал свои рассказы преимущественно в журнале «Родина», подписывая их псевдонимом Пскович-Темноборский. В 1904 году в журнале «Мир божий» был напечатан рассказ «В непогоду», впервые подписанный фамилией Муйжель. Этот рассказ писатель и считал началом своей литературной деятельности. По собственному признанию Муйжеля, он в начале своей литературной работы испытал влияние трех писателей: Л. Толстого, Короленко и Горького.
Литературную известность Муйжель приобрел очень скоро — к 1906 году он уже считался одним из лучших писателей на деревенскую тему.1
Среди многих беллетристов конца XIX — начала XX века, посвящавших свое творчество изображению деревни (В. И. Дмитриева, Е. М. Милицина, И. Новиков и др.), Муйжель — наиболее крупная фигура. Он хорошо знал весь уклад жизни русского крестьянина эпохи капиталистического наступления на деревню и в многочисленных своих рассказах и повестях дал яркую панораму деревенского быта («Мужичья жизнь», «Бабья жизнь», «Аренда», «Проклятие», «Весною» и др.). Слабее у Муйжеля получалось изображение психологии крестьянина. В сравнении с классическими образцами раскрытия крестьянской психологии в литературе XIX века (Некрасов, Гл. Успенский и др.) внутренний мир крестьянина в произведениях Муйжеля схематичен и натуралистичен.
Слабая сторона художественного метода Муйжеля в изображении деревни заключалась в тенденции писателя к «беспристрастию», «объективизму», что мешало ему показывать достаточно полно правду деревенской жизни. Муйжель не усматривал всей сложности крестьянской психологии и изменения ее под влиянием текущих политических событий.
Негативностью красок в изображении деревенской жизни Муйжель весьма близок к Подъячеву и Вольнову. Но у Муйжеля нет того понимания деревенской психологии как результата объективных социально-исторических условий, которые мы находим у того же Подъячева. В тех случаях, когда Муйжель пытается воспроизвести психологию крестьянина, у него получается типичный импрессионистический рисунок, в котором за описаниями смутных настроений пропадает социальный характер крестьянской психологии, ее противоречия.
Метод показа крестьянской психологии, не взятой в ее исторической конкретности, без учета дифференциации деревни, в конце концов привел Муйжеля в его повести «Дача» (1908) к огульному осуждению деревни, объективно — к клевете на народ.
В первый период своего творчества Муйжель дал обстоятельную картину жизни деревни, раздираемой внутренними противоречиями. Значительное
- 594 -
место он уделял изображению деревенской бедноты и революционному брожению деревни накануне 1905 года и в годы революции («Аренда», «Грех» и др.). Но в отличие от знаньевцев Муйжель не умел, не мог по-настоящему разобраться в сложной ситуации, в тех сдвигах, какие вызвала революция в деревне. Деревенские революционеры у Муйжеля схематичны: или это неубедительно светлые образы, или злобные мстители. В восставшей деревне Муйжеля господствует анархическое, стихийное начало, что сближало его с Олигером и Буниным.
В рассказах 1907—1909 годов («Волк», «Дача» и др.) Муйжель, изображая деревню уже без какой-либо социальной дифференциации, выступал не правдивым летописцем ее драматической истории, а обвинителем.
Он рисовал деревню как одно сплошное темное пятно, без надежд на ее пробуждение.
В повести «Дача» Муйжель описал деревню после 1905 года и притом не какую-нибудь глушь: «Каменный овраг» в полутора верстах от железной дороги, до города на поезде езды час с четвертью. Но деревня Муйжеля ничем не отличается от деревни Чехова, влияние произведений которого («Мужики», а особенно «В овраге» и «Новая дача») заметно в повести. И в то же время в рассказах Муйжеля, как и многих других писателей тех лет, нет того, что прекрасно видел Чехов в деревне 80-х годов: нет социального расслоения, внутридеревенской классовой борьбы, эксплуатации крестьянина кулаком, купцом, полицией. «Дача» свидетельствовала о том, что писатель проглядел в эпоху революции рост молодой деревенской демократии.
В повести «Дача» Муйжель в отличие от других своих произведений резко противопоставил деревню городу. Он изобразил город и деревню как два враждебных стана.
Во многих рассказах Муйжеля 1908—1910 годов («Проклятие», «В мертвом углу», «Кошмар», «Старый Камора») чувствуются упадочнические настроения. В эти годы он пытается отойти от своей деревенской темы — пишет об интеллигенции, купечестве, мещанстве (повесть «В одном доме» и др.).
В начале 910-х годов намечается явный перелом в идейном направлении Муйжеля в смысле преодоления им влияний реакции. Он создает самое значительное свое произведение — двухтомный роман «Год». Книга Муйжеля изображает русскую деревню в годы столыпинских «реформ». На широком фоне воспроизводится жизнь деревни с ее бытом, трудом, внутренними социальными противоречиями, с борьбой трудового крестьянства с кулаками, помещиками, начальством. Основная, организующая весь композиционный, идейный строй книги тема — гражданская война в деревне на почве столыпинского законодательства. Писатель показывает, что темные стороны деревенской жизни в годы реакции: жестокость, моральная распущенность, рост хулиганства, семейные драмы и пр. — являются следствием столыпинской политики, порождаются кулачеством. Муйжель вносит тем самым в характеристику деревни конкретные исторические черты. В своей книге писатель освобождается от недавнего («Дача») одностороннего мрачного изображения деревни и показывает ее светлые стороны, тесно связанные с жизнью трудового крестьянства. Следуя Глебу Успенскому, Муйжель теперь поэтизирует крестьянский труд, любовно описывает деревенские обычаи, стремясь постичь и раскрыть поэтическую душу народа, его моральную чистоту. Но Муйжель попрежнему не разбирается в ходе общественно-политической истории
- 595 -
России и потому не видит надлежащих перспектив. В его деревне, пережившей 1905 год, нет подлинно новых, революцией рожденных людей, тех, что были связаны с революционным пролетариатом и шли за ним. Муйжель в те годы был далек от понимания пролетариата как движущей силы истории, и потому не случайными в его книге являются рецидивы народнических, реакционных идей в вопросе о перспективах развития деревни. Конец книги Муйжеля никак не оправдан основным ее демократическим содержанием, он реакционен, трактован в славянофильском духе: по необозримым просторам соломенной Руси молчаливо идет «мужицкий Христос».
Несмотря на серьезные идейные ошибки Муйжеля в крестьянском вопросе, он все же был и оставался на позициях демократа. Длительная и тесная связь Муйжеля с народом была благотворной для писателя: в годы реакции она уберегла его от сознательного ренегатства, в годы империалистической войны — от шовинистического угара. В своих очерках и рассказах военных лет Муйжель разоблачал империалистическую войну как колоссальное бедствие, навязанное народу самодержавием и капиталистами. В военных рассказах Муйжеля можно встретить намеки на то, что народ начинает разбираться в империалистическом характере войны. Муйжель давал, хотя и осторожно, понять, что в народе растет ненависть к своим давнишним социальным врагам, что она объединяет, сплачивает народ. В рассказе «Возвращение» (1916) среди мужиков, пришедших навестить односельчанина Никиту, ослепшего от газов на фронте, нашелся один — Герасим, который в ответ на жалостливые речи соседей, их сетования, коротко заметил: «Отстаивай их... своим горбом, а после...». И вдруг «что-то одно общее, — пишет Муйжель, — протянулось от человека к человеку и странно объединило их».1
Во время войны у Муйжеля на многое открылись глаза, и тем самым он был подготовлен к правильной оценке и приятию Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на надорванное чахоткой здоровье, Муйжель горячо и честно начал работать. Он сотрудничает в одном из первых пореволюционных журналов — «Пламя» (Пгр., 1918—1920) и одно время редактирует его, читает лекции по истории русской литературы для красноармейцев и моряков. В своих выступлениях Муйжель, полемизируя с врагами Советской России, предсказывает процветание свободной страны. Много внимания Муйжель уделял также деревенскому театру и сам написал специальную пьесу для этого театра — «Питерский». По его настоянию издательство «Прибой» издало в 1924 году сборник пьес «Деревенский театр».
Основным героем рассказов Муйжеля в советский период остается попрежнему человек из народа, а главной темой становится тема столкновения старого мира с новым, советским миром и торжество последнего. Так, например, в рассказе «Повстречались» изображена встреча Поножиных — отца и сына: отец уходил в белую эмиграцию и вернулся, сын — ревностный сторонник большевиков; отец при всей своей враждебности к советской власти вынужден признать моральную, идейную силу своего сына как советского человека.
В пьесе «Вешний ветер» (пьеса в 1924 году шла в ленинградских театрах) Муйжель вывел в качестве центрального героя художника-скульптора, оказавшегося в дни Октября на распутье, но чувствующего в социалистической революции бодрое, свежее дыхание новой жизни.
- 596 -
Наиболее значительным произведением Муйжеля как советского писателя надо признать его рассказ «Кухаркины дети», написанный в 1923 году. В нем говорится о том, как одновременно растут две пары детей: Константин и Ира Назимовы — дети петербургского барина и Ваня с Машей Крапивины — дети кухарки, живущей у Назимовых. Ваню кок сына кухарки исключают из школы, и мальчик идет по мытарствам жизни. Еще более горькую участь испытывает его сестра Маша, вынужденная продавать себя. В дальнейшем Крапивин примыкает к революционному движению и становится большевиком. Он — участник империалистической и гражданской войны. Иная судьба у Константина Назимова. Он стал активным контрреволюционером, организатором заговоров против советской власти и был затем расстрелян по приказу Крапивина. Ира Назимова всем своим существом тянется к новой для нее правде, правде любимого ею Крапивина.
В 1926 году произведения Муйжеля советского периода вышли отдельной книгой: «Возвращение. Последние рассказы».
6
Николай Дмитриевич Телешов родился в 1867 году в купеческой семье. Писать он начал в юношеском возрасте. В 1884 году в московском журнале «Радуга» было напечатано первое стихотворение Телешова. В скором времени начали появляться его рассказы. По собственному признанию писателя, образцами для него в юношеские годы были произведения Лермонтова и Тургенева, из современников наибольшее влияние оказывал на него Гаршин. Сильное впечатление произвели на молодого писателя также первые рассказы Короленко («Сон Макара» и др.), оставившие несомненный след в тематике и гуманистической тенденции его раннего творчества.
По совету Чехова, совершившего сахалинское путешествие, Телешов поехал на Урал и в Сибирь. Эта поездка обогатила его знанием жизни народностей Сибири и русских переселенцев.
Очерки и рассказы из жизни Сибири, печатавшиеся в передовых журналах 90-х годов, вошли в первые три книги Телешова: «На тройках» (1895), «Повести и рассказы» (1896), «За Урал. (Из скитаний по Западной Сибири. Очерки)» (1897), доставившие, особенно последняя, их автору литературную и общественную известность.
В 80—90-е годы Телешов ищет свой путь в литературе. Его первые книги представляют довольно пеструю картину. Наряду с очерками — путевыми картинами Урала, Сибири, в которых даются зарисовки с натуры, Телешов в те годы пробовал писать и фантастические произведения: в первой книге его рассказов они выделены в самостоятельный отдел под названием «Фантастические наброски». Телешов много внимания уделил теме крестьян-переселенцев и рассказам о детях и для детей («Елка Митрича», «Домой» и др.). Наряду с оптимистическими произведениями мы встречаем у Телешова и такой рассказ, как «Жертва жизни» — лирический и вместе с тем философский этюд крайне пессимистического содержания.
На некоторых рассказах из первых сборников Телешова весьма заметны следы литературных влияний. Так, в рассказе «На тройках», которым открывается первый сборник (1895), нельзя не видеть подражания «Мертвым душам» Гоголя и в сюжете, и в обрисовке деталей. Купцы
- 597 -
едут в Ирбит на ярмарку: одна за другой развертываются картины городов, сел, следует вереница образов разных людей. Несомненна перекличка с Гоголем и в лирическом описании народной песни.
Н. Д. Телешов.
«Вот она безыскусная русская песня, навеянная не весельем, не радостью, а тяжелым бурлацким трудом! Что в ней? Какие слова, какая музыка? „Эй, ухнем! эй, ухнем! еще разик, еще раз, — ей, ухнем!“. И больше ничего в ней нет, в этой песне, и звучит она просто, однообразно... И, кажется, что вырвалась уж она на желанную волю, звучит она уже где-то не здесь, а льется далеко за окном, и замирают ее скорбные звуки среди родных берегов... Ни конца, ни начала нет в этой песне, как не знаешь, где искать начало и где конец в горемычной доле русского бездомного человека».1
Рассказ «На тройках» произвел сильное впечатление на Горького. О нем он вспомнил много лет спустя. В письме к Телешову от 1924 года Горький писал: «Нет ли у вас лишнего экземпляра „На тройках“? Если есть — не пришлете ли? Мне бы она на пользу и для удовольствия нужна». Телешов послал книгу, и Горький так отозвался о ней в письме: «Спасибо Вам за присланную книгу: она очень оживила в памяти моей некоторые впечатления».2
Впоследствии Телешов взял из этого очерка целиком всю лирическую сценку, изображающую пение и игру слепого гусляра, и, присоединив к ней еще такую же картину, издал как самостоятельный лирический этюд под названием «Песни».
Критика 90-х годов склонна была видеть самостоятельность, зрелость Телешова, «несомненное и окрепшее литературное дарование» его в рассказах о переселенцах («Самоходы», «С богом», «Нужда», «Домой» и др.). Тема эта была очень актуальной. Телешов вместе с Буниным откликнулись на это трагическое явление в жизни русского крестьянства. Рассказ «Домой» Телешов посвятил Бунину. В своих рассказах о переселенцах писатель нарисовал страшные своей правдой картины мук, лишений народа в поисках «обетованной земли»; голод, повальная смерть от эпидемий, страдания детей-сирот, произвол властей, возвращение ни с чем в конец разоренных мужиков на старые, покинутые ими места. В рассказах немало ярких образов крестьян: это то покорные своей тяжкой доле, вернее,
- 598 -
отупевшие от горя люди, то бунтари с мечтой-утопией о справедливом царстве — мужицкой коммуне.
Характерная черта ранних рассказов и очерков Телешова — демократизм и гуманность, любовь и симпатии к народу. Ярким образцом является рассказ «Сухая беда», в котором лирично, с большим сочувствием к бесправным, обездоленным людям — девушке Фене и ее защитнику батраку-черемису — рассказано об их тяжелой жизни.
Лиризм рассказа резче подчеркивает второй план его — обличительный: образ купца Курганова, виновника самоубийства черемиса. Критика тех лет единодушно выделяла этот рассказ за «неподдельную художественность и поэтические красоты».1
В предисловии к переводу этого рассказа на чувашский язык, изданному в 1946 году, говорится: «Первым русским писателем, тепло отозвавшимся о чувашах, был И. Т. Посошков (1670—1726). Первым же писателем, показавшим чуваша основным героем произведения, был Н. Д. Телешов. В повести „Сухая беда“ писатель показал моральную силу чуваша, его готовность заступиться за таких же угнетенных и оскорбленных, как он сам».
Лиризм, как выражение демократических чувств Телешова, особенно характерен для его детских рассказов и сказок («Елка Митрича», «Домой», «Маленький роман», «Белая цапля» и др.). В них особенно отчетливо сказались лучшие стороны таланта Телешова: простота и задушевнось тона, чуткость, сердечность, тонкая наблюдательность. Горький, положительно оценивший уральские и сибирские рассказы Телешова, весьма сочувственно отнесся и к рассказам для детей, среди которых он особенно выделил «Елку Митрича», рассказ о том, как сторож переселенческого барака, старик Митрич устроил на полученный им к празднику четвертак елку для детей-сироток. В письме из Нижнего-Новгорода, запрашивая Телешова: «Нет ли у Вас еще „Елки Митрича“ в отдельном издании?», Горький сообщал: «Эту вещь здесь часто читают на публичных чтениях, ребятишки ее очень любят и были бы рады получить в подарок».2
Рассказы и сказки для детей Телешова неоднократно переиздавались отдельными сборниками под названиями: «Рассказы и сказки» (1911, Изд. «Просвещение»), «Верный друг и другие рассказы» (1915, «Книгоиздательство писателей в Москве»). В первый сборник был включен также и очерк «Шахты», рисующий картину ужасного труда в медных рудниках уральских магнатов Демидовых.
В конце 90-х — начале 900-х годов Телешов сотрудничает в наиболее прогрессивных в то время журналах — «Мир божий», «Жизнь», «Правда».
В 1901 году он написал лирическую романтическую легенду «Песнь о трех юношах», проникнутую революционными настроениями.
Организатор «Среды» — группы писателей-реалистов, Телешов вместе с основным ядром кружка вошел в горьковское издательство «Знание» и в первом его сборнике напечатал свой рассказ «Между двух берегов». Рассказ вызвал неодобрительные отклики в буржуазной критике. Критике не нравилась «идейность» рассказа, иными словами, его протестующий характер.
В этом рассказе Телешов, придав изображаемым картинам некоторый иносказательный смысл, впервые выступил со смелым обобщением общественно-политической
- 599 -
жизни страны накануне революции. Сибирь, река Иртыш, по которой пароход тащит баржу с арестантами, расстилающийся кругом суровый пейзаж — все говорило о гнете, о тяжелой жизни. Группа людей, беседующих на палубе, как бы иллюстрировала состояние общества, создавшееся в результате дворянско-буржуазного самодержавного строя: люди разрознены, одиноки, нет надлежащего применения их творческим силам, силы эти уродуются; человек, например, родился с талантом композитора, а стал офицером тюремной команды. Телешов не указывает пути выхода интеллигенции из положения «между двух берегов», но он сумел так конкретно передать в настроениях случайных спутников настроение эпохи, что из рассказа сам собой следует вывод: так жить нельзя. Среди пестрой пароходной публики слышатся уже дерзкие речи, высказывается идея демократического объединения для «одного общего дела», для «одной общей веры».
В канун революции 1905 года был написан и напечатан в IV сборнике товарищества «Знание» (1905) один из лучших рассказов Телешова «Черною ночью», в котором он мастерски изобразил уездную мещанскую жизнь и бунт юноши Васи против уездной скуки. Вася слыл в городе за непутевого. «Шум и он — были родные; он и тишина — были заклятыми врагами». Вася мечтал о всеобщем смятении, ему хотелось набатом поднять весь город. Однажды ночью он поджег пустующий дом ростовщика и ударил в набат. В пожаре, охватившем город, погиб и герой рассказа.
Революции 1905 года Телешов посвятил ряд рассказов: «Начало конца», «Крамола», «Надзиратель» (в советском издании 1945 года — «Петля»).
В рассказе «Начало конца» речь идет о московском вооруженном восстании рабочих, об их крепкой солидарности, мужестве, геройстве. В центре рассказа — Ларион Девяткин, штатный официант первоклассного московского ресторана. В тихом, смирном, аполитичном официанте под влиянием развертывающихся революционных событий пробуждается ненависть к торжествующим усмирителям; от руки одного из них Девяткин и погибает.
В рассказе «Крамола» (1905) Телешов своевременно выступил против гнуснейших мероприятий самодержавия, создавшего черносотенные организации «Союз русского народа», «Союз Михаила архангела» и другие. Телешовым было метко схвачено и передано настроение, обрисована психология тех слоев городской средней и мелкой буржуазии (лавочников-«охотнорядцев», владельцев небольших заводов, кустарных мастерских и т. д.), из которых преимущественно вербовались члены в черносотенные «дружины». Рассказ вызвал озлобление реакционных кругов и, будучи напечатанным в XV сборнике товарищества «Знание» (1907), мог выйти отдельным изданием только после Октября, в 1926 году.
Горький одобрил «Крамолу» и «Надзирателя», напечатанного в IX сборнике товарищества «Знание» (1906). Телешов вспоминает отзыв Горького о рассказе «Надзиратель»: «Вот так ловко! — У Вас полицейский и тот не вынес: повесился от существующего режима. Не знаю, бывают ли такие полицейские, у которых бы совесть заговорила, обычно они негодяи, но подразнить таким примером кого следует — очень, пожалуй, полезно. Эта ненадежность оплота кое для кого заноза теперь подходящая».1
- 600 -
К этим произведениям примыкает и написанный в годы реакции рассказ «Цветок папоротника» с подзаголовком «Летняя сказка», в котором описаны мытарства по преисподней дьячка-предателя Терентия. Рассказ, в котором в завуалированной форме содержится обличение реакции, заканчивается словами: «Предателей ждал суд... Страшный суд».
В годы реакции Телешов попрежнему с глубокой симпатией изображал народ, показывая его трудную жизнь и его благородную душу («Косцы», «Жулик» и др.), и продолжал писать рассказы общественного характера, хотя со значительно ослабленной социальной тенденцией.
Прогрессивная критика конца XIX — начала XX века всегда признавала оригинальность творчества Телешова, его особое место в реалистической литературе, отмечая, что его герои — живые, деятельные, в плоть и кровь облеченные люди.
Творчество Телешова на разных этапах его развития свидетельствовало о бодрости, о вере писателя в лучшие свойства человеческой природы, в здоровые силы демократии.
В художественных средствах Телешов следовал традициям классической русской литературы. Отсутствие внешних эффектов было характерной чертой реалистического письма Телешова — в его рассказах нет ни искусственно подчеркнутого трагизма, ни утрировки в построении сюжета, ни вычурных оборотов речи. Язык Телешова свободен от жаргонизмов, диалектизмов, хотя в своих рассказах он изображал жизнь и быт разных областей России, в том числе и Сибири.
В годы реакции Горький своими бодрыми письмами поддерживал Телешова на его демократическом пути в литературе. Горький очень ценил в Телешове писателя-общественника и навсегда сохранил свое дружеское отношение к нему.
Н. Д. Телешов, писатель-общественник горячо, своевременно откликался на разные запросы демократической общественной мысли, на нужды народа, будь то объединение писателей-реалистов («Среда»), или постройка на собственные средства в селе Малаховке гимназии для крестьянских детей этого села и окрестных деревень.
После Октября Телешов был членом правления Всероссийского Союза писателей, с 1925 года он — председатель «Общества имени Чехова». Писатель был активным участником целого ряда других общественных советских организаций. Он — руководитель музея при Московском Художественном театре имени А. М. Горького, которым заведует и по сие время. В 1927 году Телешов издал книгу литературных воспоминаний «Все проходит». В 1943 году вышла книга Телешова «Записки писателя. Воспоминания». В 1938 году Н. Д. Телешову было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.
7
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский родился в 1876 году в Тамбовской губернии. Семь лет он был учителем и два года офицером, принимал участие в русско-японской войне, в 1906 году вышел в отставку и отдался литературной работе.
В начале своей литературной деятельности Сергеев-Ценский писал стихи, сборник которых «Думы и грезы» был издан в Павлограде. С 1902 года он начинает печатать рассказы («Погост», «Тундра» и др.) в журналах «Русская мысль», «Мир божий», «Журнал для всех», «Образование», в декадентском «Новом пути» и др.
- 601 -
Раннее творчество Сергеева-Ценского развивалось в традициях критического реализма. Писатель выступил обличителем пошлости обывательской жизни. Он описывает застойную жизнь русской провинции с ее мещанским бытом, полным праздности и томительной скуки. В центре внимания писателя уездная интеллигенция. Таковы учителя в рассказе «Погост» (1902), в котором Сергеев-Ценский делает попытку обобщить уездную жизнь. Прежде учителя мечтали о высших идеалах, душой рвались из Никольского, а потом они стали мечтать робко, «больше инстинктом, чем сознанием» о более высоком окладе: учителя — в фабричных школах, учительницы — в железнодорожных. В былое время юные и задорные они «спорили до хрипоты и злились на обывательскую тупость, — теперь остыли и сходились только помолчать».1 Обычно учителя собирались на кладбище. Подводя итог серой уездной жизни, Сергеев-Ценский так заканчивает свой рассказ:
«Обыватели погоста глядели вокруг себя — и видели погост, глядели в прошедшее — видели погост, пробовали заглянуть в будущее, но и там не видели ничего, кроме погоста».2
В рассказе с заглавием «Скука» (1903) Сергеев-Ценский значительно шире взял жизнь уездного городка. Центральным образом этого рассказа Сергеев-Ценский включается в сферу тематики и характеров Горького и, может быть, не без прямого влияния последнего. В рассказе показана трагическая судьба девушки Лизы Виноградовой, ставшей проституткой. Стихийный бунт Лизы напоминает бунт героинь рассказов Горького 90-х годов. Вспоминая первые годы своей литературной работы, Сергеев-Ценский писал о Горьком:
«Между тем из всех подвизавшихся тогда в русской литературе художников слова он (Горький, — Ред.) был единственным искренно и глубоко мною любимым еще с 1895 года, когда я, будучи совсем зеленым юнцом, прочитал в „Русском богатстве“ его «„Челкаша“».3
Накануне первой революции и в 1905 году Сергеев-Ценский затронул революционную тему, тему восстания рабочих. Вот что писал он по поводу этих своих рассказов В. С. Миролюбову в письме от 20 февраля 1905 года: «Кажется, в редакции Вашего журнала был мой рассказ „Батенька“ (тема — бунт рабочих и его усмирение залпами), но его прислали обратно, мотивируя это тем, что в настоящее время „и думать нечего о его помещении“. С таким же успехом „Батенька“ обошел еще несколько редакций и теперь покоится в столе или корзине „Нашей жизни“ Это был „протестующий“ рассказ, но судьба подобных протестов мне, к сожалению, давно уже известна, а протестовать в рамках дозволенного цензурой как-то даже смешновато.
«В настоящее время в редакции „Мира божьего“ лежит мой довольно большой — в 3½ печ. листа — рассказ „Сад“; признаться, я не особенно надеюсь увидеть его в печати и только потому, что сам герой протестует.
«Дай бог, чтобы мы когда-нибудь перестали заикаться и посмеялись над своим косноязычием».4
- 602 -
Годы реакции круто изменили направление творчества Сергеева-Ценского. Писатель примкнул к модернистам, стал сотрудником «Шиповника», реалистическую простоту письма сменил на манерность, вычурность. В письме к Миролюбову, который протестовал против модернизма Сергеева-Ценского, последний признавался: «Грешен, — люблю я эквилибристику настроений, зарево метафор, скачку через препятствия обыденщины. Простоты не выношу... И в такую страшную смуту, когда ничего простого уже не осталось в жизни... Вы говорите о простоте».1
В первом номере альманаха «Шиповник» (1907) Сергеев-Ценский напечатал пессимистическую повесть «Лесная топь», в которой дана темная, дикая жизнь крестьян, полная суеверий, пьянства, страшных болезней. В 1906—1907 годах в «Русской мысли» Сергеев-Ценский печатает роман «Бабаев», в котором он объективно сомкнулся с декадентами. Под такими главами, как «Мертвецкая», с успехом можно было поставить имя Федора Сологуба. В главе «Пьяный курган» изображено крестьянское движение эпохи 1905 года, но оно представлено в виде бессмысленного бунта. Мужики разграбили помещичий дом, сожгли хозяйственные постройки, но достаточно было одной роты солдат, чтобы мужики сами покорно легли под розги.
Становой у Ценского так характеризует деревню: «...мужики? Они ручные! Это на них в роде затмения нашло». Финалом картины бунта автор как бы подтверждает слова станового: с поручиком Бабаевым, начальником карательного отряда, случился истерический припадок, и вот один из жестоко выпоротых им мужиков, огромный мужик обхватил его бережно руками, смотрел на него с участливым испугом и дышал ему в мокрое лицо едким: «Барин! Голубь наш сизый! Убивается как... Ничего! Слышь ты, ничего! Мы стерпим...».2
Недаром так понравилась эта характеристика «народной» мужицкой души Дм. Философову. В «огромном мужике» Философов увидел весь русский народ.
Сергеев-Ценский оказался меж двух берегов. От него отказывались реалисты, а модернисты не признавали своим, и для этого у них были основания. Сергеева-Ценского бранила критика слева, а еще больше — справа. Так, «Весы» зло отзывались о его рассказе «Береговое». В свою очередь и Сергеев-Ценский нападал на «Весы». Но «Весы» он критиковал с позиций эстета и главным образом за то, что журнал обзавелся «хулиганствующими рецензентами». Себя Сергеев-Ценский в ту пору мыслил вне партий и социальной борьбы. Вот что он сказал о себе в ноябре 1908 года: «Я просто художник, — больше того, я просто учусь искусству, и художником считаю себя относительно, — но да позволено мне будет уйти от опеки политических партий».3
Однако эти провозглашения Сергеевым-Ценским принципов «чистого искусства» и «беспартийности» своей платформы никак не определяли его сложной и противоречивой позиции, не вскрывали трудных поисков писателем выхода из тупика. Сергеев-Ценский мучительно переживал крушение революции и не мирился с реакцией.
«Читаешь газеты и не веришь глазам. Сколько наших общих знакомых промелькнуло и мелькает еще в ролях им несвойственных, — писал Сергеев-Ценский Миролюбову, — как всех вообще переломала и сломила
- 603 -
жизнь, как омерзительно стало жить на свете вообще и в ликвидированной России в частности».1
С. И. Сергеев-Ценский.
В стихотворении «Змеи», имеющем иносказательный смысл, Сергеев-Ценский писал о падении искусства в годы реакции, об утрате русской литературой исконного для нее гуманистического принципа: в храме русского искусства, где «как орел душа парила», «засверкали чешуями отвратительные змеи».2
Опору для себя Сергеев-Ценский в трудные моменты всегда находил в народе; к народу обратился он и в те тяжкие для родины годы. После явно упадочного романа «Бабаев» Сергеев-Ценский написал в 1908 году повесть «Печаль полей», в которой он в лиро-эпическом плане поставил тему России.
Родина в ту пору в представлении Сергеева-Ценского была деревенской, мужичьей Русью, соломенной страной с ее печальными деревнями и печальными песнями, чем он сближался в трактовке темы России с Блоком, с его циклом стихов о России.
Повесть — скорбь писателя о своей стране, о русском народе, замученном, задавленном реакцией. Лирической грустью, теплыми симпатиями проникнут образ деревни в этой повести. Но в ней уже чувствуется и вера писателя в могучие силы народа. Сергеев-Ценский дал собирательный образ русского крестьянина в лице Никиты: «Никита — существо могучее, темное, пашущее, сеющее, собирающее урожаи, — плодотворец полей».3 Это — добродушный богатырь. Много нужно потратить усилий, чтобы расшевелить, растревожить его. Возчики из озорства бьют Никиту кнутом, кулаками по голове. Но когда он выходит из себя, враги летят, как куклы. Никита расправляется с ними, как былинные Василий Буслаев или Микула Селянинович. Но, побуянив, он стих, обмяк и запел свою невнятную, унылую, тоскливую песню. Никита Сергеева-Ценского — образ не новый. Это вариация все того же Тюлина. В те годы образ героя Короленко был весьма злободневным. Недаром он постоянно фигурировал у Горького: в письмах его, статьях, в каприйских лекциях.
- 604 -
Горький очень любил и высоко ценил «Печаль полей» за мастерство и искренность чувства. «Предвкушаю наслаждение перечитать еще раз „Печаль полей“, вещь, любимую мною», — писал Горький Сергееву-Ценскому в 1927 году.1
Тема народа проходит и через другие произведения Сергеева-Ценского конца 900-х — начала 910-х годов. По-своему преломилась она в повести «Наклонная Елена», в которой варьируется мотив «Молоха» Куприна. Инженер Матиец с своей абстрактной гуманностью не мог противостоять жестоким законам капиталистического порядка, законам буржуазной морали. Он решил покончить с собой, но его спасает от самоубийства и возвращает к новой жизни борьбы и труда шахтер Божок. Божка за грубость Матиец уволил в тот момент, когда вопрос о самоубийстве был решен. В пьяном виде Божок избил Матийца, но затем, чутьем поняв, как несчастен Матиец, шахтер отнесся к инженеру с сердечной жалостью, с какой-то чисто женской теплотой. В грубом, озлобленном, замученном каторжным трудом, бесправном шахтере Матиец увидел подлинного, большой и высокой души человека, и это исцелило его от малодушия. В повести показаны картины шахтерского труда, показана страшная эксплуатация рабочих русскими и иностранными капиталистами, причем эти картины не являются каким-то натуралистическим придатком к повествованию, они вошли составной частью в художественную летопись, в психологическую ткань произведения.
Переоценка творчества Сергеева-Ценского в критике началась, когда в 1911 году была напечатана повесть «Движения», а вслед за ней появились «Наклонная Елена», «Медвежонок» и другие произведения писателя.
Отмечая отход Сергеева-Ценского в 910-х годах от модернизма, буржуазная критика в то же время полностью зачеркивала антидекадентскую позицию раннего Сергеева-Ценского кануна и эпохи 1905 года, неправомерно утверждала, что «фон и смысл, и содержание первоначальных рассказов Ценского — это сплошной мрак, бессмыслица, коварство, зло, тупость, нелепость».2
Разрыв с декадентством в произведениях Сергеева-Ценского 910-х годов был полный. В «Движениях», «Медвежонке» и других произведениях рок, судьба как мистическая сила заменяются реальным течением обстоятельств, которым автор придавал острый социально-философский смысл. Герой «Движений» Антон Антоныч — весь порыв, неутомимость, энергия. В его лице Сергеев-Ценский изобразил тип дельца, предпринимателя, нового Лопахина, пришедшего на смену худосочным, бездельным, инертным дворянам. Антон Антоныч покупает барское имение и полон смелых хозяйственных проектов. Однако все разом рухнуло: сгорела усадьба, в скором времени умер и сам хозяин. Но если в «Лесной топи» гибель людей, все их поступки обусловлены действием какой-то темной мистической силы, перед которой человек беспомощен, пассивен, то в «Движениях» все имеет реальную разгадку. Усадьбу поджег Веденяпин, который надевал на себя маску разочарованного человека философа-скептика, а на самом деле был просто низким, бесчестным человеком. Антон Антоныч умирает от рака. Он давно носил в себе болезнь, но не замечал ее. Произошло совпадение несчастных случаев и только. Вся повесть носит конкретный социальный характер, говорящий об обреченности нового хозяина России, буржуазного дельца.
- 605 -
Начало отхода Сергеева-Ценского от модернизма, от реакционного философского пессимизма Горький почувствовал еще в повести «Печаль полей», и с той поры он неослабно следил за творчеством писателя, все более и более убеждаясь в правильности своего прогноза. В связи с публикацией в 1912 году в сборнике «Издательства писателей» рассказа Сергеева-Ценского «Медвежонок» Горький заметил в письме к Миролюбову: «В самоиздательском сборнике превосходен Ценский», и о самом сборнике: «Сборники вывезут, может быть Ценский с Буниным».1
«Красивым и быстрым ростом его (Сергеева-Ценского, — Ред.) таланта я с радостью любуюсь», — писал Горький в том же 1912 году Н. Клестову.2 В письме к Недолину в том же году Горький назвал Сергеева-Ценского «очень большим писателем», «самым крупным, интересным и надежным лицом» в литературе тех лет.3
О Сергееве-Ценском 910-х годов, авторе «Наклонной Елены» и других произведений, твердо вставшем на путь реализма, горьковская «Летопись» отзывалась так: «В этом писателе, еще не развернувшем „во всю“ своего дарования, счастливо сочетались талант живописца с пытливым умом, честным и философски-острым... Художник этот успел пройти через отрицание мира, сквозь лабиринт сомнений, тревог и колебаний. „Наклонная Елена“ является интересным этапом на этом пути...
«Остальные произведения книги — рассказ „Лерик“ и два этюда к роману „Преображение“ — только закрепляют за книгой значение одного из отраднейших явлений „сегодняшнего“ нашего искусства».4
В 910-е годы Сергеев-Ценский в зарисовке характеров, в манере письма отошел от импрессионизма, от модернистских своих увлечений. Его художественное письмо стало простым, даже строгим, чрезмерную орнаментальность стиля, «зарево метафор» сменил четкий, сжатый, но ясный рисунок. Новый общественный подъем выпрямил Сергеева-Ценского, заразил его верой в рабочий народ. Приветствуя возобновление Миролюбовым популярного «Журнала для всех» под названием «Новый журнал для всех», Сергеев-Ценский писал ему 16 октября 1913 года: «Теперь, пожалуй, популярный журнал имеет больше права быть, чем толстый, интеллигентский... В „наше“ время не было рабочих газет, а уж скольких они новых читателей подготовили, — не счесть! Желаю Вам огромной подписки, успеха и довольства».5
В эти годы писатель был поглощен замыслом и работой над своим романом-эпопеей «Преображение».
Примечательно заявление Сергеева-Ценского о своем романе в письме к Миролюбову: «„Успеха“ иметь он не будет, как я думаю, потому что в нем нет ничего ропшинского».6 Под ропшинским (Ропшин — псевдоним Савинкова, автора реакционных романов «Конь бледный» и «То, чего не было») Сергеев-Ценский подразумевал все упадочническое, нездоровое в литературе тех лет, что так поощрялось реакционными буржуазными журналами. Он отделял от этой литературы свой роман, в котором утверждался пафос жизни.
- 606 -
«Я люблю землю, — вообще землю и свою»; «Нет мира, кроме земного мира, и человек да будет поэт его!» — такие лирические места в этюдах к «Преображению» («Благая весть» и «Около моря»), написанных Сергеевым-Ценским в начале 910-х годов, были вместе с тем и лейтмотивом его эпопеи.1
Недаром так любил и высоко ценил «Преображение» Горький. В 1926 году, когда была написана первая часть эпопеи — роман «Валя», Горький в письме к Сергееву-Ценскому дал развернутую, глубокую характеристику произведения, исключительно высоко оценив его. К переводам «Преображения» на английский, французский и мадьярский языки Горький написал предисловие-очерк о творчестве Сергеева-Ценского. В «Преображении» Горький видел здоровую перестройку писателя и столь импонирующие ему, Горькому, жизнеутверждающие, гуманистические принципы, которые получили свое дальнейшее развитие в творчестве Сергеева-Ценского советского периода.
СноскиСноски к стр. 574
1 Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей. Собрал Ф. Ф. Фидлер, М., 1911, стр. 125.
Сноски к стр. 575
1 С. И. Гусев-Оренбургский, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. «Жизнь и знание», СПб., 1913, стр. 197. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XIV, 1913—1918). В скобках римскими цифрами обозначен том, арабскими — страницы.
Сноски к стр. 576
1 С. И. Гусев-Оренбургский. Рассказы. 3 тома, Изд. «Знание», 1903—1910.
2 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 183.
Сноски к стр. 579
1 С. Елеонский. Рассказы. 2 тома, Изд. «Знание», 1903—1908; в 1911 году вышли: Рассказы. 2 тома, Изд. «Общественная польза». В дальнейшем цитируются оба издания. В скобках указывается том (римская цифра), год и страница (арабская цифра).
Сноски к стр. 583
1 Статья П. Щеголева в «Вестнике и библиотеке самообразования» (1903, № 18, стр. 791).
Сноски к стр. 584
1 Ю. Александрович. После Чехова. М., 1908, стр. 68.
Сноски к стр. 586
1 В 1903—1909 годах «Знание» выпустило сочинения Е. Чирикова в 8 томах. Новое 17-томное «Собрание сочинений» было издано в 1910—1914 годах «Московским книгоиздательством».
Сноски к стр. 587
1 М. Горький. Материалы и исследования, т. III, стр. 39—41.
Сноски к стр. 588
1 М. Горький. Материалы и исследования, т. III, стр. 44.
2 См. доклад заведующего особым отделом департамента полиции от 14 апреля 1901 года (Революционный путь Горького. Гослитиздат, М., 1933, стр. 47—51).
3 В. А. Поссе. Мой жизненный путь. Л., 1929, стр. 270.
4 Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи, Иваново, 1938, стр. 40.
5 Р. Н. Никакого сходства с прошлым. — «Горьковская коммуна», 1935, № 192, 21 августа.
Сноски к стр. 589
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 194.
2 См. также: Собрание сочинений Скитальца в 6 томах. Изд. «Жизнь и знание», 1916—1919.
Сноски к стр. 590
1 С. Скиталец, Избранные рассказы, Изд. «Советский писатель», 1939, стр. 238, 239.
Сноски к стр. 591
1 С. Скиталец, Избранные рассказы, стр. 104, 105.
Сноски к стр. 593
1 В 1908 году издательство «Шиповник» выпустило первый том «Рассказов» Муйжеля, который вскоре был конфискован цензурой из-за рассказа «Солдаты». По 1910 год вышло четыре тома произведений Муйжеля. В 1911—1912 годах издательство «Просвещение» издало 12 томов «Собрания сочинений» Муйжеля.
Сноски к стр. 595
1 В. Муйжель. Возвращение. ГИЗ, М. — Л., 1926, стр. 20.
Сноски к стр. 597
1 Н. Телешов. На тройках. Очерки и рассказы. М., 1895, стр. 45.
2 Н. Телешов, Избранное, Изд. «Советский писатель», М., 1948, стр. 14.
Сноски к стр. 598
1 Издательство «Знание» издало в 1903—1908 годах «Рассказы» Н. Телешова в 2 томах.
2 Н. Телешов. Записки писателя. М., 1948, стр. 95.
Сноски к стр. 599
1 Н. Телешов. Записки писателя, стр. 109.
Сноски к стр. 601
1 С. Сергеев-Ценский. Рассказы, т. V. Изд. «Шиповник», 1910, стр. 221, 223, 225.
2 Там же, стр. 229.
3 С. Сергеев-Ценский, Избранное, Изд. «Советский писатель», М., 1941, стр. 527.
4 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Акад. Наук СССР, архив В. С. Миролюбова, ф. 185, оп. 1, № 1051.
Сноски к стр. 602
1 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Акад. Наук СССР, архив В. С. Миролюбова, ф. 185, оп. 1, № 1051.
2 С. Сергеев-Ценский. Бабаев. СПб., 1909, стр. 216, 224.
3 «Лебедь», 1908, № 1, стр. 33.
Сноски к стр. 603
1 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Акад. Наук СССР, архив В. С. Миролюбова, ф. 185, оп. 1, № 1051.
2 «Лебедь», 1908, № 2, стр. 49. В этом журнале было опубликовано еще несколько стихотворений Сергеева-Ценского.
3 С. Сергеев-Ценский, Избранное, стр. 105.
Сноски к стр. 604
1 С. Сергеев-Ценский, Избранное, стр. 545—546.
2 «Вестник Европы», 1916, № 11, стр. 305.
Сноски к стр. 605
1 М. Горький. Материалы и исследования, т. III, стр. 91.
2 Там же, т. II, стр. 432.
3 С. Сергеев-Ценский, Избранное, стр. 527.
4 «Летопись», 1916, № 11, стр. 313, 314.
5 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Акад. Наук СССР, архив В. С. Миролюбова, ф. 185, оп. 1, № 1051.
6 Там же.
Сноски к стр. 606
1 Сергеев-Ценский. Сочинения, т. VII, М., 1916, стр. 184, 187.