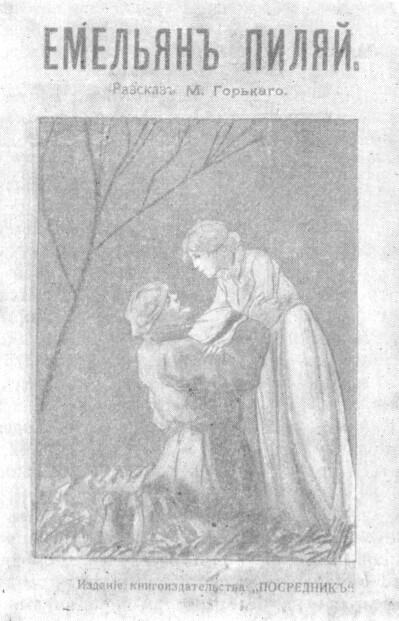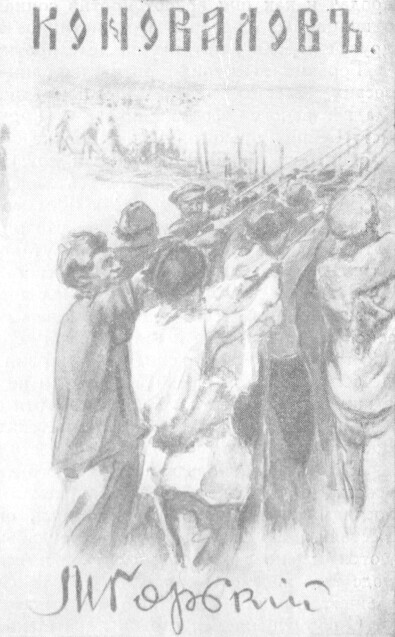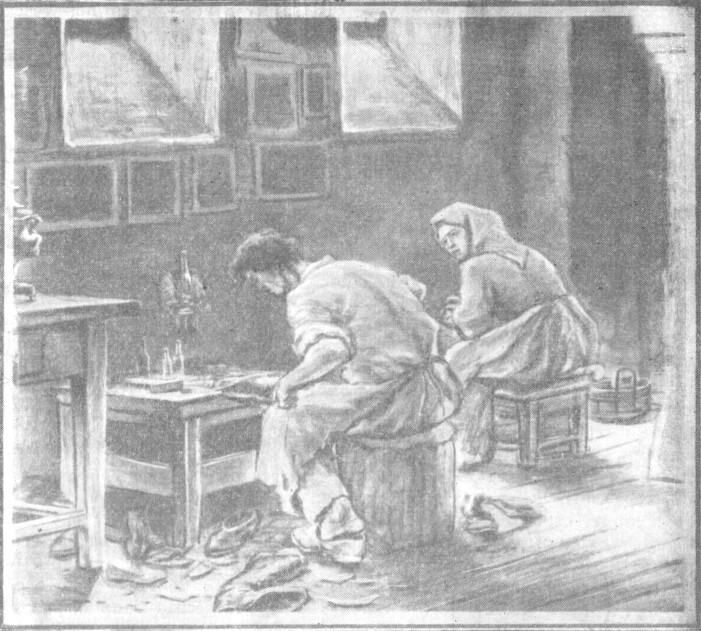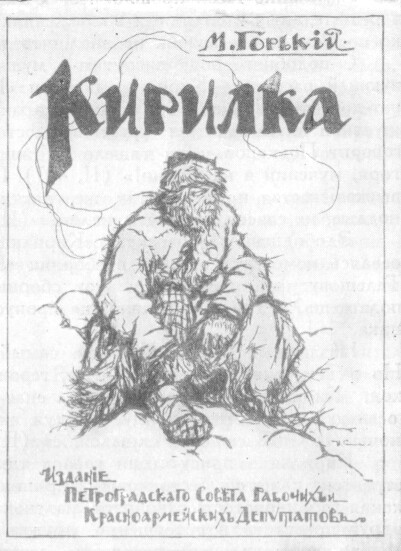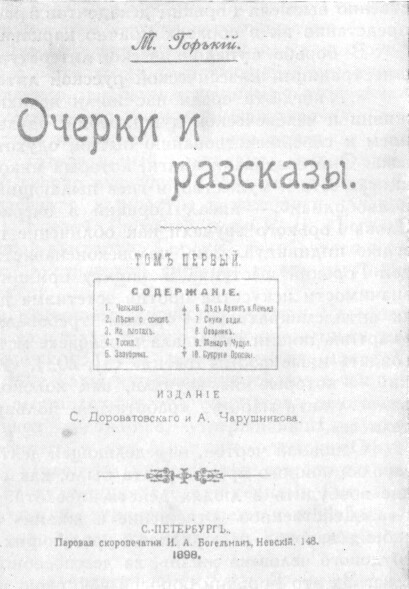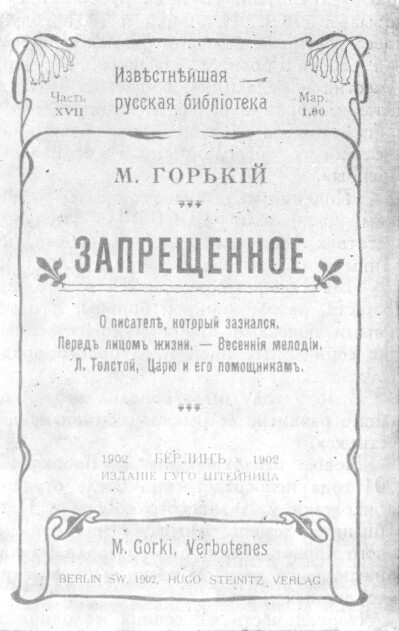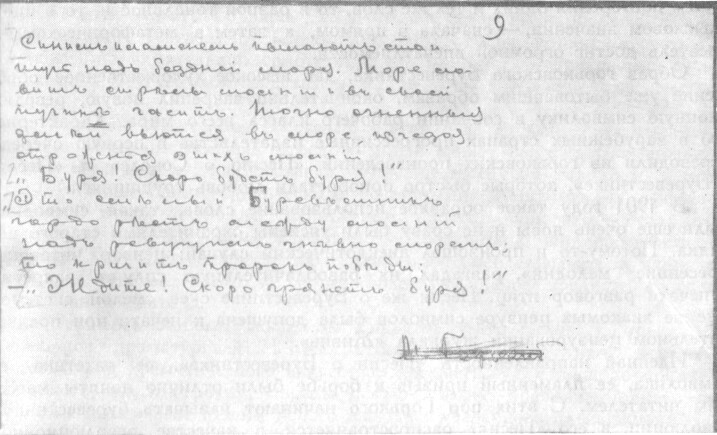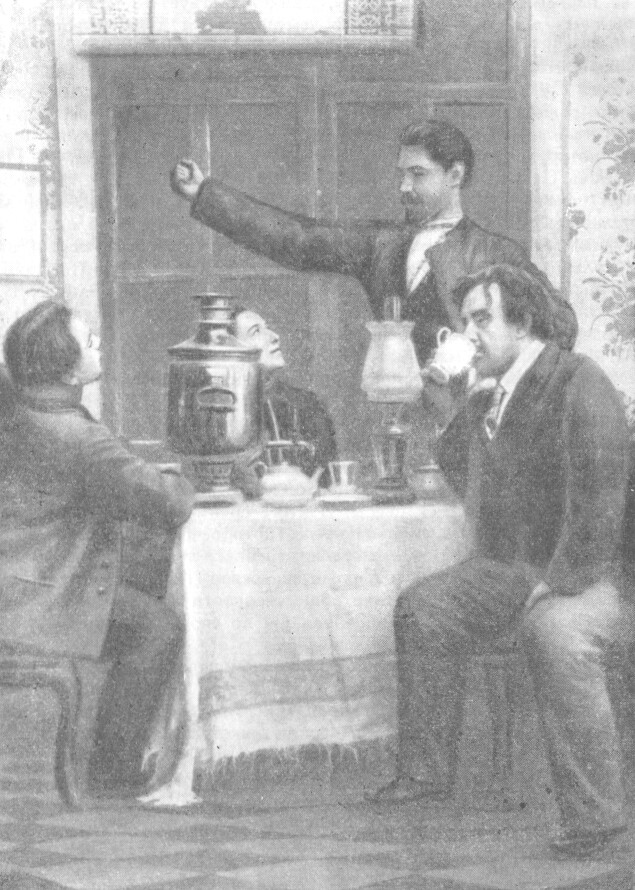- 225 -
Творчество Горького 90-х годов
1
Вступление в литературу и вместе в революционную борьбу художника пролетариата, основоположника социалистической литературы Горького совпало с началом третьего, пролетарского периода освободительного движения в России, периода «движения самих масс», с началом деятельности гениального вождя пролетариата и создателя его партии В. И. Ленина.
«Появление Горького в русской литературе, — писала «Правда» в первую годовщину смерти великого писателя, — совпало с первыми литературными трудами Ленина, с образованием первых революционных организаций рабочего класса в России. Горький возвестил в русской художественной литературе приход рабочего класса. Он был буревестником пролетарской революции».1
Творчество молодого Горького было проникнуто высокой идейностью, насыщено принципиальной и острой социальной проблематикой, в которой сочетались и гневное обличение, и страстный призыв к героическим подвигам. Горький создал образы, исполненные силы и мужества, страстного негодования и большой самоотверженной любви, жажды борьбы и гордого призыва к свободе.
Горький начал свою литературную деятельность как поэт.
О боевой, оптимистической, гражданской направленности ранней поэзии Горького говорит одно из немногих дошедших до нас стихотворений, в котором писатель декларирует свою позицию:
Не браните вы музу мою,
Я другой и не знал, и не знаю,
Не минувшему песнь я слагаю,
А грядущему гимны пою.2В ранней поэзии Горького звучали порой нотки горечи и разочарования. Однако они не имели ничего общего с бескрылой поэзией 80-х годов, поэзией безволия и пессимизма; они возникали вследствие действенной непримиримости юноши-поэта с окружавшими его ложью и злом, вследствие вражды его с буржуазно-мещанской средой.
Мотивы разочарования в стихах молодого Горького не занимали сколько-нибудь значительного места, они были преходящим и кратковременным
- 226 -
явлением. Определяющим началом горьковского творчества той поры был наступательный пафос, пафос радости жизни, борьбы.
Программные заявления поэта: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться», «Я грядущему гимны пою» — получили свое идейное и художественное развитие в его творчестве первой половины 90-х годов.
В таких произведениях, как «Песня о Соколе», «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины», а также в «Весенних мелодиях» (заключительной частью последних была знаменитая «Песня о Буревестнике») Горький прибегает также и к жанровой специфике, намеченной в поэме «Песнь старого дуба», — к сочетанию прозы и стихов. Характерно и закрепление Горьким в названиях своих боевых, революционных стихотворений слова «песня».
Ранние произведения — «Девушка и Смерть», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» — идейно близки друг другу. Каждое из них является гимном героическому настоящему и светлому грядущему. Все они проникнуты идеей утверждения жизни, достойной человека, наполнены призывом к действенной, мужественной борьбе за нее. Эти произведения — манифесты истинного гуманизма и демократизма.
«Девушка и Смерть» была отослана Горьким в 1892 году в казанскую газету «Волжский вестник», но редактор газеты Рейнгардт, боясь цензуры, отказался напечатать поэму.
Горький опубликовал это произведение лишь в 1917 году, незадолго до Великой Октябрьской социалистической революции. Он предполагал, что «Девушка и Смерть» вызовет отклики критики, но буржуазная критика предпочла обойти молчанием поэму, утверждающую победу жизни над смертью.
Идея поэмы раскрыта И. В. Сталиным. 11 октября 1931 года он написал на тексте книги Горького: «Эта штука сильнее, чем „Фауст“ Гете (Любовь побеждает смерть)».1
Девушка, ведущая себя безбоязненно перед деспотом-царем, девушка, которая «стоит пред Смертью смело», — это символ жизни. В этом образе был воплощен тот исторический оптимизм, который являлся органическим качеством Горького как художника пролетариата.
В поэме «Девушка и Смерть» отчетливо обозначился горьковский подход к освоению богатств русского народного творчества. Горький развивает передовые традиции русской литературы XIX века — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, — решительно выступая и против фольклорной экзотики — распространенного в реакционной литературе эстетского любования фольклором, и против этнографизма, т. е. использования фольклора с целью придать произведению местный колорит. Творчески перерабатывая фольклор, Горький усиливает и обогащает народнопоэтические мотивы и образы, заостряя их против враждебных народу социальных форм жизни, против реакционной эстетики. Борясь с реакционной фольклорной романтикой, Горький совершенно по-новому дает образ Смерти — он снижает, опрощает традиционный образ, переводя его в бытовой, житейский план. Горький изображает Смерть в виде ворчливой, грубоватой старухи, одетой в лапти и простую деревенскую одежду; старуха-смерть любит подремать, грея на солнце старые кости. Рассказ о Каине и Иуде, вставленный в сказку в виде сна Смерти, представляет собою вариант духовного стиха, апокрифического сказания-легенды, близкого к тем сказам горьковской бабушки Акулины Ивановны про Иону, Ивана-воина, дьякона Евстигнея,
- 227 -
которые в творчески переработанном виде введены в повесть «Детство».
Иллюстрация:
Номер газеты «Кавказ», в котором был опубликован первый рассказ М. Горького
«Макар Чудра». 12 сентября 1892 г.В духе народной сатирической сказки дан Горьким образ царя; в лице его разоблачаются жестокость, произвол, насилие.
В поэме «Девушка и Смерть» ярко выразился основной принцип всего горьковского творчества: воспевание смелых и сильных духом борцов во имя жизни и разоблачение тех, кто исковеркал жизнь, поработил человека и продолжает убивать его физическую и духовную силу.
Общим для ранних произведений Горького («Девушка и Смерть», «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины», «О маленькой фее и молодом чабане») является воспевание сильной воли и страстного стремления к свободе, противопоставленных обывательской морали, рабьей «философии» мещанства, с его инертностью, пошлостью, трусостью, боязнью нового. В «Макаре Чудре» и «Валашской сказке» воспроизведен один и тот же пейзаж — бескрайняя степь и необъятный купол неба, показаны сильные волей, крепкие духом, бесстрашные свободолюбивые люди — Лойко, Радда, Чабан. В настроении Чабана, во всем его поведении в бурю и в самом характере изображенной бури-грозы есть нечто созвучное героическим Соколу и Буревестнику.
Жизнеутверждающей идеей, пафосом борьбы света с тьмой, передового, свободолюбивого с инертным, реакционным проникнута песня Чижа в произведении «О чиже, который лгал...». Чиж зовет птиц лететь «туда — и страну счастья!.. Туда — в это чудное „вперед“!», где «вечный неиссякаемый свет», где жизнь исполнена достойных человека деяний (I, 129). В этом произведении Горький использует традицию сатирических сказок Салтыкова-Щедрина. Однако путем сочетания сатиры с гимнами грядущей
- 228 -
светлой жизни, с ярким выражением революционного пафоса он создает свой особый жанр.
В рассказе «Старуха Изергиль», содержащем в себе знаменитую легенду о мужественном Данко, и в «Песне о Соколе» Горький наиболее ярко выразил в начальный период своей деятельности свои революционные настроения, свои не вполне еще осознанные предчувствия революции. Писатель противопоставил в них революционно-гуманистические идеи культу крайнего индивидуализма и антигуманизма в буржуазной литературе и философии, одним из представителей которой был Ф. Ницше.
В «Старухе Изергиль» противопоставлены друг другу две сильные личности: Ларра и Данко. Ларра — это и есть «сверхчеловек» Ницше, эгоист, деспот, насильник; он проклят людьми, наказан вечным одиночеством, отчуждением. Данко — натура героическая, бесстрашная, самоотверженная. Он не пожалел своей жизни для спасения людей, вырвал свое сердце и, освещая им, как горящим факелом, дорогу, вывел людей из мрака лесной трущобы к свету, к свободе. От образа Данко идут прямые нити к героям «Матери», к образу большевика Павла Власова, которому в такой же степени свойствен высокий подвиг служения народу, как и Данко. В повести «Мать» о Павле Власове говорится, что его охватило необоримое желание «бросить людям свое сердце, зажженное огнем мечты о правде» (VII, 246).
«„Сердце Данко“ было встречено нами с восторгом, — рассказывает П. А. Заломов, послуживший прообразом Павла Власова, в своих воспоминаниях о том, как восприняли революционные рабочие 90-х годов рассказ «Старуха Изергиль», — оно в унисон билось с нашими сердцами... Каждый из нас знал, что его сердце также сгорит в борьбе за победу социализма и видел и чувствовал в этой борьбе единственный смысл, единственное счастье своей жизни».1
Такую же роль сыграл и образ Сокола.
В «Песне о Соколе», как и в легендах-рассказах старухи Изергиль, Горький использовал принцип идейного контраста: гордый, мужественный, самоотверженный Сокол противопоставлен низменно эгоистическому и малодушному Ужу. Горький сочетает здесь сатиру с гимном мужеству и бесстрашию.
«Песня о Соколе» проникнута страстным революционным пафосом борьбы с врагом, она — пламенный призыв к свободе, к свету, к героическим подвигам. В ней отразились настроения пробуждающегося к революции рабочего класса. П. А. Заломов, вспоминая 90-е годы, годы своего вступления на путь революционной деятельности, так определил революционную значимость «Песни»:
«Песня о Соколе была для нас ценнее десятков прокламаций. Мы изумлялись глупости царской цензуры, пропустившей ее. Разве только мертвый, или неизмеримо низкий и трусливый раб, мог от нее не проснуться, не загореться гневом и жаждой борьбы».2 «Она была созвучна нашим настроениям, она доводила нас до слез восторга».3
Для программных, революционных произведений Горького 90-х годов характерен аллегоризм, иносказательность. Аллегорию Горький считал наиболее сильным средством поэтического обобщения революционных дум
- 229 -
и настроений, действенной формой пропаганды их. Недаром «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» распространялись как прокламации.
Вот что в те годы писал Горький по поводу аллегории как поэтического средства: «...в форме аллегории можно удобнее и проще сказать то, что хочешь..., в рамки аллегории можно уложить... грандиозную тему... Под аллегорией можно ловко скрыть сатиру, колкость, смелую речь, в нее можно вложить огромное идейное содержание».1
В аллегорических произведениях и легендах Горький сделал первые попытки создания образов положительных героев.
2
В статье «О том, как я учился писать» (1928) Горький заметил: «...на вопрос: почему я стал писать? — отвечаю: по силе давления на меня „томительно бедной жизни“ и потому, что у меня было так много впечатлений, что „не писать я не мог“. Первая причина заставила меня попытаться внести в „бедную“ жизнь такие вымыслы, „выдумки“, как „Сказка о соколе и уже“, „Легенда о горящем сердце“, „Буревестник“, а по силе второй причины я стал писать рассказы „реалистического“ характера — „Двадцать шесть и одна“, „Супруги Орловы“, „Озорник“» (XXIV, 473).
Раннее творчество красноречиво свидетельствует о богатстве жизненных впечатлений молодого Горького.
Создав героические образы Девушки, Данко, Сокола, Горький в своих рассказах, повестях, очерках и фельетонах коснулся также множества других, социальных тем. Он писал о рабочих людях и об их эксплуатации в условиях капитализма, о жертвах капитализма — босяках, об интеллигенции, мещанстве и т. д.
Главный герой большинства рассказов Горького — это человек из народа, представитель трудовых слоев города и деревни.
Горький хорошо знал русский народ, любил его за высокие духовные, моральные качества, восхищался его изумительной талантливостью, предсказывал ему великое и светлое будущее и неустанно боролся за это будущее.
Горький видел и понимал, что русский народ поставлен в невыносимые условия жизни. Молодой Горький пишет о том, как голод и безземелье снимают крестьян с насиженных мест, как они попадают на промыслы, где господствует жестокая эксплуатация («На соли», «Мой спутник», «Челкаш»), как многие из них превращаются в нищих, бродяг, босяков («Дед Архип и Ленька», «Емельян Пиляй», «Два босяка»), как разрастается в городах нищенство, проституция («Нищенка», «Однажды осенью»).
Со всей суровой правдивостью Горький пишет о том, как собственничество заражает своим ядом людей из народа, разобщает их, порождает эгоизм, индивидуализм, как они становятся рабами собственничества. Жаждой накопления одержим босяк Емельян Пиляй. Мечта Емельяна — добыть денег и стать кабатчиком и тем самым «независимым». Для достижения этой цели Пиляй оправдывает даже такое средство, как убийство. Из-за денег готов убить Челкаша крестьянин-бедняк Гаврила.
Рассказ «Челкаш» свидетельствует о том, как правильно и глубоко оценивал молодой Горький всю враждебность, губительность для человечества капиталистической системы, в условиях которой рабочий народ,
- 230 -
создающий все материальные и духовные ценности, сам лишен их; больше того, эти ценности, например машины, в руках капиталистов являются средством еще большего порабощения народа. В картине порта, которой начинается рассказ, Горький показывает, с одной стороны, гиганты-пароходы, могучие машины, созданные человеком, а с другой, — отупевших от усталости, оборванных, потных, грязных рабочих. «В этом сопоставлении, — пишет Горький, — была целая поэма жестокой иронии» (I, 359).
Внешне эта картина не связана с идущим вслед за ней повествованием «о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми» (I, 390), но она является ключом к пониманию идейного смысла происходящего, того, что описано далее. Картина порта говорит о капитализме и его волчьих законах, о порабощении одних другими во имя собственности. Эти волчьи законы выбросили Челкаша и Гаврилу из мирной трудовой жизни и поставили их во враждебные отношения друг к другу. Знаменательные слова автора: «...и все кругом — казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко» (I, 359) — ярко говорят о революционном устремлении писателя, о предчувствии им надвигающегося революционного взрыва. Следует отметить, однако, что Горький в ту пору еще не представлял себе, как произойдет революционный переворот.
3
Развитию и углублению социально-политических взглядов Горького, расширению его кругозора, выработке большей остроты и принципиальности в постановке новых тем и проблем содействовала работа Горького как публициста в «Самарской газете», «Нижегородском листке» и «Одесских новостях» в 1895—1896 годах.
Весной 1895 года Горький, по рекомендации В. Г. Короленко, был приглашен «Самарской газетой» в качестве постоянного обозревателя газетных известий и автора воскресных беллетристических фельетонов. Вскоре ему был поручен и фельетон на местные темы. Литературная работа захватила Горького, и он в исключительно короткий срок стал основным и даже ведущим работником газеты, руководя ее наиболее боевыми участками. Сотрудничество в газете в качестве постоянного фельетониста, публициста и беллетриста развило в Горьком навыки писателя-профессионала.
Создавая под псевдонимом Иегудиил Хламида серию фельетонов «Между прочим»,1 Горький целиком вошел в интересы самарской жизни; он не пропускал ничего примечательного, на чем мог бы задержать свое внимание острый глаз газетчика. В то же время типичность явлений общественной и бытовой жизни города Самары, так сказать, выверялась Горьким путем систематического ежедневного знакомства с провинциальной печатью России, что он делал для обзорной серии «Очерки и наброски». Перед Горьким-газетчиком раскинулось огромное море житейских фактов и явлений. Горький — внимательный наблюдатель текущих явлений действительности и острый их аналитик; он пытливо всматривался во все углы жизни и, обобщая явления, естественно, приходил к мысли об общих законах, на которых строилась социальная жизнь тогдашней России.
- 231 -
Самара была воспринята Горьким как «показательный» город, как город-символ, характеризующий буржуазный строй и быт русской провинции 90-х годов.
«Духовный» облик города, в котором в ту пору на сто тысяч жителей приходилось грамотных около восьми тысяч, Горький очень удачно очертил в своем сатирическом четверостишии, помещенном в одном (1895, № 226, 20 октября) из фельетонов «Между прочим»:
Смертный, входящий в Самару с надеждой в ней встретить культуру,
Вспять возвратися, зане город сей груб и убог.
Ценят здесь только скотов, знают цены на сало и шкуру,
Но не умеют ценить к высшему в жизни дорог.Обобщающую сатирическую характеристику купеческого города Самары, этого «российского Чикаго», Горький дал в фельетоне «Самара во всех отношениях», основную мысль которого можно сформулировать так: Самара — типичный уголок буржуазного мира, поскольку в нем хозяйничают «млекопитающие из породы хищников». Горький обличал представителей городского самоуправления Самары как людей нерадивых, мало заботящихся об интересах города; они подменяли полезную деятельность шумихой — организацией бесчисленных и бездеятельных комиссий, стряпней отчетов, которые Горький остроумно назвал «балалайками». Истинные управители города — это «денежные тузы», толстосумы, люди своекорыстные, равнодушные к городу, настоящие «самоуправцы». В результате такого «самоуправления» в городе царил потрясающий контраст: город миллионеров в то же время был городом нищих. В этом городе, с низким материальным уровнем жизни преобладающего населения и бескультурьем, жили «дикие» люди и господствовали «дикие» нравы. Обывательская масса, ее нравы, развлечения — постоянная тема фельетонов Горького.
Много места в своих фельетонах Горький уделил демократическим группам населения. В «Между прочим» мы найдем сочувственные зарисовки жизни и быта окраин, городской бедноты, для которой «грош — большая сумма». С особой теплотой Горький писал о детях-тружениках, о беззащитных, тяжко эксплуатируемых на производстве подростках.
Внимание Горького привлекла и демократическая интеллигенция, в частности, учителя низшей школы; об этих «скромных и бескорыстных тружениках, тихо творящих великое дело воспитания будущего человека»,1 Горький всегда писал с глубоким уважением.
Конкретные факты самарской действительности Горький использовал как повод к обобщающей характеристике коренных особенностей русской жизни.
В жанре фельетона, проникнутого едким сарказмом и негодованием, Горький по существу создал острый памфлет против современности и вынес суровый приговор «застоявшейся и бедной событиями русской жизни».
Одновременно с серией фельетонов на местные темы Горький вел в той же «Самарской газете» серию обозрений провинциальной печати — «Очерки и наброски».
До прихода Горького в газету «Очерки и наброски» обычно состояли из набора газетных цитат, скрепленных краткими пояснениями самого обозревателя. Горький коренным образом изменил характер этой серии. «Очерки и наброски» вскоре стали вторым фельетоном газеты.
- 232 -
Горьковский фельетон обычно включал несколько разнородных тем, выделенных заглавием; сначала давалась обширная выдержка из газетного сообщения (чаще всего из поволжской и южной провинциальной печати) и затем оценка этого сообщения фельетонистом. Порой фельетон превращался в статью, лишь косвенно связанную с газетной хроникой. Это давало Горькому возможность писать о том, что казалось ему наиболее значительным. Во многих фельетонах Горький останавливал свое внимание на прессе, на роли печати в провинциальных условиях, на отношении читателя к газете и к газетчику-корреспонденту. По утверждению Горького, задача «газетчиков» заключалась в том, чтобы вызвать «горячей кровью сердца и неподдельным соком нервов» уважение к печатному слову, внимание к нему и веру в его «просветительную деятельность для нашей страны».
В свете этих высоких задач Горький с большой горячностью то открыто изобличает, то вдумчиво и скорбно обсуждает большой круг вопросов, подсказанных фактами провинциальной жизни.
Основные темы «Очерков и набросков» совпадают с темами «Между прочим». Горький показывает жуткие проявления невежества обывателей, хищничества и морального разложения буржуазии. Новым для Горького-газетчика был показ деревенской России.
Газетная работа одновременно в двух планах — на материале местном, самарском, и на материале общепровинциальном (кроме того, в ряде статей освещались факты, заимствованные из столичной печати) — позволила Горькому увереннее суммировать свои наблюдения и давать обобщающие оценки. В сознании Горького явления городской жизни Самары расширялись до значения явлений общероссийских и в то же время социально-бытовые явления необъятной российской провинции конкретизировались на примерах жизни Самары.
Работа Горького в газете, совершенно исключительная как по количеству его выступлений, так и по разнообразию их тематики, протекала в условиях строгой цензуры, «самоуправского» недружелюбия и обывательского зубоскальства. В ней были, да и не могли не быть у начинающего фельетониста, стилистические погрешности, обусловленные спешной работой, жизнью «в непрерывной тревоге». Горький так объяснял причины появления в своих газетных статьях резкого, грубоватого тона:
«Если мы, газетные волки, вечно всеми травимые, иногда слишком зверски и резко огрызаемся, — нам это простительно.
«Мы утомляемся до бешенства и мы слишком много говорим для того, чтобы не ошибаться, а говорить меньше нам нельзя, потому что нас мало».1
Горький не закрывал глаза на недостатки своих статей и чутко прислушивался к дружеской, доброжелательной критике таких писателей, как Гарин-Михайловский и Короленко.
Фельетонно-публицистическая и беллетристическая работа Горького была замечена читателями и высоко оценена его товарищами по перу. В 1896 году Горький был привлечен к сотрудничеству в «Нижегородском листке» и в «Одесских новостях». Эта работа явилась для Горького-публициста новой ступенью развития.
Центральной темой публицистики Горького в 1896 году была нижегородская Всероссийская художественно-промышленная выставка («Беглые заметки», «С Всероссийской выставки»).
Главная задача выставки, по определению Горького, была в том, чтобы «представить стране возможно полное собрание продуктов ее труда, возможно
- 233 -
яркое изображение хода ее промышленной жизни».1 Но эта задача в целом не удалась. Экспоненты отнеслись к выставке как к рекламе своих фирм, как к громадной ярмарке. Выставка превратилась в «универсальную лавочку», в которой были собраны образцы разных товаров «на показ». С точки зрения Горького, одним из самых существенных недостатков выставки, снижающим ее культурное и общеобразовательное значение, явилось отсутствие на ней демонстрации самих процессов производства.
Буржуазные фельетонисты А. Амфитеатров, В. Дорошевич и другие изо всех сил старались расхваливать «успехи», «достижения», «победы» русского капитала. Народническая пресса (Н. Ф. Анненский и др.) старалась использовать непопулярность выставки для доказательства правоты своей доктрины. Горький использовал выставку для разоблачения наглого, невежественного, разбойничьего капитализма, поднял голос в защиту трудового народа, рассказал об изумительной талантливости и трудолюбии русского человека.
Обозревая отделы выставки, Горький не ограничивается рассказом о значении представленной отрасли труда, но, отправляясь от частного материала, подводит к общим выводам, накапливает отдельные наблюдения для цельной картины. Со свойственной ему страстностью он заклеймил основную черту капитализма — его наглое хищничество.
Снимая с капитализма внешний покров благоприличия, писатель обнажал всю преступную деятельность королей промышленности (Нобеля и др.). Горький писал о страшных, нечеловеческих условиях жизни рабочих-нефтяников в Баку, о грязи, нищете, о поражающей смертности. Писал он и о невероятно тяжелых условиях жизни и труда рабочих на заводах Алафузова, братьев Крестовниковых и других. Отмечая прогрессивный характер техники, которая могла бы облегчать труд рабочих и улучшать их быт, Горький с возмущением указывает на социальные условия, которые превращают человека-творца в «придаток к машине». Таким образом, уже тогда, разоблачая «культуру» «века меркантилизма», писатель с особой силой выступал против тех сторон капиталистического строя, которые наиболее полное свое выражение нашли в американской жизни, как это показано позднее в памфлете «Город Желтого Дьявола». Интересуясь при обзоре отделов выставки данными о размерах и характере производства, о местах закупки сырья, о развитии обрабатывающей техники, Горький неизменно ставил вопрос о роли и положении производителей всех ценностей — рабочих.
Настойчиво возвращаясь к этому, он приковывал внимание посетителей выставки к вопросу об эксплуатации рабочих, об изнурительных условиях труда, о положении российского пролетариата, подводил их к мысли о необходимости борьбы за интересы трудового русского народа. И перед сознанием Горького-публициста возникал обобщенный образ родной страны и русского человека. Выставка рождала у Горького яркое представление о неисчерпаемых богатствах страны, и в то же время ее экспонаты он рассматривал с «чувством гордости», как образцы «работы человеческого ума и рук», как свидетельство об огромных талантах русского человека.
И поэтому Горький со всей страстностью разоблачает в своих очерках всю гибельность для трудового народа системы капитализма. Он вскрывает пагубную роль этой системы и для искусства и литературы. В специальных статьях о буржуазных художниках-декадентах — Врубеле, Галлене
- 234 -
и других писатель выступил против тлетворного буржуазного искусства, противопоставив ему здоровое, мужественное искусство народа. С восхищением и любовью он писал об «истинной русской поэтессе» — сказительнице Ирине Федосовой, об ансамбле «владимирских рожечников» с их истинно русскими мелодиями, заунывными и веселыми, разухабистыми и тоскливыми.1
В серии статей 1896 года Горький выступил уже как опытный публицист. Он прибегает к распространенному, аналитическому изложению с широким привлечением разнообразного фактического материала, статистических цифровых выкладок, сравнительных данных. Усилилась художественность повествования. Тоньше и выразительнее стал юмор Горького, высмеивающего «хозяев жизни», завсегдатаев кафе-шантанов, никчемных и опустошенных представителей «общества». Явственно ощущается близость горьковских очерков 1896 года к очеркам В. А. Слепцова и Гл. Успенского, лучшие традиции которых он развивал в своем творчестве. Горький высоко ценил и называл «умными очерками» циклы Слепцова — «Владимирка и Клязьма», «Письма об Осташкове», в которых разоблачалось хищничество русской буржуазии на раннем этапе ее развития. Высоко ценил Горький и Глеба Успенского.
Горький впоследствии так определил очерк как литературную форму: «Очерк равносилен и равноценен „эскизу“ — наброску для памяти карандашом, пером». Говоря об очерке некоторых писателей, таких, как Мопассан, он замечает: «У них очерк — результат перенасыщения впечатлениями бытия, запись того, что впоследствии войдет или отразится в их новеллах, рассказах, романах — в чисто художественном творчестве».2
В известной степени это определение можно отнести и к горьковским фельетонам в «Самарской газете», и к очеркам «С Всероссийской выставки». Публицистические статьи Горького, выполняющие функцию разоблачения капитализма, в то же время содержали в себе материал для дальнейших крупных художественных произведений.
«Окуровский» цикл повестей писателя во многом восходит к самарскому периоду фельетонно-публицистической работы Горького. Так, в создании яркого художественного образа Вавилы Бурмистрова («Городок Окуров») Горький не мог не воспользоваться чертами пресловутых самарских озорников-«горчишников», изображению которых он уделял столько места в фельетонах «Между прочим». Еще более щедро использован им материал фельетонов самарского периода в широкой картине окуровских нравов и быта в книге «Жизнь Матвея Кожемякина».
Богатейшие наблюдения Горького этого времени были использованы им и в «Жизни Клима Самгина», особенно в главах, посвященных Всероссийской выставке. Скупые публицистические заметки Горького превратились в «Жизни Клима Самгина» в яркие художественное картины. Таковы сцена посещения выставки китайским послом Ли Хунг-чаном и зарисовка выступления Ирины Федосовой.
4
Публицистическая работа Горького органически связана с его художественным творчеством. Тема буржуазии заняла большое место и в его рассказах 90-х годов. Стремясь к всестороннему разоблачению капитализма как хищнической, эксплуататорской системы, Горький изображает
- 235 -
в своих рассказах разные стадии формирования буржуазии — от кулака («Тоска») до купца-миллионера («Навождение»). Горький показывает, что в деревне и в городе хищник действует одними и теми же приемами закабаления людей. В рассказе «Тоска» идет речь о Тихоне Павлыче, богатом мельнике, который зажал в кулак целую округу, лишил мужиков земли. В рассказе с ироническим заглавием «Идиллия» изображен хищник-мещанин, от которого зависит судьба многих бедных горожан. Горький первым в русской литературе показал, как надо распознавать вредного и очень опасного мелкого хищника под елейной внешностью тихих, кротких на вид горожан, живущих скромно, в маленькой, по-мещански обставленной комнатке, среди икон и нравоучительных картинок. Таковы, например, два старичка, муж и жена — герои «Идиллии». На первый взгляд это «старосветские помещики», перенесенные в городскую обстановку. Тихие разговоры о детях, пение вполголоса церковных песнопений, но вот один штрих, и обнажается скрытый лик хищника — торгаша, ростовщика, который держит в своих руках судьбы, жизнь многих людей: «...ежели я захочу прытко действовать, — говорит старик, — пол-улицы как после пожара очутится. По миру пойдет!..» (II, 370).
Углубляя, усиливая зарисовки мещан-хищников, сделанные в фельетонах «Между прочим», Горький показывает в рассказах жестокость купцов, доходящую до садизма. Один из них изображен в рассказе «Вор». Впоследствии типы таких и еще более злых истязателей Горький нарисовал в книге «Жизнь Матвея Кожемякина».
В рассказах 1896 года выступает образ купца-миллионера, который хочет стать полновластным хозяином страны. Таков герой рассказа «Тронуло», богатый волжский купец Иван Петров, представляющий собой один из «эскизов» колоритного образа Маякина («Фома Гордеев»).
В рассказе «Навождение» отразился ранний горьковский замысел разработать тему о трех поколениях русской буржуазии, замысел, так замечательно реализованный позднее в романе «Дело Артамоновых». В «Навождении» эти три поколения предстают в размышлениях купца-миллионера Фомы Мосолова. Старшее поколение — это отец Фомы, Мирон Мосолов. Среднее поколение — это сам Фома Мосолов. Он стал миллионером, но порядка в его доме мало, уважения к главе дома нет, дети родителей не почитают. Фома Мосолов объясняет это так: «Пестрота и путаница, страху нет в людях» (II, 463). Младшее поколение — это Яшка, сын Фомы. Этот имеет намерение проводить коммерцию по-цивилизованному. Он пожертвовал пять тысяч на училище и получил за это публичную благодарность. Теперь ему легче забрать в свои руки поставку муки в интендантство, он вернет свои пять тысяч в удесятеренном размере.
Уже в произведениях 1896 года Горький предсказывает грядущую и неизбежную гибель капитализма. В рассказе «Колокол» бытовой факт так художественно интерпретирован Горьким, что приобретает характер символа.
Купец вылил для городской церкви небывалый по огромному весу — шестьсот пудов — колокол. Колокол, перекрывающий своим голосом все другие колокола города, по замыслу купца, должен был говорить о его купеческой силе. Пять лет гудел колокол, а затем треснул, и треснул в пасху. Купец был этим очень обескуражен, встревожен. Еще когда колокол поднимали на колокольню, кто-то в толпе сказал: «А должен бы этот самый колокол треснуть» (II, 228). Этот голос звучит как приговор народа буржуазии.
- 236 -
Горький показывает, что капиталисты охвачены смутной тревогой. Причина тревоги ими еще не осознана, но она несомненно порождена тем, что развивающаяся буржуазия в то время уже вступала в войну с народом. Купец в рассказе «Колокол» знает, что народ его не любит, и это очень раздражает его. Про мельника Тихона Павлыча в рассказе «Тоска» прямо сказано, что у него война с мужиками, и учитель-демократ выступает с обличением этого мироеда. Это обвинительное слово еще более озлобляет мельника, который, конечно, не утихомирится и будет еще решительнее наступать на народ, но оно же и порождает тревогу, забвения от которой купец ищет в разгуле. В смятении находится миллионер Мосолов, напуганный тем, что «страху нет в людях».
Большое место в ранних рассказах Горького занимает изображение буржуазной интеллигенции. В разработке этой темы у Горького много точек соприкосновения с Чеховым. В горьковских рассказах мы встречаем того же ничтожного, пошлого человека с его скукой, духовной опустошенностью, мелким развратом, пошлыми семейными ссорами («Несколько испорченных минут», «Свободные дни», «Открытие», «Свадьба»). Неоднократно встречаемся в рассказах Горького этих лет и с типом одинокого человека, не заметившего, как прошла его жизнь, и только в старости увидевшего, что прошла она бесцельно, бесполезно («Одинокий», «За бортом» и др.).
Но в рассказах Горького об интеллигенции мы находим и особенную, горьковскую трактовку темы буржуазной интеллигенции. В рассказе «Отомстил» выведен черствый, холодный эгоист, который жестоко издевается над несчастной женщиной-хористкой, над самым святым чувством материнства. Эгоист-интеллигент, думающий только о себе, спасающий свою жизнь за счет гибели другого, изображен и в рассказе «Сон».
Типичная для рассказов Чехова тема скуки, бездельной и бесцельной жизни, заполняемой глупыми и грубыми, пошлыми развлечениями, получает в горьковском рассказе «Скуки ради» (1898) острое драматическое развитие, трагическую развязку. Так называемые образованные люди, пошляки-обыватели, развлекаясь от скуки, довели работницу Арину до самоубийства — убили человека. Рассказ вызывает в читателе протест, негодование против бездушного отношения «образованных» людей к простому народу.
Люди труда, выходцы из трудового народа, обездоленные, босяки находятся в центре внимания Горького. Писатель подчеркивает, что в характере этих людей самое основное — человечность: уважение к человеку, сердечное, доброе без оскорбительной жалости отношение. Если и жалеют эти люди, то просто, задушевно, дружески. Как большой, доброй души человек, показана нищая бабушка Акулина в рассказе того же названия. «Филантропка Задней Мокрой улицы», она была матерью для бродяг, босяков; собирала милостыню и кормила их (II, 148). Поистине самоотверженным можно назвать поступок бабушки Акулины, когда она, умирая, отдает своим «деткам», обитателям ночлежки, последние три рубля, приготовленные ею на свои похороны.
О самоотверженности, благородстве, высокой человечности человека из народа говорит Горький и в рассказе «Как поймали Семагу». Босяк Семага жертвует своей свободой ради младенца-подкидыша, которого он подобрал зимней ночью на улице. О большом, добром сердце простого человека, способного на подвиг, повествуется в рассказах «Ма-аленькая!..», «Трубочист», «Ванька Мазин» и др.
- 237 -
Развивая тему своих фельетонов и очерков, Горький отмечает простоту, добродушие, веселость, находчивость, остроумие народа («Хороший Ванькин день», «Дипломатия» и др.). В своих рассказах, так же как в очерках «С Всероссийской выставки», Горький пишет об одаренности, талантливости, художественном вкусе рабочих людей.
В раннем творчестве Горького уделено много внимания детям улицы, детям городской бедноты, брошенным на произвол судьбы, рано познавшим жестокую, полную «свинцовых мерзостей» жизнь.
Грубовато, с солидностью взрослого поучает Мишка свою товарку Катьку, как ей вести себя, чтобы меньше получать побоев от тетки Анфисы; покровительственно, как старший и «взрослый», он угощает Катьку в трактире («О мальчике и девочке, которые не замерзли»). Мальчик-горбун, нищий, сирота, нещадно избиваемый своей «теткой» за то, что мало приносит ей денег, отдал половину собранной милостыни несчастному бродяге, пожалел его («Дележ»).
Рассказ «Роман» развивает, углубляет тему фельетонов и очерков «С Всероссийской выставки» о труде малолетних рабочих на промышленных предприятиях, о непосильной работе детей, о несчастных случаях с ними на производстве.
Горький не включал в свои собрания сочинений многие произведения 90-х годов. Однако все эти этюды, наброски, картинки с натуры, равно как и огромное множество фельетонов, очерков, статей сыграли большую роль в художественно-идейном развитии писателя. Труд Горького-газетчика принес ему огромный опыт, обогатил знанием общественной жизни России, содействовал расширению его художественного диапазона, помог ему с большей идейной глубиной и принципиальностью ставить и художественно раскрывать актуальные темы. Горький учился у русской жизни, а она все сильнее говорила о крепнущем рабочем движении, во главе которого стоял вождь, стратег пролетариата, создатель его партии, творец теории пролетарской революции — В. И. Ленин.
5
В 1897—1899 годах Горький в значительной мере обобщает и углубляет основные социальные темы своих ранних произведений.
Попытка обобщения своих обличительных суждений о буржуазном строе и быте со всеми его отвратительными сторонами была сделана Горьким в «святочном» рассказе-сатире «Фарфоровая свинья» (1898), напоминающем сказки Щедрина. Фарфоровые фигурки ведут разговор; тон задает фарфоровая свинья, которая утверждает, что йоркширские свиньи — соль земли, краса и гордость ее, опора жизни. Философия фарфоровой свиньи, т. е. буржуазии, очень несложна: надо жить жизнью животного — «обмен соков важней обмена мыслей» (III, 397). На всякий случай, когда придется быть в обществе, надо иметь несколько идей, таких, например, кик дважды два четыре, личность должна быть свободна, но в разумных пределах, небо — это пустота, нет пользы в нем. Эти рассуждения подкрепляет своим обликом и взглядами хозяин квартиры — такое же грубое животное, с такой же мещанской философией, как и фарфоровая свинья.
Повесть «Варенька Олесова» разоблачала враждебную и чуждую народу интеллигенцию. Эта тема получила развитие позднее, в цикле пьес «Дачники», «Варвары», «Дети солнца». В повести представлены типические
- 238 -
фигуры буржуазных интеллигентов. Герои повести не просто отчуждены от народа, они открыто враждебны народу. Устами Вареньки Олесовой Горький так формулирует общую точку зрения буржуазной интеллигенции на общественный порядок: мужик должен работать, интеллигенция — учить, губернатор — смотреть, все ли делают, что нужно. Типичный буржуазный либерал Полканов открыто не поддерживает эту точку зрения, но и не возражает, в принципе он за нее. Его пустые сентенции о том, что люди достойны сожаления и сострадания, только игра в гуманность, также играет он в материализм, споря с идеалистом Бенковским. В лице Полканова Горький тонко разоблачает наиболее опасный среди буржуазной интеллигенции тип либералов. В лице Бенковского выведен другой тип буржуазного интеллигента конца XIX века. Это эстет, защитник идеализма. С тонкой, язвительной иронией Горький отмечает, что этот рафинированный эстет, пишущий декадентские стихи, готовится стать прокурором и, конечно, будет исправно отправлять в тюрьмы рабочих.
Развивая традиции сатиры Салтыкова-Щедрина, Горький показывает, как морально, духовно падает, оскудевает, разлагается интеллигенция, порвавшая связь с народом («О чорте» и «Еще о чорте», 1899). Произведя операцию Ивану Ивановичу Иванову, чорт находит в нем отвратительную смесь из мелкого честолюбия, подлости, трусости, злобы, болезненной нервозности.
В конце 90-х годов Горький по-новому разработал тему «босячества».
В предшествовавших рассказах Горький обычно изображал босяков-одиночек (Емельян Пиляй, Челкаш, Семага и др.)», в повести «Бывшие люди» выведена целая компания их, нашедшая приют у бывшего ротмистра Кувалды в полуразрушенном доме купца Петунникова. Изображая в ночлежке Кувалды босяцкий быт, людей «дна», выходцев из разных общественных слоев, Горький раскрывает социальные причины, порождающие босячество. В «Бывших людях» впервые дается четкое деление босяков на две группы: на выходцев из мелкобуржуазной городской среды и выходцев из крестьян. В «Бывших людях» босяки из крестьян по своему моральному уровню выше босяков из горожан. Люди труда острее, глубже чувствуют силу народа и свою связь с ним, и потому их взгляд на жизнь отличается оптимизмом. Характерны спор Тяпы́ с босяками-«интеллигентами» и его слово о народе, о бессмертии народа. Босяки — выходцы из городской интеллигенции, чиновничества, дворянства отчуждены от народа, вот почему они отличаются крайним индивидуализмом и пессимизмом; это наиболее резкое свое выражение нашло в Кувалде, в его апологии смерти.
Босяки ранних рассказов Горького — вольные, смелые люди, неугомонные перелетные птицы, зараженные удалью, поисками опасных дел. Постояльцы Кувалды — паразиты, тунеядцы, праздный народ, человеческий мусор, отщепенцы. Они охвачены пессимизмом, отчаянием, желанием ничего не делать, страстью к разрушению.
Прежние босяки действуют на просторе вольной, свободной природы — в море, в степи; «бывшие люди» — в ночлежке, на грязной окраине, среди отбросов и нечистот. Впоследствии Горький сказал о босяках: «Я очень рано почувствовал и понял, что люди эти — неизлечимы» (XXVI, 423). «Неизлечимость» босяков он красноречиво показал в образах своей повести.
Горький в своих ранних рассказах никогда не идеализировал босяка, не романтизировал его, как пыталась усердно доказать это буржуазная
- 239 -
критика. Если Горький показывал такие черты босяка, как желание быть независимым, свободным, пренебрежение к собственности и собственникам, презрение к буржуазным порядкам и буржуазной морали, то это было лишь правдивым изображением людей, выбитых капиталистическими порядками из колеи жизни и стихийно протестующих против общественного строя. Но Горький убедительно показал, что протест босяков не является сколько-нибудь серьезной угрозой для буржуазии и самодержавия, что это анархический и потому бессильный бунт. К характеристике горьковских босяков вполне можно отнести ленинское определение анархизма. «Анархизм, — говорит В. И. Ленин, — вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм... (Анархизм — порождение отчаяния. Психология выбитого из колеи интеллигента или босяка, а не пролетария)».1 В духе этой ленинской оценки Горький впоследствии назовет анархизм босяка «анархизмом побежденных».
Обложка отдельного издания рассказа
М. Горького «Емельян Пиляй». 1906 г.В Челкаше, Маслове («Два босяка») и в других образах босяков со всей убедительностью показано, что эти жертвы капиталистического строя вместе с тем являются носителями буржуазного индивидуализма.
Дальнейшее изучение жизни позволило писателю еще глубже, реалистичнее раскрыть буржуазный индивидуализм босяков как черту, определяющую весь образ их жизни.
К концу 90-х годов пауперизация широких трудовых масс в условиях быстро развивающегося капитализма приняла ужасающие размеры. В городах накопилась огромная армия голодных, обездоленных людей, босяки стали исчисляться не десятками, а сотнями тысяч.
В повести «Бывшие люди», показав сборище босяков, «навербованных» из разных общественных слоев, Горький не только художественно отразил эту историческую полосу в русской жизни, но и разоблачил всю губительность буржуазного правопорядка.
Произведение заканчивается намеком на то, что приближается буря — революция:
- 240 -
«В серых, строгих тучах, сплошь покрывших небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно они, собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли» (III, 240).
Горький заставляет читателя почувствовать, что над всем этим человеческим мусором возвышается образ народа, который велик и бессмертен. Горячими словами Тяпы́ в честь народа автор придает повести оптимистический характер.
В органической связи с разоблачительной тенденцией повести «Бывшие люди» стоит рассказ «Проходимец» (1898). В лице Промтова изображен новый тип босяка, наиболее вредного и опасного для народа, тип так называемого «утешителя». Промтов — тунеядец, враг труда, наиболее отвратительный вид паразита: обирая мужика, живя за его счет, он в то же время нагло, цинично издевается над ним. В отличие от Кувалды и его «постояльцев» Промтов — хищник, автор подчеркивает его «волчью опытность и лисью сноровку». Негодяй и развратник, Промтов — воплощение наиболее низменного эгоизма; его утешительство — ложь, он знает, что ложью этой вредит народу, и продолжает вредить. Сколько он, отмечает автор, «разных нелепых суеверий и мечтаний ввел в духовный оборот мужика». Для этого циника характерен крайний индивидуализм: «Нет законов иных, разве во мне!» (III, 342, 343). Такой тип мог сформироваться только в среде эксплуататорского класса; не случайно поэтому торьковский Промтов — дворянин.
В разработке и освещении темы городской бедноты, городского «дна» Горький продолжал развивать прежде всего традиции шестидесятников, демократов-просветителей. Горький ценил шестидесятников за то, что они давали неприкрашенную правду о народе, и всегда противопоставлял их беллетристам-народникам. Из шестидесятников Горький выделял и высоко ставил Помяловского и Слепцова, а из семидесятников — Глеба Успенского. Близка к таким произведениям шестидесятников, как «Нравы московских девственных улиц» Левитова, «Яшка» и «Меж людьми» Решетникова, «Крым», «Арбузовская крепость» Воронова, первая повесть Горького «Горемыка Павел» как картинами мещанской жизни с ее бедностью, невежеством, грубостью нравов, пьянством, так и характерами героев.
В некоторых рассказах молодого Горького есть ситуации, напоминающие картины и сцены из произведений шестидесятников. Так, например, в рассказе «Дело с застежками» эпизод с чтением евангелия старушкой-хозяйкой босякам и затем попытка ее устроить назидательную беседу очень напоминает сценку из «Нравов Растеряевой улицы» Гл. Успенского, именно беседу Балканихи с квартирантом извозчиком Никитой на религиозно-нравственные темы.
Литературная критика 90-х годов отмечала эту близость. Так, например, рецензент «Русской мысли» (1897, № 9) сравнивал Коновалова и других горьковских героев с героями Левитова и Гл. Успенского. Однако в ранних горьковских рассказах и в повести «Горемыка Павел» отчетливо выявилась самостоятельная идейно-творческая линия Горького. Шестидесятники, рисуя городскую бедноту, чаще всего констатировали факты, ярко описывали их, вызывали горячее сочувствие к низам. Горький же не только изображает драму своих героев, но пытается объяснить ее социальными условиями жизни.
Уже в ранних рассказах «Емельян Пиляй» и «Два босяка» Горький убедительно говорил о босячестве как о явлении капиталистического
- 241 -
общества и подчеркивал в своих героях (чего не делали шестидесятники) анархический протест, бунт против этого порядка, указывая одновременно и на всю бесплодность таких стихийных, индивидуалистических выступлений.
Первый набросок И. Е. Репина к рассказу М. Горького «Зазубрина». 1899 г.
Ярким обобщением размышлений Горького о судьбах талантливого русского рабочего народа, поставленного капитализмом в невыносимые условия, являются повести «Коновалов» и «Супруги Орловы». Они рассказывают о большой человеческой трагедии, о мучительных и бесполезных исканиях недюжинными натурами достойного места на земле, надлежащего применения своих творческих сил, способностей.
Коновалов — человек большого душевного благородства, высоких гуманных чувств, одаренный тонким художественным вкусом и пытливым умом. Его подлинная гуманность ярко раскрывается в его отношении к женщине (Капитолине). Его тонкая художественная натура сказывается в любви к природе, в понимании ее красоты и силы. Его пытливый ум и большое, исполненное любви к человеку сердце со всей полнотой проявляются и интересе к литературе. Неграмотный Коновалов очень ценил литературу и по-своему разбирался в ней; например, он высоко оценил «Подлиповцев» Решетникова, «Тараса Бульбу» Гоголя и забраковал «Бедных людей» Достоевского. «Телячий Макар», «не жалостно и не смешно», — так отзывался он об этой повести (III, 27, 26). Рабочий человек, он был художником, артистом в труде и с восторгом любовался трудами своих рук. Выделяя эту черту в Коновалове как истинно народную, Горький с особенной резкостью показывает и вторую, бывшую всегда органической в народе, — гнев, протест против социального гнета. Духовное состояние
- 242 -
Коновалова в тот момент, когда он слушал чтение о Степане Разине, страстно выражало могучую протестующую силу; образ Коновалова символизировал надвигающуюся революционную грозу. «Нечто львиное, огневое, — пишет Горький, — было в его сжатой в ком мускулов фигуре... Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без „точки“ духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола» (III, 24).
Революционную тенденцию «Коновалова» сразу же отметила царская цензура, найдя рассказ «крайне тенденциозным и вредным». Цензор Елагин в своем донесении отмечал, что Коновалова гонят с места на место по обширному отечеству жажда свободы и дух недовольства собою и существующими порядками».1
«Коновалов» заканчивается «широкой картиной труда», описанием постройки мола на берегу Черного моря. Напрашивается сравнение этой картины с описанием порта в рассказе «Челкаш». В обеих картинах рабочие люди — рабы, но есть существенная разница в их характеристике, в определении их роли. В «Челкаше» рабочие подчеркнуто жалки, ничтожны, беспомощны и только, в «Коновалове» о них сказано иначе:
«Они (рабочие, — Ред.) — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, — то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственные ему, тогда они совсем как море, — так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними» (III, 46).
В «Челкаше» упомянуто о возможном взрыве, в «Коновалове» указание на взрыв как на революцию сделано более определенно.
Коновалов не босяк, хотя Горький и называет его этим именем. С босяками ранних рассказов его роднит главным образом одна черта — тяга к перемене мест. В этой страсти к бродяжничеству у Коновалова отчетливо выражен протест против проклятых условий жизни, узаконяемых на земле капитализмом.
Против этих условий бунтует и Григорий Орлов («Супруги Орловы»). Он смутно чувствует, что его одаренной натуре нужно какое-то другое применение, ему нужно подвиги совершать, а он сапоги шьет. Мы видим, как преображается Григорий, став санитаром во время эпидемии холеры и получив возможность с пользой для народа употребить свои силы. Он не хвастает, когда говорит, что мог бы вступить в поединок с самой смертью. Но бунт Орлова еще более стихийный, чем у Коновалова; это типичный мелкобуржуазный бунт, анархический, слепой. Орлов не видит подлинных своих врагов, гнев он обращает на своих друзей — на доктора, на жену.
Григорий психологически весьма близок к таким натурам, как Мальва («Мальва», 1897). Мальва, как и Григорий Орлов, одержима тоской по какой-то иной жизни, неясной ей, просторной, широкой, вольной. «Мне всегда хочется чего-то..., — говорит она. — Иной раз села бы в лодку — и в море!» (III, 276). Это та самая тоска по свободе, которая мучает
- 243 -
и Коновалова, и Орлова. Но в Мальве, как и в Орлове, в отличие от Коновалова, многое еще от индивидуалистического бунтарства. «Мне иной раз кажется, — говорит она, — что, если бы барак ночью поджечь, — вот суматоха была бы!» (III, 276).
Обложка Н. Куликова для несостоявшегося
издания рассказа М. Горького «Коновалов».
90-е годы.Это желание родственно желаниям Орлова. Он говорит: «Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: „Ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего!“. А потом вниз тормашками с высоты и — вдребезги! Н-да-а! А-ах как скучно и тесно жить!..» (III, 176).
Изображенное Горьким беспокойное состояние неуемной натуры талантливого русского мастерового было художественно-правдивым изображением назревшего в ту пору в народе стихийного протеста. Об этом же говорил и образ стихийного бунтаря Артема («Каин и Артем», 1899). Артем буйствует, бессознательно выражая в озорных выходках свой протест против связывающих его условий мещанской городской жизни. Как отмечает Горький, анархический бунт Артема — это месть сына деревни мещанско-буржуазному миру города.
О нарастании революционного протеста отчетливо говорили рассказы Горького конца 90-х годов, посвященные крестьянству.
Первые зарисовки деревенской жизни Горький сделал в середине 90-х годов. В это время шла ожесточенная полемика марксистов с народниками, осуществлялся полный идейный разгром народничества. В идейную полемику с народничеством вступает в эти годы и Горький своим творчеством. Отрицательное отношение его к народнической доктрине начало определяться еще в 80-х годах. На это Горький указывал позднее и «Моих университетах», в статьях «Беседы о ремесле», «О том, как я учился писать».
Примечательно, что первые произведения Горького на крестьянскую тему с определенной антинароднической тенденцией («Вывод», «Челкаш», ряд фельетонов из серии «Между прочим») появляются в 1895 году, вскоре после появления исторической работы В. И. Ленина «Что такое „друзья
- 244 -
народа“ и как они воюют против социал-демократов?» (1894), в которой до конца было разоблачено «истинное лицо народников, как фальшивых „друзей народа“, идущих на деле против народа».1
Горький выступил против народнических традиций в изображении деревни, восстал против довольно еще живучих в те годы тенденций «сладкогласного „обманщика“» (Горький) Златовратского. Первые выступления Горького, еще не вполне осознанные, против Златовратского, Засодимского, Бажина, Эртеля и других, которые «усердно и в тон дворянской литературе занимались идеализацией деревни, крестьянина» (XXIV, 476), относятся еще к 80-м годам. Вспоминая о тех временах, Горький писал: «Знали мы и то, что рядом со святыми мужиками Златовратского, Каронина и других живут вовсе не святые „подлиповцы“ Решетникова, мужики Николая Успенского» (XXV, 342).
В ту пору, когда Горький начал писать о деревне, его впечатления от неутешительного деревенского «пейзажа и жанра», которые он наблюдал весной 1886 года в Едильгеевской волости Казанской губернии, летом 1888 года в селе Красновидове, во время путешествия по Руси в 1891 году, еще были слишком свежи и не могли не сказаться на первых его картинах из жизни крестьянства. И картины эти были во многих отношениях близкими к суровой правде о деревне, сказанной в свое время Слепцовым. Николаем Успенским и другими шестидесятниками.
В первых произведениях Горького деревня предстала преимущественно в своем негативном плане: раздираемая внутренними социальными противоречиями, нищая, голодная, темная, опутанная суевериями, напуганная. Крестьянин брошен на произвол судьбы. Его темнотой, бесправием пользуются и «предержащие власти», и всякого рода жулики, проходимцы, вроде того же Промтова. Для всех тунеядцев мужик есть «материал питательный, сиречь — съедобное животное» (III, 337).
С возмущением и горьким сожалением говорит писатель о «паразите», разъедающем мужицкое призрачное благосостояние. В годину стихийного бедствия — во время голода — деревня оставлена без поддержки, больше того, у голодного, умирающего стараются отнять последний кусок. Страшная до жути и боли картина голода в деревне и циничного грабежа ее нарисована в очерке «Голодные».
Горький показал, что в деревенской общине вместо мира, согласия, единства царит социальный разброд, право сильного. Писатель зло издевается над народнической иллюзией насчет мира-общины в рассказе «Шабры» (1896). В деревне Сояновка миром убили конокрада, а вину взвалили на Николая Брагина, и тот был осужден на двенадцать лет каторги. Комов, сосед Брагина, пытается успокоить последнего тем, что тот терпит за мир:
«— За мир ты, Никола... это хорошо, ежели человек за мир пропадает... Отпущение грехов.
«— За мир! — зло передразнил Брагин, взмахнув палкой. — А что мне он — мир? Застоял он меня перед судом? По правде я наказание несу? Мир... сожрал он меня, мир-то твой» (II, 441—442).
Чиновничья бюрократия, полиция, купец и кулак, сменившие помещика-крепостника, сохраняли и насаждали в деревне дикость, темноту, грубость, жестокость.
В очерке «Вывод» страшная картина надругательства мужика над женой кажется просто неправдоподобной. Горький счел нужным дать примечание
- 245 -
к очерку: «...это бытовая картина, обычай, и это я видел и 1891 году 15 июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда» (II, 7).
Рисунок Кучеренко к повести М. Горького «Супруги Орловы».
Картины деревенской жизни в ранних произведениях Горького перекликаются с творчеством шестидесятников. Но Горький внес свое, новое в критическое изображение деревни. Он показал «власть собственничества», в том числе и «власть земли» как начало, враждебное истинным народным интересам. Горький, видевший сам свинцовые мерзости мещанского быта, понимал, что именно это начало собственничества порождало и деревне жадность и жестокость, разъединяло людей, сеяло вражду, укрепляло в семье власть сильного над слабым, мужа над женой. Свои впечатления и раздумья по этому поводу писатель ярко выразил в рассказе «Челкаш».
Но Горький не впадал в односторонность в изображении крестьянства и этим отличался от Чехова. В творчестве раннего Горького, несмотря на безотрадные и подчас мрачные картины жизни деревни, звучит типичный горьковский мотив твердой веры в живые силы народа.
В фельетонах «Между прочим» и в «Очерках и набросках», в которых Горький писал о темной, нищей, грубой деревне, он говорил вместе с тем и об упорстве, выносливости русского крестьянина, об его уменьи хранить
- 246 -
«душу живу», о его пытливом уме, тяге к культуре, о его поэтической одаренности.
В рассказе «Ма-аленькая!..» Горький нарисовал трогательные образы двух стариков-крестьян, мужа и жены, идущих из Сибири за многие тысячи верст по обету — помолиться за умершую у них в ссылке революционерку. Образом последней Горький по-своему интерпретировал тему рассказа Короленко «Чудна́я». Его героиня, интеллигентная девушка, совсем ребенок, оказавшись в ссылке, быстро вошла в жизнь деревни, стала «раделицей про все, да про всех» (II, 87).
Горький сумел разглядеть в крестьянине здоровую, цельную натуру человека. В рассказе «Шабры» есть образ Игната Комова. Это сосед загубленного деревенским миром крестьянина Николая Брагина. Ему открылся бежавший с каторги Брагин, завернувший в родную деревню взглянуть на свою семью. Комов испытывает страх перед каторжником, не спит ночь, хочет донести на Брагина старосте, намеревается оглушить его камнем и связать. Но человеческое начало взяло верх. Комов сердцем понял великое горе своего соседа, навсегда покидающего родные места, жену и детей. Комов увидел в Брагине человека и сам стал человеком. Расставаясь с Брагиным, он клянется шабру, что до своей смерти будет помогать его семье. На прощанье шабры обнялись дружескими объятиями.
Во второй половине 90-х годов Горький все настойчивее говорил о высоких моральных качествах крестьянина, о новых людях деревни с их тягой к книге, стремлением к новой, осмысленной жизни.
В 1897 году Горький пишет рассказ «Ванька Мазин». Герой его — вятич-плотник, которого в артели считали «разгильдяем» и дураком. Мазин неожиданно удивил товарищей. Первый раз он показал свою огромную силу, сразив бесспорного силача Якова Матвеева. Второй раз при катастрофе на постройке дома (упали леса) он с риском для своей жизни спас от верной смерти подрядчика. Но особенно он проявил себя в финальной сцене этой истории, обнаружив поразительное благородство души.
Подрядчик Колобов дал Мазину трешницу за свое спасение. Этот тупой и нечуткий человек не понял, чем вызван самоотверженный поступок. Ведь Мазин пошел спасать Колобова не для того, чтобы получить награду или прославить себя, он хотел спасти человека. Тихий, молчаливый Мазин произносит страстную речь, уничтожающую подрядчика в глазах артели. Он был вне себя, он готов был избить своего хозяина. «Дурак» Мазин преобразился на глазах товарищей в большого человека, а подрядчик стушевался, превратился в ничтожество.
В 1899 году Горький написал рассказ «Кирилка», в котором в несколько иносказательном плане со всей принципиальностью поставил вопрос о крестьянстве перед лицом назревающих революционных событий.
На берегу реки весной, в ледоход, собрались четверо путников: земский начальник Сущов, купец Мамаев, псаломщик Исай и рассказчик, видимо, интеллигент. Всем нужно было переправиться на другую сторону, но река тронулась, и путникам грозила неприятность надолго задержаться на берегу сердитой, негостеприимной реки. К тому же они проголодались, а продуктов у них не оказалось. Виновником своего несчастья они объявили ни в чем не повинного мужика Кирилку, дежурившего на реке, и отобрали у него единственную краюху хлеба.
Эпизод с дележом хлеба Кирилки таит в себе иносказательный смысл. Земский Сущов отнял у Кирилки хлеб и держит такую речь: «Господа! все мы, я вижу, являемся претендентами на обладание этим куском, и все
- 247 -
мы имеем на него одинаковое право, — право людей, которые хотят есть» (III, 443). Мужик, хозяин хлеба, был забыт, исключен из числа желающих есть. Первым отломил себе часть хлеба земский и передал краюху купцу Мамаеву. «Купец прищурил глаз, склонив голову набок, и, измерив хлеб, откромсал свою долю. Остатки взял Исай и разделил со мною», — говорит рассказчик (III, 443).
Обложка отдельного издания рассказа
М. Горького «Кирилка». 1919 г.Рассказ носил острый полемический характер, он говорил о политической и литературной дискуссии тех лет о мужике, в которой принимали участие критики разных идейных направлений. Речами четырех путников Горький удачно охарактеризовал господствующие в 90-е годы точки зрения на крестьянство.
Точку зрения дворянской реакции выражал земский начальник Сущов. По его мнению, мужик — пьяница, лентяй, а, главное, он распущен, «живет без должной опеки над ним, как несовершеннолетним, — вот в чем корень неурядиц его жизни...» (III, 440). Наиболее действенной формой опеки земский начальник считает бесправие мужика, а мерой воспитания — розгу: «...а все-таки ха-аро-ошая порка воспитывает быстрее и стоит дешевле... да-с!» (III, 438). Вообще в своих желаниях «исправить» мужика земский дошел до мысли о необходимости реставрировать крепостное право.
«...раса дикая... племя тупое. Но вот теперь будем ожидать от усердия земства и распространения им школ — просвещения и образованности...», — делает компромиссное заявление купец Мамаев, но быстро отказывается от своего «либерализма» и соглашается с земским, что с просвещением бы «...следовало подождать, потому что тяжело мужику по нынешним дням... недороды, болезни, слабость к вину — все что, так сказать, под корень его сечет, а тут школы, читальни...» (III, 438).
Псаломщик Исай, говоря елейным и почтительным голосом, пытался было несколько смягчить этот суровый приговор:
«— А я, с позволения сказать, полагаю так, что он — ничего! Божия тварь, как и все... Но — извините! обалдел он... от неустройства бытия своего лишился надежд...» (III, 440).
А интеллигент, от лица которого ведется рассказ, заметил: «...мужик — просто голоден и что если бы дать ему вволю хорошей пищи, то он, наверное, исправится...» (III, 440).
- 248 -
Замечание Исая прошло незамеченным, реплика рассказчика утонула в решительных и солидных возражениях земского, доказывавшего, что при крепостном праве мужик не знал, что такое голод.
С подобного рода диспутом о мужике мы встречаемся и в предшествующей рассказу «Кирилка» повести «Варенька Олесова». Словами приват-доцента Полканова Горький характеризует «народолюбчество» буржуазной интеллигенции: крестьяне достойны сожаления, сострадания, ибо, говорит Полканов, «как тяжело им живется и сколько несправедливости, горя, мучений в их жизни!» (II, 497). Помещичья дочь Варенька Олесова высказывается примерно так же, как земский Сущов: мужики «просто подлые, их совсем не за что жалеть» (II, 494).
Злободневность рассказа «Кирилка» отмечена самим Горьким. Намереваясь поместить рассказ в сборник «В помощь голодающим», он писал Телешову: «Хорошо бы в этот сборник „Кирилку“ запустить, как ты полагаешь? Только боязно, не пропустит цензура для такого сборника...».1
На первый взгляд Кирилка самый дюжинный, серенький мужичок. Но в нем живет сильное, смелое, героическое начало. Когда горел пароход, Кирилка «собственноручно спас шестерых пассажиров, поздней осенью часа четыре кряду, рискуя жизнью, купался в воде, в бурю, ночью... Спас людей и скрылся...» (III, 438).
Кирилка в присутствии господ тих, смирен, даже угодлив, подобострастен, кажется бестолковым, пришибленным, в его голосе слышится какая-то виноватость. Но этот маленький, невзрачный мужичонка может вдруг предстать в совершенно другом виде. Так, у Кирилки оказался «неожиданно сильный голос» и «серые, бойкие и насмешливые глаза» (III, 445, 446).
Рассказ «Кирилка» можно сопоставить с близким по содержанию рассказом Короленко «Река играет», чтобы яснее стало то новое, что характеризует горьковский подход к вопросу о крестьянстве.
В рассказах Короленко и Горького дан поэтический параллелизм образов русского мужика и могучей русской реки. У Короленко описан паводок, у Горького — ледоход.
Но Горький, в отличие от Короленко, главное внимание уделяет обрисовке социального положения крестьянина, экономической и политической кабалы, в которой он находится, и предсказывает неизбежность народного восстания. Об этом откровенно говорит земский Сущов, пытаясь мотивировать ревностную свою заботу о «воспитании» мужика розгой: «Он (крестьянин, — Ред.) — испорченный ребенок, да! но он и — почва! Вы понимаете?.. Основание пирамиды государственного строя... и вдруг — колеблется! Вы понимаете серьезность такого... э... э... беспорядка?» (III, 439).
В соответствии с таким изображением крестьянина Горький художественно интерпретирует образ освобождающейся от льда реки. «Казалось, огромное тело, пораженное накожной болезнью, все в струпьях и ранах, лежит пред нами, а чья-то могучая, невидимая рука очищает его от грязной чешуи, и казалось — пройдет еще несколько минут — река освободится от тяжелых оков и явится перед нами широкая, могучая, прекрасная, сверкнут из-под снега и льда ее волны, и солнце, прорвав тучи, радостно и ярко взглянет на нее!» (III, 441—442).
Символика этого образа весьма прозрачна.
- 249 -
Юродство Кирилки — только маска, это мужицкая хитрость. Он — «себе на уме». В разговоре с господами Кирилка прикидывается глуповатым, бестолковым, а про себя смеется над ними. Описывая лицо Кирилки, Горький бросает такое замечание: «...тонкие губы сложены в улыбку, и в ней одновременно соединялись почтительность с насмешкой и глупость с плутовством» (III, 436—437). Как только господа отбыли, Кирилка сбрасывает с себя личину «шута горохового», выпрямляется, обретает сильный голос, показывает свой ум. Перед нами совсем другой человек — умный и сильный.
В «Вареньке Олесовой» словами умного деревенского парня Григория Шахова Горький достаточно определенно высказался против изображения мужика в духе традиций дворянской литературы: «Про них (крестьян, — Ред.) все с жалостью пишут, дурачками их делают... нехорошо! Люди читают, думают — и в самом деле так, и не могут по-настоящему понять крестьянина... потому что в книжке-то он больно уж... глуп да плох...» (II, 528).
В лице Шахова Горький наметил новый тип мужика, представителя передовой крестьянской демократии. В дальнейшем творчестве Горького он получит свое развитие. Шаховы — это преимущественно молодое поколение деревни. Они жадно тянутся к книге, ищут в ней ответа на насущные социальные вопросы, в них пробуждается критическое отношение к действительности. Такие крестьяне в 90-е годы — сравнительно еще редкое явление в деревне, но за ними было будущее. Либеральная барыня Елизавета Сергеевна Вырапаева так характеризует этих людей:
«Да, нужно сознаться, что деревня начинает производить на свет нечто новое... У меня тут есть очень интересные ребята — Иван и Григорий Шаховы, прочитавшие почти половину моей библиотеки, и Аким Мозырев, человек „все понимающий“, как он заявляет. Действительно, блестящие способности! Я проверяла его — дала ему физику — прочитай и объясни закон рычага и равновесия, так он через неделю с таким эффектом сдал мне экзамен, просто я была поражена! Да еще говорит, отвечая на мои похвалы: „Что ж? Вы это понимаете, — значит и мне никем не заказано — книжки сочиняются для всех!“. Каков?» (II, 520).
Шаховы и Мозыревы — это будущие революционеры, союзники рабочего класса, что чувствует, например, и помещица Вырапаева. Говоря о пробуждении в молодом поколении деревни «понимания своего достоинства», она откровенно признается, что на почве «этих новорожденных свойств... могут расцвести такие огненные цветы... пожалуй, в одно прекрасное утро проснешься только на пепле своей усадьбы» (II, 520).
В 1897 году в рассказе «Озорник» Горький делает первую попытку показать рабочего, вступающего на путь социального протеста, идейной борьбы.
У типографского наборщика Гвоздева ненависть выливается в открытую форму идейного протеста. Гвоздев уже сознает классовые отношения, отстаивает право рабочих, обличает грабительскую политику буржуазии, вскрывает лакейскую роль буржуазной интеллигенции. Его поступок отличается не только дерзостью, но и смелостью, мужеством. Вставив в редакционную статью слова: «говорения глупой ерунды и чепухи» (III, 104), Гвоздев придал всей фразе совершенно другой, обличительный смысл. Гвоздев, чтобы не подводить своих товарищей, сознался в своем «озорстве», хотя знал, что за это лишится работы. Держится Гвоздев с достоинством; когда метранпаж назвал его «Николкой Гвоздевым». Гвоздев заявил: «Зовут меня Николай Семенович Гвоздев» (III, 106).
- 250 -
Издатель дает точное определение этому вступающему на открытый путь сознательной борьбы рабочему — социалист.
От братьев Шаховых, Акима Мозырева и Гвоздева тянутся нити к кружкам Рыбина и Власова в повести «Мать», к Егору Досекину и его молодым товарищам, героям повести «Лето».
6
Через произведения Горького второй половины 90-х годов отчетливо проходит одна объединяющая их революционная тенденция: так больше жить нельзя, неизбежен взрыв — революция. И чем ближе к концу XIX века, тем сильнее становилась эта тенденция.
Произведения 90-х годов говорят об идейно-политическом росте Горького под влиянием развивающегося и крепнущего революционного движения в стране.
Примечательно, что для второго издания своих «Очерков и рассказов» (1899) писатель значительно переработал «Песню о Соколе». Во второй редакции «Песни» образ моря стал символом революции:
«Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.
«В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни» (I, 485).
Образ Сокола в новой редакции получил большую революционную силу. Горький вставил в «Песню» такие значительные, исполненные социалистического пафоса слова: «О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!».
В этой, второй редакции «Песня о Соколе» стала популярной в народе, среди рабочих, учащихся. Она выполняла роль революционной прокламации. Призывные строки «Песни о Соколе» — «О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью» — были взяты эпиграфом к прокламации, выпущенной в 1903 году Бакинской организацией РСДРП в связи с убийством царскими жандармами Ладо Кецховели, одного из ближайших друзей и соратников И. В. Сталина.
Совершенствовался художественный талант Горького. В таких произведениях, как «Коновалов», «Супруги Орловы», «Бывшие люди», «Скуки ради», «Кирилка», поставлены и разрешены большие общественно-политические темы, созданы поистине классические образы, составившие в русской литературе новую галерею социальных типов. Герои произведений Горького являются выходцами из разных социальных групп: это крестьяне, ремесленники, интеллигенты. Образ каждого героя, раскрывая общие, типические для данной социальной группы черты, в то же время индивидуален. Героев повести «Бывшие люди» объединяет свойственная каждому из них ненависть к купцу Петунникову, хозяину ночлежки, к купцам вообще, к хищникам-мещанам, к буржуазным порядкам, но каждый из босяков — героев повести оригинален и по внешнему своему виду, и по складу характера, и по языку. Кувалда, Тяпа́, Учитель — все они босяки и вместе с тем люди разных социальных биографий: черты дворянина-офицера сквозят в поведении Кувалды, «интеллигентщина» проявляется в поступках Учителя, крепкая натура крестьянина чувствуется в Тяпе́.
В Коновалове и Григории Орлове тоже много общего, свойственного им как рабочим людям, любящим труд, но каждый из героев резко индивидуален и в этой своей индивидуальности в то же время типичен.
- 251 -
В неуспокоенности, неудовлетворенности Коновалова, в его скитаниях, в стихийном протесте отчетливо чувствуются отзвуки народного гнева, социальной ненависти. У Коновалова органичнее связь с народными массами, чем у Григория Орлова. В анархическом стихийном протесте Орлова неизмеримо больше мещанского индивидуализма.
Иллюстрация:
Прокламация Бакинского комитета Кавказского социал-демократического
рабочего союза. 25 августа 1903 г.Образы Коновалова и Орлова ярко свидетельствуют об огромном художественном росте молодого Горького. В этих образах в полную силу
- 252 -
обозначалось большое оригинальное мастерство писателя, особенно мастерство портрета.
В рассказах и повестях Горького 90-х годов характер героя, как правило, дается уже готовым, сложившимся. Но, несмотря на это, Горький всегда показывает «диалектику души» своих персонажей, мотивируя изменчивые состояния их психики, воздействие на уже сформировавшийся характер субъективных и объективных факторов, которые в конечном итоге являются закономерными, порождаемыми общественно-экономическим и политическим строем жизни. Именно так раскрываются характеры Коновалова и Орлова.
В своих произведениях 90-х годов Горький как художник сумел вскрыть многие «формы антагонизма и эксплуатации»1 в русском обществе тех лет. Он давал понять, что назревает революция, и показывал назревающий протест в широких слоях народной массы: в среде городского ремесленничества, крестьянства и рабочих.
Недаром буржуазной критике 90-х годов не нравились горьковские герои, протестующие против капиталистических порядков. Так, например, критик народнического направления А. Скабичевский в статье «Типы строптивых людей среди народа» («Сын отечества», 1897, 22 августа) выступил против героев Горького, против типичной их черты — социального протеста. С точки зрения Скабичевского, такие протестующие натуры или, по выражению критика, «строптивые люди», как многие герои Горького, — уродливое исключение в среде русского народа.
Горький шел в авангарде передовой общественной жизни как буревестник революции.
Особое место в раннем творчестве Горького занимает образ «проходящего», образ человека, от лица которого ведется рассказ («Емельян Пиляй», «На соли», «Макар Чудра», «Песня о Соколе» и др.).
«Проходящий» Горького не пассивный созерцатель, наблюдатель и слушатель, он — активный участник событий, и часто его судьба совпадает с судьбой героев рассказов («На соли», «Два босяка» и др.). Он испытывает те же лишения: трудом добывает себе кусок хлеба, голодает, остается без крова. «Проходящий» Горького — это не тургеневский охотник («Записки охотника»), человек, по сути дела, не вмешивающийся в события, и не «проходящий» Короленко, только наблюдающий за событиями («Река играет»).
Образ «проходящего» своим активным отношением к действительности, любовью к труду, к народу, обличением собственничества и собственников весьма близок к автору.
В начале 90-х годов «проходящий» — это или слушатель красивых легенд, оказаний, песен, действенно реагирующий на них («Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и др.), или скиталец, разделяющий с народом невзгоды его жизни («На соли», «Два босяка», «Однажды осенью»).
В рассказе «Проходимец» «проходящий» своим резко отрицательным отношением к личности Промтова, к жульническим делам его выступает в роли обличителя народных обманщиков, паразитов. Подобную роль «проходящий» мог бы выполнить и в рассказе «Мой спутник» (1894). В обоих случаях ему выпало на долю сквитаться с тунеядцами, руководствующимися в жизни «принципом» животного эгоизма. Но в «Моем спутнике» «проходящий» рассказывает о паразитизме Шакро в несколько добродушном тоне. Иначе он ведет себя в «Проходимце» (1898).
- 253 -
Некоторые изменения в образе «проходящего» находятся в соответствии с эволюцией народных образов в творчестве Горького, завершающейся к концу 90-х годов появлением образов протестующих, вступающих на революционный путь борьбы пролетариев и пробуждающихся к этой борьбе передовых крестьян.
Все это свидетельствовало о благотворном воздействии революционной пролетарской теории и практики на Горького, органически вошедшего в революционную борьбу рабочего класса.
Образ «проходящего» как образ представителя и защитника народных интересов выполнял определенную функцию в формировании горьковского реализма. «Проходящий» выступает как очевидец, как активный участник изображаемых событий и тем самым как бы удостоверяет правду того, о чем повествуется. В дальнейшем (в цикле «По Руси») Горький отводит ему более активную роль.
Горький вводит в свое творчество речевые системы представителей разных социальных слоев России. При помощи индивидуализации языка Горький воспроизводит социальное лицо героя, его мировоззрение, психологию.
Оттеняя своеобразие речи интеллигента, крестьянина, босяка, Горький вместе с тем избегает нарочитой стилизации речи, подмены народного языка жаргоном, особенно в рассказах о босяках.
В передаче крестьянской речи можно иногда встретить у Горького диалектизмы, местные речения («Ма-аленькая!..», «Встреча»).
В позднейших горьковских рассказах диалектные элементы выполняют особую роль: убого, коряво Кирилка говорит с «господами», прикидываясь придурковатым; когда же «господа» уехали, мужик заговорил со своим товарищем чистым, правильным языком («Кирилка» — 1899).
В 1898—1899 годах вышло в свет первое собрание произведений Горького в трех томах — «Очерки и рассказы» (в издании С. П. Дороватовского и А. П. Чарушникова).
К моменту появления «Очерков и рассказов» Горьким было уже написано сто двадцать художественных произведений и более шестисот фельетонов, статей, рецензий.
Из всего этого множества Горький отобрал тридцать рассказов и повесть «Фома Гордеев». Все отобранные произведения подверглись стилистической правке. Еще более тщательно Горький редактировал второе издание «Очерков и рассказов» (1899). Избранные произведения ярко показывали своеобразие Горького, богатство и разнообразие художественных приемов и языка.
В творчестве Горького 90-х годов намечается определенная манера и использовании образных средств, которая получает затем, особенно и повести «Мать», яркое развитие. Некоторые горьковские сравнения и метафоры так социально заострены, что, характеризуя конкретный предмет, явление, подчеркивая, в частности, его внешний вид, они одновременно символически выражают его общественно-политическое содержание — разоблачают капитализм, пропагандируют неизбежность революции. Так, и «Бывших людях», говоря о строящемся здании завода купцов Петунниковых, Горький употребляет следующее сравнение: «Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать» (III, 204—205).
Горьковские метафоры типа «море смеялось» вызывали возражения со стороны А. Чехова и Л. Толстого. Однако Горький в те годы с их критическими
- 254 -
замечаниями не согласился.1 Он неоднократно и тщательно правил язык и стиль своих произведений 90-х годов, но выражение «море смеялось» и многие другие ему подобные («море проснулось», «горы важно задумчивы», «горы зноем дышали в небо» и т. п.) оставил без изменения. Эти образные выражения всегда были конкретны, отличались четкостью, ясностью мысли, рисовали яркую реальную картину, окрашивали ее эмоционально. В то же время при помощи такого характера олицетворений (образы моря, туч и т. д.) Горький выражал свои революционные мысли и настроения. В этом отношении писатель был близок к народному творчеству. В устной народной поэзии образ природы, выступая в художественной параллели с образом человека, всегда ярко подчеркивает его судьбу, передает его душевные переживания.
В ранних произведениях Горького образы природы проникнуты острой социальной тенденцией, чаще всего они содержат в себе символику революционной борьбы, говорят о назревающей революции. Таковы образы бури и грозы в валашской сказке «О маленькой фее и молодом чабане», весенней природы в рассказе «О чиже, который лгал...», моря в «Песне о Соколе» и «Коновалове», туч в «Бывших людях», ледохода в «Кирилке», весеннего солнца, побеждающего темные, холодные тучи в рассказе «На плотах».
Горький много работал над языком своих произведений: он стремился писать сжато, просто, а также избегал замысловатости, вычурности. Он был против употребления тех слов, которые придают русскому языку чуждую ему манерность, он устранял все лишнее, что загромождает, отяжеляет фразу.
Редакторская работа Горького над своими произведениями для издания «Очерки и рассказы» свидетельствует о тех высоких требованиях, какие писатель предъявлял к языку художественной литературы. Он тщательно очищал язык своих рассказов от элементов натурализма. Так, например, во второй редакции «Песни о Соколе» в речи старого татарина слово «идошь» исправлено на «идешь»; в связи с этим Горький вычеркивает замечание: «И страшно коверкая русские слова». Борется Горький и с излишним употреблением иностранных слов. В «Песне о Соколе» в выражении «меланхолично плещут волны на песок» слово «меланхолично» заменено словом «певуче». В повести «Супруги Орловы» Горький сделал несколько подобных же замен: «антракты» заменил словом «промежутки», «герольд» — словом «вестник» и т. д.
Стремясь к большей выразительности, простоте, конкретности и ясности языка, Горький заменяет одни слова другими. Вместо «кто-то протяжно тенорком выпевал» Горький пишет: «кто-то протяжно-жалобным голосом выпевал» («Коновалов»). Текст ранних произведений подвергается в конце 90-х годов значительным сокращениям.
Горький устранял также риторичность и напыщенность стиля, заменял громоздкие обороты речи более легкими. В этом же направлении, но еще более решительно он шлифовал и совершенствовал язык своих ранних произведений при дальнейшем пересмотре их, особенно для издания своего собрания сочинений в 1922—1923 годах.
7
Выход в свет «Очерков и рассказов» Горького был событием огромной важности. Горький становится главой передовой, революционной литературы,
- 255 -
основоположником новой, воинствующей, противостоящей декадентству эстетики.
Обложка первого издания сочинений М. Горького
«Очерки и рассказы». 1898 г.Издание «Очерков и рассказов» было крайне своевременным, ибо декадентство, открыто и беззастенчиво выполнявшее волю своего хозяина — буржуазии, начало свое наступление на принципы передовой русской литературы — демократизм, гуманизм, высокую идейность.
Культивированием теорийки самодовлеющего искусства, безидейности, аполитичности декаденты стремились «облагораживать» лицо хищнической буржуазии и одновременно пытались обезоруживать передовую русскую литературу, «обезвреживать» ее от боевых демократических идей. Характерно, что редактор «Мира искусства» С. Дягилев в программной статье открыл поход против материалистической эстетики Чернышевского. Против демократического искусства выступил Д. Мережковский в своей книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Поход против принципов критики и эстетики Чернышевского и Добролюбова начал в те годы и критик декадент А. Волынский на страницах «Северного вестника».
Горькому пришлось с первых же лет своей литературной деятельности вести упорную, напряженную борьбу с буржуазной реакционной литературой и искусством.
Романтические образы ранних произведений Горького содержали в себе вызов декадентской литературе 90-х годов. Мотивам безволия, уныния, обреченности, смерти, которыми было насыщено творчество Н. Минского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба и др., Горький противопоставил героические образы людей, жертвующих собой ради жизни и счастья, людей, полных жажды битвы, ставших «призывом гордым к свободе, к свету».
В адрес поэтов-декадентов и эстетствующих присяжных их критиков были направлены ядовитые тирады рассказа Горького «О комарах» (1893). Над болотом, в мутном, гнилом воздухе кружились комары, «распевая свои бесконечно унылые мелодии», а лягушки, «слушая эти мелодии, — храбро совершали поползновения в область эстетики — и были непрочь от потуг но части критики, основанием и исходным пунктом которой служил дух времени — то есть вышеупомянутый аромат гниения».1 Столь же убийственно
- 256 -
высмеял Горький декадентов в рассказе «О чиже, который лгал...», представив их в образах мрачно каркающих ворон.
В борьбе с упадочнической литературой Горький всегда опирался на лучшие традиции классической русской литературы.
«...когда-то среди нас жили великие мастера слова, тонкие знатоки жизни и человеческой души, люди, одухотворенные неукротимым стремлением к совершенствованию бытия, одухотворенные глубокой верой в человека. Они создавали книги, которых никогда не коснется забвение... В тех книгах есть и мужество, и гнев пылающий, в них звучит любовь искренняя и свободная», — писал Горький в очерке «Читатель» (1898) (II, 200). Слова Горького звучали как обличение по адресу декадентов с их проповедью индивидуализма, человеконенавистничества, ухода от жизни. Молодой Горький выступил в защиту принципов социальной действенности и значимости искусства против эстетизма декадентов, за которым скрывался их антидемократизм. Горький требовал, чтобы изображаемая писателем «картина жизни вызывала в человеке мстительный стыд и жгучее желание создать иные формы бытия» (II, 203). «Нужны такие слова, — писал Горький, — которые бы звучали, как колокол набата» (I, 334). Он призывал служить народу, «работать в пользу родной страны и нового читателя ее».1
Основной чертой, определяющей деятельность Горького как художника революционного пролетариата было, как он сам сказал, «страстное...желание возбудить в людях действенное отношение к жизни».2
«Действенное отношение к жизни» — это борьба за уничтожение рабьих законов и порядков, уродующих человека, борьба за достойную трудового человека жизнь, за дееспособного, т. е. истинно свободного человека. За это Горький боролся всю свою жизнь, к этому звал и этому учил он русских писателей.
Тем самым Горький боролся за высоко идейную реалистическую литературу.
Горький со всей страстностью звал на бой против декадентства и эстетства, против контрреволюционной клики буржуазно-дворянских космополитов в литературе и искусстве, низкопоклонничавших перед реакционным искусством Западной Европы и Америки. С первых лет своей литературной деятельности и до конца дней Горький вел самую ожесточенную войну с эстетами-антипатриотами.
«Декаденты и декадентство — явление вредное, антиобщественное, — явление, с которым необходимо бороться» (XXIII, 125), — писал Горький в 1896 году, и он боролся с ним последовательно, принципиально.
В статье «Поль Верлен и декаденты» Горький вскрывает истоки французского декадентства как явления, порожденного в среде «жирных и разнузданных купцов», «торжествующих свиней, узких, тупых, пошлых, не признающих иного закона, кроме инстинкта жизни, и иного права, кроме права сильного».
Декаденты, по определению Горького, — это «люди, изнемогавшие от массы пережитых впечатлений, чувствовавшие в себе поэтические струны, но не имевшие в душе камертонов в виде какой-либо определенной идеи, — юноши, желавшие жизни, но истощенные еще до рождения».
Выступившие вначале как «отрицатели и анархисты», декаденты очень скоро «превратились в проповедников морали и учителей жизни». Проповедывать
- 257 -
они стали мораль господ: «веруй, люби и надейся!». Горький отмечал, что Верлены и Метерлинки — дети буржуазного общества.
То, что писал Горький о французских декадентах, относилось и к русскому декадентству. Слова Горького: «Эти песни разлагающейся культуры звучат похоронным звоном зарвавшемуся, нервно-истощенному и эгоистическому обществу и все более истощают его», — пророчески звучали по адресу прогнившего российского строя помещиков и капиталистов.
Обличая западноевропейский литературный декаданс, разоблачая «разрушительный яд» его, Горький гневно выступил в 90-х годах с рядом статей и против русского декадентства в литературе и живописи («Еще поэт», «М. Врубель и „Принцесса Греза“ Ростана» и др.). В «Беглых заметках» и очерках «С Всероссийской выставки» Горький разоблачает всю гибельность для трудящихся капиталистической системы и все пагубное влияние ее на искусство и литературу.
Горький, впоследствии высоко ценивший творчество Акселя Галлена, резко выступил в своих «Беглых заметках» против экспонированных на выставке картин финского художника. В этих произведениях молодой А. Галлен отдал дань модному в 90-е годы импрессионистскому течению.
Горький отрицательно оценил выставленные вне территории выставки панно Врубеля и осудил защитников художника, утверждавших, будто искусство предназначено для избранных, и чем выше оно, «тем уже круг понимающих его людей». Горький утверждал: «Искусство существует не для художников, а для жизни, и не художники сделали гениями Рафаэля и Веласкеза, Ван-Дейка и Гвидо-Рени, не художники оценили и Иванова. Искусство ценят люди жизни, те, кто ждет от искусства откровения и поучения».1
Представленному на выставке тлетворному буржуазному искусству, дающему «алчущим вместо хлеба камень», Горький противопоставил здоровое, мужественное реалистическое искусство народа.
В «Беглых заметках» Горький вел ожесточенную полемику с декадентами в искусстве и литературе. Писатель с негодованием клеймил школу «свободного искусства», называя декадентство «гайдамачеством в искусстве», ибо оно выдвигало «на место кристально-чистого и звучного пушкинского стиха свои неритмичные стихи, без размера и без содержания, с туманными образами и с дутыми претензиями на оригинальность темы, а на место картин Репина, Перова, Прянишникова и других колоссов русской живописи — колоссальные полотна, техника которых вполне родственна угловатым и растрепанным стихам m-me Гиппиус и иже с ней».2
Горький писал: «Жизнь требует света, ясности и нимало не нуждается и туманных и некрасивых картинах и в нервозно-болезненных стихах, лишенных всякого социологического значения и неизмеримо далеких от истинного искусства».3
Анализируя стихи Ф. Сологуба, Горький приходит к следующему общему заключению о творчестве декадентов: «Пессимизм и полное безучастие к действительности..., ясно ощущаемое отсутствие крыльев у поэтов, отсутствие святого духа в сердцах их — вот основные ноты и темы нашей новой поэзии» (XXIII, 122).
Образы поэтов-упадочников, отравлявших своими пессимистическими стихами сознание читателей, Горький нарисовал в ряде очерков и рассказов 90-х годов.
- 258 -
В «Грустной истории» (1895) Горький высмеял тех поэтов-индивидуалистов, которые выше всего ставят благополучие, покой своего маленького «я», и поэтому малейшее лишение, пустяковая неприятность повергают их в пессимизм, заставляют рассматривать себя как трагическую личность. В рассказе говорится, что одного такого поэта кусала блоха и он разразился скорбным стихотворением «Я жизнью жестоко обманут», заканчивавшимся словами: «Господь! Упокой мою душу! Она безнадежно больна!..» (II, 101).
В рассказе «Неприятность» (1895), в образе поэта-эстета Миляева Горький разоблачил такие типические черты буржуазной действительности, как пошлость, беспринципность, безидейность, прикрывавшиеся маской поэта «чистого искусства», страдальца, разочаровавшегося в жизни. «Что цветы мне, что мне звезды, если в сердце жизни нет», — восклицает Миляев (II, 129). Образ Миляева дополняется образом такого же поэта и пошляка Крымского из рассказа «Поэт» (1896).
Против писателей-ренегатов, когда-то бывших «поборниками направления», а затем изменивших народу и ставших писателями для салонной публики, поставщиками изящных новелл, «жрецами» искусства, направлен горьковский рассказ «Встреча» (1896).
С неменьшим негодованием разоблачал и клеймил Горький и другого сорта вредную литературу — пошлую, бульварную, псевдонародную литературную стряпню, усердно преподносимую массам буржуазными издателями.
Против этого пошлого мещанского чтива, развращающего ум и сердце человека, Горький резко выступил в рассказе «Как меня отбрили...» (1898). В нем он писал о том, о чем неоднократно говорил в фельетонах «Между прочим», — о низком культурном уровне городского буржуазного общества, о поощрении его низменных вкусов бульварной литературой. Устами парикмахера, героя рассказа, Горький объясняет причину успеха этой литературы и тем самым вскрывает всю вредоносность ее: «Первое дело, люди (т. е. герои бульварной литературы, — Ред.) весьма ясные господа. Этот подлец, а этот дурак, этот благороден, а этот ангел с небес. Потом — чувства-с! Погашенные вулканы и мрачные омуты! Жестокая борьба-с, свирепство поступков, одушевление, сотрясение всяких порядков жизни, бури и грозы, смерти, грабежи, ужасные деяния, быстрое вращение людей во всем этом и — трах! Добродетель превознесена, а порок попран и свергнут во прах! Слез полштофа прольешь над такой умилительной книгой-с! Волнений испытаешь сладких целый пуд-с!» (II, 378).
Полагая, что он убедил своего клиента-писателя, парикмахер дает совет: «Главное дело-с — вы не стесняйтесь! Валяйте во-всю, и чем меньше на жизнь похоже, тем оно лучше... приятнее для сердца... Фантазии больше, а она производит в человеке вознесение чувства к небесам и этакое сладостное трепетание сердца-с...» (II, 380).
Против литературной пошлости, прививавшей читателю не только «всевозможную дичь и глушь», но и насаждавшей православно-монархические, националистские настроения, Горький написал в 90-е годы ряд статей,1 в которых, давая убийственную характеристику этой «ванькиной литературе», призывал читателя уважать себя и не читать мерзостей.
- 259 -
В знаменитом рассказе «Читатель», проникнутом страстным пафосом борьбы за высоко идейное, передовое, подлинное реалистическое искусство, Горький со всей резкостью выступил против «полинявшего народничества» 90-х годов. Одновременно он выступал против развившегося и 90-х годах натурализма, разоблачал находивших себе покровительство у народнической критики «реалистов» типа Потапенко, перо которых «слабо ковыряет действительность, тихонько ворошит мелочи жизни», против тех, кто «уверен, что это полезно — рыться в мусоре буден и не уметь находить в них ничего, кроме печальных крошечных истин, установляющих только то, что человек зол, глуп, бесчестен, что он вполне и всегда зависит от массы внешних условий, что он бессилен и жалок, один и сам по себе» (II, 201). Такая литература, указывал Горький, была вредной, враждебной народу, ибо она не могла «ускорить биение пульса жизни», «вдохнуть в нее энергию» (II, 203). Имея в виду пресловутых сторонников политики «малых дел», примиренцев с действительностью, Горький писал, что в творчестве таких «друзей народа» — «все будни, будни, будничные люди, будничные мысли, события...» (II, 202).
Недаром Михайловский так обрушился на программный рассказ Горького «Читатель». С целью дискредитировать этот манифест боевого реализма, Михайловский назвал рассказ Горького образцом пессимистического взгляда на русскую литературу. К этому нелепому утверждению присоединил свой голос другой критик народнического толка М. Протопопов, который в своей предвзятости доходил до еще бо́льших нелепостей. Объявляя Горького воинствующим пессимистом, Протопопов противопоставляет ему Потапенко, как пример «бодрого таланта».
Решительно выступил молодой Горький и против психологического «реализма» Достоевского, против его философии и морали, против идеализации страдания.
Философии и эстетике Достоевского, которого в ту пору уже старательно поднимали на щит декаденты (Мережковский), объективно противостояло по существу все творчество молодого Горького. В отдельных произведениях он вступал в открытую полемику с Достоевским, страстно разоблачая, развенчивая реакционную сущность его философии, его эстетики.
В лирико-философском этюде «Часы» (1896), излагая основные принципы передовой реалистической литературы, Горький, обнажая основу основ философии Достоевского — через страдание к спасению, к истине, вскрыл весь вред для демократии, для подлинного гуманизма этой реакционной проповеди. «Страдание соблазнительно, — пишет Горький, — это опасная привилегия; обладая ею, мы обыкновенно не ищем другого, более высокого права на звание человека» (II, 427). О социальном вреде проповеди страдания Горький писал и в рассказе «Первый раз я увидел эту женщину...».
«Мы слишком много говорим о своем горе, — с возмущением заявляет героиня этого рассказа, — мы слишком много жалуемся. Все вокруг нас насыщено нашими стонами... и, умирая, мы на всем оставляем только отпечатки наших личных страданий. Приходят другие люди, они молоды, сильны и смелы, но прежде чем узнать жизнь непосредственно, они отравляются нашим наследством. Мы раскрасили жизнь тусклыми, темными красками и только язвы свои рисуем красиво» (III, 324).
- 260 -
Рабьей философии Достоевского, призывавшей к покорности, смирению, Горький противопоставляет принцип борьбы. «Всего же полнее и интереснее жизнь тогда, — писал он в рассказе «Часы», — когда человек борется с тем, что ему мешает жить» (II, 427).
В повести «Коновалов» отрицательным отзывом своего героя о романе Достоевского «Бедные люди» Горький подчеркивает, насколько враждебно и чуждо рабочему человеку мировоззрение Достоевского, как претит ему сентиментальная манера письма в «Бедных людях», каким ложным, антидемократичным в итоге оказывается гуманизм Достоевского.
Коновалов, сопоставляя Макара Девушкина и Вареньку с героями повести Решетникова «Подлиповцы», замечает:
«Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка... Не жалостно и не смешно» (III, 26).
В «святочном рассказе» «Извозчик» Горький особенно открыто выступает против Достоевского.
Бедный чиновник Павел Николаевич видит сон: под влиянием соблазнительных речей извозчика (вариант чорта Достоевского) он убивает купчиху Заметову, забирает деньги, ценности, становится богатым, уважаемым всеми человеком.
Пародируя Достоевского, Горький одновременно разоблачает буржуазный строй, порождающий бесчеловечие, аморальность, и тем самым обнажает всю ложь «обличительства» Достоевского, которая, в сущности говоря, прикрывала всю мерзость буржуазной психологии.
Герой у Горького совершает не «идейное», а самое обыкновенное, с целью грабежа, убийство, и никаких угрызений совести, страха, раскаяния убийца не испытывает. Все очень просто, буднично. «Я не Раскольников, не идеалист..., — говорит герой рассказа Горького. — Независимость — вот что такое деньги. Свобода-а! Разве я не хочу свободы?.. Мучения совести? Это пустяки, это фантазия... Законы во мне, а не вне меня» (II, 156, 157).
Горький подчеркивает, что такой герой — продукт буржуазного общества, в котором убийство, уничтожение человека человеком разными способами есть закон жизни и средство утвердиться, стать «человеком» в буржуазном понимании, т. е. разбогатеть, занять привилегированное положение. И потому человек, который принял этот «закон», с точки зрения Горького, перестает быть человеком и равнодушно смотрит на все вокруг себя.
Горький решительно выступил против Достоевского в освещении темы городской бедноты, городского «дна». Идеализированным образом Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание» Достоевский переключал острую социальную тему в план христианской морали и тем самым уводил в сторону от борьбы с таким страшным злом буржуазного общества, как проституция. Рассказами («Однажды осенью», «Женщина с голубыми глазами», «Пробуждение», «Коновалов»), в которых были изображены проститутки, Горький настойчиво говорит, что женщину на «дно» жизни толкают жестокие социальные законы капиталистического строя.
Одновременно Горький подчеркивал, что выброшенной «на улицу» женщине свойственно не смирение и кротость, как у Достоевского, а негодование, возмущение, даже протест, хотя протест этот всегда носил, как и у босяков, характер стихийный, анархический («Пробуждение»).
- 261 -
Весьма знаменательно, что, продолжая развивать в своем творчестве традиции демократической литературы XIX века, молодой Горький в своей эстетической программе опирается на эстетические принципы революционных демократов, в первую очередь на эстетику Чернышевского и Добролюбова.
Молодой Горький и своими рассказами, и своими статьями призывал литературу и общество к борьбе с буржуазным искусством, щеголявшим своей мнимой «свободой», с искусством, оторванным от жизни, от интересов народа. Он выступал за искусство действенное, вторгающееся в жизнь, перестраивающее ее, за искусство, разоблачающее эксплуататоров, — искусство реалистическое, доступное массам.
Горький поставил перед собой и перед всей передовой литературой задачу: бороться за принципы воинствующего истинного демократизма, за пропаганду идей гуманности, за воспитание в человеке ненависти ко всяческому насилию, угнетению, к пошлости и подлости в жизни.
В своих произведениях молодой Горький затрагивал вопрос о социальной природе литературы, выдвигал в качестве основной ее задачи — быть оружием борьбы с капиталистическим строем.
Горький, развивая принципы эстетики революционных демократов, выдвигал революционное положение: «...одни формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того, чтоб создать другие, более свободные, наместо тесных» (II, 203) и требовал, чтобы литература активно участвовала в этом революционном творческом акте.
Рассказ «Об одном поэте» был своеобразной эстетической декларацией молодого Горького, в нем выражены поиски нового, отвечающего задачам времени искусства:
«Мечтать — это не значит жить. Нужны подвиги, подвиги! Нужны такие слова, которые бы звучали, как колокол набата, тревожили все и, сотрясая, толкали вперед. Пусть будет ясное сознание ошибок и стыд за прошлое. Пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, острой болью и жажда будущего — страстным мучением» (I, 334).
Связь эстетических взглядов молодого Горького с эстетикой революционных демократов Чернышевского и Добролюбова, а также с боевым гражданским пафосом поэзии Пушкина, Лермонтова и Некрасова несомненна. Неслучайны у Горького неоднократные сравнения вещего голоса писателя с колоколом набата, перекликающиеся с известным лермонтовским поэтическим образом.
В «Читателе» Горький прямо ссылается на передовые идеи великих писателей прошлого, мастеров слова, тонких знатоков жизни и человеческой души, в книгах которых «есть и мужество, и гнев пылающий... любовь искренняя и свободная» (II, 200). Рассказ «Читатель» можно сопоставить с программным стихотворением Некрасова «Поэт и гражданин», содержащим в себе эстетические принципы поэта-демократа. В рассказе Горького, как и в названном стихотворении Некрасова, происходит разговор гражданина с писателем, и, как и там, гражданин излагает задачи истинной, передовой литературы, цель которой — «помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее и них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты» (II, 195). В этих словах выражены эстетические воззрения Горького тех лет, проникнутые революционным отношением к жизни.
- 262 -
Горький придавал рассказу «Читатель» большое значение, подчеркивая его программный характер. Сообщая С. П. Дороватовскому в 1898 году о составе третьего тома своих сочинений, Горький заметил о «Читателе», что он явится «гвоздем в книжке».1
В эстетической программе Горького 90-х годов еще не было четкой социалистической постановки вопроса о природе искусства. Эта программа косила еще общедемократический характер. Но тем не менее эстетические взгляды Горького были в 90-е годы самыми передовыми и воинствующими.
Горький требовал реалистического отображения литературой действительности, глубокого обобщения новых явлений. Он боролся за искусство, которое вызывало бы «жгучее желание создать иные формы бытия» (II, 203).
Горький чувствовал нарастание боевых сил революции, и потому его пафос обличения мерзостей жизни и пафос воспевания подвигов, героики жизни пронизан был исключительной силы социальным оптимизмом. Все в творчестве молодого Горького, и даже картины социального «дна», говорило не только о необходимости, но и о неизбежности скорого и коренного преобразования всего общественного строя.
8
Впервые к жанру повести Горький обратился в 1894 году. В газете «Волгарь» была опубликована повесть «Горемыка Павел», которую, по словам автора, усердно «портили в две руки» редактор А. Дробыш-Дробышевский и цензор.2
Большая форма была нужна Горькому для широкой постановки острых социальных проблем. В этой, еще художественно незрелой повести писатель показывает, как современный социальный строй, обрекая людей на бесправие и нужду, калечит их духовно.
В повести рассказана история тяжелого детства и не менее суровой юности подкидыша, завершившаяся личной драмой: Павел убивает возлюбленную, чтобы избавить ее от грязи и поругания. Трагедия героя показана Горьким на мрачном фоне жизни низов капиталистического общества, обитателей подвалов-трущоб.
Конфликт произведения составляет несоответствие мечты человека о «чистой, справедливой» жизни окружающей действительности с ее циничной моралью.
Повесть «Горемыка Павел» затерялась на страницах провинциальной газеты, и современники воспринимали Горького до конца 90-х годов только как автора рассказов и очерков.
В конце 90-х годов Горький обращается к созданию большого полотна русской жизни, которым он хотел возбудить «стыд в людях».3 «Фома Гордеев» — новый этап в творчестве Горького, предопределивший его дальнейшую работу над большой формой.
Углубленная авторская работа над первым сводом избранных сочинений подводила итог пройденному литературному пути. Тщательно отбирая произведения для двух томов «Очерков и рассказов», Горький
- 263 -
познакомил читателя не со всем кругом разрабатываемых им вопросов, и только с теми из них, в которых наиболее ярко проявилось его отношение к действительности. В первых томах была представлена «босяцкая» тематика и выявлено отношение писателя к буржуазной интеллигенции. О последней (третьей) книге «Очерков и рассказов» Горький писал своему издателю, что «она явится переходом к новой форме» его «литературного бытия»,1 т. е. к новой тематике и новому жанру. В «Фоме Гордееве» дана широкая картина становления капитализма в России, показан мир ее «хозяев». От «Фомы Гордеева» тянутся нити к «Вассе Железновой», «Делу Артамоновых», «Егору Булычеву...».
Наиболее видными ближайшими литературными предшественниками Горького в этой теме были П. Боборыкин и Д. Мамин-Сибиряк.
Первый из них создал значительное число образов русских капиталистов, показал эволюцию «темного царства» Островского за последнюю четверть века. Но в обрисовке этих героев сказалась классовая ограниченность писателя. Боборыкин воспроизводил в первую очередь не социальную картину развития русского капитализма, а интимную личную жизнь и мораль его представителей, причем последняя давалась в отрыве от классовой психологии. Отдельные удачные картины и наблюдения тонули в море натуралистических зарисовок и абстрактных моралистических рассуждений.
Д. Мамин-Сибиряк разрабатывал близкую Горькому тему разоблачения русского капитализма. Он создал большие полотна жизни крепостной и пореформенной России, показал отрицательные стороны капитализма, нарисовал яркие картины крушения создаваемого капиталистами личного благополучия. Но писатель не сумел отразить в своем творчестве революционной деятельности пролетариата — этой силы, которая и определяет в конечном счете крах капитализма. Он вошел в историю литературы как певец Урала, отобразивший его особый быт и своеобразие экономического развития.
В отличие от этих писателей Горький поставил и блестяще разрешил задачу реалистического воспроизведения социально-исторической картины своего времени с учетом противоречий и сложностей капиталистического развития.
В. И. Ленин в своих работах разгромил народническую идеологию. Писатели-демократы, принимавшие активное участие в журналах 90-х годов, в которых сотрудничал В. И. Ленин, стремились в своих художественных произведениях к разоблачению народнической догмы. Среди антинароднических произведений повести «Фома Гордеев» принадлежит одно из первых мест. Идейное содержание нового горьковского произведения, посвященного глубокому анализу философии и практической деятельности буржуазии, было выражено с большой художественной силой.
Материалом повести послужили богатые многолетние наблюдения Горького над бытом и деятельностью хищников Поволжья — волжского купечества, а также над работой Торгово-промышленного съезда и Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году. Эти наблюдения помогли ему вылепить типичные фигуры хозяев «средней величины» и показать, как на различных стадиях экономического развития формировались их социальные и политические взгляды. Горький не стремился к упрощению реального жизненного процесса. В «Фоме Гордееве» дана
- 264 -
целая галерея представителей разнородных групп капитала, объединенных общностью социальных взглядов, морали и быта. Горький правдиво раскрывал типическое поведение хозяев и классовые истоки их психологии. Избранный им жанр повести-хроники позволял воспроизвести жизнь нескольких поколений буржуазии.
В «Фоме Гордееве» выведены деятели старого торгового капитала, хищники, рожденные экономическим развитием пореформенной России, и дельцы новейшей формации. В повести изображены как верные хранители классовых традиций буржуазии, так и нарушители «нормального» порядка жизни.
Показывая становление русского капитализма, Горький говорит о непрочности и неизбежной гибели капиталистического мира. В столкновении энергичного, здорового человека, «ищущего дела по силам», с миром собственников, считающих себя «солью земли», — основной конфликт горьковской повести.
На ином жизненном материале, чем в повести «Горемыка Павел», художник показывает, как капитализм калечит людей, убивая в них лучшие человеческие качества, как социальная практика обусловливает формирование индивидуалистической личности.
В повести широко воспроизведена жизнь губернского купеческого города, раскрыты сложные взаимоотношения людей на различных ступенях социальной лестницы, показаны звериные законы капиталистического общества. Купечество дано в его связях с интеллигенцией, дворянством, чиновничеством, пролетариатом.
Типичный представитель первого поколения стяжателей пореформенной Руси Игнат Гордеев имеет много родственных черт с более поздними горьковскими образами — с Савелием Кожемякиным и с Ильей Артамоновым. Все они пришли снизу (Игнат проходит сложный путь от мужика-водолива до одного из крупнейших хозяев Волги), одержимы жаждой приобретательства и неразборчивы в выборе средств для достижения поставленной цели. Эти выходцы из народа, богато одаренные умом, инициативой, энергией и силой воли, быстро становятся капиталистическими хищниками. С увлечением отдаваясь организации собственного «дела», они быстро усваивают идеологию защитников узаконенного грабежа и социального неравенства. Однако у этих первонакопителей азарт наживы нередко сочетается с широтой натуры. Когда ледоход разбивает крупную баржу Гордеева, он, забывая об убытке, любуется мощной силой Волги, приговаривая:
«Так ее!.. Ну-ка еще... жми-дави!.. Ну, еще разок!..» (IV, 10).
Характер Игната противоречив. С одной стороны, в нем есть еще неутраченное чувство богатырского здоровья и силы человека из народа, с другой, в нем пробуждается неуверенность в «завтрашнем дне», в прочности достигнутого благополучия. Консерватизм буржуазного быта и морали не удовлетворял, тяготил его. Неудовлетворенность жизнью подчеркнута у Игната Гордеева сознанием того, что он «не хозяин своего дела, а низкий раб его» (IV, 11). Отсюда то чувство «тоски», та попытка порвать с патриархальным бытом, которые так часто наблюдал Горький у богачей Поволжья и которые так красочно запечатлены на страницах его книги.
Игнату Гордееву, как представителю пореформенного хищничества, противостоит наследник более старого купеческого рода — Яков Маякин. «Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были, — стало быть, я — человек чистой крови», — часто говорит он (IV, 21). Маякины
- 265 -
не способны на «бунт» Гордеевых, их классовая психология выработана и упрочена многими поколениями и потому более устойчива. Традиционен их быт, их жизненный путь. Тарас Маякин уклонился от пути отца лишь на короткий срок, возвращение его в отчий дом вполне закономерно.
Обрисовка врагов никогда не была у Горького односторонней. Люди обычно показаны им во всей сложности их взаимосвязей с окружающим, в тесной обусловленности индивидуальных и социальных черт. «Сознание рабочих масс не может быть истинно классовым сознанием, если рабочие на конкретных и притом непременно злободневных (актуальных) политических фактах и событиях не научатся наблюдать каждый из других общественных классов во всех проявлениях умственной, нравственной и политической жизни этих классов; — не научатся применять на практике материалистический анализ и материалистическую оценку всех сторон деятельности и жизни всех классов, слоев и групп населения», — писал В. И. Ленин в своей работе «Что делать?».1 Такой материалистический анализ блестяще осуществлялся в творчестве Горького.
Яков Маякин — опасный и хитрый враг, уже мечтающий, в предвидении революции, о развертывании контрреволюционной борьбы буржуазии за власть. Обнажая его классовую сущность, неприкрытый цинизм его мышления, Горький в то же время наделил Маякина силой воли, умом, работоспособностью.
В жизни Якова Маякина не могло быть неожиданных срывов, он не сомневался в своем праве господства. Накопление для него не только цель личной жизни, но и средство упрочить позиции своего класса. Маякин чувствует себя наследником купечества, хранителем его морали и мировоззрения.
Эта новая фигура политически мыслящего купца знаменовала новый исторический этап развития капитализма. В русской литературе этот тип впервые был создан Горьким.
Горьковский герой гордится экономической мощью купечества и требует предоставления ему возможности непосредственно участвовать в делах государства. Маякин отлично понимает, что старые формы накопления уже изживают себя, что они непригодны для реализации новых классовых задач. Несмотря на полупатриархальный характер бытового уклада в своем доме, родовитый купец дает образование своим детям и охотно прислушивается к деловым высказываниям европеизированного купца Африкана Смолина. Жизнь воспринимается Маякиным как процесс непрерывной деятельности, как усиление активности своего класса. «Теперь — мы на своих ногах стоим... Ходу нам дайте!», — требует он (IV, 196). «Хозяин средней величины» выступает в качестве идеолога буржуазии. Горький показывает, как назревает недовольство капиталистов дворянско-помещичьей Русью. Маякин недоволен тем, что в жизни все еще командуют «дворяне, чиновники и всякие другие — не наши люди» (IV, 107), тогда как реальные богатства, миллионы сосредоточиваются в руках деятелей торгово-промышленного капитала. Маякины ищут возможности как можно шире развернуть свою деятельность и заставить правительство признать силу новых «хозяев».
Вспоминая в «Беседах о ремесле» о своих наблюдениях над представителями крупного капитала, Горький писал, что, слушая их речи, он почувствовал: «...это — женихи, они влюбились в богатую Россию, сватаются
- 266 -
к ней и знают, что ее необходимо развести с Николаем Романовым» (XXV, 316). Это новое классовое самосознание ярко раскрыто в образе Маякина.
Наряду с общественно-политическим поведением «хозяев» Горький обнажает в «Фоме Гордееве» классовую природу их морали и хищнической философии. «Я приписал Якову Маякину кое-что от социальной философии Фридриха Ницше», — писал Горький о своем герое (XXV, 319). Все чувства и мысли Маякина подчинены в конечном итоге власти денег, желанию командовать. Поучая крестника, Маякин говорит о праве сильного: «...подходя к человеку, держи в левой руке мед, а в правой — нож... Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена: или всех грызи, иль лежи в грязи...» (IV, 111). Маякин знает только один, хозяйский, подход к людям, его основное требование, чтобы каждый человек был израсходован «с пользой для дела, весь до последней своей жилочки». Столь же расчетливы его отношения и к близким людям. Заботы о Фоме вызваны не любовью, а желанием старика объединить два капитала, найти в лице крестника законного преемника своего «дела». Когда Маякину сообщают, что кутящий Фома затопил баржу, он гневно кричит дочери: «Разве баржа разбилась?! Эх, ты! Человек разбился! Вот оно что! А ведь он — нужен мне! Нужен он мне, черти вы тупые!» (IV, 168). Фома нужен Маякину не только как продолжатель его торговых дел, но и как выполнитель той исторической роли, которую он предназначает своему классу: «...позвольте нам свободы действий! Вот куда наш брат должен курс держать... Вот где задача! Фомка этого не понимает... Должен понять и — продолжать...» (IV, 196).
Горький подчеркивает необычайную жизненную цепкость своего героя, которая заставляет его все внимательнее вглядываться в современную действительность, разыскивать своих союзников. «Стойкий в своих желаниях старик» не теряет ни вкуса, ни интереса к жизни (IV, 201).
Не таков хищник Ананий Щуров — олицетворение отмирающего патриархального торгового капитала. Хранитель старых сословных устоев отвергает новые формы капиталистического развития, он напуган современной техникой и уверен, что в старину, в эпоху примитивной эксплуатации лучше было. В отличие от него Маякин не боится роста индустрии; он защищает машину, технику, новая действительность кажется ему все более богатой и яркой. Единственное беспокойство вызывает у него только проблема наследников, часть которых, по его словам, лишена «живого чувства» и живет подобно нищим. Вот почему Маякин так радостно приветствует Африкана Смолина, в нем он чувствует нового, умного стяжателя с твердой волей и желанием упрочить свою власть.
Игнат Гордеев, Щуров, Маякин, несмотря на различие их индивидуальностей, были типичными представителями различных слоев русской буржуазии. Но, показав становление их классовой психологии, Горький одновременно рисует и процесс внутреннего разложения буржуазии, ставший затем постоянной темой его творчества. Новое поколение уже не разделяет полностью верований своих предшественников. Часть детей восстает против отцов, против системы грабежа, насилия, угнетения человеческой личности. Фома Гордеев — один из таких нарушителей буржуазного покоя. Он унаследовал от отца энергию, стихийную силу, дерзость. «Есть у Гордеева характерец... есть в нем отцово дерзновение... Много он может поднять на себе», — говорит о нем Маякин (IV, 198). Но удаль Фомы не сплетена с хозяйской хваткой первых накопителей. Поучения
- 267 -
отца об отношении сильного к слабому, экономически зависимому человеку не родили у пытливого подростка желания порабощать. Игнат Гордеев, Маякин, Щуров отлично знают силу денег и каждый из них по-своему выражают уважение к ней. Для Фомы эта власть, созданная ценой страданий и унижения людей, несправедлива. Социальное неравенство волнует его, заставляет думать о смысле жизни.
В повести остро поставлена проблема труда, ставшего в условиях капитализма особо тяжким бременем для трудящихся. Фома начинает понимать, что тот, кто действительно много работает, бесправен и голоден, а тот, кто командует, забирает себе все. Сильный, здоровый юноша страдает от вынужденного безделья, от неумения найти приложение своей большой энергии. «У меня силы на быка, а работы — на воробья!», — говорит Фома. И вместе с тем он не лишен ощущения пьянящей, творческой силы работы. В повесть введена сцена подъема затонувшей баржи, во время которой Фома впервые «испытывал такое одухотворяющее чувство и всей силой голодной души своей глотал его, пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующих криках в лад с рабочими» (IV, 177). Право командовать, подчинять людей своим дебоширствам не приносит удовлетворения молодому купеческому наследнику. Накопление ради накопления кажется ему бессмысленной, ничем не оправданной игрой. Все чаще чувствует он себя пленником своего богатства. И если бунтарство Игната было признаком стихийной мощи его натуры, его временного недовольства своей судьбой, то бунтарство младшего Гордеева вызвано стихийно-анархическим протестом против звериных законов жизни. У первого поколения стяжателей, захваченных погоней за миллионами, не возникал вопрос, столь волновавший горьковского Егора Булычева: на той ли улице жизнь они прожили? У их преемников вопрос этот появлялся уже с юных лет. Стремления упрочить положение своего класса, которым обладали купцы-интеллигенты, вроде Африкана Смолина, у Фомы не было. Его кутежи — одна из попыток вырваться из ненавистной ему купеческой среды. Фома становится отщепенцем своего класса. Горький показывает, как чувство неумершего человеческого достоинства и любовь к людям вступают в неизбежный конфликт с буржуазной моралью. Младший Гордеев отлично ощущает фальшь окружающего, он только не может точно сформулировать свое отношение к нему.
Сила Фомы была силой «без ума», его протест был протестом без всякой программы. Фома способен на бунтарство, а не на борьбу с миром капиталистов. Это было выполнено другим классом. Одиночество, отщепенство Фомы — результат противоречий исторического развития буржуазии, бунт его закономерен, но социально бесплоден. «Дерзость сердца», не подкрепленная знаниями социальных «порядков жизни», приводила Фому только к плутаниям и бесчисленным житейским срывам. Непримиримое противоречие между стремлением к свободе и положением человека в капиталистическом обществе раздавило Фому. Встреча с рабочими типографии раскрыла ему, что не буржуазия является строителем новой жизни; но он не смог найти пути к трудовому народу.
Тема протеста сильного, но еще не освещенного знанием путей социальной борьбы, — одна из основных тем горьковского творчества. Отсутствие знаний, расширяющих представление о мире, связывало Фому. «Он видел себя твердо стоящим на ногах — и немым» (IV, 193). Но Фома понимает, какой страшной ценой преступлений и эксплуатации приобретена экономическая мощь именитого купечества, он презирает его лицемерную
- 268 -
мораль, он не хочет примириться с позорным для человека существованием. Вот почему речь Маякина на освящении парохода Кононова о всемогуществе русского купечества вызывает гневный протест его крестника. Обличение волжских хозяев рождено у Фомы страстным желанием сорвать маску благопристойности с лица буржуа. «Вы испортили жизнь! Вы все стеснили... от вас удушье... от вас! И хоть слаба моя правда против вас, а все-таки — правда!.. Я увидал много и ослеп...», — гневно кричит Фома (IV, 275).
В «Фоме Гордееве» Горький впервые так отчетливо поставил проблему «разрушения личности» в буржуазном обществе. Духовно здоровому человеку не нашлось места в мире собственников, капиталистическое общество сломило и опустошило человека.
Новые исторические условия требовали организованной классовой борьбы, а не анархического, словесного обличительства.
«Брось! Ничего ты не можешь!.. — говорит Фоме разночинец Ежов. — Ваша пора — пора сильных, но неумных, — прошла, брат! Опоздал ты...» (IV, 213).
Фома — один из бунтующих сынов буржуазии, человек, «выломившийся» из жизни своего класса. Горький отлично понимал, что его герой хотя и типичен, но тем не менее раскрывает только одну из сторон явления. Подметив зорким глазом художника острый жизненный конфликт, Горький в то же время видел, что этот новый конфликт — столкновение в среде самой же буржуазии — не сможет приобрести массового распространения, не станет ведущей тенденцией дальнейшего развития капитализма. Потому-то, приступив к реализации повести о губительной силе капитализма, Горький вынужден был сразу же поставить вопрос о соответствии своего произведения жизненной правде, о глубоком выражении в нем сущности данного социального явления, о необходимости противопоставить своему Фоме более распространенный классовый тип. В письме к С. Дороватовскому от 15 февраля 1899 года он писал: «...параллельно с работой над Фомой, составляю план другой повести „Карьера Мишки Вягина“. Это тоже история о купце, но о купце уже типическом, о мелком, умном, энергичном жулике, который из посудников на пароходе достигает до поста городского головы. Фома — не типичен как купец, как представитель класса, он только здоровый человек, который хочет свободной жизни, которому тесно в рамках современности. Необходимо рядом с ним поставить другую фигуру, чтобы не нарушать правды жизни».1
Фома — «блудный сын» буржуазии, Маякин — типичный представитель класса, его сын Тарас и Африкан Смолин — трансформация Маякина в новых исторических условиях. Это уже просвещенные дельцы, промышленники, знакомые с более тонкими и сильными способами эксплуатации человека. Помесь волка и свиньи с жабой и змеей — так характеризует сущность этой европеизированной либеральной буржуазии фельетонист Ежов.
Молодое поколение быстро нашло общий язык с отцами, сознающими необходимость изменения старых форм экономического господства. Яков Маякин внимательно присматривается к своему будущему зятю и «отрезвевшему» сыну. В их лице он приветствует силу, способную осуществить его программу владычества торгово-промышленного капитала. Смолин —
- 269 -
промышленник, который стремится упрочить свое положение не только с помощью денег, но и путем организации общественного мнения. Он мечтает не только о развитии своего промышленного предприятия, но и о приобретении газеты, которая встанет на защиту интересов промышленности и торговли. Молодое поколение выживает представителей патриархального капитализма, не способных, подобно Ананию Щурову, понять новую фазу развития капитализма. На пароходе Кононова среди гостей, представляющих цвет местного купечества, было уже не много стариков, одетых «в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками», «преобладали цилиндры, штиблеты и модные визитки» (IV, 257). К этим-то уже «просвещенным» купцам и обратился со своей программной речью о политическом и экономическом господстве Яков Маякин.
Таким образом, ставя перед собой задачу — развить еще мало освещенную в русской литературе XIX века тему становления и развития капитализма, Горький вместе с тем решал и задачу типизации новых явлений. Для решения этой задачи было необходимо, чтобы герои соответствовали типическим обстоятельствам данного исторического периода. В связи с этим, работая над созданием новых типических характеров, писатель вынужден был несколько видоизменить возникший первоначально образ Фомы Гордеева. Сообщая о начале своей работы над повестью, Горький писал, что он хочет изобразить в ней человека, напоминающего Геркулеса, побежденного мелочами жизни. Однако в процессе работы, обобщая свои богатые впечатления от бунтарства «выломившихся» из жизни людей, Горький снизил несколько образ Фомы, придав ему более характерный для его среды облик.
Воспроизводя жизнь в движении, а не в статике, Горький создавал наиболее характерные для данного класса образы, показывая их в столкновении с отщепенцами класса, протестующими против морали и идеологии своих отцов. Это столкновение не нарушало «правды жизни».
В «Фоме Гордееве» Горький проявил себя замечательным мастером социального портрета. Портрет создается и внешней характеристикой, и раскрытием классово обусловленного поведения героев, и их взаимоотношениями с другими персонажами, а также богатой, всегда индивидуализированной речевой характеристикой.
Современная критика, воспринявшая «Фому Гордеева» как первый горьковский опыт работы над большой формой, находила повесть растянутой, перегруженной эпизодическими лицами, диалогами и монологами. (Позднее Горький несомненно учел некоторые замечания и значительно переработал журнальный текст повести). Наряду с этим отмечалось отличное знание автором купеческого быта и типичность фигур Игната Гордеева и Маякина. Характерно, что эта типичность была признана и представителями самой буржуазии. В очерке о Н. А. Бугрове (1923) Горький приводит отзыв этого крупнейшего капиталиста Поволжья о повести:
«Не все в книге вашей верно, многое же очень строго сказано, однако Маякин — примечательное лицо!.. Я вокруг себя подобного не видал, а — чувствую: таков человек должен быть!» (XV, 210, 215).
Особое внимание уделялось оценке речи Маякина. Отмечая образность языка этого представителя буржуазии, критики неправильно объясняли ее народными истоками. В действительности речь Маякина пересыпана поговорками, далекими от фольклора, язык его свидетельствует о сословной ограниченности. Кроме того, в речи Маякина использовано много книжных перифраз (см., например, перифраз из Омар Хайяма:
- 270 -
«даст тебе дурак меду — плюнь; даст мудрец яду — пей!» — IV, 91), а также вычитанных из книг афоризмов.
Наибольшие возражения в критике вызвал образ протестанта Фомы. Критика, ошибочно оценив этот персонаж как попытку Горького создать положительный тип, считала его недостаточно ясным.
Яркая реалистическая картина развития русского капитализма и его внутреннего разложения не нашла в современной критике должной оценки, как не было ею оценено противопоставление миру капиталистов людей труда, твердо уверенных в том, что будущее принадлежит им (встреча Фомы с наборщиками).
В следующей, незаконченной повести «Мужик» (1900), которую Горький назвал «очерками», был создан новый образ интеллигента. На смену дряблому поколению, развенчанному в ранних рассказах Горького, шел новый герой, обладающий, подобно купцам предшествующей повести, крепкой житейской закалкой, энергией и трезвым практическим умом. Повесть была задумана как обличение старой народнической интеллигенции и в то же время как развенчание нового типа интеллигента-дельца. В начале декабря 1899 года Горький писал о замысле своей повести А. Чехову: «Буду изображать в ней мужика, — образованного, архитектора, жулика, умницу, жадного к жизни, конечно».1 Это же отношение к герою подтверждено им и в письме к П. Ф. Якубовичу, в котором он назвал героя повести архитектора Шебуева «жуликом и самохвалом».2 Этот-то герой выступает в повести с обвинением интеллигенции, основную массу которой составляли либо полинявшие народники, либо люди, давно уже разуверившиеся в народнической правде, но не имевшие сил для поисков новых путей. Центральное место в опубликованных «очерках» занимает речь Шебуева, в которой утверждалось, что современная интеллигенция является печальным завершением богатой духовной культуры, исчерпавшей себя: дети уже не в силах приумножить наследства, оставленного отцами. По словам архитектора, интеллигент-дворянин создал большие культурные ценности и отцвел, а интеллигент-разночинец надорвался в труде; на смену им идет новое работоспособное поколение — «мужик, рабочий-интеллигент, и в то же время растет буржуа купец-интеллигент» (IV, 332). Деятельность этих купцов-интеллигентов была запечатлена в «Фоме Гордееве», раскрытию же характера нового интеллигента-мужика были посвящены новые «очерки». Однако по мере развития сюжета, они разрастались, превращаясь в большое полотно уездной Руси; в них появились новые персонажи, образ основного героя становился все более полемичным. Читатели «Мужика» справедливо воспринимали эту повесть как выступление Горького против народнической литературы.
Повесть «Мужик» должна была показать процесс созревания классового самосознания интеллигента новой формации и его борьбу за свое место в жизни.
Практицизм, умение быстро ориентироваться в сложнейшей обстановке, сознание своей растущей силы и ценности своей исторической миссии — характерные черты нового героя. Уверенность в том, что современная эпоха, эпоха развития крупного промышленного капитала настойчиво
- 271 -
требует не соображений о том, «что делать», а реальных «крупных практических дел», руководит всеми поступками выходца из крестьян Шебуева. Интеллигентская программа народолюбия вызывает насмешливое отношение нового дельца. Бесплотным мечтам о счастье человечества он противопоставляет свой буржуазный «деловой взгляд». Шебуев принадлежит к поколению, которое хочет работать и строить крепкую буржуазную жизнь, в которой он займет прочное место одного из хозяев. Задачу новой интеллигенции Шебуев видит в расширении дороги «к свету для своего брата мужика, — для брата по крови, оставшегося внизу и назади» (IV, 332—333). Однако эта программа не имеет ничего общего со стремлением революционного преобразования жизни. Когда слушатели страстного монолога архитектора увидели в его лице «народолюбца», Шебуев горячо стал протестовать против такого истолкования его слов. Дальнейшее развитие повести показывало, что заботы об оставшихся внизу продиктованы ему не состраданием или любовью, а прямым деловым расчетом. Он претендует на руководящую роль в современном обществе, он собирается оспаривать ее у Маякиных — Чечевицыных, для того ему и нужна тесная связь с определенным социальным слоем. Повесть Горького развенчивала буржуазного демократа, мечтающего о реорганизации жизни при помощи реформ и прикрывающего красивой фразой свое стремление к мещанской сытости и буржуазному покою.
В отличие от героев Чехова, мечтающих о городах-садах прекрасного будущего, архитектор Шебуев не предается столь высоким мечтам. Его замыслы более деловиты, он сродни чеховскому Лопатину («Вишневый сад»). Шебуев хочет купить имение и, устроив в нем завод для сухой перегонки дерева, свести весь лес. Это необходимо ему и для коммерции, и для приобретения соответствующего ценза. Он не прочь поселить рабочих в дешевых жилищах — бараках, так как это может создать ему популярность и помочь скорее осуществить поставленную перед собой цель — прочно обосноваться в думе и земстве. Скептик Сурков правильно оценивает нового героя, завладевшего вниманием местного общества: «Ох, это не новый человек!.. Клянусь вам — это старый человек! Он несомненно родня Соломину — Штольцу и другим положительным людям...» (IV, 333).
Публикация двух глав повести вызвала единодушную отрицательную оценку в критике, справедливо указавшей на то, что в начале повести «Мужик» герой в своих программных речах взял слишком высокую ноту, которая в дальнейшем плохо сочеталась с его откровенной цинической деятельностью. Горький наделил своего героя качествами, придававшими образу двойственный характер. В первой главе Шебуев — человек, прошедший тяжелую жизненную школу (в характеристике героя Горький использовал автобиографические черты, отображенные им позднее в повестях «Хозяин» и «В людях»), произносит страстные тирады во славу жизни, в которых нельзя было не услышать отголосков высказываний самого автора. «В ней (в жизни, — Ред.) не только пошлое, но и героическое, не только грязное, но и светлое, чарующее, красивое, — говорит Шебуев. — В ней есть все, что захочет найти человек, а в нем — есть сила создать то, чего нет в ней!» (IV, 326). Это выступление героя невольно вызывает в памяти слова старухи Изергиль: «А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам» (I, 348). Столь же страстны призывы Шебуева к работе, созидательному труду. Эти черты послужили поводом к утверждению современной критики (после публикации первой главы), что в лице Шебуева Горький, в противовес Фоме
- 272 -
Гордееву, пытается создать «центральный тип современного общества».1 Это «тот же мужик, та же черноземная сила, но вышедшая на настоящую дорогу», — писал критик «Биржевых ведомостей».2 Дальнейшее развитие сюжета вызвало, однако, полное недоумение критики.
Полемичность образа героя, противостоящего излюбленным героям народнической литературы, была очевидна, но непонятна была позиция автора, развенчивавшего нового интеллигента. Превращение бунтаря в стяжателя новой формации не было убедительно показано в опубликованных главах. Помимо образа героя, отрицательную оценку критики вызвало обилие в повести монологов.
Л. Толстой и А. Чехов дали отрицательные отзывы о повести. Попытка сделать ее ведущим героем не столь уже характерную для данного времени «положительно-отрицательную» фигуру мужика-архитектора без противопоставления ему иных, более типичных характеров оказалось неудачной. По свидетельству современников, Горький и сам признал свою повесть неудавшейся и отказался от дальнейшей работы над нею. Третья, уже написанная глава осталась неопубликованной. Вместо незаконченного «Мужика» в журнале «Жизнь» начала печататься новая повесть «Трое».
В июне 1900 года Горький писал К. Пятницкому: «Знаете, что надо написать? Две повести: одну о человеке, который шел сверху вниз, другую о человеке, который шел снизу вверх».3 Второй замысел и был осуществлен писателем.
Повесть «Трое» воскрешала конфликт «Горемыки Павла» — несоответствие социальной действительности стремлению «жить по-человечески чисто, честно и весело». Три героя олицетворяли попытки осуществить это стремление тремя различными путями — путем непротивления окружающему, анархического бунта одиночки и настойчивых поисков соратников по борьбе с социальным злом. Вскрывая «свинцовые мерзости» буржуазно-мещанского быта, повесть ставила перед читателем-демократом вопрос о выборе своего жизненного пути.
Детство трех товарищей прошло в доме, «насквозь пропитанном несчастьями» (V, 44). Он должен был развалиться, но новый хозяин — кабатчик Петруха Филимонов залатал его и увеличил пристройку. И вот гнилой изнутри этот дом продолжал жить. Уже в этом образе дома читатель не мог не почувствовать символики, раскрывающей сущность современного общества. Цинизм и бесправие, ничем не прикрытая ложь в человеческих взаимоотношениях, господство мелких хищников с их волчьей моралью — вот что было характерно для жизни этого дома. Примириться с ней для человека, наделенного пытливым умом и стремлением жить честно, было невозможно. Горячее желание вырваться из пут филимоновского дома объединило трех юных героев повести.
Один из них, Яков Филимонов противопоставил окружающей его грязи свою мечту о чистой спокойной жизни, изолированной от житейских битв. Он был неспособен к борьбе, к длительному протесту, к защите, и кабатчику Петрухе удалось очень быстро сломить хрупкую натуру своего сына. Безволие, власть религиозно-мистических настроений, «голубых снов» превратили Якова в забитое существо, жалкую тень человека. Стремясь
- 273 -
только к чистоте своей личной совести, он стал одним из тех «праведников» русской жизни, которые своим непротивлением злу еще более увеличивали социальную несправедливость. Яков — бесхребетный пассивный мечтатель, человек бескрылых стремлений, которому в творчестве Горького была объявлена решительная, беспощадная борьба.
Второй герой — Илья Лунев, выходец из деревни, резко противостоит своему безвольному товарищу. Это человек действия, упорной воли, пытливой наблюдательности. В поисках ответа на вопрос «как жить?», являющегося идейным стержнем всей повести, Илья выявляет свое полное несогласие с окружающей действительностью, в которой оплеваны и труд, и любовь, и брак, и отцовство. Илья не может слепо подчиниться циничной морали господ, еще в детстве он обнаруживает явное желание «мыслить по своему, а не по-хозяйски». Пошлости и грязи жизни горьковский герой противопоставляет свое гневное «я еще поспорю». Раскрытию сущности этого спора и посвящена вся повесть.
Илья возмущен не только своим личным бытием, его волнуют судьбы его товарищей, его негодование вызывают социальные законы современного общества. Но выросший в среде мещан, в среде людей, скованных вечной погоней за куском хлеба, вечным стремлением любой ценой «выбраться в люди» и в свою очередь получить возможность командовать, он и свою мечту о «чистой» жизни облекает в те же мещанские формы. Илья уже отравлен властью собственничества. От грязи филимоновского дома он пытается отгородиться своей собственной маленькой лавочкой, не понимая, что это только одна из разновидностей филимоновских попыток залатать прогнившее. Илья мечтает лишь о некоторых изменениях социального быта, в то время как решительной ломки требовал весь социальный строй.
«Это тяжелое, грязное здание, — писал Горький в памфлете «О писателе, который зазнался» (ноябрь 1900 года), — все пропитано кровью людей, которых раздавило. Оно сотрясается от дряхлости, охвачено предчувствием близкого разрушения и в страхе ждет толчка, чтобы с шумом развалиться. И уже зреют силы для толчка, они нарастают, они едва могут сдержать себя и то там, то тут вспыхивают пламенем нетерпения» (V, 312).
Но деятельный по натуре Лунев, вместо борьбы с буржуазным укладом жизни, стремится, в конечном итоге, подобно людям, вызывающим его гнев, лишь к личному благополучию, мещанскому комфорту. Недюжинные силы, растраченные им на создание этого сытого, «чистого» уюта, не имели ничего общего с тем «толчком», в котором нуждалась русская жизнь. Борьба с властью хищников и мещан оказалась бесплодной у человека, который остался в пределах мелкобуржуазных представлений о мире. Вот почему мечта Ильи, как и мечта Якова, потерпела крушение.
Путь вверх, к первому же командному пункту собственника, стал для Ильи путем преступления (воровство, убийство), а достижение мечты — мелочная лавочка — не принесло успокоения, ясно обнаружив в верхних этажах общества ту же социальную ложь, только более искусно прикрытую лицемерием. Вопрос «как жить?» сменяется у горьковского героя другим естественным вопросом: «Почему Петрушка Филимонов — хозяин жизни?» (V, 282). Но дать ответ на него он оказался бессильным. Чувство собственника, владевшее Ильей, помешало ему найти этот ответ у других людей. Слова гимназистки Сони о роли и значении труда, об эксплуатации работающих, убив окончательно веру Ильи в возможность
- 274 -
аккуратной, чистенькой жизни, вызвали в нем в то же время глухой протест. Илья чувствовал, как растет его злоба против людской несправедливости, но «врага, наносящего обиду..., налицо не было, — он был невидим» для него (V, 210). «Дерзость сердца», не подкрепленная, как и у Фомы Гордеева, ясным представлением о классовых основах общества, толкнула Лунева на тот же анархический бунт одиночки.
«Кабы знал я, какой силой раздавить вас можно! Не знаю!..», — гневно бросает он в лицо собравшихся у Автономовых (V, 287).
Бунтарство Ильи, как и бунтарство Фомы, ограниченное рамками все того же буржуазного мышления, оказалось бесплодным. Ни изоляция от жизни, ни борьба с миром собственников во имя той же собственнической мечты, не могли помочь человеку «жить по-человечески». Повесть говорила о никчемности протестов, вызванных желанием не разрушить старый мир, а только «починить» его. Современный строй нуждается в полной реорганизации, нельзя перестроить дом, занявшись только перестановкой в нем мебели, — таков основной вывод повести, который был положен также в основу драмы «Мещане», создаваемой Горьким одновременно с повестью (работа над ней была начата летом 1900 года).
Правильный путь борьбы с миром хозяев и мещан находит третий герой — рабочий Павел Грачев. И Илья, и Яков пытаются бороться за свою мечту, не отрываясь от филимоновского дома, Павел еще ребенком, в поисках иной, свободной и яркой жизни, дважды убегает из него. Реальная действительность обернулась и к нему только своей темной стороной: он измучен непосильной работой, существованием впроголодь, он раздавлен своей большой, оскверненной людьми любовью. Однако, в отличие от своих товарищей, Грачев не ищет покоя и уюта. Отсутствие собственнического начала — вот что отличает его от них. Его не тянет к сытости мещанина, ему хочется по-настоящему быть свободным. Когда Илья предлагает товарищу стать хозяином, открыть собственную мастерскую, тот восклицает:
«Какой я хозяин?.. Нет, хозяйство и все эдакое... не по душе мне...» (V, 189).
Образ рабочего поэта-самоучки, созданный Горьким, свидетельствовал не только о стихийном пробуждении рабочих масс, но и об их тяге к сознательной жизни и борьбе. Новый путь героя был только намечен в повести, в конце ее говорилось о связи Павла с социал-демократической молодежью, но тем не менее у читателя не оставалось сомнения в том, что Павел станет активным борцом.
В 1902 году, продолжив работу над образом Грачева, Горький привел его новые стихи (V, 262):
«Я чувствую — нашел я друга!
И ясно вижу — кто мой враг!..»,которые еще глубже показали рост классового самосознания героя.
Актуальность, социальная значимость повести «Трое» для демократических читателей, в особенности для молодежи, была подчеркнута самим Горьким. После выхода повести отдельным изданием в 1901 году он писал К. Пятницкому: «Знаете — это хорошая книга, несмотря на длинноты, повторения и множество других недостатков, хорошая книга! Читая ее, я с грустью думал, что если бы такую книгу я мог прочесть пятнадцать лет тому назад — это избавило бы меня от многих мучений мысли, столь же тяжелых, сколько излишних. А теперь я думаю: если б можно было продавать эту книгу по гривеннику!» (V, 478).
- 275 -
«Трое» не вызвали большой критической литературы. В немногочисленных отзывах либерально-буржуазных органов Горький обвинялся в увлечении патологией, нагромождении многочисленных житейских ужасов и человеческих несчастий, указать виновника которых, по мнению критика «Русских ведомостей», было невозможно.1 Социальная проблематика горьковской повести была обойдена молчанием. Критика истолковала яркую обличительную картину буржуазного суда в повести как подражание картине суда в «Воскресении» Л. Толстого. Однако эта общность была вызвана родственным отношением писателей к буржуазному правосудию. Первая попытка разоблачения современного буржуазного суда была сделана Горьким еще в «Горемыке Павле». Вместе с тем критика совершенно не затронула вопроса об идеологическом споре Горького с учением Л. Толстого и идеями Ф. Достоевского, в частности с апологией пассивности.
Сопоставляя образ Ильи с образом Фомы Гордеева, критика стремилась доказать, что Горький не оригинален в новом произведении, что повесть «Трое» повторяет мотивы его предшествующего творчества. Постановку вопроса о бунтарстве и борьбе, их истоках и социальной значимости, развенчание мелкобуржуазного бунтаря во имя нового героя-рабочего, путь которого уже намечен в повести, либерально-буржуазная критика замолчала.
Повесть не была закончена печатанием на страницах «Жизни», так как журнал был закрыт. Она появилась полностью в том же году в пятом томе «Рассказов» Горького, выпускаемых издательством «Знание». Помимо повести в эту книгу была включена «Песня о Буревестнике». Ряд критиков обратил на это внимание, увидев в «Песне» как бы завершение повести.
Демократический читатель отлично понял социальную направленность нового произведения. Реалистический образ положительного героя еще не был создан, но уже было ясно, откуда придет он и что будет положено в основу его борьбы.
В письме к Горькому 1932 года Н. К. Крупская вспоминала о том, как в молодости, отбывая ссылку в Уфе, она была захвачена чтением повести «Трое».2
«Трое» с «очень большим интересом» были прочитаны В. И. Лениным. «И сам читал и другим давал», — сообщил он в письме к матери 7 июня 1902 года по поводу пятого тома «Рассказов» Горького.3
Весьма характерно письмо одного рабочего-правдиста, отметившего позднее правдивость повести Горького и большую роль ее в развитии самосознания своих товарищей: «...ваши произведения... — зеркало души нашей жизни, — писал он. — В прошлом эта жизнь наша была темна, узка и тесна и в переживаниях Лунева, Павла и других этой книги мы в мельчайших подробностях видим и чувствуем это свое. Кому из нас в прошлом не хотелось выбиться к чистой и честной жизни хотя бы даже и тем, чтобы задавить менялу? После этого нашего возраста, когда наш кругозор дошел до сознания всей своей жизни, мы изменили свои пути. И этот период Вами отражен в „Матери“».4
- 276 -
«Трое» получили высокую оценку у дружески строгих ценителей горьковского творчества — Л. Толстого и А. Чехова.
Первые повести Горького — яркий обвинительный акт против буржуазного общества. Их значение состоит в создании исторически правдивой картины своей эпохи и глубоком анализе характерных явлений своего времени, а также в новой разработке тем: темы становления и загнивания русского капитализма, темы разрушения и опустошения личности в буржуазном обществе и, наконец, в пропаганде идей борьбы с капиталистическим миром. В повестях созданы новые типические характеры русской жизни конца XIX века: образ политически мыслящего купца, новый вариант «лишнего человека», пытающегося вырваться из пут современного общества и его мещанской морали, не порывая с миром собственничества, образ пролетария, отражающий рост классового самосознания широчайших рабочих масс.
9
Проблема положительного героя, соответствующего новому историческому этапу, была выдвинута Горьким со всей остротой на рубеже двух столетий. Его реалистические рассказы и первые повести ярко вскрывали темные стороны социального быта, говорили о неминуемой гибели капитализма, но сила, которая призвана разрушить старый мир, еще не была показана. Новый герой, поднявший знамя борьбы во имя жизни, не получил в творчестве Горького 90-х годов исторически конкретного, развернутого реалистического изображения. Героическая революционная тема была воплощена преимущественно в легендарных образах Данко («Старуха Изергиль») и Сокола («Песня о Соколе»). Но острый глаз художника-революционера уже подметил рост новых сил в недрах старого общества («Озорник»). Историческая заслуга Горького-художника состояла в том, что он первый увидел и художественно воплотил образ положительного героя, выдвинутого передовым революционным классом, который в 90-е годы вышел на историческую арену. В образе Павла Грачева отражено формирование новой идеологии среди широких рабочих масс. В лице машиниста Нила («Мещане») впервые был создан художественный образ нового героя, борца. Созданию этого реалистического образа предшествовала революционная прокламация «Песня о Буревестнике». В ней был дан блестящий ответ на вопрос о том, каким путем может быть уничтожен буржуазный строй насилия, узаконенного грабежа и издевательства над человеческой личностью.
Художественная и публицистическая работа Горького всегда была тесно связана с его общественной и революционной деятельностью, «...лично я — никогда не чувствовал и не чувствую себя „исключительно литератором“, всю жизнь занимался — в той или иной области — общественной деятельностью и до сего дня не утратил тяготения к ней», — писал Горький в «Беседах о ремесле» (XXV, 310).
Выступив с проповедью активного отношения к жизни с призывом заняться немедленной перестройкой ее, Горький принялся за мобилизацию прогрессивных сил литературы. Искусство должно было стать на службу передового общественного сознания. В конце 90-х годов Горький принимает ближайшее участие в организации литературного отдела журнала легального марксизма «Жизнь», в 1900 году он становится во главе издательства «Знание» и ведет в нем большую работу по сплочению группы писателей-реалистов
- 277 -
вокруг сборников товарищества «Знание», получивших впоследствии положительную оценку В. И. Ленина.1 Эта работа организатора литературы характерна для всех этапов жизни и творчества великого писателя.
Обложка книги «Запрещенное»,
изданной за рубежом. 1902 г.В конце 90-х — начале 900-х годов Горький — активнейший участник революционной борьбы, видный русский революционер, с которым царское правительство вело неустанную борьбу путем репрессий и цензурных преследований. В 1898 году Горький был арестован по обвинению в связи с социал-демократическим кружком и в революционной пропаганде среди рабочих во время своего пребывания в Тифлисе в 1892 году. Писатель был заключен в Метехский замок (Тифлис), а затем отдан под особый надзор полиции. В 1901 году Горький был вновь арестован за «противоправительственную пропаганду среди сормовских рабочих»2 и заключен в Нижегородскую тюрьму. Вслед за этим последовала высылка в Армазас.
В феврале 1902 года Академия Наук выбрала писателя в почетные академики по Отделению русского языка и словесности. Доклад об избрании Горького с приобщением сводки о его активной противоправительственной деятельности вызвал негодование Николая II. Вслед за резолюцией: «Более чем оригинально!» — последовало его повеление о признании выборов Горького недействительными. «Надеюсь хоть немного отрезвить этим состояние умов в Академии», — писал разгневанный царь министру народного просвещения.3 Циничная отмена выборов Горького вызвала протест со стороны А. Чехова и В. Короленко, которые возвратили обратно дипломы почетных академиков.
Творчество Горького восторженно принималось читателями. Имя его как писателя с новыми в литературе тех лет темами и типами, с волнующими социальными идеями и настойчивым требованием активного отношения к действительности пользовалось уже широкой известностью не
- 278 -
только в России, но и за рубежом. Европейски знаменитым писателем называет его В. И. Ленин в 1901 году.1 Вместе с ростом литературной известности все больший размах приобретала революционная и общественная работа Горького. «Пешков... удачно соединяет легальные занятия (участия в редакциях, обществах и т. п.) с подпольной деятельностью и таким образом всякое легальное дело превращает в революционное», — записала в своих донесениях полиция.2 Все теснее становилась связь писателя с революционной социал-демократией, с представителями «Искры».
«Подлинную революционность, — писал Горький в статье «„Механическим гражданам“ СССР», — я почувствовал именно в большевиках, в статьях Ленина, в речах и в работе интеллигентов, которые шли за ним. К ним я и „примазался“ еще в 1903 году» (XXIV, 439).
Имя Горького становится в это время синонимом революционного протеста, революционной борьбы. Его творчество характеризуется настойчивыми поисками ярких художественных форм для воплощения больших социальных идей и глубокого воздействия на мысли и чувства читателей.
В 1899 году была создана вторая редакция «Песни о Соколе», дальнейшее развитие ее революционной идеи и образов дано в «Песне о Буревестнике».
Новое стихотворение в прозе было написано Горьким в марте 1901 года непосредственно после студенческой демонстрации (4 марта) на площади у Казанского собора в Петербурге, закончившейся зверским избиением демонстрантов. «Весенние мелодии» — таково было заглавие нового произведения; оно состояло из двух частей: разговора птиц о приближающейся весне и песни о буревестнике, вдохновенно пропетой одним из задорных чижей.
Первая часть «Весенних мелодий» представляла острую сатиру на тех, кто мечтал о сохранении основ самодержавной России. Здесь Горький использовал традиции щедринской сатиры. Условные образы птиц, а также эзоповский язык их речей были очень прозрачны и легко подвергались расшифровке. В образах птиц — сановной вороны, либерального воробья, взывающего к свободе «в пределах законности», и действительного статского советника снегиря, — в их разговорах о весне — цензура без труда усмотрела сатиру на приспешников царизма и намек на растущее в обществе оживление.
Иной характер, резко отличный от первой части по тону и образному выражению, имела заключительная часть «Весенних мелодий».
Подобно «Песне о Соколе», «Песня о Буревестнике» была насыщена революционной патетикой, передающей революционное настроение тех лет. Призыв к борьбе пронизал всю образную структуру произведения.
Символика «Песни о Буревестнике» отобразила не только революционное настроение общества, но и революционную фразеологию конца XIX — начала XX века, закрепленную в революционной публицистике и песнях той поры. Так, в образе туч обычно олицетворялись силы реакции, а в образе бушующего моря и волн — рост революционного движения.3
- 279 -
Последняя страница автографа М. Горького «Песня о Буревестнике». 1901 г.
В революционных прокламациях, в статьях В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, в революционной поэзии говорилось о приближающейся буре, т. е. революции. Так, в «Предисловии к брошюре „Майские дни в Харькове“» (опубликовано в январе 1901 года) В. И. Ленин, отмечая, что «масса рабочих всколыхнулась уже и готова идти за социалистическими вождями», напоминает о словах Плеханова из статьи «О задачах социалистов в борьбе с голодом в России»: «В эпохи же сильного общественного возбуждения, когда политическая атмосфера насыщена электричеством и когда то здесь, то там, по самым различным, самым непредвиденным поводам происходят псе более и более частые вспышки, свидетельствующие о приближении революционной бури, — короче, когда надо агитировать или оставаться за флагом, в такие эпохи только организованные революционные силы могут иметь серьезное влияние на ход событий». Далее В. И. Ленин пишет:
«В истории русского рабочего движения наступает именно такая эпоха возбуждения и вспышек по самым различным поводам, и, если мы не хотим остаться „за флагом“, мы должны направить все усилия на создание общерусской организации, способной руководить всеми отдельными вспышками, и таким образом достигнуть того, чтобы приближающаяся буря (о которой говорит также харьковский рабочий в конце брошюры) была не стихийной бурей, а сознательным движением пролетариата, восставшего во главе всего народа против самодержавного правительства».1
Раннее творчество Горького в свою очередь дает романтические зарисовки бури, близкие по тону к «песням» о соколе и буревестнике.
Используя широко бытовавшую в революционной среде символику, Горький создает художественную прокламацию.
Экономными и в то же время высоко художественными средствами выразил Горький в «Песне о Буревестнике» глубокое идейное содержание.
- 280 -
Путем повторения одних и тех же слов, то в разной тональности, то в ином смысловом значении, — сначала в прямом, а затем в метафорическом, — писатель достиг огромной впечатляемости.
Образ горьковского Буревестника, дав высокое художественное обобщение уже бытовавшим образам, окончательно закрепил новую, революционную символику в сознании рабочего класса всего мира. Характерно, что в зарубежных странах прогрессивные издательства в первую очередь переводили из горьковских произведений «Песню о Соколе» и «Песню о Буревестнике», которые быстро приобретали любовь трудящихся.
В 1901 году такое образное использование слова, такая символика были еще очень новы и не сразу были уяснены охранителями старого порядка. Потому-то и произошел анекдотический случай: цензор, читавший «Весенние мелодии», разгадал их разоблачительную силу и запретил к печати разговор птиц. Песня же о Буревестнике с ее смелой системой еще не знакомых цензуре символов была допущена к печати при предварительном цензуровании журнала «Жизнь».
Идейная направленность «Песни о Буревестнике», ее патетика, ее символика, ее пламенный призыв к борьбе были отлично поняты массовым читателем. С этих пор Горького начинают называть буревестником революции, а его «Песня» распространяется в качестве революционной прокламации, боевой песни революции. «Вряд ли в нашей литературе можно найти произведение, которое выдержало бы столько изданий, как „Буревестник“ Горького, — писал Е. Ярославский. — Его перепечатывали в каждом городе, он распространялся в экземплярах, отпечатанных на гектографе и на пишущей машинке, его переписывали от руки, его читали и перечитывали в рабочих кружках и в кружках учащихся. Вероятно, тираж „Буревестника“ в те годы равнялся нескольким миллионам».1
Слова: «Пусть сильнее грянет буря!» использовал И. В. Сталин в своей прокламации 1905 года «Ко всем рабочим», ими же закончил В. И. Ленин свою статью 1906 года «Перед бурей».
Вслед за «Песней о Буревестнике» появилась драма «Мещане» (сентябрь 1901 года), в которой, уже в реалистическом плане, было показано столкновение двух миров — борющегося пролетариата и господствующего мещанства.
10
Приход Горького в театр был подготовлен всей его разнообразной театрально-практической деятельностью, которая позволила ему всесторонне ознакомиться с театральным делом, с самого начала правильно определить его художественную функцию и огромное общественное значение. Так, еще в ранние годы своей общественно-литературной деятельности Горький выступает в качестве актера, певца, организатора театров, театрального критика. Вспомним, что в 1883 году он был статистом в театре на Нижегородской ярмарке, в 1885 году пел в хоре у антрепренера Орлова-Соколовского в Казани, в 1892 году выступил с попыткой организовать в Тифлисе народный передвижной театр, в летние месяцы в 1897—1898 годах организовал народный театр в местечке Мануйловке Полтавской губернии с труппой, состоявшей из местных крестьян. В этом народном театре писатель был режиссером и артистом. Особо примечательна
- 281 -
для раннего Горького его деятельность в роли обозревателя текущих явлений театральной жизни 1895—1896 годов. Горький считал сцену необычайно влиятельной трибуной, живо воздействующей своими художественно-эффективными средствами на чувства и воображение массового зрителя.
Горький решительно восставал против пьес «драмоделов» типа Сарду, в которых занимательный и осложненный сюжет вытесняет содержание и жизненную правду; он восставал и против трескучих мелодрам, и против пьес с безвкусными сценическими световыми и шумовыми эффектами. Горький стоял за пьесы, написанные просто, «как это всегда делают гении», и в то же время страстно, «с огненными шиллеровскими словами».1 Театр, по утверждению Горького, должен вызывать лучшие человеческие чувства; театр не просто развлекательное зрелище, а средство воспитания зрителя.
Огромное влияние оказал на Горького театр Чехова. Горький был восхищен драматургией Чехова. «Дядя Ваня» для него совершенно «новый род драматического искусства».2 Талант художника, по признанию Горького, здесь огромен, образы исключительно правдивы, однако писатель не показывает людям ясного выхода из мрачного плена жизни. Горький внимательно изучал драматургию Чехова, глубоко осваивал ее принципы. Близки были ему гражданский пафос Чехова, его острый критицизм, его новаторство в области театра.
Другим фактором, сильно воздействующим на эстетическое сознание Горького в эту пору, явился Московский Художественный театр. Горький был в восторге от «чудесного», по его определению, молодого театра и «великолепных» его артистов.
«Художественный театр — это также хорошо и значительно, как Третьяковская галлерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве. Не любить его — невозможно, не работать для него — преступление — ей богу!» — писал Горький.3
Первой пьесой, написанной им для Художественного театра, была «Мещане». Сравнение Горького-драматурга с его предшественниками в драме, а также с выдающимися представителями современной ему западноевропейской драматургии говорит о том, что Горький уже в своей первой пьесе начал новую линию в драматургии: он был основоположником социально-политической драмы. Для Горького прежде всего характерно непосредственное, живое и яркое отражение в драматическом искусстве наиболее значительных общественных тем, ведущей общественной проблематики, тесно примыкающей к политическим вопросам дня и в то же время не исключающей детальной разработки в драме новых характеров, типов, лиц, порожденных описываемой драматургом средой.
В начале 900-х годов, в разгар революционной борьбы, направленной на подготовку к сильнейшему штурму самодержавия в 1905 году, мещанство, знаменуя собой реакционнейшее течение общественной жизни и политической мысли, явилось многоликим врагом, который должен был быть снесен с пути освободительного движения. Мещанство было актуальнейшей политической темой дня, проблемой, тесно связанной с общими революционными задачами, разрешаемыми тогда в России.
- 282 -
В 1900 году Горький написал гневный памфлет против мещанской интеллигенции («О писателе, который зазнался»). В нем он говорил: «Большинство из вас рабы жизни или наглые хозяева ее, и все вы — кроткие мещане, временно заступающие настоящих людей, то же, что в вас есть человеческого, — только зоологическое..., вам хочется жить спокойно, уютно, потихоньку — вот ваше счастье!» (V, 310, 311). И Горький предвещает близкое крушение этого мещанского «счастья».
И до Горького многие русские и западноевропейские писатели говорили о мещанстве, разоблачали пошлые стороны жизни, мешающие проявлению человеческой мысли, поступательному движению общества. Непосредственным предшественником Горького в этой теме был Чехов. Но только Горький в момент мобилизации революционных сил подчинил задачу разоблачения бытового мещанства задаче политической борьбы рабочего класса.
Тема мещанства раскрыта в пьесе Горького многообразно: и на бытовом жизненном материале (изображение быта дома старшины малярного цеха), и в развернутой характеристике представителей мещанства, их взаимоотношений и поведения, и в прямых обличительных формулировках отдельных персонажей. Основная тема пьесы не лежит на ее поверхности, она усваивается нами как итог, как элемент, связующий все движение материала, всю сложную ткань пьесы. Горьким была дана не личная драма отдельных персонажей, но психологическая и социальная характеристика мещанской среды, уже встревоженной начавшейся борьбой пролетариата против старого мира.
Сюжетный материал пьесы подчинен основной теме, и созданные автором персонажи по-разному участвуют в диалектическом раскрытии этой темы. Прямые носители и выразители мещанства — это Бессеменов, его сын Петр, а также дочь Татьяна. Взаимоотношения Бессеменова с воспитанником Нилом, Перчихиным, нахлебниками — Тетеревым и Шишкиным, равно как характеристика Бессеменовым отношений между сыном Петром и Еленой Николаевной Кривцовой и Нилом и Полей создают ряд бытовых поводов для раскрытия мещанского существа Бессеменова. Бессеменову противостоят Перчихин с его любовным и кротким отношением к жизни и к окружающим, Нил с его активной борьбой с господствующим строем, Шишкин и Тетерев с их оценками окружающих людей.
Семья Бессеменовых — носительница мещанских устоев в их коренных и наиболее типичных психологических и бытовых признаках для данной среды и для данного времени. Бессеменов является ярким выразителем мещанских тенденций и привычек, он защитник устоев той среды, которая его породила и которая создала ему житейское благополучие. Его дети — уже новая разновидность мещанства.
Центральным образом, суммирующим положительные идеи пьесы, направленной против современного социального порядка и порожденного им мещанского мира, является образ пролетария, машиниста Нила. Вот почему так легко вскрыть в словах Нила высказывания самого Горького, знакомые нам по его публицистике этих лет. Нил — подлинный герой новой истории, обладающий ясным классовым сознанием и боевой настроенностью. Слова Нила: «Прав не дают — права́ берут», «Хозяин тот, кто трудится» — звучат как революционные лозунги (VI, 84, 47).
Своими композиционно-стилистическими особенностями пьеса Горького примыкала к реалистическому стилю драматургии, который был характерен для русского репертуара начала 900-х годов, к передовой драматургии этого времени, прежде всего к пьесам А. Чехова.
- 283 -
Но на Горького оказала влияние также и передовая театральная художественная система. Сложный сценический план пьесы — детально разработанный композиционный ее рисунок, использование по ходу драматического действия вещей, звуковых, паузных и световых эффектов, описание групповых мизансцен — возник у Горького в результате следования практике образцового реалистического театра, каким был в эти годы Московский Художественный театр, культура которого в какой-то мере влияла на художественные вкусы Горького-драматурга. Нельзя забывать и того, что «Мещане» предназначались для постановки именно в этом театре.
На сцене Художественного театра «Мещане» были поставлены 26 марта 1902 года и просуществовали лишь один, и то не полный сезон. Спектакль не имел особенного успеха у зрителя. Руководители Художественного театра, стесненные условиями цензурных суровых зажимов (драматическая цензура запретила для исполнения ряд реплик) и общей крайне напряженной политической обстановкой этого времени, не могли пойти на выразительную трактовку тех общественно-обличительных мотивов, которые были заложены в ткани пьесы. Свою общую художественную задачу театр разменял на выполнение задач частных, на эффектную подачу бытовых подробностей и реалистических деталей. Идейный материал пьесы театр не вскрыл, и тем самым первая пьеса Горького не получила должного общественного резонанса в огромной и влиятельнейшей в те годы театральной аудитории.
Вторая горьковская пьеса, «На дне», на тему о жизни обездоленных людей, лишенных примитивных социальных прав и влачащих свое существование без надежды на лучшее будущее, была написана Горьким в 1902 году. Беспощадной картиной быта деклассированных элементов, изображением «дна», являющегося изнанкой современного буржуазного строя, Горький утверждал мысль о необходимости решительного обновления этого строя во имя освобождения человека. Художественно-революционная задача писателя связывала прямым образом его пьесу с освободительным движением рабочих масс и позволяла широко использовать образы, созданные художником в развертывающейся политической борьбе.
Горький по-новому показал босяка, дав строго реалистический анализ бродяжного люда, ни разу не отрываясь от трезвого взгляда на босячество как на явление, в основе своей антисоциальное.
Бытовой материал пьесы, как бы он ни был сам по себе показателен, не имел для Горького решающего значения. Горький усилил и художественно обобщил одну черту босяка: его презрение к мещанским предрассудкам, к мещанской морали, к мещанскому фетишизму вещей и понятий. Горький использовал эту черту и сделал ее орудием разоблачения всей той накипи лживых понятий, фальшивых чувств, жестоких несправедливостей, которые он видел в окружающем его буржуазном быту и полицейско-самодержавном строе, его охраняющем. Это и позволило Горькому перевести обнаженный бытовой план пьесы в план остро социальный.
Социальная направленность пьесы вытекает не только из показа большого числа деклассированных лиц общественного «дна», обличительным укором противостоящего благополучию буржуазного общественного строя, не только из наличия в пьесе намеков на возможность индивидуального протеста против этого строя, но и в прямом или косвенном, открытом или замаскированном суждении о человеке, о его правах и поведении в обществе, о его истинном назначении. Основная тема пьесы — вопрос об отношении к живому человеку во имя подлинной человечности.
- 284 -
Вопрос этот Лука решает проповедью «спасительного обмана», «лжи утешительной» (VI, 166). Эта проповедь служила временным утешением для слабых, согнувшихся под ударом жизни натур, была для них, по слову Сатина, как «мякиш для беззубых» (VI, 163), но она была бессильна спасти людей, поднять их с мрачного «дна». Задача Горького в пьесе — показать бессилие и вред этой проповеди, находящейся в полном противоречии с тенденциями реальной действительности. Она прививает примирение там, где должна быть вызвана воля к борьбе. Лука указывает тот фальшивый путь, каким якобы могли обитатели ночлежки, а с ними и все бесправные и гонимые, преодолеть гнет действительности.
Для разрушения иллюзорного обаяния этой проповеди Горький вложил в уста Сатина слова протеста против жалости, так как человека «не жалеть... не унижать его жалостью...уважать надо», слова протеста против лжи — этой «религии рабов и хозяев», против лжи, которая нужна лишь тем, «кто живет чужими соками», кто «прикрывается ею» (VI, 170, 166). Сатин требует говорить «правду» о человеке во всем ее объеме, правду о его правах, о его достоинстве, о его творческой мощи. Слова Сатина были направлены на обличение фальшивой буржуазной гуманистической лжи и в то же время утверждали правду нового человека, революционного пролетариата. Горький проводил в пьесе резкую границу между лживыми мечтаниями, пассивно уводящими человека от жизни, примиряющими его с окаянной действительностью, и светлыми мечтаниями, активно мобилизующими его силы на борьбу с тусклой и тяжелой жизнью, прививающими ему ненависть и презрение к ней, жажду ее преодоления, страстное желание новой жизни. Вот почему философская идея пьесы о «нужной» человеку правде пронизана у Горького высоким социальным пафосом, а слова Сатина: «Человек — вот правда!», «Правда — бог свободного человека!» (VI, 165, 166) — являются обобщенной поэтической характеристикой философии революционного гуманизма Горького.
Пьесой «На дне» Горький прямым образом связал себя с движением рабочих масс, включился художественным своим мастерством в политическую борьбу кануна революции 1905 года. Читатель и зритель сумели почувствовать за образами пьесы огромное идейное ее содержание, борьбу за нового, свободного человека, за новые социальные условия.
Отсутствие в пьесе открытого призыва к революции объяснено в письме Горького, написанного им в 1928 году в ответ на вопрос курских красноармейцев:
«Товарищи, вы спрашиваете, почему в пьесе „На дне“ нет сигнала к восстанию?
«Сигнал этот можно услышать в словах Сатина, в его оценке человека... Почему я взял именно „бывших“ людей и заставил именно их говорить то, что они говорят в пьесе?
«Потому, что эти люди оторвались от класса своего, свободны от мещанских предрассудков, им уже ничего не жалко, но — в этом, и все их лучшее. К восстанию ради свободы труда они органически неспособны...
«Но из утешений хитрого Луки Сатин сделал свой вывод о ценности всякого человека».1
Пьеса «На дне» впервые была поставлена на сцене Московского Художественного театра 18/31 декабря 1902 года. Художественный театр создал спектакль огромной впечатляющей силы, спектакль, легший в основу многочисленных копий в постановках других театров как русских, так и
- 285 -
Сцена из IV действия пьесы Горького «Мещане» в постановке Московского
Художественного театра. 1902 г.
- 286 -
зарубежных. Исключительная талантливость спектакля и яркое актерское исполнение в нем считались неоспоримыми, адэкватными авторскому художественному замыслу. Однако материал критических высказываний, современных первым спектаклям пьесы, свидетельствует о другом: Художественный театр подменил ведущую тему пьесы и даже деформировал ее идею.
Дело в том, что в толковании режиссуры театра и актера-исполнителя (Москвин) Лука стал ведущим персонажем, главным носителем действия драмы, выражением ее основного морального смысла, данного при этом в положительном, а не отрицательном значении. Относительно же роли Сатина, которую исполнял К. Станиславский, Горький писал К. Пятницкому: «Речь Сатина о человеческой правде бледна. Однако, кроме Сатина, ее некому сказать, и лучше, ярче сказать — он не может. Уж и так эта речь чуждо звучит его языку...».1 Станиславский признавался, насколько ему трудна была интерпретация этой роли, насколько неуверенно и, видимо, неубедительно для зрителя он раскрывал идейное значение этого романтического образа в его внешнем, резко натуралистическом обличье. В спектакле, в живом звучании слов, в оживленных действиях всех ее персонажей, образу Сатина противостояла полнокровная колоритная фигура Луки и ее богатый игровой материал.
Помимо художественно-сценических причин идейной деформации пьесы были и причины особые — вмешательство цензуры. Крайне враждебно настороженная к творчеству Горького драматическая цензура исключила из сценического текста пьесы огромное число обличительных фраз и сентенций, сняв как ряд «лукавых» реплик странника, так и главным образом протестующие реплики Сатина, наиболее ярко характеризовавшие идейный облик основных персонажей пьесы. В итоге сценический текст не сохранил то соотношение основных образов пьесы, которое было задумано Горьким.
Спектакли пьесы «На дне» Художественного театра в Москве и далее, на гастролях в Петербурге, в первый же сезон 1902/1903 года обратили на себя исключительное внимание общественности и вызвали огромную по числу печатных откликов и разнообразную по своим формам критическую литературу.
Во всей сумме высказываний буржуазной печати о пьесе нельзя не увидеть своеобразной, необычайной, осложненной формы борьбы с основной социально-политической направленностью творчества Горького. «Борьба» буржуазной критики разных оттенков с писателем выразилась прежде всего в стремлении понять и усвоить «На дне» по-своему, навязать пьесе свое идейное содержание, ослабить ее глубокий обличительный смысл.
«На дне» было трактовано в печати как пьеса широко гуманная, с ведущей моралистической проповедью Луки как положительного персонажа; как пьеса о погибших и погибающих людях, достойных любви и сожаления даже на грани своего падения «на дно жизни»; как пьеса о «человеческом достоинстве», сохраняемом даже на крайне низких ступенях социальной лестницы и в особенности как пьеса-вариация на тему о глубоком моральном значении «нас возвышающего обмана».
Буржуазно-гуманистическое восприятие пьесы привело к толкованию Сатина не как идейного антипода, а как соратника и подголоска Луки.
Петербургская печать, подобно московской, признала, что пьеса раскрывает основной тезис христианской морали («любовь к ближнему»)
- 287 -
в форме: «человек остается христианином даже „на дне“». Тем не менее петербургская буржуазная критика стала на путь борьбы с влиянием этих гуманных идей, боясь контрабандного проникновения через них взрывного, подлинно революционного пафоса.
В момент подготовки к схватке с самодержавием пьеса Горького «На дне» стала той ареной, на которой столкнулись два противостоящих лагеря: широкий — прогрессивный, объединяющий как радикально-демократические группы, так и разнообразные оттенки собственно буржуазных классовых сил, поступательным ходом капитализма втянутых в борьбу с реакционными сторонами абсолютистского строя, и узкий — самодержавно-охранительный, представляющий интересы высшей бюрократии и настойчиво борющийся за сохранение основ полицейского государства.
Горький убедился, что хотя в режиссерско-сценическом отношении спектакль был блестящий, идея пьесы была выражена в нем слабо. В письме к Пятницкому он сказал: «...ни публика, ни рецензята — пьесу не раскусили. Хвалить — хвалят, а понимать не хотят. Я теперь соображаю, — кто виноват? Талант Москвина — Луки, или же неумение автора? И мне не очень весело».1 И Горький вину за «неудавшийся», в его понимании, спектакль полностью взял на себя. Тогда же, в 1902 году, Горький в печатных интервью2 признал неудачу своей пьесы, поскольку в ней, вопреки замыслу автора, не оказалось прямого и ясного противопоставления Луке, отрицательному образу, Сатина, образа положительного. И тем не менее Горький не считал нужным ни приостановить постановку, ни создать новый вариант пьесы, ни выступить открыто в печати с развернутой характеристикой ее образов и идейной основы.
Огромный успех, который имела пьеса «На дне», говорил о том, что несмотря на искаженные критические толкования массовый зритель верно воспринял идейную направленность и пафос автора и что постановка все же выполняет огромную прогрессивную общественную роль.
СноскиСноски к стр. 225
1 «Правда», 1937, № 166, 18 июня.
2 Н. Пиксанов. Горький-поэт. Гослитиздат, Л., 1940, стр. 51.
Сноски к стр. 226
1 «Комсомольская правда», 1937, № 242, 20 октября.
Сноски к стр. 228
1 П. А. Заломов. Наш бессмертный Горький. — «Молодая гвардия», Курск, 1938, № 43, 28 марта.
2 Там же.
3 П. Заломов. Мои встречи с А. М. Горьким. — «Правда», 1936, № 172, 24 июня.
Сноски к стр. 229
1 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. Гослитиздат, М., 1941, стр. 34, 35.
Сноски к стр. 230
1 М. Горький. Между прочим. (Мелочи, наброски и т. п.). Фельетоны в «Самарской газете» 1895—1896 гг., Куйбышев, 1941.
Сноски к стр. 231
1 М. Горький. Между прочим, стр. 17.
Сноски к стр. 232
1 «Самарская газета», 1896, № 14, 18 января.
Сноски к стр. 233
1 «Одесские новости», 1896, № 3651, 5 июня.
Сноски к стр. 234
1 «Нижегородский листок», 1896, № 209, 31 июля, стр. 3.
2 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи, стр. 489.
Сноски к стр. 239
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 300.
Сноски к стр. 242
1 С. Д. Балухатый. Горьковский семинарий. Л., 1946, стр. 35.
Сноски к стр. 244
1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 20.
Сноски к стр. 248
1 Н. Телешов. Записки писателя. Гослитиздат, М., 1948, стр. 107.
Сноски к стр. 252
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 308.
Сноски к стр. 254
1 В 1928 г. Горький отметил: «„Море смеялось“ — писал я и долго верил, что это — хорошо» (XXIV, 489).
Сноски к стр. 255
1 Архив А. М. Горького, т. III, Гослитиздат, М., 1951, стр. 44.
Сноски к стр. 256
1 «Звезда», 1947, № 6, стр. 160.
2 М. Горький. Статьи 1905—1916 гг. Изд. 2-е, «Парус», Пгр., 1918, стр. 3.
Сноски к стр. 257
1 «Нижегородский листок», 1896, № 215, 6 августа; № 209, 31 июля.
2 «Нижегородский листок», 1896, № 250, 10 сентября.
3 Там же.
Сноски к стр. 258
1 «„Газетные мошки“ да „букашки“» («Самарская газета», 1895, № 205, 24 сентября); «Перлы рекламы г. Бриллиантова или „бомбы и картечи торгашеской речи“» («Самарская газета», 1896, № 73, 4 апреля); «Ванькина литература» («Нижегородский листок», 1899, № 56, 26 февраля).
Сноски к стр. 262
1 «Печать и революция», 1928, № 2, стр. 77.
2 М. Горький. Письмо А. И. Елисееву. — «Горьковская коммуна», 1939, № 162, 17 июля.
3 См. письма Горького к С. Дороватовскому: «Печать и революция», 1928, № 2, стр. 75.
Сноски к стр. 263
1 Там же, стр. 84.
Сноски к стр. 265
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 383.
Сноски к стр. 268
1 «Печать и революция», 1928, № 2, стр. 80.
Сноски к стр. 270
1 М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи и высказывания. Изд. Акад. Наук СССР, Л., 1937, стр. 45.
2 М. Горький. Материалы и исследования, т. II, Изд. Акад. Наук СССР, Л., 1936, стр. 380.
Сноски к стр. 272
1 «Русский листок», 1900, № 217, 8 августа.
2 А. Измайлов. Литературное обозрение. — «Биржевые ведомости», 1900, № 128, 12 мая.
3 «Горьковская коммуна», 1937, № 5, 6 января.
Сноски к стр. 275
1 «Русские ведомости», 1901, № 107, 20 апреля.
2 «Октябрь», 1941, № 6, стр. 25.
3 В. И. Ленин. Письма к родным. 1894—1919. Партиздат, М., 1934, стр. 284.
4 М. Горький. Материалы и исследования, т. I. Изд. Акад. Наук СССР, Л., 1934, стр. 420.
Сноски к стр. 277
1 О Горьком — организаторе сборников товарищества «Знание» см. в главе «Реалистическая проза. Горький и „Знание“».
2 «Красный архив», 1936, № 5, стр. 43.
3 Революционный путь Горького, стр. 74.
Сноски к стр. 278
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 295.
2 «Новый мир», 1928, № 3, стр. 197.
3 См. стихотворения конца 90—900-х годов в сборнике: Пролетарские поэты, т. I. Изд. «Советский писатель», Л., 1935.
Сноски к стр. 279
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 335, 336.
Сноски к стр. 280
1 Е. Ярославский. Путь пролетарского писателя в подполье. В книге: Революционный путь Горького, стр. 9.
Сноски к стр. 281
1 М. Горький. Между прочим, стр. 117.
2 М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи и высказывания, стр. 14.
3 Там же, стр. 64.
Сноски к стр. 284
1 «Вечерняя Москва», 1928, № 124, 30 мая.
Сноски к стр. 286
1 «На дне» М. Горького. Материалы и исследования. ВТО, М., 1940, стр. 221.
Сноски к стр. 287
1 «Ленинградская правда», 1927, № 188, 20 августа.
2 «Петербургские ведомости», 1903, № 99, 1 апреля; «Петербургская газета», 1903, № 161, 15 июня. Отрицательной оценке собственной пьесы Горький остался верен и в последующие годы. В 1932 году в статье «О пьесах» Горький, дав характеристику Луки как отвратительного типа утешителя, примирителя и проповедника из «низов», писал: «Именно таким утешителем должен был быть Лука в пьесе „На дне“, но и, видимо, не сумел сделать его таким» (XXVI, 425).