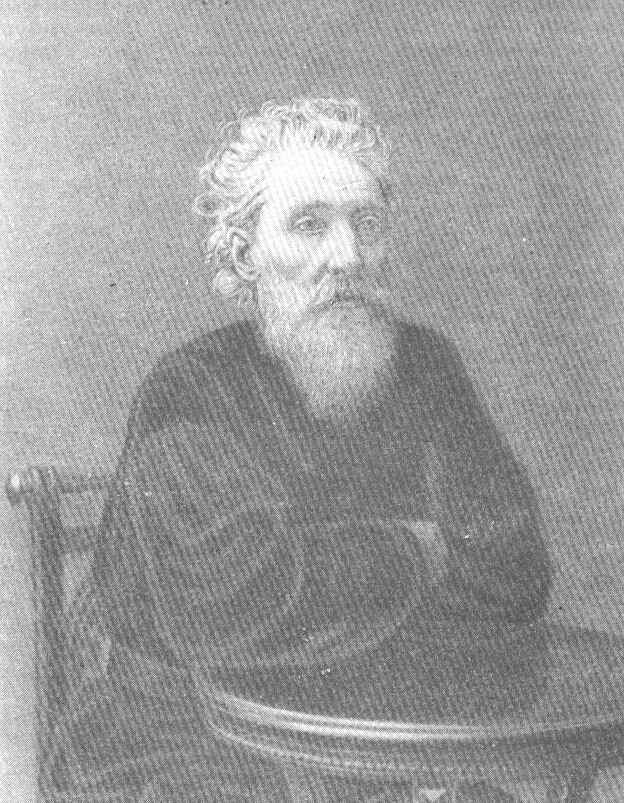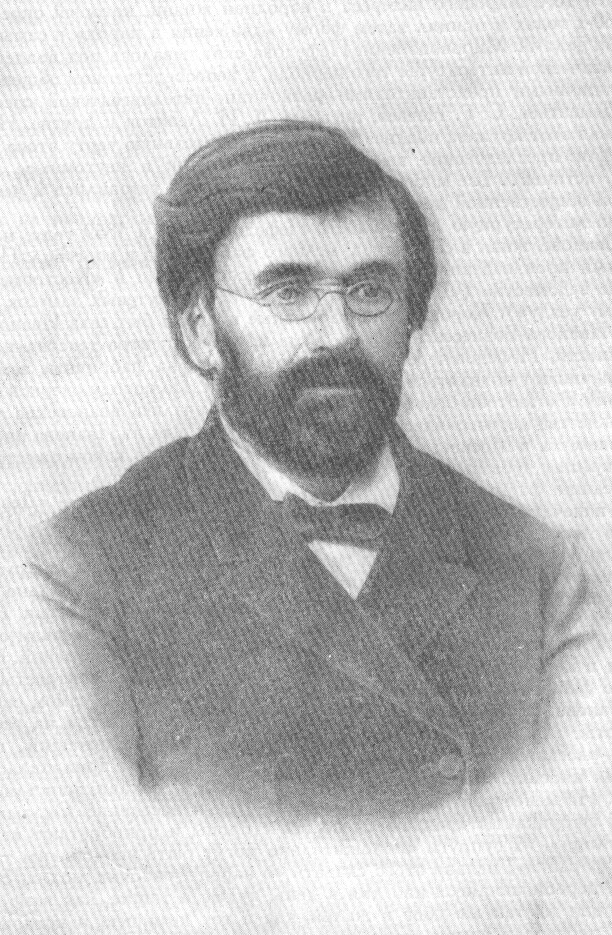- 349 -
Общий обзор
В литературном движении 70—80-х годов важное место занимает творчество значительной группы писателей, отчетливо объединяемых и тематикой произведений, и идейным осмыслением изображаемой действительности, и своеобразием писательских приемов. К этой группе принадлежат прежде всего такие писатели (при всех особенностях каждого из них), как Н. И. Наумов, Ф. Д. Нефедов, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, Н. Е. Каронин-Петропавловский и ряд других менее значительных представителей литературного течения, которое принято называть, по его идейным связям с движением народничества, народническим течением в демократической литературе указанного периода. С судьбами народничества, но существенно отличаясь тематикой своего творчества от группы вышеназванных писателей, связано творчество С. М. Степняка-Кравчинского, А. О. Осиповича-Новодворского. Важное значение для понимания литературного народничества, как и народничества в целом, имеет творчество Г. И. Успенского.
Основной и определяющей задачей произведений писателей-народников было изображение жизни народных, главным образом крестьянских масс пореформенного периода. Как известно, эта тема была главнейшей для всей передовой русской литературы второй половины XIX века в соответствии с тем значением, какое приобрел крестьянский вопрос в русской пореформенной жизни. Общественная роль произведений писателей-народников в сильнейшей степени определялась актуальностью их главной темы. Вторая существенная тема творчества писателей-народников — судьба передовой русской интеллигенции — была теснейшим образом связана с первой и являлась по сути ее другой стороной.
В. И. Ленин в своих трудах дал развернутую и беспощадную критику народничества, вскрыв всю его противоречивость и реакционность. Но в то же время В. И. Ленин был далек от нигилистического отрицания прогрессивных элементов в движении народников; «...социал-демократы..., — писал он, — вовсе не выкидывают за борт все народничество..., а выделяют из него и признают своими его революционные, его общедемократические элементы».1 И в другой своей работе указывал: «...марксисты должны заботливо выделять из шелухи народнических утопий здоровое и ценное ядро искреннего, решительного, боевого демократизма крестьянских масс».2
В каком же соотношении с воззрениями народников находятся творчество и взгляды писателей народнического направления?
В произведениях писателей-народников дана широкая и разносторонняя картина жизни пореформенного русского крестьянства. Они рано подметили
- 350 -
и в своих произведениях показали, что к гнету пережитков крепостничества в деревне для крестьянина добавился новый гнет — гнет новых эксплуататоров, различного рода хищников, «мироедов», кулаков. Засилье кулацкого гнета в деревне, разорение крестьян рисуют в своих произведениях почти все писатели-народники, начиная от Наумова и кончая Карониным-Петропавловским. Но немногие из них смогли хоть в какой-то мере правильно объяснить социальную природу кулачества, его классовые корни.
В соответствии с народническим учением о роли крестьянской общины как средства для России миновать путь капитализма во многих произведениях писателей-народников в идеализированном виде рисуются общинные порядки и сами крестьяне-общинники как выразители патриархальных «устоев»; хотя большинство из рассматриваемых писателей видело и отмечало разложение общины, всё-таки они склонны были считать этот процесс, обусловленным «внешними», «искусственными» и потому вполне устранимыми явлениями. Особенной идеализацией общинных порядков отличалось творчество Златовратского. Об идеализации мужика в народнической литературе Горький писал: «Литература старых народников рисовала мужичка раскрашенным в красные цвета и вкусным, как Вяземский пряник, коллективистом по духу, одержимым активною жаждою высшей справедливости и со священной радостью принимающим каждого, кто придет к нему „сеять разумное, доброе, вечное“».1
Исходя из идеалистических взглядов на развитие общества, из неверного понимания роли личности и народных масс в истории, народники, в том числе писатели-народники, ошибочно понимали и преувеличенно судили о роли и задачах интеллигенции в историческом процессе. Именно на усилия интеллигенции, на ее деятельность среди народа (как это считали народники-пропагандисты и многочисленные деятели легального народничества) или без народа, но в интересах народа (как это выразилось в тактике народовольцев) возлагали надежды герои многих народнических произведений, начиная от «Хроники села Смурина» Засодимского и вплоть до известного романа Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов».
Для всего народничества характерно органическое непонимание особой роли рабочего класса в общественно-историческом процессе. Писатели-народники в своих произведениях неоднократно обращались к изображению положения рабочих. Картины рабочей жизни мы находили уже у самых ранних представителей литературного народничества (очерки Наумова и Нефедова). Но ни они, ни последующие писатели, принадлежащие к народничеству, не выделяли рабочих из общей эксплуатируемой массы трудящихся, главным представителем и выразителем интересов которой они всё-таки считали крестьянство. Крестьянское прошлое фабричных рабочих всегда с любовью отмечается народниками. С крестьянскими идеалами связывается и их лучшее будущее.
Все эти основные народнические положения, находившие с разной степенью ясности и последовательности отображение в произведениях беллетристов-народников, по-разному выражались на разных этапах самого народнического движения. В. И. Ленин указывал на необходимость различать революционное народничество 70-х годов и либеральных народников 80-х и последующих годов.
Эволюция, пережитая народничеством, получила свое отражение и в развитии рассматриваемого нами течения литературы. В произведениях
- 351 -
70-х годов (Наумова, Засодимского и др.) с достаточной ясностью вырисовывается социальный протест крестьянских масс против своего угнетенного положения, а героями произведений выступают вожаки и идеологи этого протеста. Недаром произведения писателей-народников в 70-х годах служили целям революционной пропаганды. В произведениях же Златовратского или позднего Нефедова социальная рознь среди крестьянства затушевана, приглушена, а героями выступают люди кроткие, любвеобильные, незлобивые, отрицательно относящиеся к какому-либо насилию.
Таким образом, связи литературного народничества с идейными положениями народнического движения на разных этапах его эволюции не подлежат сомнению. Но из этих связей было бы неверным заключать о тождестве народничества как литературного течения с народничеством как течением общественной мысли и политическим движением. На недопустимость такого отождествления указывал еще Плеханов. Отмечая положительное, реально-историческое содержание творчества беллетристов-народников, он писал: «Народничество как литературное течение, стремящееся к исследованию и правильному истолкованию народной жизни, — совсем не то, что народничество как социальное учение, указывающее путь „ко всеобщему благополучию“. Первое не только совершенно отлично от другого, но оно может... притти к прямому противоречию с ним».1 На это же отличие со всей решительностью указывал и Горький. В статье «Разрушение личности» (1908), отмечая невозможность «уложить в рамки народничества» творчество ряда демократических писателей, Горький писал: «Даже те, кого принято считать „чистыми народниками“, — Златовратский, Каронин, Засодимский, Бажин, О. Забытый, Нефедов, Наумов и ряд других..., — не входят в эти рамки — от каждого из них остается нечто, что дает нам право сказать так: старый писатель там, где политическое учение могло ограничить его художественную силу, умел встать над политикой, а не подчинялся ей рабски...».2
Широта содержания творчества писателей-народников обусловливалась самой действительностью, теми фактами и процессами, которыми была полна русская жизнь пореформенной периода и которую стремились понять, объяснить, изобразить писатели, близкие к народу. Важное значение для творчества писателей-народников имел тот факт, что мировоззрение этих писателей в той или иной степени складывалось под действенным влиянием таких писателей 60-х годов, как Н. Успенский, Решетников, Слепцов, Левитов и другие. Революционно-демократическая эстетика, творчество писателей-демократов учили правдивому, неприкрашенному изображению действительности. Немалую роль сыграло здесь и то, что почти все писатели-народники принадлежали к среде разночинцев. Вся жизнь, всё умственное и нравственное развитие разночинцев вели к сближению с народом, некоторые из разночинцев были непосредственными выходцами из самого народа. «Разночинец, — писал Н. В. Шелгунов, — есть поднимающаяся кверху часть народа, имеющая в нем свои корни».3 Всё это вместе взятое обусловливало глубокую искренность демократизма творчества писателей-народников, реализм их многих жизненных зарисовок. Благодаря этому жизненная объективная правда их произведений неминуемо вступала в непримиримое противоречие с ложными положениями народнической теории, которые они субъективно склонны были считать справедливыми.
- 352 -
Это противоречие, будучи осознано, приводило часто к болезненным и мучительным переживаниям писателей-демократов, к пессимистическим и тревожным настроениям. Эти настроения не могли не находить отражения и в творчестве, особенно в произведениях, посвященных изображению интеллигенции.
Для понимания разноречивости реалистического содержания произведений писателей-народников с доктринами народнических теорий существенно остановиться на некоторых сторонах творчества Г. И. Успенского. Горький, отличая Успенского от представителей литературного народничества, вместе с тем писал, что его творчество будет недостаточно понято, если не рассказать о «народничестве как литературном течении, о Златовратском и других антагонистах Успенского, который был крупнее, талантливее всех их».1 Но если народническое течение в литературе помогает в известной степени уяснению творчества Успенского, то в свою очередь и творчество Успенского делает понятнее, очевиднее те противоречия, те сильные и слабые стороны, которые свойственны литературному народничеству.
Творчество Успенского, особенно в той своей части, которая посвящена отображению и осмыслению народной, крестьянской жизни, пониманию в связи с запросами этой жизни роли интеллигенции, находится в несомненной связи с народнической идеологией. В наибольшей степени это сказалось в известной теории «власти земли», в некоторых иллюзорных упованиях на различного рода «мероприятия» в условиях существовавшего самодержавно-буржуазного строя, иногда преувеличенных оценках таких явлений в крестьянской среде, как сектантство, и других. Народником оставался Успенский и тогда, когда будущее страны он связывал прежде всего с судьбами крестьянства, не понимая исторической роли рабочего класса, прогрессивных сторон развития капитализма. Всё это давало повод народнической и буржуазно-либеральной критике относить Успенского к народническому лагерю. В русле народнического литературного течения рассматривал Успенского и Плеханов. Но это — суженное и потому неверное истолкование творчества Успенского. Основное идейное и художественное содержание этого творчества, умственные искания самого писателя не только выходят за рамки народнических теорий, но и направлены против них. Плеханов, хотя и неправильно, схематически противопоставлял в творчестве Успенского художника публицисту, однако верно заключал, что Успенский «беспощадно разрушил все главные положения народничества».2
И действительно, своим анализом разложения общинных отношений, картинами дифференциации пореформенного крестьянства, показом всей органичности роста кулачества в деревне и прослеживанием повсеместного в России развития капитализма Успенский подвергал неотразимой критике все народнические верования. Успенский выступал как один из продолжателей революционно-демократического наследия 60-х годов, как один из наиболее влиятельных соратников Некрасова и Салтыкова-Щедрина.
Писатели народнического лагеря в своем стремлении к правдивому изображению действительности, в своем искреннем демократизме, в своих страстных поисках решений актуальнейших вопросов русской народной жизни в какой-то мере выражали тенденции, которые в наиболее полном и широком виде осуществлялись в творчестве Успенского. И если некоторые из этих писателей не только не достигали идейной глубины и правды творчества
- 353 -
Успенского, но в значительной степени противостояли ему (Горький называл их «антагонистами» Успенского), то в то же время ряд из них умел и в отдельных произведениях, и в творчестве в целом (таков, например, Каронин-Петропавловский) следовать Успенскому и в какой-то мере дополнять его.
Писатели-народники при всех их недостатках внесли серьезный вклад в историю литературы и в художественном отношении. Они существенно обогатили тематику художественного творчества, захватив такие области и уголки жизни, которые до них мало кем затрагивались. В их творчестве, являвшемся плодом пристального изучения действительности, нашла утверждение такая особенность, как документализм, введение в художественные произведения фактов и цифр для более точного и правдивого изображения явлений жизни. О том, как писатели-народники изучали крестьянскую жизнь, Златовратский образно рассказывал: «И как же мы усердствовали! мы залезали к мужику в горшок, в чашку, в рюмку, в карман, мы лезли в хлев, считали скотину, считали возы навоза, мы отбирали данные у кабатчиков, у акцизных чиновников, летали на сходы и „усчитывали“ мирскую выпивку, мы топтались по полям и лугам, мерили полосы шагами, снимали планы, прикидывали четвертями и вершками межники и межполосные броды..., чего-чего только мы не нюхали, не измеряли, не вешали...».1 С этой документальностью, фактичностью связана и такая черта многих писателей народнического направления, как сочетание художественного показа действительности с публицистическими рассуждениями о ней. Произведения указанного направления характерны также большой ролью в них личности самого писателя, авторского «я», от лица которого часто ведется повествование. Личная заинтересованность в рассказываемом, взволнованность, часто обусловленный этим страстный лиризм сообщают многим из произведений и образов особую убедительность подлинно человеческих документов.
Важнейшей заслугой писателей указанного направления является изображение ими не только отдельных представителей массы, но и облика целых социальных группировок, обрисовка условий трудовой деятельности масс. Таково, например, описание условий жизни ивановских текстильщиков в очерках Нефедова, золотоискателей у Наумова, крестьянских переселенцев у того и другого.
Большую роль сыграли эти писатели также и тем, что они широко (хотя порой и с излишней диалектной точностью и уснащением речи профессионализмами) вводили в литературу народное просторечье, обогащали лексику, добивались в изображении явлений народной жизни и быта необходимой словесной точности.
Наиболее сильные стороны в творчестве писателей-народников связаны с теми программными требованиями к литературе о народе, которые выдвигали еще в 60-х годах Чернышевский и Добролюбов и которые находили художественное воплощение в творчестве Некрасова, Щедрина, Глеба Успенского, писателей-демократов типа Решетникова, Н. Успенского, Слепцова и других. Но здесь же следует подчеркнуть и то положение, что писатели-народники, отражая в своем мировоззрении и творчестве народнические представления о действительности, зачастую отходили от традиций литературы критического реализма, от требований революционно-демократической эстетики. Ряд писателей-народников в угоду народническим доктринам склонны были идеализировать и романтизировать действительность,
- 354 -
подгонять факты под заранее принятые схемы, в конечном счете — давали неверную, фальшивую картину действительности. Это не могло не снижать общую ценность произведений писателей-народников, не могло не сказаться на их дальнейшей судьбе в истории литературы.
Таковы главнейшие общие положения, характеризующие народническое течение в литературе.
Развитие литературы, связанной с народничеством, конкретное содержание истории этого литературного направления определяется творчеством его отдельных представителей.
«Расцветом действенного народничества, — писал В. И. Ленин, — было „хождение в народ“ (в крестьянство) революционеров 70-х годов».1 С этим «хождением в народ» было связано усиленное изучение народной, в первую очередь крестьянской жизни, изучение, в которое существенный вклад внесла и художественная литература. Правдивые очерки и рассказы из народной жизни были использованы революционерами-семидесятниками не только для ознакомления с действительностью, но и для непосредственной революционной пропаганды «в народе». Из писателей-народников, сыгравших своими произведениями существенную роль именно в эту пору наиболее действенного, революционного народничества, следует назвать прежде всего Н. И. Наумова и П. В. Засодимского.
Наумов, снискавший своими рассказами из народной жизни наибольшую популярность именно в 70-е годы, начал свой творческий путь еще в конце 50-х годов. Произведениями о русской деревне тогда он примкнул к писателям-демократам, стремившимся в своем творчестве следовать эстетике Чернышевского и Добролюбова. Но, в отличие от шестидесятников, Наумов сосредоточивает внимание, особенно в последующем творчестве, не на крепостничестве и его пережитках, а на новых формах эксплуатации крестьянства, на изобличении кулачества, расцветшего пышным цветом в пореформенное время. В таких произведениях, как «Деревенский торгаш», «Юровая», «Крестьянские выборы» и другие, созданных уже в 70-е годы, Наумов дает колоритные образы деревенских кулаков, лавочников, кабатчиков, опирающихся в своем беззастенчивом грабеже крестьян на поддержку местных властей в лице писарей, сельских старост, чиновников и т. п. Единство интересов нового эксплуататорского класса с чиновно-бюрократическим царским режимом, бессилие разоряемых и ограбляемых крестьянских масс перед произволом чиновников, засильем кулаков показываются Наумовым с большой обличающей силой. Наумов этому союзу правящих властей и наживающихся кулаков противопоставляет крестьянский мир, общину в целом. Правда, масса крестьян ведет себя весьма пассивно, но зато среди них есть такие верные предводители, носители общинных идеалов и интересов, как Иван Николаевич Калинин («Юровая»), Егор Семенович Бычков («Крестьянские выборы»), Максим Арефьевич Ознобин («Мирской учет») и немногие другие, которые смело обличали грабительство кулаков, все их махинации и сделки с властями, пытаясь даже сплотить крестьянский мир в единое целое и этим защитить себя от кулацкого произвола. Эти попытки оканчиваются неудачей, но уже само изображение крестьянского протеста, попыток его организации было большой смелостью писателя, и естественно, что произведения Наумова начала 70-х годов используются революционерами-народниками в их пропагандистской работе в деревне. Кружок «чайковцев» издает рассказы и очерки Наумова отдельным сборником («Сила солому ломит»).
- 355 -
Но Наумов в то же время в своем изображении деревни допускает ту идеализацию и схематизацию деревенских отношений, которая так характерна для народнической идеологии. При изображении кулаков Наумов не видит социальных корней этого класса в самой деревне, он их считает в основном внешним, искусственным явлением, имеющим место лишь потому, что оно поддерживается корыстолюбием местных властей и что сами крестьяне недостаточно сплочены против кулацкого засилья. Выход Наумов видит в укреплении общинных порядков в деревне. Поэтому он с особенной любовью и вниманием рисует тех крестьян, которые выступают выразителями справедливых начал общинного строя. Но и сами эти крестьяне, и представляемые ими общинные идеалы изображаются Наумовым в идеализированном виде, желаемое он часто принимает за возможное или даже действительное. Будучи, однако, последователем правдивого, реалистического изображения действительности, Наумов трезво видит, что его идеальные герои бессильны изменить действительное положение вещей и, как правило, терпят поражение.
Наиболее радикальным было творчество Наумова в 70-е годы, что, несомненно, связано с активностью революционного народничества в этот период, с оживлением общественного и демократического движения вообще. В последующий период наступившей реакции, в период перерождения народничества демократический радикализм творчества Наумова значительно ослабевает. Обличение кулачества принимает всё более моральный, чем социальный характер, изображаемые им обличители преисполнены религиозных идей. Однако следует отметить, что Наумов не пришел к идиллическому изображению деревенской действительности, как это имело место, например, в творчестве Нефедова.
Творчество Наумова характеризуется Довольно широким охватом жизни и быта народных масс. Наряду с отображением пореформенной деревни Наумов изучает и описывает тяжелые условия жизни и труда рабочих-золотоискателей («Еж», «Паутина»), ограбление и эксплуатацию чиновничеством и кулачеством национальных меньшинств («Горная идиллия», «Сарбыска»), много у Наумова картин жизни ссыльных и переселенцев в Сибири, которую писатель хорошо знал и изображал на протяжении всего творческого пути.
Другим писателем, ярко отразившим народнические верования периода 70-х годов, является Павел Владимирович Засодимский (1843—1912). Его литературное наследие весьма обширно по объему, разнообразно по содержанию и далеко не равноценно по своему общественному значению. Начав печататься в конце 60-х годов (повести «Грешница», «Волчиха», «Темные силы»), Засодимский особенно активно выступает в период 70—80-х годов. Он сотрудничает в различных органах, где выступали писатели-народники, пишет многочисленные повести и рассказы (пользовались известностью его «Повести из жизни бедноты», 1876), ряд романов («Степные тайны», 1880; «По градам и весям», 1885), выступает с литературно-критическими статьями, в конце своего творческого пути публикует весьма ценные литературные воспоминания, наконец, известен он и как автор детских книг («Задушевные рассказы», 1883; «Бывальщины и сказки», 1888). Однако наиболее популярным его произведением, явившимся событием в народнической литературе, был роман «Хроника села Смурина» (1874), напечатанный сначала в «Отечественных записках», а затем и отдельным изданием под псевдонимом Вологдин.
Появившись в период усиленного движения народников в деревню, «в народ», роман Засодимского как бы давал программу легальной деятельности народников среди крестъянства, рисуя в то же время ту конкретную обстановку,
- 356 -
в которой нужно было работать пропагандистам и организаторам. Правда, главным героем произведения был не интеллигент, а выходец из самой крестьянской среды, но это еще более увеличивало ценность произведения.
Засодимский в своем романе дает широкую картину жизни изображаемого села, в котором наряду с земледелием крестьяне занимались кустарным гвоздарным промыслом. В селе отчетливо обозначена социальная рознь между кучкою богатеющих кулаков и массой крестьян-тружеников. Эта рознь подчеркнута даже в описании расположения села Смурина: на левом берегу реки ютятся жалкие строения бедноты, а «на противоположном берегу красуется ряд новых, высоких двухэтажных домов с тесовыми, красными кровлями»,1 принадлежащих местным торговцам, скупщикам, кабатчикам, представителям власти.
Разнообразны типы изображенных в романе кулаков, и ни для одного из них писатель не пожалел красок, с тем чтобы моральный и даже физический облик не мог ввести в заблуждение читателя. Вот перед нами скупщик, лавочник и вместе ростовщик Прокудов: «...высокий, тучный мужик — лет под 50... Его серые, подзаплывшие глазки уставились на громадный, пузатый самовар, где в расплывшемся и приплюснутом виде рисовалась ему его собственная физиономия..., пот крупными каплями проступал на его широком, лоснящемся лице. Невозмутимое спокойствие и довольство отражались в ту пору на этой жирной, красной роже, из которой, казалось, при малейшем давлении, сало так и готово было брызнуть» (стр. 2). Столь же резкими, плакатными чертами рисует Засодимский и других кулаков (Чиркова, Лисина, Андрея Беспалова и др.). Кулачество Засодимский считает типичным порождением пореформенного времени, одна из глав, о кулаке Чиркове, озаглавлена: «Герой нашего времени». Кончается эта глава следующим обобщением: «Много за последние годы повыросло на Руси таких поселочков, обнесенных частоколом, словно крепостной стеной, как поселочек почтенного Кузьмы Ивановича... И на железных сундуках, втихомолку потряхивая мошной, сидят в этих поселочках толстые, бородатые люди — новые люди, жирные и кровожадные, как клопы...» (стр. 60).
Кулацкий мир густой и липкой паутиной опутывает крестьян-кустарей, суровая нужда заставляет бедноту трудиться на жиреющих пауков, идти к ним в кабалу, нести с горя последний грош к ним в кабак, переплачивать за товар в их лавки. Где же выход, как избавиться от этой кабалы? В соответствии с народнической программой, Засодимский пропагандирует ряд мероприятий: сельское ссудо-сберегательное товарищество, потребительская кооперация, производственная артель. Идейным выразителем и поборником этой программы выступает сильная личность — крестьянин-бедняк Дмитрий Кряжев. Овладев грамотой и побывав в столице, он, вернувшись в родное село, быстро постигает всю механику кулацкой эксплуатации и ополчается против кулаков со всей энергией и упорством. Дмитрий Кряжев весь проникнут интересами общины, крестьян родного селения, он «горой всегда стоял за мир..., зовет кулаков не иначе как иудами» (стр. 19). Словом, это уже знакомый нам по произведениям Наумова идеальный, хотя и одинокий, поборник крестьянской правды, борец за лучшее социальное устройство, пусть идеалы его весьма скромны и ограничены. Дмитрию Кряжеву оказывают поддержку, как это и следует по народнической схеме, представители местной интеллигенции, «добрая барыня», помещица, и сельский учитель из разночинцев. Автора, как и главного героя, не смущает, что у него нет прочной
- 357 -
поддержки в массах, которая сочувствует Кряжеву и в то же время боится кулаков.
П. В. Засодимский.
Фотография Ю. Штейнберга. 1880-е годы.Содержанием романа и является борьба Дмитрия Кряжева и небольшой группы сочувствующих ему друзей с кулацким произволом. Борьба эта имела некоторые временные успехи (открытие школы, ссудо-сберегательной кассы, потребительской лавки), но окончилась она жестоким и неизбежным поражением. Правдивость писателя-художника взяла верх над ложными убеждениями. В конце романа Дмитрий Кряжев, вернувшийся только что из тюрьмы, куда его засадили по ложному доносу кулаков, чуть не исключенный из сельского общества своими же односельчанами, предается невеселым размышлениям. В самом деле, всё, над чем он трудился, что стоило ему такого
- 358 -
напряжения сил, ума, настойчивости, — всё пошло прахом. Закрылась школа, общественная лавка не могла конкурировать с более сильными экономически торговцами, артель попала в руки Лисина. «А касса... Много ждали от этой кассы, да мало дождались. За последнее время и кулаки перестали враждовать с кассой, даже сами в нее записывались. Они находят за себя поручителей, сколько угодно — и берут из кассы денежки для своих оборотов...» (стр. 255). Новые мысли зреют в голове Кряжева: «Одной кассой, лавкой, али бо артелью тут горю не помочь! Бери выше, хватай глубже!» (стр. 258). За этими словами угадываются революционные ноты, однако автору не ясны дальнейшие перспективы, недаром так много скорби в заключительных картинах романа. Дмитрий, оскорбленный в своих лучших стремлениях, уходит из родного села; «...теперь он постарел — жизнь постарила его прежде времени. Укатали, знать, бурку крутые горки...Пройдя с полверсты, Кряжев приостановился на мгновенье на верху бугра и, опершись на палку, еще раз глянул оттуда назад, вниз... „Всё так же, как и прежде, коли не хуже!..“, — проходило у Кряжева в голове. Хатки те же и так же валятся они на сторону, те же растрепанные соломенные крыши, та же грязная, неприглядная улица; та же тощая скотинка шляется по задворкам и гложет травку с землей» (стр. 259). Эта картина неприглядной и неизменной народной нищеты еще раз заставляет его подумать о своих попытках изменить положение: «И я-то... дурак, дурак!.. Разве в корыте можно море переплыть! Э-эх!» (стр. 260). Это — очень сильные слова по адресу тех либерально народнических надежд, которые связывались одно время с мероприятиями земской деятельности.
Но видел ли Засодимский, как и другие народники, истинные причины крушения прекраснодушной деятельности, подобной деятельности Кряжева? Из романа этого заключить нельзя. Истинная социальная почва кулачества не раскрыта и Засодимским, кулачество как неизбежное порождение социально-экономических отношений пореформенной деревни им также не показано. Вся сила кулака, по мнению Засодимского, лишь в наглости, опирающейся на поддержку правящих властей.
«Хроника села Смурина» является образцом программного народнического романа. Явно тенденциозное в своем замысле и осуществлении, произведение Засодимского в форме традиционного романа, с его приемами образности, композиции, сюжета, по сути было изложением основных положений народнической программы. Писатель мало заботился о художественной убедительности в раскрытии узко личных, интимных отношений героев. Так, вся история любви Кряжева и Евгении, выдержанная в сентиментально-романтических и весьма шаблонных тонах, введена автором явно ради одной занимательности. В языке героев мы не находим особой дифференциации, кроме того, что крестьяне употребляют простонародные, в том числе даже диалектные слова («разболокался», «кантует», «блекочешь», «разварзайся» и др.).
Развернутое и искусно беллетризованное изложение народнической программы, изображение «сильной личности», поданной в романтических, приподнятых тонах, глубоко сочувственный показ жизни трудовых крестьянских масс, непримиримая ненависть к кулачеству, горячая и искренная мечта о лучшем устроении народной жизни — всё это обеспечило успех романа у народнического читателя 70-х годов. Наряду с очерками и рассказами Наумова, нелегальными сказками Степняка-Кравчинского и другими произведениями роман Засодимского использовался народниками-пропагандистами для работы среди крестьянства.
Писателем, в произведениях которого весьма явственно отразилась идейная эволюция народничества, — и в этом отношении его творчество в общей характеристике литературного народничества представляет особый интерес —
- 359 -
Ф. Д. Нефедов.
Фотография Я. Мелехова. 1880-е годы.
- 360 -
является Филипп Диомидович Нефедов (1838—1902). Публицист, писатель-очеркист, автор повестей и рассказов из народной жизни, ученый-этнограф, журнальный деятель (участие в редактировании журнала «Книжник», «Ремесленной газеты» и газеты «Русский курьер»), Нефедов был одним из выразителей того широкого интереса к народной жизни, который определился в 50—60-х годах и принял затем форму «движения в народ» с самыми различными целями. Мировоззрение Нефедова складывалось под воздействием демократической литературы того периода, в непосредственном общении с такими типичными представителями разночинно-интеллигентской среды, как В. А. Дементьев, С. Г. Нечаев, писатель А. И. Левитов и другие. Нефедов, изображая этот кружок, позднее писал: «Отличительную черту этого кружка составляли: преследование высших целей в жизни и неутомимое искание правды, истины... Все много работали над собой и готовились к честной и полезной общественной деятельности...».1
Свою литературную деятельность Нефедов начал в 1859 году, находясь еще в Иванове, живя в семье отца, мелкого фабриканта и торговца. Первыми печатными произведениями его были корреспонденции в «Костромские губернские ведомости» («Галичская ярмарка» и «Из путевых заметок по Нерехтскому уезду»). Хорошо зная фабричные нравы и быт села Иванова (будущего Иванова-Вознесенска), уже тогда крупного центра текстильной промышленности, Нефедов переходит к произведениям на фабричные темы. Его очерки начинают появляться в московской печати. По поводу очерков «Перед кончиной» и «Чортово болото», в которых изобличались ивановские дельцы, взяточничество местных властей, С. Г. Нечаев сообщал из Иванова писателю, находившемуся в Москве: «А ивановцы-то! Ивановцы в каком ожесточении: так и скрипят зубами, съесть вас хотят, только покажись».2
Описанию фабричной жизни Иванова посвящены очерки — «Девичник» (1868), напечатанный в «Отечественных записках», «Святки» (1871). Здесь рисуется досуг, веселье, отдых фабричной молодежи, вырывающейся, хотя бы только по праздникам, из-под гнета изнуряющего фабричного труда. Зарисованные Нефедовым картины полны бытовой точности, он обильно вводит местные выражения, воспроизводит бытующие там народные песни, говорит о народных верованиях и представлениях («Святки»). Этнографизм очерков Нефедова является характерной особенностью всех его произведений. В очерках хотя и не подчеркнуты, но ясно намечены социальные контрасты, свойственные фабричному, капиталистическому укладу жизни. В самом описании села Иванова (Бубново и Данилово в очерках) указывается на эту контрастность. «Видишь большой каменный дом, принадлежащий фабриканту, — рассказывается в «Девичнике», — рядом с ним прилепилась крестьянская избенка, вся черная, точно в саже, и покачнувшись на бок» (I, 103). Не менее контрастно характеризуется и население. Оказывается, купцы и фабриканты «раздаются во все стороны и приобретают великую красоту лица», их супруги «положительно могут быть уподоблены тучным коровам фараона»; нельзя этого сказать «о народе, рабочих людях. Это всё бедняки, перебивающиеся изо дня в день, худые и тощие, как заморенные лошади; вид их так же убог и жалок, как и тех домишек, в которых они живут и переносят зимою стужу и голод» (I, 104). Писатель показывает образы рабочих, в которых очевиден рост самосознания. Таковы в «Святках» рисовальщик Груздев, слесарь Безбрюхов. Последнего нигде не принимают
- 361 -
на работу, так как он зарекомендовал себя честным и стоящим за правду рабочим. Один из хозяев-фабрикантов обращается к нему: «Так это ты... везде рабочих-то бунтуешь, да против хозяев смущаешь?» (I, 74). Социальная рознь проявляется и во взаимоотношениях рабочей молодежи с щеголями-приказчиками («Девичник»).
Если в «Девичнике» и «Святках» рабочая жизнь представлена всё-таки в наиболее светлые ее моменты (праздники, во время отдыха), то уже в совершенной ее безотрадности она представлена Нефедовым в публицистических очерках «Наши фабрики и заводы» (1872), печатавшихся в «Русских ведомостях». С документальной точностью, со ссылками на исторические и современные писателю события, с привлечением цифр и математических выкладок, с описанием технологического процесса текстильного производства Нефедов воспроизводит потрясающую картину почти нечеловеческих условий труда рабочих на ивановских фабриках. Отсутствие какой-либо охраны труда, рабочий день, доходящий до 16 часов, скудное питание — всё это подкреплено фактами, цифрами, живыми зарисовками. Особенно тягостное впечатление производят картины детского труда. На вопрос обследователя, что впоследствии выходит из мальчиков, работающих на сушильных барабанах, фабрикант отвечает: «...высыхают они» (I, 33). Очерки Нефедова не были завершены. Продолжению их, очевидно, помешала цензура. Еще в 1871 году жандармский чиновник доносил о корреспондентах, пишущих о селе Иванове: «Один из таковых, живущий в Москве и нередко бывающий в селе Иванове, купеческий сын Нефедов, защитник низшего класса населения — хотя и действительно не пользующего благосостоянием и ...эксплуатируемого фабрикантами, — часто высказывается с предубеждением, искажением фактов и явным нерасположением ко всем фабрикантам и вообще лицам состоятельным» (I, стр. XIX). Полицейская характеристика Нефедова как «защитника низшего класса населения» достаточно ярко определяет демократизм писателя, шедшего в общем потоке прогрессивной демократической литературы 60-х годов, в том числе и литературы о рабочем классе. Именно в этот период появляется труд Флеровского «Положение рабочего класса в России», романы Решетникова, Омулевского, очерки Глеба Успенского («Нравы Растеряевой улицы», «Разоренье»), Благовещенского («На болоте», «На текстильных фабриках»).
Следует сразу же оговорить, что для Нефедова, как и для других писателей 60-х да и последующих годов, рабочий — лишь представитель народной массы; самостоятельную роль рабочего класса в процессе общественной жизни он не только не представлял, но и не пытался даже осмыслить. Уже в очерках 60-х и начала 70-х годов определилось отчетливое противопоставление фабричного быта деревенскому. В очерках «Наши фабрики и заводы» очевидна идеализация прошлого ивановских рабочих, когда они были самостоятельными хозяевами-кустарями, а еще более — когда они занимались крестьянским трудом. Вот какими идиллическими красками рисуется даже крепостное прошлое ивановцев: «Здесь на этом поле летней порою всё полно деятельной бодрой жизни. Лето кончилось, хлеб с поля весь свезен и обмолочен. Картина переменилась. Старики теперь отдыхают...». Далее сообщается, что молодицы и девки ткут на дому, а мужчины уходят на отхожие промыслы; автор доволен участью крестьян. «Сам помещик от них далеко, — он живет в столице; барщины никто не знает: все живут на оброке. Отличительной чертой нравов того времени служили: прямой характер, честность и безмерная доброта землевладельцев-ивановцев. О пьянстве и других печальных спутниках фабричной жизни, которыми так богато современное Иваново, никто... и понятия не имел...» (I, 7).
- 362 -
Первыми рассказами Нефедова из крестьянской жизни являются «Крестьянское горе» и «Иван-воин», напечатанные в 1868 году. В них рисуются картины забитости, темноты крестьянских масс. Крестьяне деревни Голопузово («Крестьянское горе») во время постигшего их пожара вместо того, чтобы со всей энергией бороться с огнем, спасать имущество, стоят с иконами и смотрят, за исключением немногих, с покорностью на разбушевавшуюся стихию: «Бабы вынесли иконы: неопалимую купину и мученика Трифона. Они тихо рыдали и молились вслух... Мужики уже больше не бегали и не суетились; они молча стояли и глядели, как пламя разрушает их богатство — избы» (II, 25—26). Вся эта сцена даже некоторыми деталями напоминает картину пожара в «Мужиках» Чехова. Нефедов показывает также, как приехавший по делу о пожаре чиновник вымогает взятки с тех же мужиков и уезжает. В рассказе «Иван-воин» показана темнота крестьян, поверивших, что они удостоились «божьей милости»: к ним явилась икона святого Ивана-воина, тогда как икона была подложена ловким торговцем. Помимо основного содержания, составляющего сюжет рассказов, в них много подробностей бытового характера. Социальные противоречия деревни в этих рассказах непосредственно не затрагиваются.
Особенную известность в свое время получил рассказ «Безоброчный» (1871), в котором изображается судьба крестьянина Григория с детских лет до его трагической кончины. Преследования деревенского богача Парамона Иванова, бурмистра, а затем волостного старшины довели до полного разоренья хозяйство Григория, сын богача женится на его невесте, сам Григорий, впечатлительный, кроткий и работящий человек, в конце концов был доведен до гибели. Особенно примечателен образ отца Григория — Максима, сильного духом, непокорного, не сгибающего шею перед богачами, бедняка. Он любил повторять слова: «Надо вольный дух иметь, и будешь молодец!.. А без вольного духа не проживешь на свете... Невозможно! Измучат тебя, заживо источат...» (II, 114). Судьба Григория, не обладавшего энергией и стойкостью отца, как раз и являла собою пример измученного, заживо источенного человека. В первоначальных публикациях рассказ был снабжен обобщающей концовкой: «Так и пропал человек... И ведь сколько, как подумаешь, по нашим селам и деревням гибнет хорошего народа? Несть числа!.. А отчего бесследно гибнут здоровые силы на святой Руси? Подумайте-ка вот об этом, добрые люди. Давно, давно вам пора об этом подумать и поразмыслить...» (III, 300). Очевиден пропагандистский смысл подобного призыва. Впоследствии, при издании рассказа в 1878 году писатель был, видимо, вынужден снять эту концовку и усилить религиозную настроенность и смирение Григория. Всё же рассказ «Безоброчный» остается наиболее сильным из крестьянских рассказов Нефедова первого периода его деятельности.
Но даже в этом рассказе социальный смысл трагедии крестьян ослаблен тем, что она представлена не как закономерный результат социально-экономических отношений крепостной и пореформенной деревни, а как стечение личных обстоятельств (в данном случае неприязнь представителя местной власти к непокорному бедняку). На этот недостаток рассказа указывали «Отечественные записки» в рецензии на сборник рассказов Нефедова 1878 года. Рецензент справедливо заключал, имея в виду общественный смысл произведений, что «...„фабричные“ очерки г. Нефедова стоят решительно выше его „деревенских“ рассказов...».1 Касаясь рассказа «Безоброчный», в котором причиной трагической участи Григория представлена вражда к нему бурмистра, критик разъясняет, что «не в личностях, не в случайностях
- 363 -
заключается горе нашей деревни».1
Иллюстрация:
«На миру». Очерки и рассказы Ф. Д. Нефедова.
Обложка первого издания. 1872.Конец 60—70-х годов — период наибольшей активности Нефедова, его демократические воззрения являлись отражением и выражением связей с демократическим и революционно-народническим движением указанного времени. Это сказалось и в его этнографических изучениях данного периода. Так, например, он с большим вниманием и сочувствием изучает быт и историю башкир; на материале этих изучений в 1880 году на страницах «Русского богатства» появляется очерк «Движение среди башкир перед Пугачевским восстанием».
Разгром и кризис народничества после 1 марта 1881 года, последовавший затем арест Нефедова за связи с революционерами (он вскоре был освобожден за недоказанностью непосредственного участия в движении и отдан под гласный надзор), усилившаяся политическая реакция — всё это сильно сказалось на идейной позиции писателя. Его народничество приобретает отчетливо либеральный характер. Ясно это сказалось и на его творчестве.
Характерен в этом отношении эпизод с рассказом Нефедова «На арестантском пароходе». Первоначально рассказ был предложен в «Отечественные записки», но писатель получил от редактора весьма суровый ответ. «К величайшему моему прискорбию, — писал Салтыков-Щедрин, — я не могу напечатать в „Отечественных записках“ Ваш рассказ: „На арестантском пароходе“. Он очень беден по содержанию и крайне неудовлетворителен по форме».2 Действительно, для рассказа характерен тон сентиментальной слащавости, традиционной трактовки заключенных как «несчастненьких», хотя здесь и содержится весьма характерный эпизод, связанный со стачкой фабричных рабочих. После отказа «Отечественных записок» Нефедов, однако, печатает рассказ в довольно реакционном журнале «Наблюдатель».
Народнический либерализм писателя с особенной наглядностью проявился в его рассказах на темы фабричной и деревенской жизни. Народническая идеализация общинных порядков видна в рассказе «Ионыч» (1888). Больной старик, являющийся воплощением патриархальных устоев общины, на сходе
- 364 -
кланяется «миру» земным поклоном с просьбой закрыть кабак, и это создает перелом в настроении мужиков. Наиболее характерным для последних рассказов Нефедова о деревне является «Стеня Дубков» (1898). Героем здесь выступает сын зажиточных родителей Стеня Дубков, наделенный всеми возможными добродетелями и качествами: обладатель большой физической силы, он везде вступается за справедливость, среди деревенских парней он выступает идеальным судьей в схватках и праздничных потасовках, в конце концов он даже склоняет своих товарищей отказаться от неизменных выпивок и предаться чтению хороших книг. Безудержная идеализация, столь характерная для всего облика Стени Дубкова, сделала этот образ далеким от действительности.
Сама деревенская жизнь здесь рисуется идиллически: ни нужды, ни горя, ни острых социальных противоречий — ничего этого не находит читатель в деревне, изображенной Нефедовым. Этому идеальному царству он противопоставляет фабрику, которая «портит» чистых людей деревни. С неприязнью Нефедов рисует фабричных: они и пьяницы, и воры, они утратили чувство чести. Даже физический облик фабричных неприятен писателю. Деревенская же молодежь у него пышет здоровьем, дородством, красотой.
Народническое отрицательное отношение Нефедова к фабричному быту ярко выражено и в рассказе «Чудесник Варнава» (1898). Крестьянин Варнава Шумилов погубил себя тем, что ушел работать на фабрику, там научился пить, дебоширить, заниматься вымогательством. Лишь окончательное возвращение в родную деревню вернуло ему душевный мир и счастье. Кончина его, умиротворенно-умильное настроение, примирение со всеми, досаждавшими ему при жизни, — верх идиллического отношения к действительности. В рассказе приводятся многие народные, в том числе фабричные, песни. В одной из них говорится:
Я с хозяином расчелся,
Ничего мне не пришлось;
Из конторы вон пошел —
Кулаком слезы утер.(I, 246).
Но автор приводит песню мимоходом, у него нет сейчас ни внимания, ни сочувствия к фабричным рабочим, он только любуется идиллической деревней. Если же избирается фабричный сюжет («Семь ключей», 1890), то автор рисует образы добреньких фабрикантов, которые даже женятся (правда, преодолевая сопротивление своей среды) на работницах своей фабрики.
К Нефедову, идеализировавшему патриархальную деревню и с непрязнью относившемуся к капиталистическому городу, с его «буйным» фабричным бытом, полностью применима характеристика, которую дал В. И. Ленин народникам как идеологам мелкой буржуазии. «„Разврат“ городских рабочих, — писал он, — пугает мелкого буржуа, который предпочитает „семейный очаг“ (с снохачеством и палкой), „оседлость“ (с забитостью и дикостью) и не понимает, что пробуждение человека в „коняге“ — пробуждение, которое имеет такое гигантское всемирно-историческое значение, что для него законны все жертвы, — не может не принять буйных форм при капиталистических условиях вообще, русских в особенности».1
Обзор творчества Нефедова показывает, что он с позиций демократизма, характерного для его творчества 60—70-х годов, переходит под конец жизни на позиции слащавого либерального народничества. Эта эволюция Нефедова явилась литературным отражением общей эволюции народников.
- 365 -
Таким образом, наиболее острые в социальном отношении произведения Нефедова относятся к 60—70-м годам, хотя и тогда его творчество не достигало социальной остроты и художественной обобщающей силы писателей, даже родственных ему по направлению: Наумова, Засодимского, Златовратского и других. Ценность его произведений 60—70-х годов — в конкретном фактическом материале, характеризующем положение трудящихся масс деревни и всё более развивающихся фабрик, в точных сведениях о быте, обычаях, языке этих масс, в записях фабричного и деревенского народного творчества, которые вкраплены в эти произведения. Этнографические и фольклористические интересы помогли Нефедову усилить познавательную и идейную ценность его художественного творчества.
Если для первой половины 70-х годов программным произведением литературного народничества можно считать «Хронику села Смурина» Засодимского, то для конца 70-х и для 80-х годов таким наиболее полно воплощающим идеи народничества произведением был роман «Устои» (1878—1883) Н. Н. Златовратского.
Златовратский — наиболее последовательный, наиболее упорный и наиболее страстный выразитель народнических иллюзий в художественной литературе. Ему принадлежит ряд произведений, в которых трактовались сложные проблемы крестьянской жизни пореформенного периода и задачи интеллигенции в связи с этим, — беллетристических и публицистических очерков и рассказов, литературно-критических статей и воспоминаний. Свои произведения из жизни народа писатель создавал в значительной мере на основе личных наблюдений, используя результаты собственных изучений русской деревни.
Однако преобладающий пафос Златовратского состоял не в отображении суровой правды жизни, как это было, например, в произведениях Глеба Успенского или Каронина-Петропаловского, а в воспевании того, чего уже фактически не было в пореформенной, капитализирующейся деревне. Обоснование народнической веры в крестьянскую общину, тщательное выискивание и безудержное воспевание хотя бы малейших остатков общинных порядков, восторженное преклонение перед «общинным духом» отдельных представителей (как правило, почтенных патриархов, глубоких старичков) современной деревни, непреклонная, почти мистическая вера в «правду» общинных «устоев», проповедь «слияния» интеллигенции с народом — вот чем были полны его главнейшие произведения.
Уже в «Крестьянах-присяжных» (1874—1875) Златовратский восхваляет и идеализирует духовный и нравственный облик представителей крестьянского мира в противоположность развращающему быту фабричных рабочих. Уже здесь мы находим это народническое противопоставление, столь явственно и столь фальшиво прозвучавшее в творчестве позднего Нефедова. В 1877 году в серии очерков «Золотые сердца» Златовратский проповедует безусловное преклонение интеллигенции перед «мужицкой правдой», проповедует растворение и безоговорочное слияние ее с морем крестьянской жизни (образ медика Башкирова). В последующих произведениях — «Деревенские будни» (1879), «Очерки деревенского настроения» (1881), «Очерки народного настроения» (1884), и многих отдельных очерках и рассказах — Златовратский проповедует свои излюбленные взгляды на народную жизнь, на крестьянскую общину.
В статье «Народный вопрос в нашем обществе и литературе» (1880), программном документе только что созданного тогда народнического журнала «Русское богатство», Златовратский провозглашал: «Мы — признаем общину в ее полном объеме, со всеми ее логическими последствиями и исключаем
- 366 -
всякие шатания, выверты и компромиссы».1 Эти слова можно было бы взять эпиграфом к роману «Устои», в котором всё — от названия до приемов стиля в повествовании — подчинено идее укрепления и восхваления общинных порядков. Роман «Устои» — обобщающее произведение в творческом пути писателя.
В «Устоях» мы найдем глубоко прочувствованные, восторженные панегирики в честь общины, общинного труда, всего строя деревенской жизни. Картина крестьянского труда, изображенная в главе «Дети полей», полна лирического пафоса и восторга перед красотой истинно трудовой жизни. «Вот оно тут и есть мужицкое счастье»,2 — восклицает один из основных героев романа Мин Афанасьич. История другого мужика-общинника, Пимана, переданная в «Сне счастливого мужика», излагается торжественной, ритмизованной прозой, приближая повествование к былинному эпосу («Помнит он /, когда еще вкруг Дергачей / стояли глухие леса и болота /. Изба их была вдалеке /, на опушке, у самого леса»).3
Выразителем нерушимой веры в общинную крестьянскую правду выступает уже упомянутый крестьянин-бедняк Мин Афанасьич. Вопреки правде самой деревенской действительности, где всё более забирают власть кулаки, он с фанатическим упорством утверждает: «Кулакам-мироедам не жить». На чем это основано? Отнюдь не на анализе конкретных социально-экономических условий жизни деревни, а лишь на моральной оценке кулака: «А не жить им потому, что у них сытости нет!..».4 Тот же герой «Устоев» возглашает знаменитую фразу: «Крепче мирского лаптя мужику не найти...».5 В «Деревенских буднях», создававшихся в период работы над «Устоями», Златовратский разъясняет, почему лапоть является воплощением мирского начала. Оказывается «лапоть» играет существенную роль в совершении одного из торжественнейших актов общинного строя жизни — в переделе земли. «Я только видел, — рассказывает Златовратский об одном из таких переделов, — как мужики становились один против другого и, считая вслух, начали выделывать па, приставляя один лапоть ноги непосредственно к другому, так, чтобы носок одного приходился к задку другого».6
Кто же обычно выступает в произведениях Златовратского носителями общинных «устоев»? Если в произведениях Наумова, Засодимского в начальный период 70-х годов выразителями общинного духа были стойкие протестанты против кулацкого засилья, одинокие, но всё же активные и сильные духом борцы за крестьянскую правду, то Златовратский ищет этих выразителей в иных слоях крестьянства. Не протестант, не бунтарь, а кроткий и любвеобильный Мин Афанасьич, религиознно-смиренная Ульяна Мосевна — вот кто, по мнению Златовратского, воплощает «народный дух». Еще в «Золотых сердцах» он проявляет свое пристрастие к убогим поборникам общинной справедливости. Один из интеллигентов, жестоко разочарованный в своих народнических ожиданиях, с отчаяньем восклицает: «Впереди меня тьма, нерассветная тьма... и кругом и сзади — поверженные идолы и потухшие алтари...».7 Сам писатель далек от этого разочарования, но в ком же он видит свет? «Всмотритесь хорошенько, поищите, и вдруг перед вами, где вы и не ожидали, предстанет этот ответ в лице какой-нибудь замухрястой бабенки,
- 367 -
шляющейся по богомольям или какого-нибудь чудака...».1 В «Золотых сердцах» Златовратский с умиленьем повествует о богомолках Секлетее и Павле, о медике Башкирове, в «Устоях» он поэтизирует Мина, богомолку Ульяну, бродячего батрака Ивана Забытого, сентиментально-беспомощного народного «адвоката» — кротчайшего Филаретушку. Если герои Наумова и Засодимского, воплощая идеи революционного народничества, еще пытаются бороться с ненавистным им миром кулачества и бюрократическим засильем господствующих властей, то Мин Афанасьич в «Устоях» твердит: «Мужичок мир любит, спокой, чтоб кругом его всё светилось, улыбалось да радовалось...».2 Златовратский чужд революционности, либеральный характер его народничества совершенно очевиден. Эти идеи религиозной незлобивости, прославления всеобщей любви, кротости в народе совершенно закономерно привели Златовратского впоследствии к сближению с толстовской проповедью непротивления злу насилием. Именно в этом состоит смысл его повести «Мои видения» (1885).
Было бы неверным утверждать, что Златовратский не замечал очевидных фактов действительности. В его произведениях немало ценных наблюдений, правдивых картин, показывающих всё большее торжество в деревне ненавистного для писателя капитализма. В самих «Устоях» Петр Вонифатьич, внук основателя общинного поселка, побывав в городе, выступает олицетворением нового, кулацкого порядка, неумолимо разрушающего общинный строй. В обрисовке этого, как и других образов кулаков, Златовратский делает шаг вперед от наивно-плакатных изображений кулака у Наумова и Засодимского.
В описании деревни в ряде очерков Златовратского мы находим суровые и горькие признания в духе правдивых очерков Успенского. Златовратский показывает немало проявлений крайнего индивидуализма в современной ему деревне. Но из этих фактов реальной жизни Златовратский не смог сделать правильных выводов. Они лишь повергали писателя в скорбную грусть, в безысходное раздумье по поводу действительного хода истории. В его произведениях, особенно посвященных изображению роли интеллигенции, содержится много горьких и грустных ламентаций, сетований на бессилие героев повлиять на жизнь в нужном направлении. С середины 80-х годов Златовратский отходит от непосредственного изображения народной жизни, и темами его произведений становятся уход в прошлое, грустные повествования о судьбах честных, но слабых героев-интеллигентов. Во все этом несомненное доказательство того, что Златовратский не мог не посчитаться с правдой и логикой жизни.
Всё же Златовратский как художник и мыслитель до конца не сумел отказаться от внеисторической идеализации крестьянской общины и в своих основных произведениях продолжал утверждать с фанатическим упорством веру в некую мистическую мужицкую «правду». В «Очерках деревенского настроения» (1881) писатель стремится уловить тот тонкий психический процесс, «под которым незримо зреет „новое“, в лаборатории которого медленно и неуклонно совершается тайна претворения старых идеалов в новые, тайна бессознательного творчества общенародного умонастроения...».3 Эти и подобные разговоры об оживлении «старых идеалов», о «тайнах» народного миросозерцания не могли не сближать его с доктринами либерального народничества 80-х и 90-х годов, с «теорией» малых дел «Недели», с идеями Михайловского, Воронцова, Пругавина и
- 368 -
других народнических публицистов, выступавших под маскою «друзей народа». В этом смысле реакционность народнических убеждений Златовратского несомненна, как реакционно и его сближение с толстовским учением о непротивлении злу насилием. Если говорить о безудержном и фанатическом упорстве в идеализованном изображении мужика в народнической литературе, то это прежде всего относится к Златовратскому. «Сладкогласый „обманщик“» — называл его Горький.1
В критических отзывах о произведениях Златовратского его постоянно и настойчиво противопоставляли творчеству Успенского. Михайловский и другие народники пытались представить их выразителями разных сторон одной и той же правды. Но в большинстве случаев (у одних это говорилось в похвалу, у других — в порицание Успенскому) правильно отмечалась коренная противоположность беспокоящей правды Успенского, романтической приукрашенности и успокоенности Златовратского. В демократическом журнале «Дело» по поводу основных произведений Златовратского о деревне говорилось: «...для нас понятнее и, если можно так выразиться, родственнее тревожная мнительность Успенского, нежели эпическое спокойствие г. Златовратского, спокойствие, которому мы, пожалуй, можем позавидовать, но которого не в силах разделять».2
Если в творчестве Нефедова наиболее наглядно воплотилась идейная эволюция народничества от демократизма крестьянских масс к мелкобуржуазному либерализму, если в произведениях Златовратского мы находим наиболее фанатическое исповедание народнической веры в крестьянскую общину, то в деревенских рассказах Н. Е. Каронина-Петропавловского, деятельность которого в основном приходится на конец 70-х и 80-е годы, ярко выразилось критическое отношение к идеям народничества, их изживание и преодоление, хотя от некоторых народнических представлений писатель так и не смог полностью освободиться.
Глубина проникновения в действительные условия пореформенной русской деревни, всесторонность и тонкость анализа разлагающихся общинных отношений, изображение существенных сдвигов в мировоззрении крестьянских масс, показ обострения социальных противоречий и дифференциации крестьянства — всё это сближало Каронина с таким глубоким знатоком и бытописателем крестьянской жизни, как Глеб Успенский, и давало право Плеханову с полным основанием охарактеризовать творчество Каронина как «настоящую летопись исторического процесса перерождения русского крестьянства».3
Непосредственное участие Каронина в революционном народническом движении, тяжелые жизненные испытания, близость к трудовой жизни народных масс, а также внимательное изучение жизни этих масс определили черты подлинного демократизма его творчества, реалистического по своим глубоким основам, самобытного и яркого по своим идейным и художественным особенностям. Из этого проистекало и то чувство высокой ответственности, с которым подходил писатель к литературной работе. «Только справедливость, — писал Каронин, — делает литературу дорогою для людей, только защита всего обездоленного и погибающего составляет ее содержание. Слово имеет свое сердце, и это сердце есть стремление к истине и борьба за всё человеческое...».4
- 369 -
Начиная с 1879 года, на страницах «Отечественных записок», а затем «Русской мысли» появляются произведения Каронина о крестьянской жизни, составившие серии его очерков и рассказов — «Рассказы о парашкинцах», «Рассказы о пустяках», «Снизу вверх». В отличие от ранних представителей литературного народничества (Наумов, Нефедов, Засодимский), Каронин глубоко интересуется экономикой крестьянского хозяйства, земельными отношениями, имущественным положением крестьянина, проникает во все тонкости социальных взаимоотношений современной деревни. В этом он сходен с Златовратским и еще более с Глебом Успенским. Каронин прекрасно понимает значение условий земледельческого труда в жизни и быте как отдельного крестьянина, так и деревни в целом. Определяемое этими условиями крестьянское миросозерцание пользуется всеми симпатиями Каронина, именно этот труд и это миросозерцание считает Каронин наиболее справедливыми и здоровыми. Здесь Каронин вместе с народниками. В рассказе «Две десятины» (1882) образ крестьянина Гаврилы Налимова характеризуется чертами, которые во многом напоминают образы программных произведений Успенского. Не случайно, конечно, что этот рассказ пишется в год появления «Власти земли». Гаврила, как и герои Успенского — Иван Ермолаевич и Иван Босых, — в своей родной стихии лишь тогда, когда он работает на «земле»; «выбитый из своего обычного положения, с которым он сросся всем существом своим, он терялся, становился человеком-болваном, хворал всей душой, был никуда не годен, делался сам не свой. Душа и сердце Гаврилы были зарыты в землю. Он походил на растение, которое неразрывно соединено с землей и, вырванное, засыхает и чахнет, годное только на съедение скоту».1 Рисуя «власть земли», Каронин, однако, не изолирует своего крестьянина от реальных общественных условий жизни деревни, и в анализе этих условий ему удалось не только дополнить картины, созданные Успенским, но и подметить резче то новое, что происходило тогда в деревне. Показывая процесс разложения крестьянской общины, Каронин с большой остротой рисует процесс дифференциации крестьянства, разорение большинства и обогащение немногих. Картины массового бегства разорившихся крестьян из деревни в поисках заработка («Последний приход Демы», «Как и куда они переселились») вместе с такими очерками Успенского, как «Ноль-целых!» (в «Живых цифрах»), лучше всяких логических доказательств показывали, что община, на которую еще продолжали уповать ортодоксальные народники, не только доживает свой век, но что она решительно вредна. В статье о Каронине, написанной в период борьбы марксизма с народнической идеологией, Плеханов правильно утверждал: «Недостаточно одобрять общину в принципе, нужно спросить себя, каково живется современным русским общинникам в современной русской общине, и не лучше ли было бы, если бы эта современная община — со всеми ее современными, действительными, а не вымышленными условиями — перестали существовать?».2 И творчество Каронина всем своим конкретным содержанием отвечало: да, лучше будет, если эта община перестанет существовать.
Каронин показывает также, что дифференциация крестьянства и бегство разоряющихся масс в город сопровождаются острой классовой борьбой и ростом классового самосознания разоряемых крестьянских масс. Каронин показывает и ту особенность этой классовой борьбы, что в ней наиболее активной силой выступает новое поколение крестьян, не знавших крепостного рабства.
- 370 -
Взаимоотношения крестьян — «отцов» и «детей» — с большой художественной силой рисуются в рассказе «Молодежь в Яме».
В произведениях Каронина выступает целая галерея образов крестьян-бедняков, мысль которых пробудилась, ищет выхода, часто еще не находит его, терпит поражение, но сам процесс роста крестьянского самосознания несомнен, и он всё более усиливается. Особенно показателен в этом отношении путь крестьянина Михаила Лунина («Снизу вверх»), на большое общественное значение этого образа указывал Плеханов.
Образы крестьян из произведений Каронина в своей совокупности могут служить яркой иллюстрацией к словам В. И. Ленина о пореформенной деревне: «На смену крепостной России шла Россия капиталистическая. На смену оседлому, забитому, приросшему к своей деревне, верившему попам, боявшемуся „начальства“ крепостному крестьянину вырастало новое поколение крестьян, побывавших в отхожих промыслах, в городах, научившихся кой-чему из горького опыта бродячей жизни и наемной работы».1
Несомненной заслугой Каронина является и то, что он, в отличие от других писателей-народников, по-иному взглянул на город, на фабрику, которые так отрицательно и так неприязненно изображали Нефедов и Златовратский. Каронин показывает, какое огромное значение имеет город в высвобождении крестьянского мировоззрения из-под ига идиотизма деревенской жизни, как расширяется кругозор труженика, вырвавшегося из-под мертвящих пут отживших общинных порядков. Но сделав этот новый шаг в изображении крестьянина, Каронин, однако, не пришел к пониманию действительной роли рабочего класса. Михаил Лунин, ставший в городе другим человеком, всё-таки мечтает о деревне, его помыслы с ней, а не с городом. Эта позиция Лунина — отражение позиции самого автора. Каронин при всем отрицательном отношении ко многим положениям народничества не смог, как уже указывалось, окончательно порвать с ним.
Этим следует объяснить тот глубокий пессимизм, который особенно проявился в произведениях Каронина, посвященных судьбам интеллигенции, задачам ее по отношению к народу; именно этим проблемам преимущественно посвящено творчество Каронина последних лет («Борская колония», «Мой мир», «Учитель жизни»). Показывая бессилие интеллигенции в разрешении коренных вопросов народной жизни, Каронин и сам не видит конкретных и правильных исторических путей в будущее. Произведения Каронина о народе преисполнены духом борьбы, неприятием той действительности, которая душит и угнетает человека. Каронин полон веры в силу разума, в творческую энергию народных масс. О Каронине Горький писал: «Удивительно светел был этот человек, один из творцов „священного писания“ о русском мужике, искренно веровавший в безграничную силу народа, — силу, способную творить чудеса».2
Каронин был одним из тех писателей-народников, завершающие годы деятельности которых приходятся на последний период народничества, и он был тем писателем, который остался чужд либеральной и глубоко реакционной болтовне позднейших идеологов народничества.
Каронин обратился к некоторым темам, впоследствии нашедшим всестороннее освещение в творчестве Горького. Это прежде всего тема рабочего класса («Снизу вверх»), а частично и тема босяков («На грани человека»).
Горький, как уже отмечалось, оставил нам ряд ценных суждений о народнической литературе. Великий наследник лучших традиций русской
- 371 -
классической литературы в своем всеобъемлющем интересе ко всему передовому и прогрессивному сумел оценить и то положительное, что содержалось в творчестве писателей-народников.
До сих пор мы говорили о тех представителях литературного народничества, главным предметом творчества которых была жизнь народа. Изображение самой практики революционного движения народников редко могло проникать в литературу. Но всё же попытки такие были.
С судьбами революционного народничества ближайшим и непосредственным образом связано творчество двух таких разных и в то же время сходных между собой писателей, как С. М. Степняк-Кравчинский и А. О. Осипович-Новодворский.
С. М. Кравчинский (Степняк) — народник-революционер, и свою писательскую деятельность он также подчинял задачам революционного дела. В 70-х годах, в пору активного «хождения в народ», он пишет пропагандистские сказки, печатавшиеся нелегально («Сказка о копейке», «Мудрица Наумовна», «Из огня да в полымя», «О Правде и Кривде»). В этих сказках в нарочито популярной форме разъяснялись крестьянам «тайны» их бедственного экономического и политического положения, указывались их истинные друзья и враги. Оканчивались сказки призывами к борьбе против самодержавно-полицейских порядков, к установлению нового, справедливого строя в соответствии с положениями народнических программ.
Однако наибольшую популярность Кравчинскому как писателю принесли его произведения, посвященные изображению революционной народнической интеллигенции, самой практики революционной борьбы в 70-е годы. Такими произведениями явились его очерки «Подпольная Россия», повесть «Домик на Волге», «Штундист Павел Руденко» и особенно — роман «Андрей Кожухов». Все эти произведения писатель создал уже будучи в эмиграции, куда он вынужден был укрыться от преследований царского правительства. Целью писателя было — ознакомить зарубежного читателя с правдой русского революционного движения. Постепенно, через передовых представителей русского общества, а затем и переводы, произведения Кравчинского проникали в Россию.
В произведениях Кравчинского о революционном движении народников привлекают живые картины той «отчаянной схватки с правительством горстки героев», о которых, несмотря на весь утопизм их теории, с таким уважением говорил В. И. Ленин.1 Сам активный участник революционного движения 70-х годов, Кравчинский сумел воссоздать многие характерные черты движения и дать привлекательные образы отважных революционеров.
Но вместе с тем Кравчинский, сам плоть от плоти народнического движения, дал эту борьбу и самих борцов в идеализированном и романтизированном виде. Идеализация методов индивидуального террора, непонимание подлинных закономерностей исторического процесса, преувеличение роли личности в истории, недооценка активности народных масс — всё это было свойственно мировоззрению Кравчинского и всё это в сильной степени сказалось в его произведениях, посвященных истории народнического движения.
Главная заслуга Степняка-Кравчинского как писателя состоит в том, что он в своих произведениях отобразил существенные черты целого периода освободительной борьбы в России, что главными героями его произведений выступали люди из того круга, который В. И. Ленин назвал блестящей плеядой революционеров 70-х годов.2 Следует учитывать также, что произведения
- 372 -
Степняка-Кравчинского были бесцензурным словом писателя-революционера, что он выступал с темами и вопросами, которые недоступны были для русской легальной литературы, хотя и подцензурная русская передовая литература делала немало попыток сказать свое слово по этим жгучим, но запретным темам и проблемам.
Одним из тех, кто попытался сказать в русских подцензурных условиях о революционной борьбе народников 70-х годов, был А. О. Осипович-Новодворский.
История его идейных связей с народничеством — это история довольно быстрого и раннего преодоления влияния идей Лаврова и Михайловского и переход на позиции критической переоценки народнической программы. Осиповичу-Новодворскому были чужды идеализация крестьянской общины и народническое учение о возможности для России миновать стадию капитализма. Но в то же время он сходился с революционными народниками в общедемократической программе, в признании необходимости решительной борьбы с самодержавием и всеми остатками крепостничества. Он стоял также за необходимость сближения в этой борьбе с народными массами. «...я себя воспитываю, — записывал он в дневнике, — чтобы слиться с народом!».1 Однако пути к народу и формы связи с ним для Осиповича-Новодворского остались во многом неясными.
Почти все произведения Осиповича-Новодворского печатались в «Отечественных записках», и это было не только признанием значительности его творчества, но и выражением принципиальности его идейной и творческой позиции. Осипович-Новодворский потому и смог преодолеть коренные недостатки народнической идеологии, что его мировоззрение было тесно связано с идеями революционной демократии, начиная от наследия Белинского до широкого приобщения к могучей деятельности Салтыкова-Щедрина. У Салтыкова-Щедрина Осипович-Новодворский учился мастерству эзоповской манеры письма, идейной принципиальности и непримиримости, глубине проникновения в явления жизни.
Для Осиповича-Новодворского характерно стремление показать положительного героя своего времени, которого он не всегда находил, но которого представлял прежде всего как революционного деятеля, близкого народу, знающего что делать, непримиримого ко всякого рода компромиссам, к идейной дряблости, мягкотелости, практической неприспособленности. Произведения писателя и направлены к тому, чтобы или отметить, зарисовать хотя бы отдельные черты подлинно положительного героя, или подвергнуть беспощадной критике тех, которые только кажутся героями, но которые на самом деле никогда не переходят от слов к делу. В первом и самом крупном своем произведении «Эпизод из жизни ни павы ни вороны» (1877) Осипович-Новодворский, продолжая традиции Добролюбова и Писарева, подвергает едкой и по-щедрински беспощадной критике «лишних людей». В образе Печерицы, дающем некоторое представление о положительной программе писателя, Новодворский намеревался воплотить черты деятеля революционого подполья, вместе с тем тесно связанного с народом.
В рассказах 1880—1882 годов Новодворский с большим мастерством и смелостью пытается хоть в какой-то мере показать ту беззаветно мужественную борьбу с самодержавием, которую развернули революционеры-народники, особенно в период революционной ситуации 1879—1880 годов, и которая
- 373 -
закончилась столь трагически для народников. Рассказы «Тетушка», «История», «Мечтатели», воспроизводящие образы революционного подполья, хотя лишь косвенно, через восприятие других, полны чувством восхищения перед героизмом, душевной чистотой и глубоким бескорыстием революционной молодежи тех лет. Это те же черты, которые мы находим и в очерках, и романе Степняка-Кравчинского, с тою разницей, что Новодворскому в большей мере видна вся трагическая неизбежность пережитого народниками поражения. Замечательно мастерство, лаконизм писателя, виртуозно искусство его в достижении поставленной цели. Лишенный возможности говорить на взятую тему полным голосом, Новодворский скупой, но поразительно емкой деталью умеет передать сложнейший комплекс представлений об изображаемом явлении. Так, рассказ «Тетушка» состоит из воспоминаний, дум, разговоров о девушке, сосланной в Сибирь за революционно-мужественный поступок. И в этих воспоминаниях воссоздается весь сказочно прекрасный и чистый облик героини, трагическая судьба которой передана в нескольких словах, страшных, как крик: «...а что́, если она теперь, в эту самую минуту (рассказ изображает новогодний вечер, — Авт.) всё едет, всё едет?!».1 Вся даль и суровость сибирской ссылки, вся душевная боль за участь героини передана этой скупой фразой.
Насколько рассказы Новодворского полны глубокой и светлой симпатии, скрытого и горячего лиризма по отношению к тем, кто борется — пусть еще безуспешно, пусть заблуждаясь — за правое дело, настолько же они проникнуты ненавистью и сарказмом по отношению к тем, кто приспособляется к подлой действительности, строит на несчастьях других свое эгоистическое благополучие, кому чужды и народ, и родина, и те, кто отдает за них жизнь. С щедринской сатирической силой рисует он в рассказе «Карьера» образы Хапай-Михаевского и Легкоживецкого.
Творчество Новодворского, столь емкое и сложное по своему идейному содержанию, глубоко оригинально, смело, порой даже парадоксально по своей форме. Учась у Салтыкова-Щедрина, он далек от голого подражания великому сатирику. Новаторство художественной манеры Новодворского, однако, не является ни в какой мере игрой в оригинальничанье, это новаторство проистекало из тех сложных идейно-творческих задач, которые ставил перед собой писатель. Рассказ «Роман» в этом отношении является своеобразной попыткой теоретически разрешить проблему нового романа. Эта попытка идет в русле размышлений над теми же проблемами Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского и других представителей демократической литературы.
Тема революционного движения не могла, конечно, получить сколько-нибудь значительного развития в условиях самодержавно-царской цензуры, и в творчестве преобладающего числа писателей-народников она не нашла должного воплощения. Основные характерные особенности литературного народничества следует искать, конечно, в деятельности писателей, главнейшей темой творчества которых, как уже указывалось, было изображение народной, крестьянской жизни. Творческая практика этих писателей и определила его конкретную историю.
Демократические традиции реалистической эстетики, идейные истоки которых восходят к 60-м годам, помогали писателям-народникам, несмотря на все их народнические иллюзии и верования, в правдивом воспроизведении действительности. В период революционного народничества 70-х годов наиболее яркими произведениями, в которых сказались народнические представления
- 374 -
и народническая практика того времени, явились произведения Наумова и Засодимского. В конце 70-х и в 80-х годах писателем, ярко воплотившим народническую веру в крестьянскую общину как всеспасительное средство от надвигающегося капитализма, явился Златовратский. Но в эту же пору всё сильнее раздаются в народнической литературе и ноты критического отношения к программам народников. Сама жизнь всё более разрушала их доктрины. Наиболее характерным представителем этого критического отношения к народничеству следует считать Каронина-Петропавловского. Идейная эволюция народничества от демократизма к либерализму отчетливо сказалась на творчестве Нефедова. Самые слабые и в идейном, и в художественном отношении произведения им созданы именно в тот период, когда он перешел к либеральной идеализации деревенских отношений.
Таким образом, направление эволюции, пережитой литературным народничеством, совершенно ясно: лучшие представители этого течения наиболее значительные произведения создали, преодолевая народничество; писатели, оставшиеся до конца верными народничеству, деградировали и по сути уходили из литературы.
Таковы главнейшие выводы, которые следуют из обзора исторического пути, пройденного литературным народничеством.
Произведения писателей-народников рождались на основе пристального и разностороннего изучения действительности, изучения положения трудовых масс прежде всего. На большую познавательную ценность произведений писателей-народников указывал Плеханов. «Никакие специальные исследования, — писал он, — не могут заменить нарисованной ими картины народной жизни. Произведения наших народников-беллетристов надо изучать так же внимательно, как изучаются статистические исследования о русском народном хозяйстве или сочинения по обычному праву крестьян».1 На это же значение народнической литературы неоднократно указывал Горький. «Беллетристы-народолюбцы, — говорил он, — дали огромный материал к познанию экономического быта нашей страны, психических особенностей ее народа, изобразили его нравы, обычаи, его настроения и желания...».2
В историко-литературном отношении не потеряла своего поучительного значения работа писателей-народников в области таких жанров, как очерк и рассказ; не утратила значения и их работа по изучению и овладению богатствами русского языка.
СноскиСноски к стр. 349
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 119.
2 Там же, т. 18, стр. 330.
Сноски к стр. 350
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, Гослитиздат, М., 1953, стр. 52.
Сноски к стр. 351
1 Г. В. Плеханов. Искусство и литература. Гослитиздат, М., 1948, стр. 532.
2 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, стр. 65.
3 Цитируется по книге: История СССР. Изд. 3-е, том II. Госполитиздат, М., 1954, стр. 366.
Сноски к стр. 352
1 «Правда», 1936, № 217, 8 августа.
2 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. X, Госиздат, 1925, стр. 151.
Сноски к стр. 353
1 «Отечественные записки», 1879, X, стр. 451—452.
Сноски к стр. 354
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 490.
Сноски к стр. 356
1 Вологдин (П. В. Засодимский). Хроника села Смурина. СПб., 1875, стр. 1. В дальнейшем цитируется это издание.
Сноски к стр. 360
1 Ф. Д. Нефедов. Александр Иванович Левитов. В кн.: А. И. Левитов, Собрание сочинений, т. 1, М., 1884, стр. CVI.
2 Ф. Д. Нефедов. Повести и рассказы, т. I. Москва — Иваново, 1937, стр. X. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—III, 1937).
Сноски к стр. 362
1 «Отечественные записки», 1879, IV, стр. 197.
Сноски к стр. 363
1 Там же, стр. 198.
2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XIX, Гослитиздат, М., 1939, стр. 281.
Сноски к стр. 364
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 366.
Сноски к стр. 366
1 «Русское богатство» 1880, март, стр. 31.
2 Н. Н. Златовратский. Устои. Гослитиздат, М., 1951, стр. 240.
3 Там же, стр. 262.
4 Там же, стр. 304.
5 Там же, стр. 247.
6 «Отечественные записки», 1879, VIII, стр. 286.
7 Там же, 1877, XII, стр. 502.
Сноски к стр. 367
1 Там же, стр. 503.
2 Н. Н. Златовратский. Устои, стр. 240.
3 «Отечественные записки», 1881, II, стр. 231.
Сноски к стр. 368
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, 1953, стр. 347.
2 (Без подписи). «Деревенские будни» Н. Златовратского. «Дело», 1882, IV, стр. 61.
3 Г. В. Плеханов. Искусство и литература, стр. 556.
4 «Русская мысль», 1889, 1, стр. 275.
Сноски к стр. 369
1 «Отечественные записки», 1882, VII, стр. 74.
2 Г. В. Плеханов. Искусство и литература, стр. 570—571.
Сноски к стр. 370
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 66.
2 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 10, 1951, стр. 306.
Сноски к стр. 371
1 См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 36.
2 Там же, стр. 342.
Сноски к стр. 372
1 И. Ясинский. Андрей Осипович Новодворский (некролог). «Отечественные записки», 1882, IV, стр. 294.
Сноски к стр. 373
1 «Отечественные записки», 1880, XII, стр. 301.
Сноски к стр. 374
1 Г. В. Плеханов. Искусство и литература, стр. 510.
2 М. Горький. История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, стр. 219.