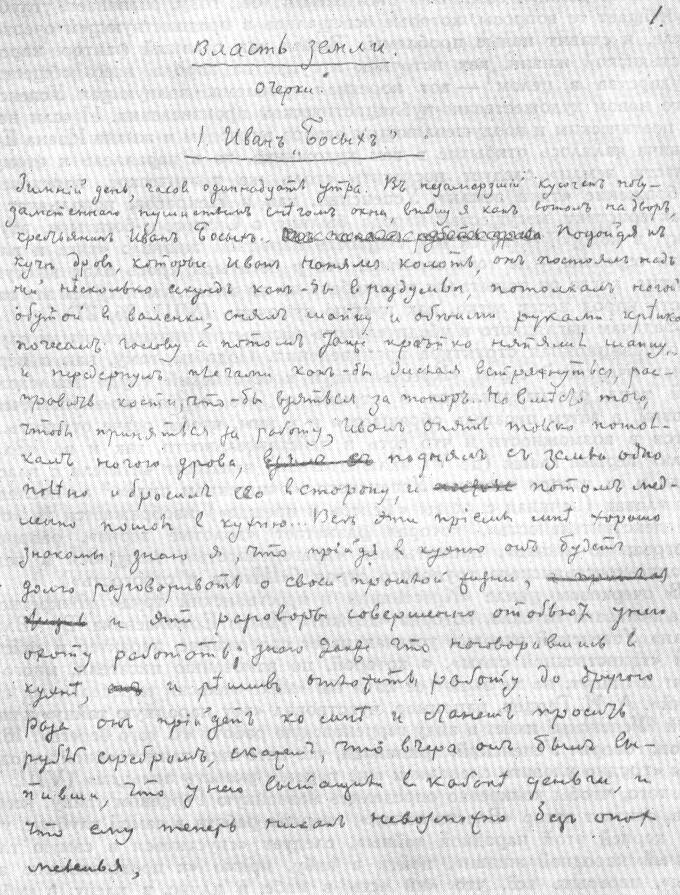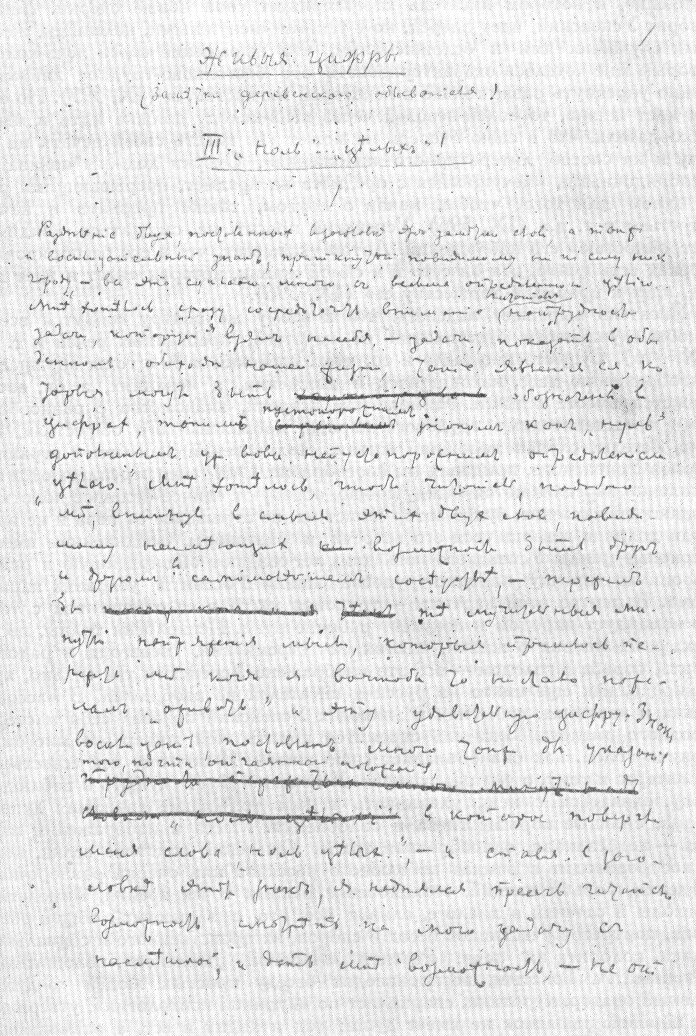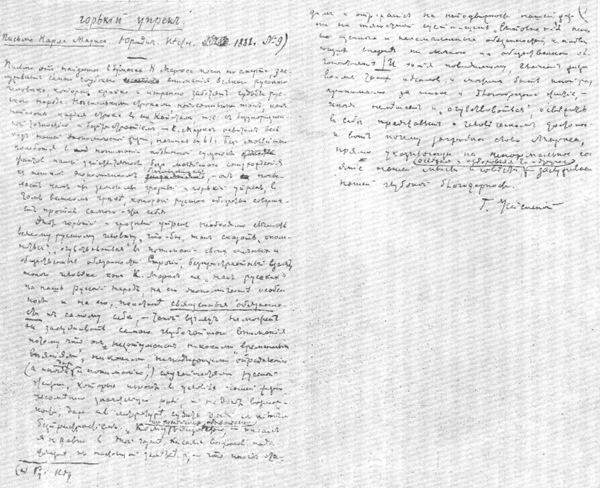- 275 -
ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ
- 276 -
- 277 -
В русскую классическую литературу Глеб Иванович Успенский вошел как выдающийся писатель-реалист, мужественный и искренний защитник трудового народа. Заслуги Успенского были отмечены ленинской «Искрой» еще в 1902 году. Он «неизмеримо больше всех легальных писателей 70-х и 80-х годов оказал влияние на ход нашего революционного движения», помогая первым русским марксистам-революционерам «конкретно выяснить и себе и другим свою практическую теорию».1
Высокая оценка творчеству Успенского дана в трудах В. И. Ленина.
1
Глеб Иванович Успенский родился в городе Туле 13 (25) октября 1843 года в семье провинциального чиновника.
Окружающая обстановка, пропитанная пошлостью и эгоизмом, рано пробудила в Успенском органическое отвращение и протест.
Уже в детстве Успенский видел и тяжело переживал страдания народа. «...меня спасало то, — признавался позже писатель, — что в моем маленьком зверушечьем сердце, помимо ощущения тяжести пережитого, было уже зерно жалости, жалостливой тоски не о моем горе и беде, а о каком-то чужом горе и беде».2
В 1861 году Успенский закончил гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета. В декабре того же года университет закрыли вследствие «студенческих волнений». Успенский попытался продолжить образование в Московском университете. Вскоре он оставляет и его: нечем было платить за ученье. В 1862 году отец Успенского заболел, материальные дела семьи ухудшились, а после его смерти в 1864 году окончательно пришли в упадок. Будущему писателю пришлось думать о содержании многочисленной семьи. Он поступил на должность корректора в газету «Московские ведомости», а затем начал и сам писать.
Первые произведения Глеба Успенского появились в 1862 году на страницах журнала «Ясная Поляна», издававшегося Л. Н. Толстым (очерк «Михалыч»), и журнала «Зритель общественной жизни, литературы и спорта» (очерк «Идиллия. Отцы и дети»). С тех пор Глеб Иванович всецело принадлежал русской литературе: «...вся моя новая биография, после забвения старой, — признавался писатель, — пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной не было и нет...» («Автобиография», XIV, 580).
- 278 -
Успенский сравнительно быстро вошел в большую литературу и в конце 60-х годов уже имел своего читателя. Его произведения этих лет печатались в «Русском слове» («Ночью», «Эскизы чиновничьего быта», «В деревне» и др.)» в «Искре» («Сторона наша убогая», «Неизвестный» и др.). Н. А. Некрасов сразу же разгадал и оценил талант начинающего писателя и привлек его для сотрудничества в «Современнике», где были напечатаны четыре первые главы «Нравов Растеряевой улицы» (1866),1 первого крупного произведения писателя. В 1868 году Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин возглавили «Отечественные записки», и Успенский становится постоянным их сотрудником, проработав здесь вплоть до закрытия журнала (1884). «Это самый для нас необходимый писатель»,2 — так определил в 1881 году Салтыков-Щедрин отношение к Успенскому представителей революционно-демократической интеллигенции.
В произведениях 60-х годов Успенского волнует судьба людей, обреченных на труд и нужду. Жизнь «черного народа», в особенности ремесленного люда и крестьянства, противопоставление ее господской, нетрудовой жизни — эта тема вполне определилась в произведениях Успенского 60-х годов.
Успенский комически рисует картины жизни, но его комизм проникнут скорбным тоном. Скорбно-лирические эпизоды сосуществуют у Успенского с комическими, получающими иногда грубо натуралистическую окраску, оттеняющую «безобразную жизнь». Устраняя в дальнейшем диалектные элементы, а также «физиологические» черты, писатель, однако, не отказывается от создания «несуразного», парадоксального или карикатурного образа, от сознательного преувеличения в художественном изображении действительности (см. очерки «Скандал», 1865; «Трын трава», 1867; ср. очерк «На бегу», 1863). Заостренность в художественных зарисовках сказывается во всех компонентах стиля Успенского 60-х годов, в некоторой мере сохранится и на всем протяжении его творческого пути, раскрывая определенное отношение автора к действительности — отвращение и скорбь. Характеризуя «провинциального молодого человека» («День нужды и скуки», 1865), Успенский так определяет его облик: «...нечто среднее между свахой или салопницей и газетным фельетоном» (I, 398). В подобном карикатурном сравнении заложен определенный смысл. Такой «дяденька» был органическим порождением провинциального мещанского городка, заедаемого буднями, он был необходим «уснувшим» обитателям как разносчик «новостей» и «утешитель», везде поспевающий и всем нужный со своими «услугами».
В «Эскизах из чиновничьего быта» Успенский раскрывает нравственный облик юноши, прошедшего «столичную науку», путем сравнения его с плохим паштетом. Если в очерке «День нужды и скуки» художественные характеристики давали представление о нравственном облике жителей городка и их быте, то в «Эскизах» они включали и социальную оценку, хорошо, между прочим, использованную русской нелегальной революционной журналистикой 70-х годов в пропагандистских целях.
Успенский уже в 60-х годах иногда обращается к гоголевским ситуациям и образам. Так, в очерках «Сторона наша убогая» (1865) использованы гоголевские мотивы из повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».
- 279 -
Автор рисует картину жизни семейства Марьи Ильиничны («Моллюски»). Воспитывая сына, мать заботилась только о том, чтобы он не знал ничего, кроме «четырех стен», и был бы «прямым порождением этих стен, почитателем их, ежеминутно страдавшим при всякой попытке сунуть нос на сторону» (I, 377).
«Семен! — сказала раз ему мать, — уж ты сегодня чижика-то нечисть... некогда, — мы с тобой к невесте пойдем.
У Семена руки и ноги задрожали.
— К какой, маннька, к невесте?
— К твоей!..
— Маннька, как же это?.. Я, ей-богу боюсь...» (I, 378).
Успенский обнаруживает исключительную зоркость к «негодности окружающего» («Из чиновничьего быта»). Писатель говорит о «безобразии» жизни, о «дремотном оцепенении» вековечных, тусклых провинциальных будней, которые всосали человека «в глубины своей вонючей тины». «Увечья» жизни; «вместо счастья» — «минутный обман» и «вечная кабала»; «искажающее влияние семейной жизни»; торжество «великого дела обезображивания»; «голод и нищета», играющие с человеком «как кошка с мышью»; быт, основанный на «неправых делах», — таков облик полукрепостной России, вступившей на путь капитализма.
Либеральная и реакционная печать не могла принять такого изображения пореформенной жизни Успенским. Она стремилась опорочить и принизить значение изображения «бессмыслиц» в русской жизни переходного времени. Характерно, что охранительная критика в союзе с цензурою, а также и критика либеральная особенно нетерпимо относилась к преувеличенным, заостренным формам изображения жизни, к карикатуре и гротеску. «Вестник Европы» (1871, № 1) заявил, что с помощью карикатуры Успенский забавляет читателей «бессмыслицей». Газета «Русский мир» возмущалась тем, что Успенский, как и Решетников, воспроизводит надоевшие всем «типы какого-то странного полукабацкого мира». Успенский, с точки зрения «Русского мира», «предположил действовать главным образом на смешливость публики». Он показывает читателям «непомерную глупость и феноменальную бессмыслицу выводимых им действующих лиц».1 «Заря» также ополчилась на изображаемую Успенским бессмыслицу и намекнула на отсутствие у него уважения к «новым временам».2 На самом деле для демократа Успенского, как и для Салтыкова-Щедрина, изображение «бессмыслицы» явилось одним из средств раскрытия ненормальности жизни, ее мерзости.
Творческая работа Успенского в первой половине 60-х годов шла под знаком реализации тех идейно-художественных принципов, которые за год до появления в печати первого рассказа писателя были высказаны Н. Г. Чернышевским в программной статье «Не начало ли перемены?». Писать о народе правду без всяких прикрас — одно из основных положений революционного демократа — явилось руководящим для всей деятельности Успенского. В летних сценах «В деревне» (1864) имеется эпизод, в котором писатель впервые высказал свои литературно-эстетические воззрения. Жизнь народа, говорит Успенский, следует изображать без идеализации и «прискорбий», выдуманных «литературщиками» (I, 238).
В 1865 году писатель создает очерки «Неизвестный», «Фельетон. Из провинциальной жизни», «Сторона наша убогая», в которых сатирически
- 280 -
развенчивает господствовавшие в либеральной печати принципы изображения пореформенной действительности. В очерках «Сторона наша убогая» Успенский в противовес «сочинению» Чернилова (очерк «Корреспондент») провозглашает творческий принцип, требующий изображения сути действительной жизни обитателей Овчинной улицы. Если вникнуть в эту суть, то тогда появится потребность писать не о том, как «заботятся умные люди об своем отечестве», как оно «пробуждается и совершенствуется» (об этом именно и «врал» Чернилов), а о том, как и почему мертвит и искажает «требования человеческой природы» господствовавший порядок жизни (I, 370). Здесь Успенский выясняет, как говорил Чернышевский, «коренную причину» «тяжелого хода» народной жизни.
Еще в 1863 году Успенский иронизировал по поводу «отечественного прогресса», который заменил у караульных железнодорожных будок дореформенного солдата «бабой-мещанкой», стоящей «во фронт с каким-то дреколием на плече» (I, 92). Писатель начинает вникать в особые условия пореформенного развития, в котором старое просится «на службу» к новому, а представители последнего действуют, повторяя предшественников. «Если в современных нравах, — подчеркивает писатель, — нет особенно ярких и видных новинок, то взамен этого с невероятною яркостью выступает пред взором наблюдателя... вся, доспевшая до последних границ, старина» («Трын-трава», II, 374).
Вся «физиономия провинциальной современности» сосредоточена в подобных явлениях. Об этом же говорил и М. Е. Салтыков-Щедрин в очерке «Хищники»: «Хотя крепостное право, в своих прежних, осязательных формах, не существует с 19-го февраля 1861 года, тем не менее оно и да сих пор остается единственным живым местом в нашем организме» (VII, 150).
С наибольшей полнотой и совершенством основные тенденции, наметившиеся в художественном методе Успенского второй половины 60-х годов, сказались в очерке 1868 года «Будка». Этим произведением началось постоянное сотрудничество Успенского в обновленных «Отечественных записках» (№ 4). 30 июня 1868 года Успенский писал Некрасову: «... все мои работы принадлежат только Вам одним...» (XIII, 44).
Облик героя очерка, будочника Мымрецова, ужасен. «Непостижимая умственная неповоротливость», «все почти задавленные стремления человеческой природы» и «жажда водки» — таковы плоды «мачехи-природы» (III, 354). «Последние признаки человеческого существа» у Мымрецова выколотила военная муштра. Тем не менее «изувеченность и умственное оскуднение были главной причиной того блистательного успеха, с которым Мымрецов занимал предназначенный ему пост; ... раскраденный умственный капитал его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, мог сосредоточиться и даже впиться в главные его обязанности; обязанности эти состояли в том, чтобы, во-первых, „тащить“, а во-вторых, „не пущать“». Мымрецов «въелся» в «таскание» и в людях начал «замечать только шивороты, и этим отличал людей от бессловесных животных и неодушевленных предметов» (III, 356). Мымрецов томился, когда отсутствовала практика. Самыми же тяжелыми минутами для него оказывались те, когда «шиворот», попавший уже в руки «соколом» налетевшего будочника, неожиданно исчезал из них по той причине, что у человека и «шиворота-то... настоящего нету» («не за что сцапать-то... Не уймешь», — говорили в таком случае неуязвимые люди; III, 370).
Писатель изображает ту среду, которая являлась объектом «практики» Мымрецова. Оказывается, что «всякий шиворот непременно совмещает
- 281 -
в себе целую драму» (III, 372). Здесь и трясущаяся от испуга прачка, отстаивающая независимость от «кровопийцы»-мужа, и пьянствующий портной Данилка, и голодающий с детьми старик-нищий из крестьян, и рабочий, испугавшийся рекрутчины и бросившийся в кипящий котел, и, наконец, «трагическая свадьба с музыкой», звуки которой напоминали «визгливое и раздирающее душу причитание старухи». И над всем этим «ужасным» раздавались окрики Мымрецова: «Палка где? Потому мы не допущаем, коли-ежели шум, например...» (III, 359).
Про Мымрецова можно было бы сказать словами В. Г. Белинского об Иване Антоновиче Кувшинном рыле из «Мертвых душ»: «Конечно, — указывал Белинский, — какой-нибудь Иван Антонович, кувшинное-рыло, очень смешон в книге Гоголя и очень мелкое явление в жизни; но если у вас случится до него дело, так вы и смеяться над ним потеряете охоту, да и мелким его не найдете... Почему он так может показаться важным для вас в жизни — вот вопрос!..».1 Успенский, как и Гоголь, отвечает на этот вопрос. Мымрецов, подобно Ивану Антоновичу, — не случайное, мелкое или только смешное явление в жизни. В нем воплощена злая сила существовавшего порядка вещей, он является нарицательным образом, обозначающим отношения самодержавно-полицейского строя к народу. Поэтому в революционной подпольной печати 70-х годов, а позже социал-демократической образ Мымрецова, с его практикой и теорией «тащить» и «не пущать», стал воплощением российского самодержавно-полицейского режима.
«...Слишком трудно, — писал Чернышевский, определяя трагическое, — удержаться от негодующего отвращения при изображении подобной личности и не отмстить такому человеку за страшный вред, им приносимый, изобразив его не только пагубным, но и жалким, грязным, презренным. Трагическое здесь против воли автора обращается в ироническое, саркастическое».2
На этот путь сатиры и вступил Успенский в очерке «Будка». Писатель «мстит» своему герою, раскрывает в нем «грязное», «жалкое» и «презренное», выражает «отвращение» к нему. Главным оружием сатиры Успенского является не только ирония и сарказм (элементы того и другого имеются в произведении), но и комическое изображение всей фигуры Мымрецова, что достигается, между прочим, сопоставлениями «кутузки» с «виллой» и «храмом муз», а «громадных калош» Мымрецова с плавающими лебедями. «Комическое уродливое» и «комическое безобразное» (Чернышевский) составляют сущность внутреннего и внешнего облика Мымрецова.
О пореформенной действительности и реформах писатель судит, исходя из положения трудового народа. А это положение в глазах писателя ничуть не лучше, чем оно было до «потопа». Формирование такой точки зрения прошло свой путь. Начало его определилось в очерках 1863 года «Гость» (крестьянин, который просит себя высечь), «У троицы Сергия» (образ «бедной робкой мужички»). В 1864 году Успенский дает очерки «В деревне» и «Побирушки», рисующие положение народа, прежде всего крестьянства. Действительное положение народа и действия «начальства», противопоставление двух миров — жизни всякого рода «господ» и жизни народа — приобретает в произведениях Успенского всё более отчетливое выражение. Помимо очерков «В деревне» и «Побирушки», оно сказывается и в очерке 1865 года «Зимний вечер» (рассказ богомолки о своих мытарствах),
- 282 -
а во второй половине 60-х годов («По черной лестнице», 1867) раскрывается в форме резко очерченного контраста.
В 1866 году Успенский публикует записки пролетария «Первая квартира», в которых впервые формулирует тезис о необходимости «с особенною внимательностью изучить всю трудную жизнь рабочего человека» (II, 251), чтобы понять, как неизбежны для него такие вещи, которые коверкают его жизнь. Народ, говорит писатель, живет не для радости, не для творческого труда и счастья. Загубленные жизни, погибшие таланты, осмеянная любовь и преждевременная смерть являются постоянными спутниками «измученного народа». Падение человека, искажение его натуры под влиянием среды — одна из главных тем Успенского 60-х годов. Учение о «человеческой природе», разработанное представителями революционно-демократической философской мысли, оказало огромное влияние на демократическую беллетристику 60-х годов, на Успенского — в особенности. Оно служило ему руководством в оценке положения человека в условиях растеряевского быта. Наиболее полное воплощение идеи о человеческой природе и искажающей ее среде он дает в «Нравах Растеряевой улицы» и «Разоренье». В «Губернских очерках» Щедрин при изображении порфириев петровичей, хрептюгиных, подьячих старых времен и губернских чиновников разработал проблему пагубности обстоятельств и в этом плане явился предшественником Успенского.
Изображая жизнь разнообразного «обглоданного люда», Успенский подметил в ней не только «всевозможные калечества» и искажения стремлений человеческой природы. Писатель, давая картину тяжелого хода народной жизни, показал, что в народе живут ощущения негодности окружающего, стремления к утолению жажды какой-то иной жизни. Куда бы ни заглянул Успенский, будь то мужичья избенка или лачуга мастерового, с кем бы он ни встретился — с неудачником Медниковым и с многосемейным кондуктором, — всякий раз писатель подмечал в людях такие чувства, мысли, жалобы, которые говорили о том, что человек, даже совершенно изуродованный обстоятельствами, не мог быть, по словам Н. Г. Чернышевского, «доволен...разными принадлежностями...обычного хода жизни» (VII, 866). Успенский видит «живую душу» в своих героях. В сознании массы простонародья, действовавшего, как отмечал Н. Г. Чернышевский, по привычке и машинально, согласно принципу «так заведено», в различных формах и с разной силой живет чувство неудовлетворения и тоска по другой жизни. В воображении народа рисовалась какая-то другая жизнь, как жизнь счастливая. Поэтому в сознании иногда появлялась дума, говорит Успенский, «не об угождении господам, а о жизни в деревне, в своей избе, в своей трудовой свободе» (III, 400—401).
Вместе с тем Успенский видел, что трудовой народ самостоятельно не сможет проявить «инициативы» и «почина», найти выход из заведенного порядка жизни, преодолеть инерцию своего бытия и сознания. Кто же должен указать выход из «горького положения» и «мертвого царства», научить понимать счастье трудовой, сознательной, свободной жизни? Чернышевский и Добролюбов говорили, что эта задача должна быть выполнена людьми, которые менее подвергались тяжести положения загнанных и забитых. Инициатива должна прийти, по мысли обоих критиков, от революционной интеллигенции. Такого ответа на поставленный вопрос Успенский не давал. Он вынужден был признать, что после 1861—1862 годов в русской разночинной интеллигенции не оказалось тех характеров, о которых говорил Добролюбов в статье «Забитые люди». «Хороших, руководящих личностей, — писал Успенский В. А. Гольцеву, — не было.
- 283 -
В 1861 г. в ноябре я видел Добролюбова в 1-й раз, в гробу, в 63 увезли Чернышевского в Сибирь. Писарев до 67 был невидим, сидел в крепости» (XIV, 211). Это было то «трудное время», о котором писал В. Слепцов: наступила реакция, и «хорошие люди» стали «куда-то исчезать», в Петербурге «стало пусто».
Иллюстрация:
«Из мещанской жизни». Страница
из уничтоженного сборника «Луч». 1866.
2
В очерках и рассказах 1862—1868 годов определились те идейные и художественные тенденции, которые Успенский развил в двух своих основных и между собой связанных произведениях 60-х годов: в «Нравах Растеряевой улицы» (1866) и «Разоренье» (1869—1871). Идея искажающего влияния среды на человека получила законченное выражение в «Нравах». «Честному, разумному счастью здесь <на Растеряевой улице> места не было» (II, 80).
Успенский в «Нравах» правдиво раскрывает экономическое положение мастерового люда и говорит о состоянии его самосознания. Писатель видит, что в задавленном трудом человеке что-то оживает, но не может приобрести ясную форму выражения. Рабочий «предоставлен самому себе», он не в состоянии объяснить собственного положения, он забит «каторжным существованием». Писателю особенно обидно, когда он видит, что «мастеровой человек... не привык верить в силу своих трудов и в вознаграждении видит не должное, но чуть-ли не милость» (II, 537).
Разбросанные по всему произведению жалобы трудящихся на «новые времена» («последние трудные времена») не случайны и вполне соответствуют действительному положению вещей, сложившемуся в Туле после 1856 года. Превосходное знание писателем тульской жизни имело огромное значение для развития его реализма. Вопиющая бедность и бесправие трудового народа рано пробудили и воспитали повышенную чуткость Успенского к социально-экономическим противоречиям, к окружающей несправедливости и угнетению, возбудила желание знать правду о положении народа.
В «Нравах» со всей силой обнаружились присущие Успенскому черты: беспощадная правдивость, сердечная задушевность в изображении трудового народа, скорбь за его долю. Художника прежде всего интересует вопрос о том, как растеряевский общественный быт формирует характеры обитателей Растеряевой улицы, делая одного кулаком (Прохор), другого — мучителем, наслаждающимся унижением и забитостью людей (Толоконников), третьего — человеком, признающим счастьем свою ужасную
- 284 -
жизнь (Капитон Иванов), четвертого — шарлатаном (Хрипушин). Успенский дает историю формирования подобных типов Растеряевой улицы, он преимущественно изображает быт и нравы, материальное положение, психологию обитателей Растеряевой улицы, показывает весь ее заведенный порядок жизни, господствовавшую на ней, по выражению Н. Г. Чернышевского, «неразумную силу вещей». На вопрос критика о том, «умеют ли люди скоро сообразить», отчего жизнь «идет дурно» и «чем можно поправить» ее, Успенский дает отрицательный ответ. Как говорил Чернышевский, люди свыклись с обстановкой своей жизни. Но если он указывал и на выход из подобного положения, был убежден, что в жизни народа должны наступить минуты энергических усилий и отважных решений, то Успенский, не забывая о необходимости «другого житья», однако, не выражал революционной убежденности, присущей автору статьи «Не начало ли перемены?».
Вскрывая «без всякого смягчения» суть растеряевской жизни, Успенский по-разному выражает свое отношение к различным ее представителям. Юмор «Нравов» безотраден и печален, но вместе с тем и мягок, когда автор рисует «мелкий растеряевский люд». Писатель одновременно любил этих людей и скорбел за них. В плане сопоставлений (хищники, эксплуататоры, мучители и их жертвы) писатеь развернул картину быта и нравов Растеряевой улицы, что нашло выражение в художественных особенностях произведения. Композиционно оно построено как целостное повествование о растеряевских типах. Одни в той или другой форме пользуются сложившимися обстоятельствами (Прохор, Данил Григорьич, Балканиха, Богоборцев-Толоконников, Дрыкин, Хрипушин), а другие являются жертвами этих обстоятельств (Игнатьевич, ремесленный люд, Претерпеевы, Маша, Ненила, Алифан, Кузька, Раиса Карповна). Указанная композиционная структура «Нравов» позволяла писателю всесторонне проследить гибельное влияние растеряевщины на человека. Вся «сила вещей»1 на Растеряевой улице несовместима с разумными, человечными отношениями людей друг к другу. «Попрание человека в человеке» — вот что диктует и утверждает гибельная улица каждодневно.
С точки зрения Успенского, общие источники безобразной действительности коренятся в том, что растеряевка продолжает жить принципами, выработанными эпохой крепостного права и не тронутыми «новым временем». Растеряева улица, говорит автор, намеревается «идти по прадедовским следам» (II, 80).
В «Нравах» есть и конкретизация источников «попрания человека человеком». Толоконников порабощает Претерпеевых благодаря материальной силе. Ею же он пользуется, когда «спасает» Машу. В этой же силе источник власти Дрыкина над Ненилой. С ее помощью будет «орудовать» и Прохор. Сила материального, экономического фактора играет существенную роль в авторском объяснении источников безобразия действительности. Помимо материальной зависимости, уродующей человеческие отношения, Успенский говорит и о духовном порабощении человека. На нем держится крепостническая власть Балканихи, этим порабощением по-своему пользуется и Хрипушин. Материальная нужда растеряевцев и их невежество при общем господстве крепостнической атмосферы — таковы источники: «гибельного порядка вещей».
- 285 -
В 1869 году в «Отечественных записках» Успенский печатает второе, после «Нравов», основное свое произведение конца 60-х годов — «Разоренье (Наблюдения Михаила Ивиновича)», которое, по признанию писателя, вызвало оживленные толки в столице. «Разоренье» в 1871 году вышло в Петербурге отдельным изданием, а позже для первого собрания сочинений (1883) было объединено писателем с дневником «Тише воды, ниже травы» (1870) и с очерками провинциальной жизни «Наблюдения одного лентяя» (1871) в единую трилогию, получившую общее название «Разоренье». За 1871—1873 годы А. Ф. Базунов в серии «Библиотека современных писателей» издал три новых сборника Успенского: «Очерки и рассказы» (1871),1 «Нравы Растеряевой улицы» (1872),2 наконец, «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки» (1873).3
Опубликованные сборники, прежде всего «Разоренье», вызвали литературно-критическую борьбу. Ее истоки восходят к концу 60-х годов, а развернулась она в 1872 году после появления статьи Скабичевского «Герои вечных ожиданий» (1871). Основным объектом полемики явилось «Разоренье», с его главным героем рабочим-протестантом Михаилом Ивановичем.
Реакционная публицистика в полном единении с царской цензурой пыталась доказать нетипичность избранного Успенским героя из рабочих. Разбирая три изданных Базуновым томика сочинений Успенского, обозреватель из «Русского мира» в статье «Очерки текущей литературы» (за подписью А. О., т. е. В. Г. Авсеенко) пришел к выводу, что под пером новейших русских реалистов (имеется в виду творчество писателей-демократов 60-х годов) «простой бедный человек является... в растерзанном виде, забулдыгой, пьяницей, воришкой, беспутным и ни к чему негодным». Именно таким представляется «Русскому миру» Михаил Иванович, герой «Разоренья». Публицист из «Русского мира» считал, что Успенский «карикатурит действительность» и поэтому его творчество является «ложью».4
Показательно для характеристики позиций реакционной печати выступление «Русского вестника» против «Разоренья». Катковский журнал постоянно нападал на идеи Чернышевского, в особенности на его статью «Не начало ли перемены?», пытался доказать беспочвенность русского революционного движения. В этой связи «Русский вестник» ополчался на демократическую беллетристику 60-х годов, в частности, на Глеба Успенского. В статье «Народность в новой литературе» (подписана «А», т. е. тот же В. Авсееенко) публицист «Русского вестника», рассматривая три названных выше сборника очерков и рассказов Успенского, утверждал, что «новые беллетристы создают типы озлобленные, недовольные и протестующие, в которых под русскою чуйкой так и сквозит блуза французского пролетария...».5 Одним из таких типов является Михаил Иванович. В русской действительности, вещал Авсеенко, нет подобных типов, Успенский сочиняет их в собственной фантазии, сообразуясь с чертами западного пролетария и социальными трактатами петербургских журналистов.
- 286 -
Трилогия Успенского в целом оценивалась «Русским вестником» как явление наносное и искусственное.
Народническая критика не сумела по достоинству оценить трилогию Успенского и понять глубокий исторический смысл появления в русской художественной литературе образа рабочего. В статьях А. Скабичевского, представителя мещанского радикализма, выражено презрительно-легкомысленное отошение к Михаилу Ивановичу. С точки зрения Скабичевского, Михаил Иванович — «тип российского прогрессиста», это «произведение чистой случайности», он совершенно лишний «в сонном прозябании нашей захолустной жизни».1
В «Разоренье» Успенский обратился к изображению активных натур, нарождения «новых, неясных стремлений в толпе» (III, 8). Некоторые герои из «Разоренья» начинают осознавать противоположность своего существовавания понятиям о разумной, человеческой жизни, они стремятся понять причины такого несоответствия и пытаются устранить его. В ненапечатанном при жизни Щедрина очерке «Кто не едал с слезами хлеба»2 говорится о том, как пробуждается человек, который еще вчера не знал о своем праве на еду.
Растеряевке Успенский противопоставил Михаила Ивановича. Он уже не нуждается в разъяснениях, что полуголодная жизнь, холод и каторжный труд не являются его неизбежным уделом. Он не только говорит о праве рабочего человека на материальный хлеб, но и думает о хлебе духовном. Михаил Иванович убедился, что сила на стороне тех, кто трудится. Герой Успенского обличает эксплуататорский строй жизни. Опираясь на факты рабочего движения 60-х годов, Успенский создал живой, волнующий образ рабочего.
Осуществление новых задач, вставших перед художником в трилогии, требовало новых творческих принципов. Для «Нравов» были характерны портретные зарисовки, и они иногда давались в гоголевской комической манере. Достаточно вспомнить растеряевского «медика» Хрипушина, одной из главных причин «успеха» которого на поприще медицины была его физиономия. «От роду, — говорит автор, — никто не видывал более убийственного лица» (II, 97). Пуговкой нос, огромной выпуклости щеки, огненные усы, наподобие турецких сабель, металлический блеск глаз, голова-глобус, старая солдатская шинель с разнокалиберными пуговицами, фуражка, в которой помещался платок, — таков Хрипушин. Подобный нелепый облик не случаен. Он был порождением бестолковщины и бессмыслицы, которые царствовали на Растеряевской улице. Композиционно «Нравы» развертывались как живописно-яркая портретная галерея, которая явилась наиболее удобным, целесообразным средством типизации растеряевской неподвижной жизни, раскрытия в ней социально-психологической истории формирования различных типов. Этим же задачам служили и развернутые описательные элементы в «Нравах», разнообразное обыгрывание писателем деталей быта, костюма и поведения, комических ситуаций.
В «Разоренье» самое существенное уже не портретная живопись, яркая в своих сатирически или комически преувеличенных тонах (как в «Нравах Растеряевой улицы»). Главное здесь — внутренние переживания, стремления и надежды, поступки и действия, столкновения и конфликты,
- 287 -
Иллюстрация:
«Разоренье». Титульный лист первого издания. 1871.
обсуждения вопросов жизни. В этом отношении особенно характерны речи Михаила Ивановича. Они формулируют сущность отношений эксплуатируемых и эксплуататоров: «грабитель», «оболванивать простого человека» (ср. в «Нравах»: «захватывать в полоумстве»), «прижимка» (ср. в «Нравах»: «обчистка»), «с сытыми утробами погуливают разные народы», «наш брат, простой человек, столь от разных народов за всё
- 288 -
про всё наскулен...», «у всех народов идет грабеж», «другие наш хлеб ели», «выгнан за бунты, за непокорность, потому я разбойничать им не позволял» (в журнальном варианте: «за бунтования, потому что я бунтовался, производил например, возмущения... мятежи»), «разбойничья механика», «бунтовщик».
Вместо Растеряевки, которая еще не имела четкого социально-экономического определения и раскрытия, в «Разоренье» явилось «стонущее царство прижимки» (III, 34). Реалистический метод писателя в «Разоренье» углубляется. Гибельные обстоятельства и искалеченная ими человеческая природа получают оценку с точки зрения «просиявшего» рабочего Михаила Ивановича. В новых условиях жизни автор указывает на господство «прижимки», «разбойничьей механики». Под прижимкой Михаил Иванович разумеет эксплуатацию рабочих и крестьян, за счет которых живут «разные народы» с «сытыми утробами». Поэтому трудящиеся лишены возможности есть свой трудовой хлеб сполна. Прижимку Михаил Иванович видит в городе и в деревне: «повсеместно идет ограбление человеческое» (III, 22). «Царство прижимки», «сытость краденая» являются главными причинами, искажающими человеческую природу. Прижимка привела, по мнению Михаила Ивановича, к «одурению и обнищанию простого человека». Прижимка искажает не только природу простого человека, но и тех, кто ест чужой хлеб, пользуется плодами этой прижимки. Черемухины, замечает Михаил Иванович, «с чужих денег ошалели» (III, 19).
Таким образом, изображение гибельных для человека обстоятельств приобретает в «Разоренье» ярко выраженное сциально-экономическое содержание. В зарисовках и оценках «нечеловеческой атмосферы» Успенский выступает как писатель-социолог, суждения о противоестественности порядка жизни он вкладывает в уста трудового народа, в «злые мужичьи слова», в гневные обличения эксплуататорского строя.
К изображению «тревожного времени», когда появились Михаилы Ивановичи и Иваны Николаевичи, ходоки Демьяны и целые села, «возмечтавшие» жители которых объявляли: «Я человек!», писатель мог обратиться только в новых условиях жизни России конца 60-х годов. Созданный им образ рабочего-протестанта мог возникнуть в атмосфере общего оживления общественной передовой мысли и нового подъема освободительного движения, которые проявились к 1868—1869 годам. Голод 1867—1868 годов и обнищание крестьянства (эти факты получили отражение в «Разоренье») вызвали новое обострение недовольства последнего и оказали влияние на настроения демократической интеллигенции. Подъем общественного движения выразился в образовании новых нелегальных кружков молодежи. В 1868—1869 годы возрождается студенческое движение. В марте 1869 года в высших учебных заведениях Петребурга (в Медико-хирургической академии, в университете и Технологическом институте) вспыхнули «беспорядки». Со студенческим движением была связана и деятельность кружка С. Г. Нечаева. Последний, стремясь расширить рамки студенческого движения, пытался установить связи и с тульскими рабочими оружейного завода.
Шестидесятые годы принесли рабочему и ремесленному люду Тулы, а также крестьянству Тульской губернии тяжелые испытания, вызвавшие нарастание недовольства среди рабочих оружейного завода, что нашло свое отражение в рукописи «Голос тульских оружейников», предназначенной для «Колокола», и в «бунтах» тульского крестьянства. В конце 60-х годов положение тульских рабочих еще более ухудшилось. В 1869 году оружейный
- 289 -
завод находился в состоянии кризиса, недовольство «арендателем» Стандершельдом еще более обострилось.
Г. И. Успенский.
Фотография Страхова. 1873.Созданный Успенским образ «бунтовщика»-оружейника Михаила Ивановича, «махнувшего» камнем в «арендателя», не был произвольной, лишенной почвы, художественной выдумкой писателя.1 Он был взят автором из русской жизни 60-х годов, ознаменованных началом рабочего движения. В образе Михаила Ивановича отразились процессы, характерные для всей страны, вступившей на путь капитализма. Ломка крепостнических отношений и замена их капиталистическими, весь этот, по словам В. И. Ленина, «экономический процесс отразился в социальной области „общим подъемом чувства личности“, вытеснением из „общества“ помещичьего класса разночинцами, горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности и т. п.».2 Заслугой Успенского является то, что он в произведениях 60-х годов продолжил «горячую войну» русских просветителей-революционеров «против бессмысленных средневековых стеснений личности», воплощенных им в растеряевском образе жизни. Но самым выдающимся делом, свидетельствующим о прозорливости писателя, является то, что огромную силу «подъема чувства личности» он показал еще в 60-е годы в представителе российского рабочего класса.
«Чувство личности» наполняется у Михаила Ивановича специфическим содержанием, характеризующим ранний момент в развитии самосознания рабочего класса. Рабочий Успенского выступает от лица всех трудящихся. Михаил Иванович не возвышается до требований политических прав рабочему человеку, и это соответствовало уровню рабочего движения 60-х годов. Известные забастовки и волнения рабочих этого десятилетия, в том числе и недовольства тульских оружейников, шли под знаком экономических требований. Но существенно и то, что Михаил Иванович в полный голос заговорил о правах рабочего человека на человеческую жизнь.3 «Пора, — говорит он, — простому человеку дать дыхание!.. Дайте ход!..» (III, 12).
- 290 -
Характерно, что в образе Михаила Ивановича отразилось глубокое влияние на Успенского идей революционной демократии, в частности идей романа Чернышевского «Что делать?». В «пропаганде» Лопухова и в злых тирадах Михаила Ивановича проходит в качестве главной идеи мысль о необходимости труда как единственного источника «нормальной жизни», независимости, счастья. Во втором сне Веры Павловны дано сопоставление двух типов жизни — жизни бедных родителей Алексея Петровича Мерцалова и жизни богатой и развращенной семьи Сержа. Высказанные здесь Чернышевским мысли о реальных горестях и радостях простого народа, о «здоровом свойстве» жизни трудящихся являлись руководящими для Успенского. Они ясно были высказаны художником в очерке «По черной лестнице» (1867), о них же речь идет и в «Разоренье». «Здоровое свойство» народной жизни объясняется, с точки зрения Чернышевского, тем, что в основе ее — труд, реальные потребности, удовлетворение насущных нужд. Иначе идет жизнь обеспеченных и нетрудящихся сословий. Когда Серж признался, что его богатые родители тоже вечно хлопотали о деньгах, что они «заботились о детях» (точь-в-точь, как «полипы» у Успенского), то Мерцалов требует уточнения смысла этих забот. «...вы скажите, — спрашивает он, — почему они хлопотали о деньгах, какие расходы их беспокоили, каким потребностям затруднялись они удовлетворять? ... кусок хлеба был обеспечен их детям?». Алексей Петрович прерывает разъяснения Сержа и сам характеризует его жизнь: «...мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мысли о ненужном, — вот почва, на которой вы выросли; эта почва фантастическая. Потому, посмотрите вы на себя: вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, быть может, не хуже и не глупее нас, а к чему же вы пригодны, на что вы полезны?» (XI, 121, 122).
Противопоставление указанных двух типов жизни, в основе одного из которых лежит труд, является характерным и для творчества Успенского, в частности для его «Разоренья». Когда Надя задает вопрос: «А у меня есть дело?» (над его решением билась и Вера Павловна, а также Катя Полозова: «Укажите мне дело, и я, вероятно, не буду скучать»), то Михаил Иванович отвечает: «Какое у вас дело? ...Кабы вы были простого звания, у вас бы было дело. У простого человека делов много» (III, 58). «Возьмите, — продолжает герой Успенского, — вот Авдотью... Башмак на ней надет — он у ней свой! Надыть его выработать... Вот она год целый ворочает корчаги да ушаты, и сошьет башмаки... вот и дела! И Михаил Иваныч высчитывал множество простонародных дел», «реальных горестей и радостей», вращавшихся в области «обужи» и «одежи» (III, 58—59). С другой стороны, Михаил Иванович убеждает Надю в бессодержательности жизни «за чужой счет». В такой жизни муж и жена не идут в одной трудовой «оглобле» (рука в руку, как у Чернышевского). Михаил Иванович осуждает именно ту праздную жизнь, которая погубила и Жюли.
Под влиянием Михаила Ивановича в голове Нади «зашумел целый рой совершенно новых для нее размышлений» (III, 59). У нее складывается твердое убеждение, что настоящая жизнь, самостоятельность принадлежат тем, кто имеет свой труд, у кого свои, добытые трудом деньги. Надя приходит к заключению, что такая жизнь имеется у простых людей, и поэтому «кухарке действительно лучше жить, нежели барыне или барышне» (III, 76). Общий итог исканий Нади, в которых главную роль играл Михаил Иванович, а также и собственные наблюдения «жизненных фактов», выразились в ее словах: «Знать! знать надо... всё, всё... Уйти, непременно уйти, и — учиться, учиться, учиться!» (III, 142, 143).
- 291 -
В критике высказывалось мнение, что объединение Успенским в 1883 году трех произведений в трилогию явилось редакторской неудачей, так как якобы никакого единства не получилось, повести искусственно включены автором в одну раму. В действительности это далеко не так. Композиция трилогии Успенского — сложное явление. В первой части — обычная композиция повести с единым, проходящим через всё произведение сюжетом, с строго очерченным кругом персонажей. Такая композиция способствовала реализации той задачи, которая стояла перед автором в первом звене трилогии, — изображение «просияния» Михаила Ивановича, его надежд и разочарований. Гневные тирады рабочего сопровождаются изображением сцен и эпизодов, которые подтверждали, что «новая» жизнь не наступила. Вторая часть трилогии сделана несколько иначе: в основе ее — исповедь рефлектирующего интеллигента Василия Петровича. Но его исповедь уже осложнена вплетением в нее эпизодов из народной, крестьянской жизни. Это нужно автору для подчеркивания никчемности, бессилия и растерянности Василия Петровича пред лицом народной жизни. В третьем звене трилогии центр тяжести решительно переносится автором на изображение именно этой народной жизни, образ «лентяя», автора записок, отходит на задний план, и композиция всего произведения уже строится как собственно очерки из народной жизни. Таким образом, трилогия, открывшаяся историей отдельных личностей, постепенно перерастает в общую картину народной жизни первых лет пореформенного периода. Композиционно трилогия в целом построена в плане сопоставления и противопоставления Михаила Ивановича, Николая Ивановича, народа, с его первыми проблесками самосознания, с одной стороны, и пассивно рефлектирующих, прекраснодушных, смиряющихся или перерождающихся представителей интеллигенции — с другой. В первой части трилогии указанное сопоставление дано непосредственно — петербургская встреча Михаила Ивановича с Василием Андреевичем Черемухиным, а также сатирическая параллель: разглагольствования барчука Уткина о «труде», «независимой корке хлеба» и убежденная проповедь труда со стороны рабочего. В остальных частях трилогии Михаила Ивановича нет, но писатель, изображая рефлектирующих интеллигентов, «талантливые натуры» из господ, российских «лентяев» и перерожденцев, философов «угла» и эгоистических интересов, тоскует о том, что в жизни, в кругу образованных людей нет того, что так ярко характеризовало Михаила Ивановича. В идейно-художественной концепции всего «Разоренья» Михаил Иванович выступает человеком, способным на самый решительный протест. Но, солидаризируясь с Михаилом Ивановичем в критике, Успенский вместе с этим постоянно оттеняет, как заметил Серафимович, иллюзорность надежд своего героя на «новые времена». Писатель с чувством грусти подсмеивается над «фанатической верой» Михила Ивановича в «нынешнее время», когда простому человеку «дают ход» (III, 98).
Успенский, в отличие от героя, знает, что реформы не могут дать простому человеку такого «хода», о котором мечтает Михаил Иванович. Трилогия в целом насыщена сатирическими откликами на «эпоху великих реформ». На что рассчитывал народ, что он ждал от «воли» и что получил на самом деле — вот тот новый аспект, в котором Успенский теперь освещает пореформенную русскую действительность. «Что такое было, — спрашивает писатель в статье о Н. А. Демерте, — в России в 50-х и начале 60-х годов?..». И отвечает: «Освобождение крестьян, новая жизнь, новая эпоха русской жизни висела в воздухе, ждалась миллионами народа, измученного крепостным правом, ждавшего дня освобождения, как пришествия
- 292 -
мессии... Всё, что было на Руси совестливое, — дышало полной грудью широким простором будущего, предвкушением „совершенно новых“ условий жизни... Работать для этого бедного народа, служить ему
И сердцем и (даже!) мечом,
а если нет меча, то „и умом“ — вот была нянькина сказка, колыбельная песня всего, что носило в груди не кирпич, а сердце» (VI, 67—68).
С горьким чувством показал Успенский в образе Михаила Ивановича это «предвкушение» народом «совершенно новых» условий жизни. В герое Успенского отразились чаяния измученных крепостным правом миллионов народа, их надежда на действительное освобождение. Но ожидания народом «пришествия мессии» оказались иллюзорными. Чего ждал народ, то не пришло. Это видел писатель, но в этом не разобрался любимый им герой. И с этой стороны Успенский изображает его, хотя попрежнему любовно, но в комическом плане, подсмеивается над его «счастливейшими минутами» или ставит перед такими фактами, которые заставляют Михаила Ивановича заключить, что и в новых, пореформенных условиях «прижимка цветет и не увядает» (III, 32). Картина провинциальной пореформенной действительности, нарисованная Успенским, близка «Письмам из провинции» Щедрина и подтверждала вывод сатирика о том, что «с одной стороны, освобождение жизни от пут, ее связывающих, с другой — вместо ожидаемых благотворных результатов, несомненное оскудение жизни — вот печальная истина современного провинциального быта» (VII, 272).
Успенский показал, что одной из причин краха «предвкушений» новой жизни явилась несознательность, забитость масс, власть над ними традиций крепостного права, бездушных сил нового времени, отсутствие служителей и защитников этих масс. Это та самая «постылая жизнь, лишенная энтузиазма», о которой говорил и Салтыков-Щедрин в очерке «Годовщина». «Нам, — писал он, — необходимы подвиги...» (VII, 350). Собственно об этом же думал и Успенский, когда изображал свое «совершенно пустынное от всяких героических личностей» (I, 542) время, когда повествовал в трилогии о людях-«калеках», скорбел о протесте, обросшем мхом, о людях, усвоивших философию молчания и смирения.
В условиях общественного оживления конца 60-х — начала 70-х годов трилогия Успенского и «Нравы» имели такое же большое воспитательное значение для демократической интеллигенции, как «Письма из провинции» и «Признаки времени» Щедрина. Близость «Разоренья» щедринским циклам несомненна. Как и Успенский, великий сатирик признал, что условия жизни после отмены крепостного права мало изменились к лучшему. Оба писателя указали на засилие крепостнических пережитков в сознании, экономике, в общественном положении народа. В очерке «Годовщина» Щедрин высмеивал мудрецов, живущих «помаленьку», да «полегоньку», да «тише едешь, дальше будешь». Эти же уродливые проявления поведения и сознания осуждает Успенский в повестях «Тише воды, ниже травы», «Наблюдения одного лентяя».1
3
В 1872 году, а затем в 1875—1876 годах и во второй половине 80-х годов Успенский побывал за границей и непосредственно наблюдал жизнь капиталистических стран. О своих зарубежных впечатлениях он рассказывает
- 293 -
в «Автобиографии». Подчеркивая, что «начало моей жизни началось только после забвения моей собственной биографии», писатель указывает именно на 1872 год как на знаменательную дату: «...вся моя личная биография, — признается Успенский, — примерно до 1871 г., решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением „жить и думать“ и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение» (XIV, 580).
Говоря в «Автобиографии» о своем духовном возрождении, Успенский указывает на те факты зарубежной действительности, которые оказали влияние на создание им своей новой биографии. На первое место, как известно, писатель ставит Парижскую Коммуну. В Париже он оказался через несколько месяцев после разгрома Коммуны. Французские события 1871 года оказали огромное влияние на развитие мировоззрения писателя. Парижскую Коммуну Успенский рассматривал как событие, порожденное всем строем капиталистической действительности. Она помогла ему понять, что законом этой действительности является жестокая борьба непримиримых врагов. Гневное отношение к душителям Коммуны, глубокое страдание за судьбу коммунаров навсегда сохранились в «душевной родословной» писателя. В его глазах Коммуна свидетельствовала об осознании трудящимися невозможности жить так, как они живут. Поэтому борьба между теми, кто «согнут» и кто «гнет», будет продолжаться и в дальнейшем.
Неизгладимое впечатление на Успенского произвело посещение им Лувра («чаще всего хожу я в Лувр. Вот где можно опомниться и выздороветь», — XIII, 111). Особенно глубоко волнующими были для писателя чувства и мысли, вызванные Венерой Милосской. («тут больше всего и святей всего Венера Милосская», — там же). Уже в 1872 году Успенский воспринимает «красоту» Венеры как нечто вдохновляющее и целительное, несовместимое с злодейскими действиями версальцев, как противоположное «мерзости» и «дряни» новейшего буржуазного искусства. Эта наметившаяся в письме к А. В. Успенской антитеза в дальнейшем, в записках «Выпрямила», развернется у писателя в одно из основных положений его эстетики о враждебности буржуазного строя жизни красоте, высокому идеалу человеческой личности.
Следующим фактом зарубежной жизни Успенского, на который он указывает в автобиографических признаниях, является посещение им Лондона во время второй поездки за границу (1875—1876). Важность поездки в Лондон состояла не только в том, что писатель встретился там с П. Л. Лавровым, но и в том, что он получил возможность познакомиться с более развитой и уже обнажившей свои противоречия капиталистической действительностью. Именно в этом плане писатель и говорит о Лондоне в некоторых произведениях. «Лондонская теснота» — это понятие неоднократно используется им для обозначения наиболее жестоких капиталистических общественных отношений.
В письме к В. Гольцеву от 25 ноября 1888 года Успенский признает и еще один важный для него факт: «Наша хорошая молодежь, среди которой я был, окончательно прервала мои связи с пьяным миром» (XIV, 212). В этих словах нельзя видеть только признание Успенским значения, которое для него имели заграничные встречи с представителями русской революционной эмиграции в Париже и Лондоне. Писатель здесь давал оценку в целом тех связей и отношений, которые у него установились в результате встреч в Лондоне и в Париже (в большинстве случаев они сохранились на всю жизнь), а также благодаря сотрудничеству
- 294 -
в «Отечественных записках» (Салтыков-Щедрин, Некрасов, Михайловский и некоторые другие).
В Париже Успенский знакомится с Г. А. Лопатиным, «настоящим человеком», и тогда же решает написать роман «Удалой добрый молодец», в котором предполагал использовать его биографию. Здесь же Успенский общался с А. И. Иванчиным-Писаревым, Д. А. Клеменцом. Был он также знаком с А. Желябовым, С. Перовской, Ю. Богдановичем, С. Кравчинским и другими.
Важность для писателя встреч с русскими революционно-эмигрантскими кругами совершенно очевидна. В их лице Успенский видел людей, желающих трудиться для России, думающих о том, как совершить в ней великие перемены на благо народа, но вынужденных «скитаться за границей с постоянной мыслью» о родине и «с постоянно сознаваемой невозможностью быть в ней». Фельетон «Шила в мешке не утаишь» обнаруживает чувство глубокой симпатии писателя к тем, кто думал о счастье народа. Успенский понимал, как важно для этих людей дружественное слово из России, и ободрял их: «Делайте ваше дело, не отчаивайтесь!» (VI, 51).
При всей значительности для Успенского личного общения с эмигрантскими революционно-народническими кругами, он, однако, в понимании русской народной (крестьянской) жизни был независим от своего окружения. Содержащиеся в произведениях Успенского намеки (например, в журнальном тексте «Неизлечимого»), насмешки в адрес Лаврова,1 а главное — общая идейно-художественная направленность творчества писателя подтверждают, что он должен был со скептической усмешкой относиться и к «бунтарям», и к «чистым пропагандистам». Хотя в фельетоне «Шила в мешке не утаишь» реплики «мужичка», вставленные в «поповскую проповедь», и свидетельствуют о сочувствии крестьянина идеям социализма того времени и тем самым как бы подтверждают правоту бакунинско-ткачевских заявлений о коммунистических инстинктах русского крестьянства, однако данная тема не развернулась в творчестве Успенского в специфически народническом плане. Через два-три года он покажет, насколько крестьянин еще глух к социалистической пропаганде и как он далек от практического осуществления принципов народнического коммунизма. К вопросам жизни писатель подходил не по-книжному и не доктринерски, а широко, с точки зрения самой жизни, насущных нужд и стремлений трудящихся. А жизнь последних как раз и не щадила народников, плохо ее знавших, опровергала их представления о крестьянстве, заставляла разочаровываться в своих надеждах.2 Постоянно руководствуясь правдой жизни трудящихся, Успенский сумел во многом предохранить себя от популярных и господствовавших революционно-народнических иллюзий 70-х годов. Своим замечательным пониманием «жизненной сути» он опрокидывал ходячие суждения. Учтя печальный опыт «хождения в народ» и народовольческой борьбы, Успенский безбоязненно, наперекор даже дорогим его сердцу людям (В. Фигнер, Михайловский) становился в оппозицию к общим взглядам. Более того, он умел видеть и собственные заблуждения, вступать с ними в борьбу, если к этому его звала жизнь.
- 295 -
Помимо указаний на значение для него посещений Парижа и Лондона, писатель в «Автобиографии» говорит и о своей поездке в Сербию: «...в Пеште встретил наших» (XIV, 579).1 Смысл и значение этого указания писателя полностью раскрывается из произведений «Письма из Сербии» и «Не воскрес», а также попутных ссылок автора на сербские события в других очерках, в переписке. Успенский в подцензурных изданиях не мог говорить о хищной колонизаторской политике русского правительства. В журнальном тексте он только слегка намекал на «ташкентские воспоминания» (ср. у Щедрина в письме к Анненкову от 1 ноября 1876 года: «Черняев с своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое господа ташкентцы», — XIX, 79). Но писатель указал на расхищение «сундука» неправительственными «господами ташкентцами» и разгадал происки «жадного капитала», помышлявшего о барышах на свинине. Успенский не говорит, что добровольческое движение возглавляется вчерашними крепостниками, но он прекрасно разглядел махровые, дорого стоящие, «цветы крепостного права» (журнальный текст «Писем») в действиях, чувствах и желаниях многих из тех, кто пришел не для славян, а ради своего дела. Автор ясно видит добровольцев из народа и «добровольцев», чуждых народу, и приходит к выводу, что только народная, непоколебимая вера в правоту начатого дела и не пустила турок в Белград.
Добровольческое движение Успенский и рассматривал в первое время как движение народа, как выражение его чувств и стремлений. Писателю чрезвычайно важно было видеть, как народ проявит себя «в действии... как „он“ там за свободу будет...».2 Сербские события еще раз убедили Успенского на опыте масс в том, что Россия нуждается в коренных преобразованиях. Потрясающая сцена жестокого водворения мальчика-серба к хозяину, от которого он сбежал, открывает Долбежникову («Не воскрес») глаза на сущность социальных отношений не только у сербов, но и в России, помогает ему понять, в чем должен состоять смысл жизни человека, озабоченного положением и судьбами народа. Думы Долбежникова о необходимости освобождения сербского «мальчика» подсказывают основную задачу и для родной России. «Мальчик, — говорит Долбежников, — разбил всё мое спокойствие, всё мое здоровье — всё, в одну минуту... Мысль, что теперь нужны не такие войны, была мне совершенно ясна».3
Следует иметь в виду, что вопрос о другой войне был поставлен Успенским в обстановке середины 70-х годов, когда самодержавие вступило на путь реакции, разрешая, по словам Щедрина, под шумок славянского дела издавать губернаторам обязательные постановления, вести борьбу с нигилизмом, завершать политические процессы обязательной каторгой (см. XIX, 78, 80).
Из рассмотренных автобиографических признаний писателя очевидна важность фактов, связанных с его пребыванием за границей. И всё же нельзя односторонне оценивать зарубежные впечатления писателя, только с ними связывать начавшийся перелом в его творчестве. Содержание и смысл идейно-художественной эволюции Успенского с 1873 года останутся неясными, если не учесть тех итогов, к которым писатель пришел, изображая в предшествующий период русскую пореформенную действительность. Уже в «Разоренье» ощущалось назревание мучительных для писателя и его
- 296 -
героев вопросов: что делать? как вывести народ на путь сознательных поисков счастья?
Реализм Успенского 70-х годов проникнут публицистическим пафосом, который отсутствовал в его художественных произведениях 60-х годов. Нарастание публицистики в творчестве Успенского, изменение его манеры были замечены современниками писателя. Как правило, современная писателю, да и последующая либеральная и реакционная критика осуждала Успенского за публицистику и была не в состоянии понять органичности в переходе автора к новому, художественно-публицистическому жанру, раскрыть своеобразие связи в нем публицистики и художественности. О публицистике Успенского обычно толковали как о начале постороннем художественному творчеству, враждебном ему. Между тем Успенский сумел публицистику возвести в степень подлинного искусства слова. Писатель создал новый тип литературного произведения, в котором слияние публицистических и художественных начал проникает во все компоненты произведения: в композицию, в характеристики персонажей, в обрисовку быта, в освещение фактов и событий. В области композиции это выражается в том, что Успенский теперь в художественные очерки и рассказы широко вводит в разнообразных формах публицистику. В одном случае он дает публицистическое вступление к последующему художественному изображению («Хочешь-не-хочешь»), в других произведениях Успенский завершает художественный рассказ публицистическим резюме («Кормилица», «Неизлечимый» и др.). Наконец, публицистическая струя в некоторых произведениях врывается в беллетристическое повествование (например, рассуждения автора о «Похождениях Рокамболя» или о романах, посвященных «новым людям» в повести «На старом пепелище»). Успенский создает и более полное, всестороннее слияние публицистических и художественных частей произведения («Больная совесть», «Парамон юродивый», «Шила в мешке не утаишь»). Композиция публицистических произведений в свою очередь осложняется, вбирая в себя художественные элементы. В этом отношении особенно характерны «Письма из Сербии» (например, в главе «Перед отъездом»). Заключительная часть «Больной совести» (факты из области «ни да ни нет») также развертывается художественно: встреча с «приятелем», посещение деревни, «неокончательный» монах, в журнальном тексте — образ Ивана Николаевича.
В соответствии с общими изменениями в реализме Успенского возникли и другие новые черты его стиля.
Так, присущая Успенскому сила в изобразительности и выразительности теперь направлена на то, чтобы раскрыть «жизненную суть». Во всем блеске этот талант автора развернулся именно в 70-е, а особенно в 80-е годы. Суть факта, явления, процесса Успенский дает обнаженно, с предельной сжатостью и насыщенностью. Успенский умеет в двух-трех словах образно определять сущность изображаемого. Говоря в повести «Голодная смерть» о первых проблесках разбуженного книгами самосознания Федюшки, автор включает в публицистический рассказ мимолетный художественный образ: «Нежное что-то было пробуждено в этом засыпанном снегом горя сердце, нежное, как подснежный цветок...» (IV, 264). Такая способность автора к художественно-концентрированному изображению открывала широкие возможности для ввода в публицистическую ткань мимолетных, но очень важных художественных элементов, которые обогащали публицистику, углубляли ее содержание, делали значительнее воздействие произведения на читателя. Под влиянием публицистики преобразуется и юмор Успенского 70-х годов. В юмористические характеристики Успенский вводит социальные и экономические понятия и определения, которые, органически сливаясь с комическим образом,
- 297 -
раскрывают его как бы методом научного исследования. Так, создав комический образ «Лира-мужика», писатель далее показывает, что происходит, когда перед таким распоясовцем является «трехмиллионный бюджет» «питательной ветви» (т. е. железной дороги). В рассматриваемую комическую характеристику вплетаются и другие экономические понятия: «расходы», «проценты», «пониженный тариф», «чистый убыток» (IV, 36, 37). Сфера юмора таким образом расширяется: из области быта, психологии и поведения он распространяется и на область изображения экономических отношений,1 жизни народов, социальных групп, «толпы».2
В создании художественно-публицистического жанра отразилось стремление Успенского, большого художника-новатора и общественника, ответить в боевой и доступной форме на актуальные запросы своего времени. Писатель видел, что трудящиеся нуждаются в том, чтобы их вели к свету, разъясняли, где настоящая правда и в чем заключается подлинное счастье. Интеллигенция, обязанность которой состоит в том, чтобы работать для народа, нуждается в сильном, искреннем и сердечном слове, способном пробудить и поднять, воодушевить на общественное служение. В соответствии с этим, говоря словами М. Е. Салтыкова-Щедрина, художник обязан стать «в прямые отношения к читателю» (X, 58). Успенский 70—80-х годов убеждается, что для лучшего освещения общественных потребностей его времени необходимо создание литературно-художественных произведений особого типа. В письме к А. В. Каменскому из Парижа от 9 мая 1875 года он определяет свою новую манеру, связывая ее с задачами современности: «Я решил всё, что думано и что есть у меня в башке теперь, привести в некоторый порядок и печатать так, как думается в самой разнообразной форме, не прибегая к крайне стеснительным3 в настоящее время формам повести, очерка. Тут будет и очерк, и сценка, и размышление, — приведенные... в некоторый порядок, т. е. расположенные так, чтобы читатель знал, почему этот очерк следует за этой сценой» (XIII, 156—157). Характеризуя далее манеру своих будущих работ для журнала А. Каменского («Библиотека дешевая и общедоступная»), Успенский замечает, что «тут будет при случае и Париж, и деревня, и Петербург». В этом же письме он признается, что с романом (речь идет об «Удалом добром молодце») ему «некогда возиться, и я решился — кончить этого рода работой».
Успенский в рассматриваемый период создает произведения («Там знают», «Больная совесть», «Заграничный дневник провинциала», «Шила в мешке не утаишь» и др.), цементирующим началом которых является волнующая писателя проблема (например, «больная совесть»). Она объединяет ряд самостоятельных очерковых зарисовок и зачастую сформулирована в заглавиях: «Больная совесть», «Люди среднего образа мыслей», «Мученики мелкого кредита», «Умерла за „направление“», «Неплательщики» и другие. Присущая Успенскому способность схватить в одном выражении или слове сущность изображаемого им явления, события, действительности в целом проявится с особой силой и в 80-е годы, когда писатель обратится к анализу экономических и социальных процессов, политических условий жизни.
- 298 -
Характеризуемый период в творчестве Успенского получает соответствующее выражение и в его литературно-эстетических принципах. Художник слова, считает Успенский, во-первых, должен стать «истинным духовным отцом пробужденного сознания» в толпе (VI, 29). Литература, правдиво изображая жизнь народа, близкий ему мир, призвана к тому, чтобы помочь массе чуек и армяков избавиться от невежества и выйти к свету. В этой идее Успенский следует за Н. Г. Чернышевским, говорившем о себе, как об авторе «Что делать?», что ему «не до прикрас... потому что он всё думает о том, какой сумбур у тебя <«доброй публики»> в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий... ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове» (XI, 11).
Во-вторых, утверждает Успенский, литература, говоря правду о народной жизни, обязана воодушевлять на служение народу. Писатель должен быть творцом вдохновляющего слова. Герой «Трех писем» просит автора записок написать ему «что-нибудь сильное», такое, что бы «высоко поднимало душу», укрепляло «веру в трудное дело», «побольше о служении, о презрении к мелочам жизни», о том, как надо «отдавать свою жизнь» на «чужие дела, несчастья» (IV, 312, 315).
В 70-е годы Успенский не ограничивается выражением любовного сочувствия к трудящимся, скорбным изображением их бедственного материального положения и духовной заброшенности. От горячего сочувствия к народу писатель в 70-е годы переходит к проповеди практического служения Народу. В соответствии с этим у художника появляются новые определения и характеристики, новые лица и проблемы: «общественный деятель», «общественный труженик» («Хочешь-не-хочешь»), «боец против неправды» («Хорошая встреча»). Подчеркнем, что категории «правда», «неправда» («сущая правда» — в повести «Хочешь-не-хочешь», «простая правда» — в очерке «Неплательщики») имеют у Успенского конкретное, отчетливо демократическое содержание. «Заболеть сущей правдой» на художественно-публицистическом языке Успенского означало: проникнуться нуждами и страданиями народа, ощутить неудовлетворение такой деятельностью, которая не служит обществу, народу, побороть в себе «зверя», т. е. жить не во имя «своей берлоги», а ощутить любовь к другим. Успенский впервые в 70-е годы употребляет и понятие «народное благо», которое в его публицистике 80-х годов явится одним из основополагающих.
Писатель говорит (впервые в «Прогулке», 1871) о появлении у некоторых его героев («Голодная смерть», «Три письма», «Хорошая встреча», «Хочешь-не-хочешь») потребности «идти заступаться, жертвовать, радовать, чтобы радоваться самому,...жить для „чужих“» (IV, 98). «Хочу делать пользу, — говорит Вася, — всем..., сколько на свете бед, горя...» («Хорошая встреча», IV, 589).
В художественно-публицистических средствах Успенского 70-х годов видна избранная им цель — служение народу, которая стала для него руководящей. Как правило, писатель определяет общественный и нравственный облик изображаемого лица с точки зрения его отношения к народу. В этом плане показательны его итоговые характеристики уже в «Прогулке»: «...как определить эту гуманность, образованность, которая повсюду вносит с собой уныние и грусть?..» (III, 511; ср. в очерке «Люди среднего образа мыслей»).
В 70-е годы Успенский выводит, начиная с «ритора» в рассказе «Прогулка», галерею лиц, которые уже сознательно и практически служат народу или считают такое служение целью жизни. Таковы учительница
- 299 -
Абрикосова («Неизлечимый»), юноша Вася Хомяков («Хорошая встреча»), Долбежников («Не воскрес»), иностранец («Три письма»), гимназист («Хочешь-не-хочешь), Федюша («Голодная смерть») и другие.
В воспоминаниях Безнадежного («Три письма», 1876) Успенский устами героя декларирует необходимость перехода от сочувствия к практическому служению народу. «Червь любви к ближнему» (а это понималось «иностранцем»1 конкретно, как любовь к тому, кто трудится и страдает) «проточит» всё сердце и «докажет, что сочувствие со стороны — не вся правда» (IV, 322). Здесь писателем сформулирована одна из основополагающих его идей 70-х годов, опираясь на которую он будет вести борьбу с реакционно-либеральными теориями народолюбия («слития»), с поверхностным и созерцательным, сентиментально-идиллическим изображением народа в литературе. Идеологически и нравственно писатель с теми, кто умел доказывать свою любовь к народу делом, кто умел во имя народа действовать решительно и прямо («Не воскрес», «Хорошая встреча», «Умерла за „направление“»).
Во имя каких же идей герои Успенского служат или думают служить народу? Первоначальная формула этих идей дана (правда, иронически по отношению к тем, кто ее провозглашает) в третьей части «Разоренья»: «помогать народу». В следующем произведении, в «Прогулке» (1871), «ритор» конкретизирует, но без иронии автора, эту задачу: «Я знаю народ, я готов работать без жалованья... — нужно пробуждать в народе хорошие качества... Они есть...» (III, 499).
В статье о Ф. М. Решетникове (1873) Успенский указывает на пробуждение под влиянием мастерового Екатеринбургского монетного двора у автора «Подлиповцев» потребности «приносить ближнему <в другом месте статьи — «русскому народу»> пользу, помощью другой не менее сильной и настоятельной потребности — литературной деятельности» (IV, 437). В 1874 году в повести «Очень маленький человек» речь о «пользе» Успенский вкладывает в уста Феди, который готов умереть во имя защиты «несчастного народа». И его слово, подчеркивает писатель, «вполне живое, нераздельное с ним и поэтому непременно что-нибудь значит» (IV, 506). Этого качества и не хватает «читателю», кающемуся помещику-народолюбцу, которому автор противопоставляет юношу. Последнему вторит сельская учительница Абрикосова: «Я сознаю, что всю душу надо отдать на помощь бедному, и что могу, делаю для него...» («Неизлечимый», IV, 213; ср. в рассказе «Хорошая встреча»: «готов отдать душу за обиженного человека», — IV, 594). В 1876 году Успенский в свои (приведенные выше) суждения о служении народу вносит очень важную мысль о том, что работа для других должна стать «задачей жизни», в такой работе — источник счастья, радости, «в этом все». Эту мысль Успенский проводит, например, в очерках «Хочешь-не-хочешь» (1876). Нужно «идти заступаться» (в этом смысле жертвовать собой), «радовать, чтобы радоваться самому».
Аналогичные идеи о служении Успенский высказывает и в других произведениях 70-х годов: в «Письмах из Сербии», в рассказе «Не воскрес», в статье о Н. А. Демерте. В образах геров, отдавшихся служению народу, Успенский подчеркивает ряд характерных особенностей. Им присуще единство
- 300 -
слова и дела, они чужды раздвоению, отвлеченному пониманию жизни, болезни совести и сердца. Служение народу для них — внутренняя живая потребность, которая осуществляется в будничных делах, в заботах о конкретных людях. Наконец, их деятельность в народе основывается на изучении «самой сути народной жизни». Никаких планов, обычных для народника-интеллигента, попавшего в народную среду, положительные герои Успенского не исповедуют.
4
Успенский, опираясь на опыт своих зарубежных наблюдений, обратился в 70-е, а затем и в 80-е годы к критике буржуазной демократии и западноевропейского капитализма. Его характеристики и оценки зарубежной действительности всегда отличаются меткостью, оригинальностью и смелостью. Как великолепна, например своей проницательностью зарисовка писателем Стамбула в очерке «В Царьграде». В Европе, говорит Успенский, идет жизнь, а в Турции исполняются только приказания. Турция потеряла самостоятельность, затерялась на задворках Европы, превратилась в «задний двор» Парижа и Лондона. И вся эта «гниль» держится силою штыков (X1, 431, 433).
В очерках «Мечтания» и «С человеком тихо» писатель высмеял грабительскую колониальную политику Англии, техническая изобретательность которой рассчитана только на то, чтобы превратить население колоний в «раба, поденщика, трудящегося не для себя» (IX, 135). Английские купцы «подсылают флот с пушками и начинают выбивать недоимку из мужиков Египетской губернии» (VII, 416). Автор «Горького упрека» с гневом говорит о франко-прусской реакции, о ее борьбе против Коммуны. Успенский обличал реакционное пруссачество и немецкую военщину, захватнический характер развязываемых ею войн. Он, как и М. Е. Салтыков-Щедрин, с тревогой за судьбы человечества и мира говорил о милитаристской Германии. Как о «знамении времени» сообщает Успенский в очерке «Пока что» о том, что немецкие националисты преподнесли Бисмарку «железный букет» (X2, 406).
Если бисмарковская Германия несла в международную жизнь агрессивные планы, а Англия грабила свои колонии, то «демократическая» Франция выступила носительницей другого знамения современного ему века. Во Франции наиболее ярко сказались паразитизм буржуазного строя, опошление буржуазного искусства и тех гуманных, свободолюбивых идей, которые она же сама когда-то провозгласила. Писатель чувствовал ограниченность буржуазных принципов, объявленных французской революцией 1789 года. Революция, пишет автор, уверив «бедный рабочий класс», что «он — не скот, а человек, всё-таки до сей минуты не дала ему уюта, а оставила одного среди пустой площади и сказала: „ну, брат, теперь живи, как знаешь“» (IV, 119). «Свобода, равенство, братство, — говорит писатель в очерке об Ашинове и Буланже, — и сейчас начертано на каждом „фартале“» (XI, 559), но туда полицейские тащат за шиворот «свободных» граждан. И Успенский осуждает этот лицемерный мир, прикрывающий ложь красивыми, но пустыми словами: «Хороши слова, но неопрятны дела» (XI, 559). В «Заграничном дневнике провинциала» писатель беспощадно, метко и прозорливо вскрыл лживость буржуазной демократии, обнажил всю механику парламентских порядков, буржуазной политики. Писатель не верит буржуазной демократии, видит ее вырождение и не признает за ней будущего. Характеризуя французскую политическую жизнь 70-х годов, Успенский, как бы перекликаясь с Герценом 60-х годов, приходит к безрадостному выводу: «Итак, покуда ничего еще и ниоткуда не грядет» (VI, 62). Хорошие люди, вроде Распайля,
- 301 -
просидевшего большую часть своей восьмидесятилетней жизни в тюрьме, сходят со сцены, а их место занимают господа, подобные Гамбетте. В резких чертах и в противовес русской либеральной печати Успенский развенчивает карьеру главы республиканской партии Гамбетты. Писатель говорит о том, что наступит день, когда депутатов, подобных Гамбетте, избиратели привлекут к ответственности и спросят: «сделали ли вы что-нибудь из того, о чем трубили в ваших программах?.. Нет, — ответите вы, — ничего этого мы не делали. Мы просто были умны и вели себя умно, так умно и точно, что сенат решительно уже не примечает нашего существования» (VI, 63).
Создатель «Заграничного дневника провинциала» разгадал отвратительное существо буланжизма. Палач Парижской Коммуны и проповедник реванша, генерал Буланже («генерал Реванш») в 1886—1887 годах оказался военным министром Франции. Успенский показывает истинный смысл политической жизни Франции этих лет. Идет будто серьезная и возвышенная борьба, слышатся «великие слова», которые кружатся вокруг имени Буланже, произносятся горячие речи, но за этой шумихой прячутся только интересы капитала. Буржуазия изменила «великим словам», буржуазно-демократическим свободам, сделала их орудием обмана народа. Но от этого, считает писатель, эти слова не должны бесплодно исчезнуть.
Успенский знал не только Европу фабрикантов и банкиров, узурпатора Наполеона III, хищного Бисмарка, но и Европу трудящихся, мир рабочего класса, который вступил в борьбу. Писатель видел напряженность социально-экономических отношений в западноевропейском мире и ждал, по свидетельству современников, что в нем должно «кое-что случиться». Успенского воодушевлял факт начавшейся борьбы трудящихся Западной Европы, он верил, что придет время, когда рабочие разогнут спину, они в дни Парижской Коммуны уже испытали ощущение жить «полной грудью», хотя их борьба и не привела пока к победе. Никогда не забывая о том, что в самом существе европейского буржуазного общества таится «смертельная язва», Успенский не отрицал и того, что некоторые зарубежные народы сумели в условиях буржуазной демократии завоевать и отстоять для себя определенные права, которыми не пользуется русский народ, живущий в условиях самодержавно-чиновничьего режима.
Судьба трудящихся, будь то русский или западноевропейский рабочий, крестьянин, трудовой «черный» люд вообще, — предмет раздумий и интересов Успенского и в 70-е годы. В конце 70-х годов, начиная с первого крестьянского цикла «Из деревенского дневника» (1877—1879), у писателя появился, хотя и мимолетный, но характерный для его будущих исканий «редкий экземпляр „крестьянина“ в полном смысле этого слова», Иван Афанасьев, человек, «который неразрывно связан с землею и умом, и сердцем» (V, 54). В первом очерковом цикле о деревне Успенский не развернул этот образ, и не он стоит в центре его внимания. Но писатель любовно говорит о присущих Ивану Афанасьеву чертах настоящего крестьянина. О своем обращении к деревне Успенский сообщает в «Автобиографии». «Затем, — признается художник, — подлинная правда жизни повлекла меня к источнику, т. е. к мужику» (XIV, 579). После возвращения из-за границы (1876) писатель поселился в Новгородской губернии, на Волхове, в деревне Сопки, а в 1878 году занял место счетовода в крестьянском ссудно-сберегательном товариществе в Самарской губернии. Позже, покинув Самарскую губернию, Успенский жил на мызе Лядно, около станции Чудово, а в 1881 году купил небольшой дом в том же районе, в деревне Сябренцы. Опираясь на личные длительные наблюдения, Успенский в конце 70-х — начале 80-х годов создает
- 302 -
произведения, посвященные русской пореформенной деревне: «Из деревенского дневника» (1877—1879), «Крестьянин и крестьянский труд» (1880), «Власть земли» (1882).
Западноевропейская реакция 70-х годов, бедственное положение трудящихся и ужасы капитализма вызывали у писателя горькие чувства, приводили его к безрадостным выводам, В поисках «подлинной правды» он обратился к русскому мужику, к строю народно-крестьянской жизни. Но при ближайшем его знакомстве с русской деревней оказалось, что сила рубля здесь также велика, что погоня за копейкой успешно соперничает с силой привязанности Ивана Афанасьева к земледельческому труду.
Не следует забывать, что работа Успенского над крестьянскими циклами (1877—1882) совпадает с кануном, развертыванием и затуханием революционной ситуации. Одним из признаков революционной ситуации конца 70-х — начала 80-х годов явились обострение бедствий и усилившееся обнищание основных масс крестьянства, что было вызвано капитализацией деревни и аграрным кризисом конца 70-х годов, обременением крестьянства дополнительными налогами в связи с войной 1877—1878 годов, плохим урожаем 1879 года и катастрофическим недородом 1880 года. Русско-турецкая война оживила у крестьян мечты о земле. Слухи о новом положении, толки по губерниям о новом сплошном переделе земли, поджоги помещичьих имений стали обычным явлением. Еще до военных событий, в 1873 году, страшный голод постиг Самарскую губернию, которую Успенский будет изучать через 4 года. Катастрофа 1880 года вновь разразилась в Самарской губернии, особенно была тяжела зима 1880—1881 года. В этих условиях в крестьянских массах наблюдалось брожение, ожидание «прирезки», возмущение действиями администрации. Всё это нашло отражение в крестьянских очерковых циклах Успенского. Наметился и подъем крестьянского движения, одним из ярких проявлений которого явилось сопротивление крестьян в конце 70-х годов в родных Успенскому краях — в селе Люторичи Епифановского уезда Тульской губернии.
Крестьянский вопрос после некоторого ослабления внимания к нему в конце 60-х годов вновь со всей остротой встает в русской журналистике 70-х годов. «Отечественные записки» уже в 1876 году подчеркнули, что вопросы деревенской жизни начинают вновь и с еще большей силой привлекать всеобщее внимание.1 Указанные факты не могли не оказать влияния на идейные искания, творческие интересы и нравственное состояние Успенского, тем более, что, в отличие от многих своих современников, он постоянно интересовался положением дел в деревне, не предавался оптимизму, считая, что основные деревенские нужды не удовлетворены.
Следовательно, факты объективной действительности и развитие идейных исканий писателя толкали его «в объятия мужика». Но при этом он не впал в идиллическое представление о деревне. Реалистический метод «Дневника» отвергает какие-либо «неправдышные» представления о деревенской жизни. Писатель день за днем и факт за фактом описывает жизнь русской деревни. С этим связана и общая структура «Дневника», состоящего из двух частей («В северной полосе», т. е. в Новгородской губернии, и «В степи», т. е. в Самарской губернии). Названные две части даны в плане противопоставления внешних условий жизни новгородской и самарской деревень. В первом случае — условия, неблагоприятные для процветания земледелия, во втором — благоприятные. Однако внутренняя жизнь новгородской и самарской деревень, их экономическое и общественное положение, несмотря на различие
- 303 -
условий, одинаковы. Каждая из названных частей «Дневника» распадается на «отрывки» (в 1-й — три, во 2-й — шесть), которые в свою очередь состоят из очерковых миниатюр, представляющих собой заметки, сцены, зарисовки, раздумья автора, анализ деревенских фактов, небольшие рассказы, чаще всего диалоги. Это именно та форма свободного изложения материала, о которой Успенский говорил в письме к А. Каменскому и которая реализовалась в его творчестве 70-х годов. Успенский, автор «Дневника», предупреждает читателя, чтобы он не ожидал «ни порядка в распределении фактов, ни прикрас» (V, 69). Единство сюжета в очерковых миниатюрах из «Дневника» отсутствует. Однако в них есть внутреннее проблемно-тематическое и психологическое единство. Целостность «Дневника» выражается также и в том, что на его страницах постоянно видна со своими чувствами, мыслями и муками замечательная личность писателя Глеба Успенского. Художественное познание жизни становится одновременно и личной исповедью писателя. Изображаемое освещается как предмет личных тревог и раздумий автора. Художник, с точки зрения Успенского, не в праве при виде народного горя сказать себе: «„Легче, легче!“... чего-нибудь не столь просто-правдивого, не столь утомительно-ясного... Чего-нибудь поразнообразнее, пообильнее красками, чего-нибудь, что бы не так правдиво, сильно действовало на вас и так дерзко не поднимало бы вашей умеющей прилаживаться к обстоятельствам совести» (V, 15). Подлинному художнику чуждо стремление утешать человека, усыплять его совесть. В записках Тяпушкина (1884) Успенский провозглашает свой основной эстетический тезис 80-х годов, восходящий к только что приведенному положению из «Деревенского дневника». Он требует от литературы энергического пробуждения сознания читателей. «...терзаюсь и мучаюсь, — декларирует Успенский, — и хочу терзать и мучить читателя потому, что эта решимость даст мне со временем право говорить о насущнейших и величайших муках, переживаемых этим самым читателем...» (VIII, 373).
«Разрисованной деревне», «слащавому» и «слюнявому» отношению к деревне, добродушным взглядом, основывающимся «на... тоненьких, как пленка кипяченого молока, как папиросная бумага, фактах», Успенский противопоставляет такие действительные факты деревенской жизни, которые «разрушают... фантазии, ломают все вычитанные... соображения и взгляды на народную жизнь» (V, 195, 197, 129).
Скромные «заметки» Успенского, таким образом, имели принципиальное идеологическое значение. В них писатель-реалист и знающий судья деревенской жизни давал свой ответ на всю, говоря его словами, «совокупность вопросов», которые в 70-е годы возбуждались русской деревней. Выводы Успенского оказались проницательными, убийственными для народников, для эпигонов славянофильства,1 для либералов2 и для представителей монархической идеологии.3
В «Деревенском дневнике» писатель выступает публицистом-художником, опирающимся на исследование социально-экономических процессов и связанных с ними нравственных явлений в деревне. В «Отрывке четвертом» («В степи») Успенский признается, что ошибка его в предшествующих очерках
- 304 -
из «Деревенского дневника» состояла в том, что он большею частью показывал «только результаты. Вот муж, продающий жену, вот человек, желающий только набить карман, а зачем набить — разберемся после и т. д.» (V, 200). Преодолевая эту ошибку, автор ставит перед собой задачу выяснения связей фактов и причин их возникновения. Он отдает себе отчет в трудности такого изображения современной ему деревни. Его крайне угнетает, возмущает, приводит в недоумение и вызывает «адские» душевные муки то обстоятельство, что в деревне нет ясных и прочных, стройных и понятных отношений, что она находится во власти темного и страшного случая,1 что к ней применима не обычная таблица умножения, а «фантастическая» таблица, что она постоянно ставит загадки и ребусы. Деревенскую тайну необходимо распутать и разгадать, объяснить и решить, что нужно делать, чтобы вывести деревню из «непроглядного мрака», научить ее настоящей таблице умножения. Для этого следует обратиться к исследованию социально-экономических и нравственных условий, в которых живет крестьянин. Успенский полемически подчеркивает, что «пренебрегать условиями, в которых живут русские люди, полагать, что добрых качеств русской души не могут изменить никакие внешние давления, — нет никакой возможности» (V, 199). Данное положение было прямым ответом Успенского на наивные рассуждения публицистов-народников о «крестьянской душе», на их идеалистическое понимание зависимости «форм общинного союза... от развития „социальных или общинных“ чувств».2
Каковы же те условия, которые определяют ход крестьянской жизни, порождая царство темного деревенского случая, ребусов и фантастической таблицы умножения?
Успенский говорит о двух педагогических школах (или «педагогических условиях», «системах»), которые воспитали русское крестьянство. Одна из них — крепостное право,3 другая — новые времена, когда «привалил рубль». Субъективные социологи при рассмотрении современной им действительности игнорировали в ней следы прошлого. Успенский же подчеркивает, что барщина оставила тяжелые «нравственные язвы», сущность которых — отсутствие у крестьян совместной «заботы о своем» (V, 243). Появившаяся «кредитная бумажка» разобщила мир, а процветающие «гуманные заботы» новых времен опутали деревенского жителя «туманом», сбили его с толку и пути (V, 201).
Смешавшееся в кучу старое и новое образует ту ужасную педагогическую систему, которая опустошает душу «мужика» и порождает ту запутанную, нечеловеческую жизнь, в которой трудно разобраться крестьянину и тем, кто решается на изучение и облегчение его положения. Очевидно, говорит писатель, «тут есть, действительно, какая-то недоимка, только не в крестьянском кармане и не в кассе контрольной палаты, а в народном уме, развитии и сознании». Деревне нужны идеи, «которые бы освежили этот ссыхающийся на копейке деревенский ум» (V, 191) и освободили бы его от власти барщинных традиций.
Такая логика Успенского содержит характерное для него противоречие. В «Дневнике» он показал, что общинное, мирское начало является формальным,
- 305 -
что не им определяется ее действительное бытие и поведение крестьянина, что погоня за рублем расколола деревню, что культ «моего» и «твоего» здесь господствует со всей силой. Исторически это было правильное и глубокое материалистическое объяснение зависимости психики «мужика» от того, что в действительности совершалось в деревне.
Однако до конца этот материалистический метод исследования сознания крестьянина и социально-экономических условий его жизни Успенский не сумел провести. Автор впадает в обычную для просветителя иллюзию. С тем, что порождено социально-экономическим строем, он собирается вести борьбу, вооружаясь «новой мыслью» о правдивости, человечности и совестливости. Бесплодность такой борьбы, собственно, показана самим же Успенским. Недаром его «Деревенский дневник» заканчивается скептическим раздумьем о судьбе интеллигента Андрея Васильевича Соловецкого.
Вопрос об интеллигенции оказался в творчестве Успенского такой проблемой, в связи с которой у писателя возникали и иллюзорные надежды, и самые тяжелые разочарования. То и другое уже сказалось в первом очерковом цикле о деревне и будет проявляться постоянно на протяжении всего его последующего творчества. Иначе и быть не могло у автора, который в решении общественно-экономических вопросов своего времени апеллировал к сознанию, совести и просвещению. С этими факторами, а стало быть и с носителями их, с интеллигенцией, он пытался связать возможность преобразования жизни, но на каждом шагу убеждался в бесплодности таких надежд.
Подытоживая в 1883 году результаты своих наблюдений и исканий в период работы над «Деревенским дневником», Успенский в «Автобиографии» писал: «По несчастью, я попал в такие места, где источника видно не было...Деньга привалила в эти места, и я видел только, до чего может дойти бездушный мужик при деньгах. Я здесь, в течение полтора года, не знал ни дня ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи. Но мне нужно было знать источник всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде» (XIV, 579). Это признание свидетельствует о том, что у писателя, приступившего к созданию «Деревенского дневника», не было какого-либо общего понимания народно-крестьянской жизни, что господствовавшие в то время народнические взгляды на деревню для него также не были простым, настоящим словом о ней. Заметим, однако, что у писателя в эпоху создания «Дневника» и даже ранее появляются отдельные высказывания в духе, сближающем его с народничеством. Например, в «Неплательщиках» (1870) имеется такое неожиданное для этого произведения и ее автора сентиментальное обращение: «Распоясовец! Мужик! Дай ты этим ребятишкам, этим подрастающим неплательщикам, дай ты им своих сказочек... Повесели ты их цветочками, и зверьками, и зайками... Пошути, побалуйся с ними! Ведь они чахнут в этом воздухе неискренности, утайки, неправды, а главное — в этой дорогой пустоте!.. Спаси их твоей простою правдой, дай дохнуть свежего здорового воздуха, услышать прямое слово, — ведь они будут глубоко несчастны и глубоко гадки без тебя, без твоего правдивого и горького опыта, без твоей искренней, забывающей худое шутки» (IV, 60—61. Курсив мой, — Авт.).
Правда, данная сентенция не имеет подтверждений в жизни, если вспомнить, что такое распоясовец в изображении Успенского, и подумать над тем, способен ли он оказать то благотворное влияние, которое ему
- 306 -
приписывает автор в своем лирическом отступлении. Тем не менее последнее имеется в произведении и говорит о том, что Успенский в «мужике» начинает искать какую-то целительную силу. В очерке «Там знают» его потянули на родину думы о возможной силе и счастье в «курной русской избе». В письме к жене из Калуги (1875) Успенский признается: «В России можно жить только в деревне...1 Это цивилизованное общество — скука ужасная» (XIII, 183).
Подобные мотивы ясно говорят о народнических настроениях Успенского. Но они не составляют основы авторского понимания жизни. Воспеваемая народниками «правдивость имущественных отношений» в действительности, говорит Успенский, нарушается неравенством, проистекающим от новых, посторонних земледельческому труду, заработков и доходов. Писатель приходит к выводу, что «западноевропейских язв в русском человеке <т. е. язв, привитых капиталистическим строем, — Авт.> так же много (или почти так же), как и в его подлиннике...» (V, 194—195). Всё это вполне подтверждает основательность заключения Успенского в «Автобиографии»: «...я попал в такие места, где источника видно не было...» (XIV, 579).
В начале 80-х годов Успенский опубликовал второй очерковый цикл о деревне — «Крестьянин и крестьянский труд». Здесь автора заинтересовал определенный представитель русской пореформенной деревни, которого он с таким поэтическим подъемом обрисовал в образе Ивана Ермолаевича. Известно, что после 1861 года, в пореформенных условиях капиталистического развития России, деревня не являлась чем-то единым. Началась бурная дифференциация крестьянства: выделение бедняков, деревенских пролетариев, с одной стороны, и кулаков, верхушки деревни — с другой. Этот процесс «раскрестьянивания», «размывания» крестьянства хорошо показал Успенский, начиная с первого крупного произведения о русской деревне. Перед лицом раскола деревни Успенский пытался, так сказать, зацепиться за того крестьянина, который еще не стал ни пролетарием, ни кулаком, но который ежеминутно грозил превратиться и превращался или в пролетария, или в кулака. Таким крестьянином оказался Иван Ермолаевич, у него автор почерпнул свои идеалы. Это обстоятельство вызвало появление новой черты в стиле очерковых циклов «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», почти отсутствующей в «Дневнике»: лиризм и задушевность в повествовании. Последнее развертывается как систематическое, подробное изображение всех мелочей быта, чувств, поведения и мировоззрения Ивана Ермолаевича и сопровождается постоянным лирическим комментарием, раскрывающим раздумья автора, его отношение к судьбе и положению Ивана Ермолаевича. Писатель стремится проникнуть в «тайну» бытия Ивана Ермолаевича и вместе с тем мучительно осознает (до «открытия» поэзии земледельческого труда) невозможность осуществления этой задачи, а затем (после «открытия») невозможность проникнуться найденной им «тайной». В первом случае автор признается, что он решительно не понимает, почему Иван Ермолаевич поступает так, а не иначе. Это нашло свое выражение в недоуменных вопросах, которые ставит автор, изучая жизнь Ивана Ермолаевича. Во втором случае писателю стали понятны источники своеобразной логики в мыслях и поступках Ивана Ермолаевича, и поэтому тон недоумений смягчается в последующих частях цикла «Крестьянин и крестьянский труд». Но это не принесло удовлетворения и успокоения автору. Во-первых, логика жизни Ивана
- 307 -
Ермолаевича делала ненужным участие в ней постороннего, чуждого деревне интеллигента. Во-вторых, та же «стройная логика не признавала того, что было дорого автору (внимание к беде посторонних людей, товарищество и т. п.). Разрешив сомнения и недоумения одного рода, Успенский оказался во власти других, не менее тяжких для него недоумений.
Успенский чувствовал и видел неустойчивость положения Ивана Ермолаевича. Тем не менее он не мог отказаться от любви к самым основам его трудовой, «безгрешной» жизни. На этой почве Успенский и сошелся с народниками. Писатель, указывала ленинская «Искра», «был и остался народником в том смысле, что для него не было типа человека лучше, желаннее крестьянина, живущего при патриархальном хозяйстве, но правдивый художник и мыслитель, он вечно показывал нам всю невозможность революционной программы, приуроченной к этому типу и в то же время, как нельзя яснее, показывая также и безнадежность мечтаний о сохранении как любимого типа, так и всего старого быта и старых крестьянских учреждений при новых экономических условиях.
Для самого Г. Успенского эти противоречия были безысходно трагическими. Но для многих из его читателей они расчищали путь к принятию нового революционного мировоззрения, указавшего выход».1
В словах ленинской «Искры» определена сущность крестьянских очерковых циклов Успенского, его последующего творческого пути, источники его душевной драмы и значение его деятельности для тех, кто пошел дальше писателя — к революционному марксизму.
Подход к крестьянину прежде всего как к работнику на земле, всесторонняя обрисовка главного образа (Ивана Ермолаевича или Ивана Босых) как представителя земледельческого труда — таковы руководящий для Успенского принцип и основная его творческая задача в новых очерковых циклах о деревне. В этих циклах писатель остается художником-публицистом и художником-исследователем. Он попрежнему изображает страдания и бедствия крестьянства, его тяжелое общественно-экономическое положение (см. очерки «Общий взгляд на крестьянскую жизнь», «Узы неправды»). Но в новых очерковых циклах о деревне аналитический метод Успенского, развернувшийся со всей силой уже в «Дневнике», обогащается художественно-публицистическими обобщениями. Писатель дает органическое, последовательно развертывающееся по главам изображение действительности в плане раскрытия единой проблемы. Вспоминая о жизни в Лядно, писатель говорит: «И вот я из шумной, полупьяной, развратной деревни забрался в леса Новгородской губернии, в усадьбу, где жила только одна крестьянская семья. На моих глазах дикое место стало оживать под сохой пахаря, и вот я тогда в первый раз в жизни увидел действительно одну подлинную важную черту в основах жизни русского народа — именно власть земли» (XIV, 579—580).
Искания писателя, начавшиеся в 1873—1875 годах с постановки вопроса о «страшной правде» западноевропейских порядков и «больной совести» в условиях русской жизни, завершаются в 1880—1882 годах открытием «власти земли» и «поэзии земледельческого труда». Это открытие имело для писателя огромное значение. Если в «Дневнике» Успенский испытывал адские душевные муки, то теперь подобных настроений у него нет. В новом цикле писатель говорит о том, что его прежняя душевная язва начала заживать, что он переживает от знакомства с Иваном Ермолаевичем «приятнейшие минуты», что он удивляется своему нравственному
- 308 -
оздоровлению. Оказывается, что Иван Ермолаевич «бьется» не только из-за того, чтобы быть сытым, платить подати (ранее Успенский только это и видел), но также потому, что многосложный крестьянский труд наполняет содержанием всю его умственную и нравственную деятельность, дает ему ощущение нравственного удовлетворения. В письме к Е. Летковой Успенский рекомендует во время чтения третьей главы «Крестьянин и крестьянский труд» внимательно прочитать стихотворение Кольцова «Урожай». «Вот где есть что-то вполне гармоническое и целое, написано без всяких „общин“, тайн народного духа и т. д....» (XIII, 378).
Положив в свое понимание крестьянской жизни, семейной и общественной, земледельческий труд, писатель прослеживает его влияние на крестьянина и приходит к выводу, что корнем этих влияний является земля. Беллетристы-народники не руководствовались таким материалистическим принципом, никто из них не занимался изучением условий земледельческого труда, не искал в них разгадки психологии крестьянина. Н. Златовратский далек был от материалистического взгляда на крестьянскую жизнь и говорил не о крестьянском труде, не об отношении крестьянина к природе в процессе труда, а об общинных обрядах и порядках, названных Успенским иронически священнодействием или «ритуалами». Н. Златовратский в противоположность Успенскому рассматривал «механику» народной жизни как идеалист. В общинной психике мужика, в его общинных идеалах он пытался найти объяснение его жизни, как и деревни в целом. Н. Златовратский говорил об устойчивости исконных деревенских, мирских идеалов, которыми якобы руководствуется крестьянская масса. Успенский или вовсе не говорит об общинных порядках и общинном альтруизме, или же говорит о них в ироническом и критическом планах (ср., к примеру, как оценивает автор «Власти земли» дележ земли по способу «носком в пятку» и как об этом же любовно рассказывает Н. Златовратский в «Деревенских буднях»).1 Редко обращается Успенский и к показу крестьянской сходки, которую идиллически зарисовывал Н. Златовратский.
Отмеченное различие между Успенским и Златовратский крайне важно для понимания позиций рассматриваемого писателя. А. М. Горький подчеркнул необходимость сопоставления Успенского с Златовратским. Создатель «Власти земли», говорил А. М. Горький, будет непонятен, если не рассказать о «народничестве, как литературном течении, о Златовратском и других антагонистах Успенского, который был крупнее, талантливее всех их».2
Что же дают, по наблюдениям Успенского, природа и земля крестьянину, что они вносят в его бытие, чему учат «мужика»? Суммируя ответы Успенского, следует заключить, что они были прежде всего направлены против народничества. Произведения, в которых писатель обнаружил в наибольшей степени народнические иллюзии, явились вместе с тем и глубоко антинародническими произведениями. В этом противоречии отразилась действительность деревни, подлинное положение русского крестьянства.
Успенский умел мужественно разделываться и с собственными, и с чужими иллюзиями, оказавшимися «пылью» перед лицом реального Ивана Ермолаевича. Не случайно писатель в очерке «Не суйся!» признал, что от дыхания естественной правды Ивана Ермолаевича летят не только книжки (в рукописи было указано и на «европейские очки»), но также «прокламации»
- 309 -
и «динамиты». В начале же следующего очерка («Смягчающие вину обстоятельства») Успенский резко и отчетливо ставит, с точки зрения той же «естественной правды» Ивана Ермолаевича, под сомнение истинность и нужность народнического движения в целом. Неужели, спрашивает автор, «всё то, что известно под именем „движения в народ“, есть только глупость и только преступление?» (VII, 55). В противовес «динамитам» и «виселицам» Успенский высказывается за массовое, открытое движение интеллигенции в народ.
Наивно-монархическая точка зрения Ивана Ермолаевича должна была поставить и поставила его крайне далеко от террористов-народовольцев. Успенский видел, что борьба последних не находит и не может найти поддержки в широких крестьянских массах. Те же земледельческие идеалы бьют и по народническому утопическому социализму. Живя «старыми земледельческими идеалами», продиктованными трудом на земле, каждый крестьянин, говорит Успенский, «полагает, что в возне на собственном дворе и должна быть сосредоточена вся жизнь и все интересы, и все удовлетворения» («К чему пришел Иван Ермолаевич», VII, 69). Индивидуалистическую психологию крестьянина старой России Успенский правдиво показал еще в «Деревенском дневнике» (сравнение крестьянского двора с островом). Об этом же писатель говорит и в последующих очерковых циклах о деревне.
Успенского, отличного знатока дореволюционного крестьянства, терзали разобщенность и индивидуализм крестьянской жизни. Писателю хотелось, чтобы трудовое крестьянство вступило на путь коллективизма. Но он вынужден был прийти к горькому выводу, что крестьянин той эпохи был еще далек от этого. У крестьянина находились в то время такие аргументы в пользу индивидуального хозяйства, перед которыми писатель становился в тупик. Автор огорченно недоумевает перед логикой своих собеседников-крестьян. Безуспешные разговоры с ними о труде «на общую пользу» привели автора к тому, что он дал себе зарок не говорить с крестьянами об их распорядках, так как «в большинстве случаев такие разговоры совершенно бесплодны и ни к чему практически-путному не ведут» (VIII, 20). Но писатель так превосходно постиг натуру крестьянина, живущего в условиях капитализирующейся деревни, что ему становится ясным, почему Иваны Ермолаевичи иначе и не могли думать о возможностях коллективного труда. Частная крестьянская собственность, привычка к индивидуальному хозяйству-острову, индивидуалистическая психология крестьянина — вот непреодолимые для народников препятствия на пути осуществления их беспочвенных социалистических мечтаний.
«Мужик-поэт» в изображении Успенского оказался верен себе как крестьянин, ведущий индивидуальное хозяйство, живущий в условиях капиталистических отношений. Автор поэтизирует основу жизни Ивана Ермолаевича, ему мила поэзия его земледельческого труда, если ее взять в «чистом» виде. Но он не закрывает глаза на реальный облик своего героя, который приносит писателю большие огорчения. Иван Ермолаевич равнодушен к «общественным порядкам», к посторонним людям. Он ропщет на «народ», «общество» ему в тягость, он как-то весь «деревенеет», «не ведет ухом» и «ничего не слышит», когда речь заходит о нуждах и интересах всего крестьянства. «Мужик-поэт» оказывается весьма хозяйственным, расчетливым мужичком-собственником, которого нельзя удовлетворить только разговорами. Он прежде всего думает о своей земельке, о «раздаче». Иван Ермолаевич очень разборчив, в своих работниках. Происхождение бедноты в деревне Иван Ермолаевич объясняет тем, что «набаловался
- 310 -
народ». В бедноте он видит для себя что-то чуждое и враждебное. Существенно, что Успенский противопоставляет интересы Ивана Ермолаевича и бедноты, «сердитого нищенства». Несчастный старик-пастух Еремей, вынужденный с наступлением зимы куда-то идти из деревни, вызывает в Иване Ермолаевиче безучастное заключение: «Такая уж ему, стало быть, участь...» (VII, 78). При случае же Иван Ермолаевич способен и попользоваться безвыходным положением деревенской бедноты, того же голодающего хромоногого солдата. Иван Ермолаевич, иронизирует автор, конечно, не зверь, он взял у солдата мальчишку и дал хлеба. Но солдат не мог быть веселым от подобной сделки: «Так я тебе толстомордому и дался... Ишь ты! За мою же муку да норовит слопать моего мальчишку! Ловок!.. Пог-годи, любезные... Я вас произведу...» (VII, 104).
Деревня, порождающая подобные отношения, не могла радовать Успенского. Поэтому поэтизация Ивана Ермолаевича сопровождается горькой насмешкой автора над своей любовью. И произошло это в силу объективных обстоятельств, характеризующих положение и судьбу Ивана Ермолаевича в условиях капитализирующейся деревни. Успенский сетовал на цивилизацию, но сам же считал ее неизбежной и даже полезной. Автор оглядывался назад, но тут же называл сумасшествием попытки задержать ход истории. Успенский намеревался спасать Ивана Ермолаевича от «язвы» цивилизации с помощью интеллигенции, но вынужден был признать, что его любимец крайне нуждается в плодах этой цивилизации.
Такие противоречия обнажились впервые в главе «Смягчающие вину обстоятельства». На это обратил внимание М. Е. Салтыков-Щедрин. В письме от 11 ноября 1880 года редактор «Отечественных записок» писал Успенскому: «Посылаю Вам корректуры Вашей статьи <имеется в виду «Смягчающие вину обстоятельства», — Авт.>, которую только что сейчас прочитал. Убедительнейшее прошу допустить те выпуски, которые я сделал. Статья Ваша произвела на меня тяжелое впечатление, и я серьезно начинаю думать, что Вы увлекаетесь идеалами Достоевского и Аксакова... Я до крайности уважаю Вашу литературную деятельность, и мне крайне прискорбно, что могут существовать недоумения. Главное: Вы сетуете на то, что, по Вашим же словам, неизбежно. Следовательно, эти сетования, по Малой мере, бесплодные. Может быть, Вы и сами удивитесь, что статья Ваша так понята мною, но, право, иначе ее нельзя понять... Повторяю: в том виде, т. е. с сделанными выпусками, статья получит этнографический смысл и перестанет быть тенденциозною» (XIX, 178—179).
Салтыков-Щедрин, не зная содержания очеркового цикла в целом, конечно преувеличивал, когда думал, что писатель якобы увлекается идеалами Достоевского и Аксакова. Однако руководитель «Отечественных записок» был совершенно прав, когда указывал на основное противоречие именно очерка «Смягчающие вину обстоятельства».
Эти противоречия еще более усиливаются, когда Успенский вновь возвращается к вопросу о цивилизации в главе «Узы неправды». Здесь он явно иронизирует над своей прежней постановкой этого вопроса, приближаясь таким образом к Салтыкову-Щедрину и опровергая теории славянофилов и почвенников. В данном случае можно предположить влияние на писателя цитированного письма Салтыкова-Щедрина, а может быть и их личной беседы по вопросам, затронутым Успенским1 (желательность такого объяснения редактор «Отечественных записок» высказывал в названном
- 311 -
письме). Однако надо иметь в виду, что Успенский постоянно впадал в противоречия. «Успенский совсем с пути сбился, — писал Салтыков-Щедрин Н. Михайловскому, — такую философию заковыривает, что чертям тошно... На каждом шагу противоречия, одна мысль другую побивает, а я сижу и привожу эти противоречия в порядок» (XIX, 387).
«Власть земли». Автограф Г. И. Успенского. 1882.
Салтыков-Щедрин здесь метко констатирует факт. Успенский действительно часто «побивал» самого себя. Но редактор «Отечественных записок» в констатации факта оставался только в сфере «философии» Успенского и поэтому ставил перед собою невыполнимую задачу приведения противоречий писателя «в порядок».
- 312 -
«Власть земли», созданная писателем в 1882 году, развивает, углубляет и обобщает те вопросы, которые освещались в предшествующем очерковом цикле, и ставит новые проблемы. Земля как главный фактор народно-крестьянской жизни, как источник могущества народа, всего общества и государства в целом1 — вот коренная проблема, волнующая Успенского в его новом художественно-публицистическом произведении. И если наиболее поэтическим и воодушевляющим автора эпизодом в жизни Ивана Ермолаевича являлось открытие в нем художника, то в параллель к этому во «Власти земли» следует поставить столь же поэтическое, вдохновенное изображение «тяги земли». Успенский, как и Некрасов, использует для характеристики могущества народа былину о Святогоре-богатыре, эту загадку, в которой «таится вся сущность народной жизни»: «тяга и власть земли огромны — до того огромны, что у богатыря кровь алая выступила на лице, когда он попытался поколебать их на волос, а между тем эту тягу и власть народ несет легко, как пустую сумочку» (VIII, 26, 27).
Задачам наглядного и убедительного раскрытия значения земли служит и композиционная структура произведения. Подобно тому, как в первых главах очерковой серии «Крестьянин и крестьянский труд» земледельческий труд рассматривается в отрыве от его социально-экономических условий, а затем писатель обращается и к ним, чтобы резче оттенить, что таится в возможности и что есть в действительности, так и во «Власти земли» первые главы (до VI включительно) знакомят читателя с властью земли в ее, говоря словами Успенского, «очищенном виде»,2 а в последующих главах (начиная с главы «Теперь и прежде») изображается та «суровая действительность», которая разметает «золотые зерна», разрушает «безгрешную жизнь», проматывает «драгоценность», таящуюся в недрах народно-крестьянского трудового строя («Школа и строгость»).
В очерковом цикле «Крестьянин и крестьянский труд» конкретно не была показана та сила, которая «держит» Ивана Ермолаевича. Во «Власти земли» Успенский впервые устанавливает содержание, характер и действие этой «таинственной силы», о которой, по замечанию писателя, много говорят и пишут, но не знают ее хотя бы «мало-мальски определенных очертаний». А. И. Герцен, например, чувствовал «эту народную тайну» и писал о ней (Успенский имеет в виду герценовскую работу «С того берега», 1850). Но он, говорит Успенский, признавал, что источник таинственной народной силы «трудно уловить словами и еще труднее указать пальцем» (VIII, 78). Для того, чтобы конкретно определить названную Герценом тайну, необходима, считает автор «Власти земли», «черная работа в самой глубине, у самых корней этой народной тайны», следует «спуститься в самую глубь мелочей народной жизни», пойти в избу, прямо «к представителю этой силы», перерыть всё, что «ни есть в избе, в клуне, в хлеву, в амбаре, в поле» (VIII, 79). Автор «С того берега» не занимался этой «мелочной» и «неприятной» работой. Оказывается, говорит Успенский, огромнейшая масса русского народа «до тех пор и терпелива, и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой
- 313 -
могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют всё его существование» (VIII, 25). Поэтизация (но не идеализация) власти земли, трудовой жизни на ней так же характерна для «Власти земли», как и поэтизация земледельческого труда в предшествующем цикле очерков об Иване Ермолаевиче. Если «Деревенский дневник» — скорбная летопись о «народном горе», «горе сел, дорог и городов»,1 о «горе деревенской избы», «лошадиного и бесплодного труда», то последующие циклы — попытка создать поэму о земле и труде на ней.
Углубляясь в разработку поставленной у Герцена проблемы, Успенский открывает в крестьянине-труженике «образчик» высшего типа человеческой личности вообще. Эти выводы были подвергнуты осмеянию со стороны Салтыкова-Щедрина, который остался до конца враждебен народническим иллюзиям. В 1885 году он опубликовал сказку «Коняга», в которой зло высмеял бессильные и утопические мечтания Успенского. Задолго до Щедрина и Успенского Некрасов, опираясь на устное поэтическое творчество, отчетливо сформулировал реальное положение той самой деревни, в которой автор «Власти земли» пытался почерпнуть высшую мудрость:
«Рабочий конь солому ест.
А пустопляс — овес».Щедринская философия мужичьего труда, воплощенная в «Коняге», иная, чем восторженная, но односторонняя концепция, развернутая автором очерков «Поэзия земледельческого труда» и «Власть земли». Один из пустоплясов, возражая другим, говорил: «Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому что он „настоящий труд“ для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его со своею личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся!..и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда ...Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!» (XVI, 201, 202).2
Но и у автора «Власти земли» вполне определилось критическое отношение к тому, что он попытался опоэтизировать. Эта критика особенно сильна в «Разговорах с приятелями» (1883), где вносится много справедливых, глубоких и метких поправок в тот идеал «полной», «гармонической», «прекрасной» жизни трудом на земле, который рисовался в воображении Успенского.
Композиционная структура и художественно-публицистическая форма «Разговоров» выявляет отношение автора к власти земли. Диалоги с приятелями переносят эту проблему в плоскость острой, содержательной дискуссии, снимающей предшествующие утверждения писателя или развивающей те критические замечания, которые были им высказаны в очерках «Власть земли», «Крестьянин и крестьянский труд» по поводу «образчика» человеческой жизни. Основным художественно-публицистическим принципом в «Разговорах», соответствующим их дискуссионно-критической направленности, является постоянное сочетание тезиса и антитезиса. Например: да, крестьянская трудовая жизнь, если она находится в благоприятных условиях,
- 314 -
благообразна. Но это благообразие дано посторонней человеку силой, природой, а не завоевано самим человеком. Поэтому «образчик» и не может быть признан совершенным, в нем все очень непрочно и случайно, здесь «на каждом шагу тебя то мороз дерет по коже, то душа растворяется в нежнейшем умилении» (VIII, 154). В названной манере выдержаны все диалоги Протасова, его примеры и иллюстрации, аргументация и полемика. Серия очерков «Из разговоров с приятелями» в целом состоит из ряда кратких, но сильных в своей выразительности диалогов, сущность каждого из них резюмирована в названии, раскрывающем в том или другом отношении ограниченность типа жизни, созданной властью земли. Так, первый диалог называется «Без своей воли». В нем установлено, что крестьянин живет, подчиняясь своему труду, зависящему от природы. Второй диалог «Мишаньки» как бы иллюстрирует и углубляет эту мысль. Поскольку крестьянин живет по чужой воле, то он может подпадать под разнообразные влияния и совершать поступки, разрушающие всё его благообразие. Третий диалог — «Интеллигентный человек» формулирует основную задачу интеллигенции, которая вытекает из положения крестьянина, не знающего своей воли. Четвертый диалог — «По поводу одной картинки» дает представление о гармонической жизни крестьянской семьи в условиях земледельческого труда. Крестьянин, не имеющий своей воли, чтобы сохранить благообразие, должен быть весь, без остатка, поглощен земледельческим трудом. Малейшее освобождение из-под власти земли нарушает всю гармонию крестьянской жизни. В пятом диалоге — «Своим умом» Протасов ставит вопрос о том, что крестьянин живет не только чужой волею, но и чужим умом, сознанием, диктуемым природой. Наконец, в заключительном диалоге — «Беспомощность» подчеркнуто, что крестьянин в силу указанных обстоятельств беспомощен перед жизнью, перед случайностями. Он только может констатировать факты («должон теперича по миру пойдтить», VIII, 184), но не изменять действительность.
Успенский думал о светлых и радостных судьбах русского трудового крестьянства. Своими произведениями он ставил вопрос о необходимости освобождения человека от власти земли, о создании иных отношений между природой и крестьянином. Повторяя мысль письма «Русского человека» о том, что «только те права прочны, которые завоеваны и что то, что дается, то легко и отнимается»,1 Успенский в очерковом цикле «Власть земли» сопоставляет два типа жизни. С одной стороны, дается жизнь крестьянина под властью земли, без своей воли и своего сознания, а с другой — жизнь как сознательное стремление человека к осуществлению определенного идеала (см. также святочный рассказ «Про счастливых людей»).
В каком направлении и на какой основе должно совершиться перевоспитание Иванов Ермолаевичей, Платонов Каратаевых, видно из тех же крестьянских циклов. В них Успенский остается неизменным и принципиальным защитником крупного общинного хозяйства, в котором бы не было людей, не имеющих права на хлеб, и в котором нашел бы место работника и образованный человек. В наборной рукописи главы «Результаты и заключения» крупное общинное хозяйство рассматривается писателем как «нечто [справедливое] достойное славы».2
Идеал крестьянского хозяйства, лелеемый Успенским, ничего не имел общего с той казенной общиной, которая существовала и которую идеализировали народники. В крестьянских очерковых циклах Успенский постоянно
- 315 -
выступает критиком общины и общинных порядков, иронизирует над ними, смеется и скорбит. Разве, спрашивает Успенский в очерках «Власть земли», можно определить существующие земледельческие порядки таким высоким, ко многому обязывающим словом, как «община»? «Тут самая грубая неряшливость. Бог знает что, но только не община» (VIII, 74).
Г. И. Успенский.
Фотография К. А. Шапиро. 1883. С дарственной надписью В. М. Гаршину.Изучая и обобщая всё лучшее, что было в крестьянских чаяниях и стремлениях того времени, писатель пришел к выводу, что спасение народа возможно только на основе коллективного труда, осуществляемого на свободной земле и обобществленными средствами производства. Идея коллективного труда, столь характерная для Н. Г. Чернышевского и не соответствующая
- 316 -
мелкобуржуазному характеру народнических пожеланий, заняла в крестьянских очерковых циклах Успенского существенное место. Конечно, мечтания Успенского о коллективно-трудовых основах жизни крестьянина не выдерживают критики, они иллюзорны и беспочвенны в своей сущности, не основываются на реальных социально-экономических возможностях того времени. Но нельзя ограничиться только такой оценкой идеалов Успенского. Основоположники марксизма-ленинизма не раз указывали на то в высшей степени важное обстоятельство, что «ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной в всемирно-историческом смысле».1 И действительно, утопические для своего времени мечты Успенского стали истиной в наши дни, в условиях победы научного социализма.2
5
Успенский не знал, как следует решать задачи преобразования деревни. Он не мог понять, что «только падение капитала может поднять крестьян», что «только антикапиталистическое, рабочее правительство может положить конец его экономической нищете и общественной деградации».3 Но писатель настойчиво искал выход, неизбежно впадал в противоречия и в безвыходное положение, в иллюзорные и бесплодные упования. Успенский начала 80-х годов обнаруживает временами и известную зависимость от субъективной социологии. Художник-публицист говорит о том, что необходима наука «о высшей правде», которая позволила бы человеку определить, что справедливо и что нет, что можно и что нельзя, что ведет к гибели и что спасает от нее. Опираясь на опыт всемирной истории, необходимо «отделять зло от добра и брать для нашего народа исключительно только последнее...». Самая фразеология, которой пользуется автор при обсуждении общественных вопросов («Хотим ли мы, чтобы такие же порядки развивались в массе нашего освобожденного народа? Хотим ли мы, чтобы он со свежим аппетитом возлюбил эти порядки?»), говорит о связях Успенского с субъективно-социологической аргументацией Михайловского.
Успенский стремится убедить, что народу нужно дать землю.
«Дать „земельки“ — агитирует писатель, — это значит дать жизни смысл... Не дать земельки, — предупреждает автор, — значит расстроить этот источник крестьянской жизни и мысли, значит отнять у жизни смысл...» («Несбыточные мечтания», IX, 280). В названных очерках всё показательно для Успенского 80-х годов. И самая вера в возможность «справедливого» решения насущных вопросов, и желание убедить, что плохое следует устранить, а взять лучшее, и страстная, настойчивая агитация за «правду», и упрек за то, что делают не так, как необходимо народу. Взволнованные призывы, формулирующие обязанности и задачи, резко осуждающие неправду, воодушевляющие на действия, составляют характерную черту художественно-публицистической манеры Успенского. Зло, рассуждает автор, — дело рук человеческих. Но неужели, наивно спрашивает он, дела рук человеческих не могут быть направлены на его прекращение? «Поднимем благосостояние народа, исправим многочисленные ошибки в земельных порядках; устроим народный кредит, распространим грамотность, дадим доступ
- 317 -
к науке..., усмирим заблуждающуюся молодежь, возложив на нее множество обязанностей пред ходящим во тьме народом; высвободим его из рук кулаков и хищников... Облагородим и возвысим наше культурное общество..., воскресим святость этих обязанностей... Словом, станем призывать общество к добру, станем ободрять его добрые стремления, станем всячески поддерживать их...» (X2, 106—107; Курсив мой, — Авт.).
Подобные воззвания к «обществу» и надежды на него говорят о непоследовательности демократизма Успенского рассматриваемого периода, о его бессилии в решении общественных вопросов, о непонимании им действительных источников зла в современном ему классовом обществе. Ставя недоуменные, скорбные вопросы, Успенский начинает апеллировать к совести, к моральному фактору, переоценивать его значение в условиях своего времени, рассматривать его как решающую силу в деле устройства жизни на благо народа. Реализм писателя начинает приобретать морализирующий характер. Для Успенского становится характерным перенесение (но не изъятие) социально-политических явлений, а также и фактов экономической и исторической жизни в плоскость моральную и психологическую. Указанная апелляция Успенского к моральному фактору свидетельствовала о связях писателя с народнической идеологией, представители которой, изучая и описывая бедствия народа, ограничивались моральными сентенциями по поводу этих бедствий, что отражало бессилие и в понимании, и в решении общественных вопросов.
Апелляция к моральному фактору началась у писателя в 70-е годы, впервые в «Больной совести». В «Деревенском дневнике» эта апелляция проявилась в общей форме, еще не вылилась в призыв к совестливой, безгрешной жизни. Нет такого призыва и в очерковом цикле «Крестьянин и крестьянский труд». Но морально-психологическая трактовка и оценка явлений действительности здесь получает бо́льшее развитие, чем в «Дневнике». Характерно в этом отношении название и содержание главы «Узы неправды». Во «Власти земли» моральный подход к явлениям действительности конкретизируется и приобретает новое содержание, иное художественно-публицистическое выражение. В «Дневнике» автор утверждал, что истинный крестьянин Иван Афанасьев не умел «ни хитрить, ни лукавить, ни обманывать — земледельческий труд ничему такому не учит» (V, 57). Этой мысли суждено было развернуться в теорию «безгрешной» жизни, возможной, по мнению автора, только в условиях земледельческого труда. А. М. Горький в этих заявлениях писателя справедливо видел, как и Салтыков-Щедрин, «родство» Успенского как автора «Власти земли» с Л. Толстым, «с его убеждением в спасительности крестьянского труда на земле».1 Горький подчеркнул, что указанное родство Толстого и Успенского необходимо отметить, когда речь идет о «Власти земли». Проповедь Успенским «святой» жизни земледельческим трудом и имел в виду Горький, когда говорил, что «в „божью правду“ Успенского я не мог верить... Я в чем-то соглашался с Глебом Успенским и чему-то не верил в его истерических криках о спешной необходимости „слиться с условиями крестьянской жизни“, найти себе в ней место...».2
Указывая на «родство» Успенского и Толстого, следует иметь в виду и своеобразие автора «Власти земли». Крестьянский труд он считал необходимым
- 318 -
обогатить наукой и техникой, поставить в условия крупного, дружного коллективного хозяйства.
Итак, этический подход Успенского к действительности завершился в первой половине 80-х годов созданием утопического идеала «совестливой» жизни земледельческим трудом. В противовес цивилизации, которая дает всё хищникам и ничего не дает каратаевым, Успенский пытается поставить «божескую правду» (VIII, 564). Обязанностью «интеллигентного человека», считает теперь Успенский, и должно явиться внесение в «лесную правду», в «зоологическую» народную жизнь (в ней нет «справедливости», идет «писк», как в лесу) «высшей, божеской справедливости» (VIII, 84). Образ интеллигентного работника в деревне представляется теперь писателю по аналогии с типом того «божьего угодника», который не забирался в «дебрь» и не отказывался от мирских дел, а жил среди народа, был «народным угодником», «мирским работником» (VIII, 36).
В 80-е годы Успенский создал разнообразную галерею образов «народных угодников», тех «добрых людей», «невидимок»,1 которые стоят между Каратаевым и хищниками. Еще в серии очерков «Крестьянин и крестьянский труд» Успенский зарисовал образ «овчинника», которого следует считать предтечей позднейших «добрых людей». Таков и образ швейцара, помогшего Михайле («Развеселил господ») жениться на любимой девушке. В этом же плане дан портной Артамон Филиппович, построивший крестьянам в топком месте дорогу; плотник Иван Николаевич, умеющий «объютить человека», даже смягчить кулака («Добрые люди»). Не зная, кто должен и может вывести народ к «свету», Успенский создает своеобразно идеализированных радетелей о народной совести, которые вносят в «темную народную среду хотя крошечный, но несомненный и необходимый ей истинный свет» (XI, 379). В их лице Успенский видит общественных деятелей, борцов с народным невежеством и горем. Писатель находит таких людей не только в народной массе, но и в интеллигентной среде (акушерка Анна Петровна Иванова — «Чуткое сердце», 1889). И существенно, что, создавая образ Анны Петровны, человека с чистой совестью, детской душой и горячим сердцем, он вновь напоминает о молодом поколении, вышедшем на арену общественной борьбы в 60—70-е годы.
Несмотря на своеобразную трактовку народного радетеля по аналогии со старинным божьим угодником, популяризация Успенским деятеля с отзывчивым на общественные дела сердцем имела большое воспитательное значение в условиях 80-х годов. Писатель обратился не к избранным героям, а к простым людям из трудового народа и массовой разночинной интеллигенции. Рассказывая о их незаметных, но важных делах для трудящихся, Успенский осуждал понижение общественных интересов у той части современной ему интеллигенции, которая предала забвению заботы о народе, отошла от заветов демократического движения 60—70-х годов. Пропал «интересный мужчина», обладающий теми «святая святых», «заветными», «высокими, святыми тайнами сердца», перед которыми можно было бы «преклониться» и «благоговеть», — так оценивает старая дама современную ей эпоху 80-х годов («Хороший русский тип», 1885). Идеалы этой старой дамы связаны с поколением людей 60-х годов, когда «избранный человек» умел пробуждать женщин к сознательной жизни (вспомним «новых людей» Чернышевского).
Нетрудно понять и демократическое существо «философии» Успенского о «божецкой» жизни. Некрасов так же говорил о стремлении крестьян «по
- 319 -
Дом Г. И. Успенского в Сябринцах. Рисунок С. В. Чехонина.
разуму, по божески, по чести» решать вопросы жизни. В материалах к брошюре «К крестьянской бедноте» В. И. Ленин отметил, что «крестьяне хотели, чтобы жизнь была по справедливости, по божески, не зная как это сделать».1 Это бессильное и утопическое стремление крестьянской демократии допролетарского периода к справедливой жизни оказало влияние и на мировоззрение Успенского, что нашло наиболее законченное выражение в очерке «Трудами рук своих» (1884). Салтыков-Щедрин, свободный от присущих Успенскому иллюзий, в письмах к Михайловскому и Скабичевскому высмеял и осудил попытку Успенского взять на себя роль проповедника идеала «безгрешной» жизни, почерпнутого из сочинений идеологов сектантского движения. Сразу же после опубликования Успенским статьи «Трудами рук своих» Салтыков-Щедрин в письме к Михайловскому от 17 ноября 1884 года иронически запросил его: «Ужасно любопытно мне знать, читает ли Г. И. Успенский Вам свои новейшие произведения, и под Вашим ли наитием компонует их? Или только всуе призывает Ваше имя?». И далее, переходя к характеристике новых идей Успенского, сатирик высказал свое мнение о них. «Мне кажется, — пишет он, — лавры Сюсляева...,2 а отчасти Толстого, не дают ему спать, и он серьезно задумал сделаться пророком. Но, право, я до сих пор не полагал, что Ваша критическая деятельность может иметь какое-нибудь отношение к Сюсляевскому миросозерцанию (зри „Русскую Мысль“ за ноябрь)» (XX, 113).3
- 320 -
В письме от 21 ноября 1884 года к Михайловскому Салтыков-Щедрин, как бы наглядно иллюстрируя свою мысль о зависимости Успенского, автора статьи «Трудами рук своих», от сюсляевского мировоззрения, рисует генеалогическую схему, по которой выходило, что дедушкой писателя является Сюсляев, отцом — Л. Толстой, а дядюшкой — Златовратский (XX, 115).
Наконец, в письме к Скабичевскому от 9 февраля 1885 года Салтыков-Щедрин еще раз подчеркнул родство Сютаева, Толстого и Успенского, противопоставив их теориям действительную жизнь и действительное миросозерцание народа. «Всего обиднее, — обращается сатирик к Скабичевскому, выступившему в роли защитника «нового учения» Л. Толстого, — тут ссылка на народ: народ вовсе не думает о самосовершенствовании — об этом разговаривают Сюсляевы, Толстые, Успенские, Достоевские, а просто верует. Верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство».1
Приведенные критические суждения Салтыкова-Щедрина метки и глубоки, они позволяют понять одну из наиболее слабых, иллюзорных сторон в миросозерцании Успенского рассматриваемого периода и уточнить идейные позиции писателя. И Салтыков-Щедрин, и Успенский были людьми одного и того же лагеря, они выступали от лица русской крестьянской демократии, выражали чаяния и стремления широкого демократического движения. Однако в этом движении «простонародья» дореволюционной России были перепутаны и перемешаны элементы патриархальности и элементы подлинного боевого демократизма. Только революция 1905 года и переход руководства крестьянским движением в руки пролетариата положили конец этому причудливому переплетению, порождавшему в демократической идеологии иллюзорные, беспочвенные и бессильные верования, в том числе и надежды на возможность осуществления безгрешной жизни трудами рук своих. Салтыков-Щедрин был свободен от подобных патриархальных иллюзий в русском демократическом движении, он рассчитывал в деле преобразования жизни не на наивные формулы, долженствующие спасти народ, а на сознательные действия самих масс, поднявшихся на борьбу.
Следовательно, иллюзии Успенского явились не личным его заблуждением (так, очевидно, казалось Салтыкову-Щедрину), а были связаны с указанными выше особенностями демократического движения России дореволюционного периода, когда в массах трудящегося крестьянства уже появилось стремление к жизни «по справедливости», но еще не было знания, «как это сделать». Такое знание трудовому крестьянству было дано ревоционным пролетариатом, научным социализмом.
Отмечая иллюзии и колебания Успенского, устанавливая их происхождение, не следует забывать, что не они составляют сущность его творчества. Поэтому нельзя рассматривать содержание творчества Успенского 80-х годов только под углом зрения высказанной писателем иллюзорной идеи о том, «како жить свято». Мечтаниям о такой жизни писатель отводит самое незначительное место в своих раздумьях о положении и судьбах трудящихся. Главную свою задачу он видит вовсе не в том, чтобы предаваться мечтаниям, когда так горька действительность. По отношению к собственному идеалу Успенский выступает вдумчивым и проницательным критиком, мысль которого рвалась из пут патриархального эдема
- 321 -
к просвещению, науке, техническим изобретениям, к коренному изменению хозяйства крестьянина. Не случайно поэтому, что в корректурных гранках фельетона «Перед нашими глазами. Громы небесные и страсти господни» Успенский делает изъятия тех его мест, в которых выражены иллюзорные аргументы. Так, он зачеркивает свое положение об образчике: «...необходимо взять какой-нибудь живой образчик более или менее полного человеческого существования и с этим образчиком подойти, как с меркой, в современное общество» (гранка 12). Или: «Нужно уважать в мужике человека, его человеческие потребности, его духовную жизнь, — и тогда вопрос о земле должен неминуемо принять в глазах общественного деятеля, — огромное значение, такое, что он не будет в состоянии и часу оставаться равнодушным зрителем...» (гранка 11). Наконец: «...земледельцу нужна земля — вот и всё, и это простое дело можно бы сделать так же просто, серьезно, по человечески, как просто и само дело» (гранка 7).1
Творческий принцип, согласно которому главное — изображение «действительности» жизни, а не «мечтаний» и «отрадных явлений», — Успенский 80-х годов постоянно помнит и осуществляет в своей работе. Изображение жизни Успенский начинает не с идеального — к этому звала субъективная социология и связанная с нею народническая эстетика, — а с самой жизни, с ее фактов. Согласно народнической эстетике, задача писателя заключается не в том, чтобы выяснять, как совершаются общественные явления и почему они совершаются, а в том, чтобы предписывать, рекомендовать жизни тот или другой путь развития. Успенский не был свободен от подобного субъективизма, но он понимал, что негодование на несправедливость, гуманные взгляды и идеалы, добрые пожелания не могут изменить прочно установившиеся объективные формы жизни.
В очерке «Буржуй» автор говорит, что «буржуй» не просто только «животное», а «он — прочно установившиеся формы жизни, против которых мало моего отдельного, личного негодования и против которых я один ничего не сделаю ни с моими широкими взглядами, ни с моим высшим образованием, ни с моим негодованием на несправедливость» (IX, 479).
Следовательно, писатель сам признает бессилие, бесплодность своих моральных аргументов против капиталиста. Поэтому Успенского больше интересуют не пожелания, а реальные нужды народа, закономерности действительности, связь и взаимная обусловленность явлений, противоречия и антагонизмы жизни.
В 1884 году в статье «Трудами рук своих» Успенский положительно оценивает «формулу прогресса» Н. Михайловского. Но почти одновременно с этим и позже он иронизирует над ней и отвергает ее истинность. В черновом плане очеркового цикла «Через пень-колоду» (замысел относится к 1884 году, т. е. когда была написана и статья «Трудами рук своих») имеется запись, свидетельствующая об отрицательном отношении Успенского к «формуле прогресса». «Изобретения теории прогресса, — пишет автор, — никакого не вижу. Всё противно...» (IX, 636). Задуманная главка (последняя, 8) на эту тему не была осуществлена писателем. Но более чем скептическое отношение Успенского к «формуле прогресса» сказалось в других его произведениях 80-х годов. Писатель, прекрасно знающий русскую пореформенную деревню и руководствующийся прежде всего тем, что требует действительность, должен был признать, что нельзя называть
- 322 -
прогрессом то, что веками стоит неподвижно. «Зоологическая деревня» — так метко, правдиво и с болью для себя определил Успенский сущность деревенской жизни. Правдивый и суровый анализ действительности у автора не подменяется «утопией». Высказываемые им пожелания незаметно переходят в характеристику того, что есть. И хотя результаты изучения жизни, добытые писателем, опровергают его «мечтания», он и не боится таких жестоких для себя итогов. «„Действительность“, — признается писатель, — прежде всего начала разрушать во мне как раз именно те веселые мечтания и фантазии, которые овладели мной после веселой встречи с переселенцами. На деле переселенческое движение далеко не поощряло к мечтаниям; всё, что приходилось мечтать о нем, наводило на мрачные мысли и почти ничем не радовало» (X2, 360).
Такова обычная логика писателя. Он на мгновение отдается «мечтаниям» и «фантазиям», которые у него «случайно» появляются, а затем начинает «тягостную», «невеселую» повесть о том, что есть в действительности. Ему очень горько бывает расставаться со своими фантазиями. «Но делать нечего, — провозглашает писатель, — надобно расстаться... действительная жизнь так громко кричит о неправде и зле, что не слышать этого крика или успокаивать себя фантазиями — положительно невозможно. Надобно говорить о том, о чем кричит действительность» (X1, 396).
По принципу «таковы наши мечтания, но не такова действительность» (XI, 616) построены все основные произведения Успенского 80-х годов. Такая их художественная логика объясняется тем, что пореформенная действительность в корне подорвала «твердыню труда своих рук». Уже с 1882—1883 годов Успенского начинают занимать не Иван Ермолаевич с его «аристократически-крестьянской душой» и «поэзией земледельческого труда», а Иван Горюнов, Михайла, Иван Босых, Гаврила Волков — представители «деревенского нищенства». С другой стороны, уже во «Власти земли» Успенский широко показал кулачество, раскрыл механику его зарождения и развития в недрах общины. Эта смена образов в крестьянских циклах Успенского не была случайна — она отражала социально-экономическое положение крестьянства при капитализме. Еще в 1880 году в очерке «Подгородный мужик» Успенский предсказал, что «дух века»; идущий из Питера, «дойдет и до самого отдаленного угла. Разве можно миновать это, хотя и надо?» — спрашивает Успенский, имея в виду новую «цивилизацию», капитализм (VI, 470). Данная нами формула Успенского показывает противоречивый характер позиций писателя. Но это не помешало ему признать, что нет оснований не замечать превращения Ивана Ермолаевича в «разжившегося» Демьяна Ильича,1 как нет и оснований к тому, чтобы не видеть превращения тех же Иванов Ермолаевичей в бобылей и нищих.
Вместо «аристократа пашни» в произведениях Успенского появились «миллионные массы безземельных и безлошадных» крестьян, «безземельных земледельцев», идущих «за тридевять земель» на заработки, бегущих «куда глаза глядят» (VII, 300), переселяющихся в другие места, становящихся батраками. «„Коняге“, — признает Успенский, — нет никакой возможности оставаться на старом пепелище, что ему очевидно пришло невтерпеж...»
- 323 -
(IX, 276). С середины 80-х годов Успенский обращает внимание именно на эти толпы рабочего люда. Он рассказывает о скоплении батрацких масс на Каховке, о беспорядках на юге России, о побоищах между «родными братьями», местными и пришлыми рабочими (XI, 69). Народился, утверждает Успенский, «настоящий, ожесточенный пролетариат» (IX, 399). Писатель предупреждает, что в таких условиях могут быть результаты «весьма неожиданные» (X1, 75).
Успенский, конечно, не мог признать прогрессивным факт расслоения крестьянства и появления сельского пролетария. Но важно, что он не отвернулся от этого факта, сосредоточил на нем свое пристальное внимание. И если крестьянина-хозяйчика Успенский рисовал со скрытой иронической усмешкой и огорчением, то с какой симпатией, теплотой и заботливостью, с тревогой и скорбью пишет он о крестьянине-скитальце, о рабочих-батраках, работницах, переселенцах! Писателя охватывает бессильное отчаяние при виде бедствий и гибели бездомных масс, разбредающихся по «золотым ротам» и «босым командам», оказывающихся в цепких лапах купона, покупающего «живой товар». «Страшно, страшно, братец ты мой, идти по свету копейку на хлеб добывать!.. — Вот он, свет-то белый, на все четыре стороны, конца краю ему нет! Иди! Отыщи в нем гривенник!.. Нет! Не дай бог лихому лиходею отведать этого!..» («Избушка на курьих ножках», X1, 142). Скорбь за бездомных пролетариев деревни, желание найти для них выход, стремление заставить «образованное общество» и «командующие классы» подумать и позаботиться о них — вот что руководило Успенским в его многочисленных очерках, рассказывающих о тех «волнах народных», которые «валом валили», рыскали «из конца в конец России» в поисках куска хлеба (X1, 64).
Сущность всех этих социальных и экономических сдвигов в стране Успенский выразил в тех же поэтических образах, которыми он за несколько лет до этого пользовался в характеристиках «поэзии земледельческого труда» и «власти земли». Но теперь, в условиях всеобщего народного разоренья, эти образы приобрели совершенно иной смысл. «Неплательщик», рассказывает писатель, когда-то шел «во широкую степь», «с косою вострою», «ощущая прежде всего удовольствие», «было где „раззудить плечо“». Но времена изменились, и тот же косарь только по недоразумению думает, что и теперь «ему вполне возможно идти» «во широкую степь» «с косою вострою» и «денег пригоршни» принести домой. В действительности всё не так. Теперь косарь не нужен. Косит неведомое чудовище, какая-то «силища Ерусланова, для которой степь-то кажется с детскую ладонь», а косарь перед ней — «муха бессильная». Косарю-пахарю и во сне не снилось, что он будет «„изничтожен“ во всем своем существе, и не в городе, не на фабрике... а... на пашне..., у источника всего своего духовного бытия», там, где «рожь зернистая дремлет колосом почти до земли; ветерок по ней плывет-лоснится, золотой волной разбегается...» (XII, 234, 235).
В соответствии с этим появляются новые художественные образы, раскрывающие чувства автора. Поля, гильотинированные Ерусланом-машиной, напоминают ему две картины Верещагина: одна — поле, усеянное рядами трупов, и другая — где трупы лежат кучами. И в степи колосья валяются, как трупы, вкривь и вкось. У косилки — крокодиловы зубы, оскаленные на колос. Писатель видит «зарезанные колосья пшеницы». Вся поэзия пашни, поэзия земледельческого труда крокодиловым зубьем в прах расплющена и попрана без всякого милосердия. «Сам Микула Селянинович, поглядев на сокрушенную крокодиловым зубьем „силу земли“, затосковал бы о видимой
- 324 -
погибели своей „силы“ могучей, а идти на послугу к машине — не рука богатырю Селяниновичу...» (XII, 236). Успенского терзали подобные «мертвящие впечатления». В его воображении попрежнему рисовалась жизнь пахаря на земле и землею, как жизнь «справедливая», положенная человеку, добывающему хлеб трудами рук своих. Но действительность не такова. Поэтому «надо отрешиться от тоски о погибели поэзии» и говорить о реальном положении того «пахаря», поэтический образ которого давно забыт.
Такое заключение писателя было плодотворно для него, отражало действительное положение и судьбу миллионных масс трудящихся крестьян и заставляло Успенского обратить свои взоры на русский капитализм и пролетариат, который и формировался из вчерашних крестьян.
6
В идейно-творческих исканиях Успенского 1883—1892 годов обнаружились настойчивые поиски новых путей, стремления по-новому взглянуть на русскую жизнь. Сразу же после завершения «Власти земли» писатель, разочарованный в «зоологической правде» деревенской жизни, бежит прочь от того самого источника, неудовлетворение которым ощущалось в его трех циклах крестьянских очерков. Писатель едет на Кавказ. С тех пор и до самой болезни Успенский находился в постоянных разъездах по всей России. Созданный им на основе кавказских наблюдений цикл очерков «Из путевых заметок» (1883) наносит новый, после крестьянских очерков, сильнейший, удививший Плеханова, но не понятый им удар по народническим представлениям о русской действительности. Вместе с тем в «Путевых заметках» Успенский иронизирует и над собственными «мужичьими» романтическими иллюзиями, известную дань которым он отдал в предшествующий период.1 Совсем недавно (во «Власти земли») писатель находил положительный смысл, нерушимую силу, своеобразную «поэзию» в мире крестьянской жизни. Теперь же он признается, что ему жутковато жить в «сплошном океане».
Антинароднический смысл «Путевых заметок» состоял в том, что в них Успенский признал шествие капитализма в самых отдаленных и диких районах России. Наблюдения писателя были позже использованы В. И. Лениным в работе «Развитие капитализма в России». Говоря о превращении «гордого горца» в лакея, В. И. Ленин имел в виду характеристики Успенского. «...представьте себе, — замечает писатель, — в национальном живописнейшем костюме стоит <красавец-мингрелец> за буфетом железнодорожной станции и с каким тщанием режет сыр для бутербродов!» (VIII, 220).
Уже в декабре 1884 года в письме к М. М. Стасюлевичу Успенский заявляет о желании выступить на страницах «Вестника Европы» «в совершенно новом роде, без всякого народничества: я по этой части сделал всё, что мне было можно сделать и пришлось бы переливать из пустого в порожнее» (XIII, 403). Позже, в письмах к В. М. Соболевскому (1887—1888),
- 325 -
Успенский с увлечением говорит о своих новых творческих планах изображения «власти капитала». Писатель сообщает о задуманных для «Русских ведомостей» новых рассказах. «Всё у меня готово..., — признается он Соболевскому. — Назвал бы я эти очерки „Проступки господина Купона“. И первый был бы: „Пришествие антихриста (Ротшильд в Одессе)“. Уж вот бы с удовольствием-то начал работать!..» (XIV, 187). В другом письме к тому же Соболевскому Успенский вновь говорит о своем творческом воодушевлении новой темой и подчеркивает ее важность для понимания русской жизни. «...дело в том, — сообщает писатель, — что я теперь поглощен хорошей мыслью, которая во мне хорошо сложилась, — подобрала и вобрала в себя множество явлений русской жизни, которые сразу выяснились, улеглись в порядок. Подобно власти земли, — то есть условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия, — мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков „Власть капитала“ (XIV, 52—53). Успенский Раскрывает самый принцип подхода к избранной им теме, формулируя глубоко антинароднические положения. «Если, — рассуждает он, — „Власть капитала“ — название не подойдет, то я назову „Очерки влияния капитала“. Влияния эти определенны, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображаются цифрами, — у меня ж будут цифры и дроби превращены в людей. Эта тема ставит меня на твердую почву; теперь я перестаю мучиться случайными муками, которыми меня может мучить наше начальство, сумбурное, глупое, — словом начальство, которое мудрит по неведомым для меня соображениям... Я устал его ругать и не понимать. Пусть это делают более меня молодые писатели. Я же теперь возьмусь за такие явления жизни, которые не зависят ни от каких капризов правительства, — а неминуемы и ужасны» (XIV, 53).
Не отрицая факта насаждения капитализма «сверху» (см., например, очерк «Буржуй»), Успенский обращает особое внимание на его развитие «снизу». Если народник-экономист преимущественно был занят гаданием о том, как быстро развивается капитализм, успеем ли предупредить его торжество, то Успенский больше интересуется конкретным выяснением вопросов о том, как и откуда капитализм развивается. На эти вопросы он дает ясный, враждебный народничеству ответ: из старой общинной России. Вопрос о русском капитализме был для Успенского, следовательно, не просто очередной творческой темой, которую он собирался разрешать, оставаясь в кругу прежних интересов. У писателя речь идет о новом взгляде на социально-экономическую структуру русской жизни, он осознает необходимость подхода к ней с точки зрения развития капитализма.
Новые замыслы, о которых сообщает Успенский в письмах к В. Соболевскому, естественно вырастали из всего его предшествующего творчества и органически реализовались в его публицистике и художественной прозе 80-х годов. Еще в 1875—1876 годах он создает произведения «Злые новости» и «Книжку чеков», в которых было дано глубокое понимание не только зла капитализма, но и выражено признание его относительной прогрессивности, сравнительно с дореформенным, крепостническим строем жизни. Пользуясь методом социальных и психологических сопоставлений и антитез, Успенский в небольшом рассказе «Злые новости» дает почувствовать смену двух эпох, вскрыть сущность перевала в жизни Покровского, всё разнообразие выражения ломки психики, быта, труда. В этом разнообразии Успенский умеет обрисовать контраст между старым и новым. Неизменно сохраняя иронию в обрисовке своего «сказочного богатыря» и не забывая ни на минуту его страшного лика, Успенский вместе с тем видит, что капитализм несет пробуждение «коняге» и разрывает старые крепостнические путы.
- 326 -
В 80-е годы Успенский сосредоточивает свое внимание не на относительно прогрессивных сторонах шествия Купона, а преимущественно на разрушительных его действиях. Русский капитализм пореформенной поры сразу же обнаружил свою отвратительную, антидемократическую сущность, хорошо замеченную писателем. Многие произведения Успенского могли бы быть блестящей иллюстрацией к словам В. И. Ленина о «вампире-капитале», о той «цивилизации», которая «посредством всех ухищрений, завоеваний и прогрессов» ограбила крестьян.1
Успенскому был страшен путь капитализма. Об этом свидетельствуют скорбно-трагический тон его очерков, гротескные характеристики «антихриста» и «насилователя», те чувства и идеи, которые высказывает писатель, говоря о «греховоднике». Писатель обнажает отвратительную сущность Купона, создает уродливые, карикатурные образы, резко характеризующие нечеловеческий, гибельный облик Купона, его враждебность народу, жизни, его хищные аппетиты, отчужденность от искусства, противоположность красоте и т. п. Образ «буржуя» у писателя вызывает воспоминания о чем-то мертвом, трупном, холодном, распухшем, дурно пахнущем («Буржуй», см. IX, 460). Успенский сравнивает буржуя с «брюхом», а капитал с «сладострастной пастью», которая «чавкает свеженькое мясцо» и пьет «свеженькую кровушку» («Письма с дороги», X1, 300). Греховодник-капитал «мусорит» девственные места. В этом же плане писатель создает некоторые свои поэтические контрасты. Иронически рассказывает Успенский о том, как там, где «Струи Арагвы и Куры, обнявшись, будто две сестры», начинает «орудовать» Купон: появляется купец, он арендует то «самое место, где сестры-то обнялись», а затем возникает и дело о злоупотреблениях этого купца. Купон на «чистой», «невинной земле» тащит «всевозможный мусор», заводит «грязь и всякую гадость» (X, 366). Что-то «глубоко оскорбляющее» испытывает автор в обществе, основанном на рубле и во имя рубля. Успенский указывает на «притеснительный» характер действия Купона по отношению к крестьянину и рабочему человеку. Унижение человеческого достоинства — вот что, по мнению писателя, несет с собой купонный строй.
Успенский, как и Михайловский, хотел бы избежать ужасов капиталистической эксплуатации. Но, воспитывая у читателей отвращение, чувство брезгливости к «греховодническому обществу», автор не впадает в столь характерную для Михайловского истеричность. Под воздействием фактов русской социально-экономической действительности, под влиянием идей К. Маркса, развернувшегося еще в 70-е годы обсуждения «Капитала», а также под влиянием начавшейся в 1883—1885 годах борьбы русских марксистов с народниками2 Успенский признал факт капиталистического развития русских экономических отношений в целом.3 Купон завоевывает Кавказ, он «уже „проник“ и произвел всё то, что ему произвести подобает» и на Каме (XI, 31). Пробирается «греховодник» и на Черноморское побережье: в Новороссийске всё наготове, ждут его пришествия («Письма с дороги»). Купон оживляет Волгу, тащит фабрику и длинную трубу в самые глухие места («Прискорбное недоразумение», см. XII, 145). Успенский сопоставляет районы, уже тронутые Купоном, с районами, которые только еще ждут его пришествия. Писатель сравнивает дореформенные города
- 327 -
с городами, основанными «на рубле» и «для рубля» (см. X1, 366), патриархальный крестьянский уклад — с купонным семейным бытом. Нефтяной магнат его так же интересует, как и деревенский «кулачишка». Он описывает фабрику «первобытного устройства» и фабрику, «рафинированную гуманностью и филантропией» (см. IX, 100). Успенский описал железнодорожную горячку, обличал деятельность всевозможных банков, акционерных обществ. Он не прошел мимо семейно-экономических связей русских и иностранных фирм, уловил уродливое сращивание патриархального быта с капиталистическим строем жизни. Купеческие «старомодные» капиталы и «чековая книжка»; капиталистические (на американский образец) плантации Кубани и первобытное крестьянское хозяйство с «царицей» Сохой Андреевной; отечественная экономика и международная политика; соперничество русского и иностранного капитала, экономика и война — таковы многообразные темы, поставленные Успенским, автором очерков о разнообразных сферах купонного царства. При этом важно подчеркнуть, что писатель устанавливает многообразные связи между явлениями, процессами и фактами в рождающемся мире купонной жизни. То, что делается на Шексне, определяет то, каким тоном надобно «разговаривать теперь с Европой» («По Шексне», XII, 66).
Вновь встает перед Успенским и вопрос о рабочем классе. Он делает очень важные антинароднические заключения о психологии и сознании пролетариата, о его начавшейся борьбе. Искания художника не ограничивались узкими пределами «крестьянской непосредственности» и «первобытными орудиями». Если Н. Михайловский считал, что капитализм и пролетариат в России надо еще создавать, мужику еще предстоит быть оторванным от земли, то Успенский фактами действительности показал, что русский крестьянин уже давно отрывается от земли, что капитализм и пролетариат у нас уже есть. Если Л. Толстой предлагал в статье «О переписи населения в Москве» (1882) забыть «про то, что в больших городах и в Лондоне есть пролетариат» и считал, что так не должно быть в России, «потому что это противно и нашему разуму и сердцу...»,1 то Успенский утверждал, что в русских городах царит лондонская теснота, что независимо от нашего сердца и разума в России есть «рабочий вопрос». Писатель выражал сожаление, что на городской пролетариат литература не обращает внимания. Н. Михайловский и другие народники-теоретики доказывали, что русский рабочий ничего не имеет общего с европейским пролетарием. Русский рабочий в их глазах — тот же крестьянин, только временно ушедший в город.
В противоположность народникам Успенский обратил внимание на то, о чем говорил Плеханов. Промышленный труд «кладет такую же заметную печать на рабочего, как земледельческий труд на крестьянина», а «нравственность промышленного работника-пролетария шире нравственности крестьянской».2
Успенский не отрицал того действительного факта, что нарождающийся городской пролетарий то и дело «оглядывается» на деревню, мечтает вернуться на землю. В «Письмах с дороги» писатель дает анализ русской шахтерской песни («Что шахтерская жизнь проклята...») и проницательно угадывает в ней затаенные мечты измученного шахтера, вчерашнего крестьянина. «Его идеал, — замечает Успенский, — деревня, свой невыдуманный труд» (XI, 536). Однако писатель, в отличие от народников, не склонен умиляться перед грезами шахтера о деревне. Хотя шахтерская жизнь — та же
- 328 -
каторга, но шахтерские идеалы счастья, почерпнутые в «старой старине», обрисованы художником с иронической улыбкой. По мнению писателя, западный рабочий шагнул дальше русского пролетария. Он свои идеалы связывает уже не с прошлым, с подчинением «неведомой премудрости», а ищет их в будущем, в успехах ума. Поэтому зарубежный рабочий живет в атмосфере сознательной борьбы и побед. Успенский отнюдь не склонен идеализировать западноевропейского пролетария и условий его жизни. Он ясно видит, что зарубежный рабочий превращен капиталом в «тонкий волосок», в «спицу» огромной колесницы. Но для писателя важно, что западный пролетарий смотрит в будущее, приобщается к культуре, рассматривает себя участником истории, борется и уверен в своих стремлениях. Русскому рабочему еще не хватает этой сознательности. Опираясь на устное поэтическое творчество рабочих, на заводские, в частности, шахтерские частушки («Новые народные песни», 1889), писатель стремится проникнуть в психологию пролетария, в его нравственный мир, идеалы и взгляды на жизнь. По свидетельству современников, Успенский интересовался участием рабочих в революционном движении, работой интеллигенции среди них.
Тема вольнонаемного труда пролетария, работа с помощью машины, общественное положение рабочих, их просыпающееся самосознание и начавшаяся борьба — всё это крайне волновало писателя и вошло в его творческую работу. Он решает написать ряд очерков о «Власти машины». В незаконченном очерке «Машина и человек» автор констатирует факт «пришествия» машины в русскую жизнь.
В суждениях Успенского о машине есть одна характерная деталь, отличающая их от соответствующих положений современника писателя, марксиста Г. В. Плеханова. Последний говорит о людях, работающих с помощью машин. Успенский же говорит о власти машины, о попрании ею человека. В архиве Успенского сохранились характерные в этом отношении строчки: «Капитал. Очерки современной жизни. Оживающее железо и умирающий человек». Успенский прежде всего подчеркивает мысль о том, что машина превращает человека в свой придаток. В авторских рассуждениях из рассказа «Петькина карьера» (или «Карьера Петьки», 1886) имеется мысль о превращении крестьянского мальчика в «машинного человека». Автор с грустью рассказывает историю Петьки, его состязания с капиталом и машиной, которое должно кончиться для нового героя Преображенским кладбищем. Однако в печальном тоне рассказа слышатся и иные ноты. Успенский пытается понять иной, отличный от деревенского, строй психологии людей, воспитавшихся около машины. Главное и радостное, что заинтересовало художника в Петьке, — «не картуз и не каляная рубашка, а именно подъем духа, нравственное перерождение, которых я никак не мог объяснить себе!» (X1, 82).
Успенский признал, что власть капитала не только обезземеливает крестьянина, но и освобождает его от крепостной власти земли, от господства над ним природы, от удручающего испуга «пред жизнью, пред белым днем, перед каждым живым человеком» (X1, 83), от того идиотизма деревенской жизни, о котором писали основоположники научного социализма в «Манифесте Коммунистической партии». Еще в 1883 году в путевых кавказских заметках «Побоище» писатель, пытаясь объяснить причины массовых волнений рабочих в Баку, приходит к заключению, что главный двигатель в этих событиях — защита трудовым народом своего человеческого достоинства. Успенский стремится вникнуть в источники «щепетильности», столь развитой у рабочего, когда дело коснется его личности. Писатель приходит к очень важным результатам в своих наблюдениях. Оказывается,
- 329 -
щепетильность эта (в глазах писателя очень «важная» и «любопытная» черта) происходит от особенных, новых условий жизни. Чужая сторона дает пролетарию редкую возможность «думать принципиально». Находясь «в глубине России в сплошной массе однородно живущего и однородно трудящегося народа, к тому же в образе и порядках жизни подчиненного, в огромном большинстве случаев, не своей воле..., русский коренной земледельческий человек живет» бессознательной жизнью, «не критикуя» достоинств и недостатков окружающего. Попадая в новые условия жизни и труда, он «начинает думать о собственных формах жизни, начинает ценить их и сравнивать себя с другими... как человек ощущающий свою личность». Как рабочий человек, «получающий поденную или поштучную плату, он чувствует себя независимым..., ему не надо смотреть „на небо“ каждый день и думать: даст господь дождичка или не даст? ... Таким образом, — заключает писатель, — некоторая свобода, некоторый досуг дают голове русского человека известную возможность подумать, пообсудить, потолковать, „вообще“ покритиковать порядки, людей, нравы и обычаи...» (VIII, 283, 284).
Успенский в приведенных характеристиках, подчеркивающих пробуждение сознания рабочего человека, верно отразил знаменательный факт, о котором говорили и русские марксисты. В. И. Ленин указывал, что перекочевывания — важнейший фактор, мешающий крестьянам «обрастать мхом». «Без создания подвижности населения не может быть и его развития, и было бы, — замечает В. И. Ленин, — наивностью думать,1 что какая-нибудь сельская школа может дать то, что дает людям самостоятельное знакомство с различными отношениями и порядками и на юге и на севере, и в земледелии и в промышленности, и в столице и в захолустьи».2
Во второй половине 80-х годов Успенский обратился к изучению «бродячей Руси», к защите многомиллионных масс выгнанных из деревень тружеников земли. Наблюдения над трудом, стремлениями и чувствами этих кочующих толп привели его к очень глубоким выводам. Подчинение трудящегося человека капиталу является шагом вперед по сравнению с его крепостной зависимостью от власти природы. Успенскому, так чутко реагировавшему на усиление чувства личности в пореформенной России, особенно дорого то, что новые условия труда, создаваемые капиталом, будят сознание рабочего. Народники же, как и Л. Толстой, боялись соприкосновения крестьянина с фабрикой. «Нравственным» народники считали деревенскую жизнь, самостоятельного крестьянина, а «безнравственным» — наемный труд. Они оплакивали такой для них страшный факт, как отхожие промыслы, уход крестьян в города, превращение их в вольнонаемных тружеников. Экономического, морального и образовательного значения этих факторов народники не заметили и не исследовали.
Совершенно иначе, чем народники, на все эти явления взглянул Успенский. Говоря о «миллионных толпах рабочих», Успенский подчеркивает (очерк «Урожай», 1886), что «народное шатанье», невиданное в течение всего крепостного периода, имеет огромный «нравственный смысл». Успенский рассказывает именно о моральном и образовательном значении для народа его массового бегства из деревни. «Крепостной мужик, — заключает писатель, — прикованный к своему месту помещичьей властью, во веки веков и понятия бы не имел о том, с чем приходится сталкиваться оторванному от своих мест мужику» (X1, 62). Бродячему крестьянину, считает Успенский, приходится много узнавать. Новая обстановка «обогащает его мысль познанием
- 330 -
таких, явлений в современных порядках жизни, о которых ему бы и во сне не приснилось» (там же). Толпы переселенцев и кочующего рабочего народа приобретают «огромный материал для самообразования», запас «знаний по всем отраслям русской действительности...». Писатель подметил, что эта «наука» не может оставить в толпах «светлых впечатлений», она вызывает озлобление — «злой язык, злые насмешки, нахрап, грубость и явное желание при первой возможности — дать сдачи“» (X1, 63, 64). Успенский говорит о «буйных формах» пробуждения рабочего человека, о неорганизованности и несознательности первых вспышек его гнева.
В раздумьях о рабочем человеке Успенский приближается к той мысли Маркса, на которую ссылается Плеханов в своей статье о писателе. В «Письмах с дороги» имеется характерная статья «Рабочие руки». В ней Успенский сознается, что ему тяжело созерцать такое порождение Купона, как чернорабочий. Тем не менее, говорит он, «в этой чернорабочей среде чувствуешь себя более по-человечески... Чернорабочий уступает капиталу только руки, и выражение рабочие руки вполне точно обозначает качество жертвы, приносимой чернорабочим молоху-капиталу. Руки, спина, ноги — вот что куплено пока капиталом у мужика, крестьянина, чернорабочего. Душу, совесть, мысль — он еще не захватывал в свои лапы..., дело его на Руси пока новое» (X2, 143).
Успенский радуется, что Купон еще не успел купить и не купит душу рабочего, что последний «начинает сердиться на свое верблюжье положение» (X2, 144). Успенский признает, что «видавший виды рабочий по временам начинает ощущать и гнев, и стыд и, как я уже сказал выше, — сердится. Подъезжая к Ростову, мы видели, как оттуда по берегу промчался поезд по направлению к Новочеркасску, — специально военный: вагонов десять были наполнены казаками.
«Это они с усмирения ворочаются, — сказал один из пассажиров» (X2, 152).
Не случайно поэтому, что самым выдающимся и волнующим событием в жизни Успенского 80-х годов явился присланный ему по случаю 25-летия его литературной деятельности Адрес от тифлисских рабочих (1887). Знаменательно именно то, что в лице рабочих Успенский приобрел того действительного читателя-друга, появление которого он с такой тоской ждал. Письмо тифлисских рабочих ответило Успенскому на мучившие его вопросы, указало на важность его деятельности. По признанию рабочих, Успенский помогает им «сочувственным словом выбраться к свету», они высказывают пожелание, чтобы их «дорогой» и «любимый» писатель дождался «светлой поры — нашей радости,... праздника стонущих рабочих людей».1
В письме в Общество любителей российской словесности от 6 февраля 1888 года, явившемся ответом писателя на приветствия демократической общественности, Успенский рассматривает Адрес рабочих как голос «грядущего», еще не виданного в России, «свежего» и понимающего рабочего читателя. Комментируя письмо рабочих из Тифлиса, Успенский подчеркивает огромную ответственность русских писателей перед новым читателем (см. X2, 335—341).
Однако всех надлежащих выводов из своих наблюдений над «бродячей Россией», над жизнью и самосознанием пролетариата Успенский сделать не мог. До конца, как отмечала «Искра», он не сумел отказаться от своей безнадежной любви к тому идеалу крестьянской жизни на земле,
- 331 -
о котором говорилось выше. На вопрос о том, где же искать спасение бездомным людям, выброшенным из деревни, Успенский отвечал: нужно постараться вернуть их на землю, дать им возможность трудиться на ней, быть сытыми и счастливыми. Писатель оставался на позициях крестьянского демократизма в эпоху, когда на историческую арену выступил пролетариат и революционный марксизм, когда крестьянская демократия уже перестала быть передовым отрядом борцов. Поэтому демократизм Успенского не мог содержать в себе подлинно революционного решения общественных вопросов.
Вскрывая антинародную сущность капитализма, изображая его зло, Успенский знал, что власть Купона не может быть вечной. Хотя и не очень скоро, говорил он, но «купон будет уничтожен» (XI, 484). Но Успенский так и не понял, кто же уничтожит ненавистную ему власть и как она будет уничтожена, хотя и чувствовал, что в самом купонном царстве следует искать возможностей к избавлению от него. Непонимание того, кто явится могильщиком капитализма и создателем нового, некупонного строя жизни, должно было отрицательно сказаться на критике капитализма Успенским. Эта критика не могла быть последовательной, подлинно революционной. Писатель видел безудержно дикую эксплуатацию трудового народа, надругательство над личностью человека, он подслушал в толпе голос гнева и изобразил стихийный взрыв ее озлобления. Но вместе с тем в свою критику капитализма он внес наивность, иллюзии и бессилие этой толпы, наиболее наглядно выразившиеся в «Письмах с дороги». Успенский с надеждой оглядывался на деревню и ратовал за такие порядки в ней, чтобы она не порождала пролетариев. Но и здесь, впадая в иллюзии, он же и неумолим к ним. Никто иной, как Успенский, показал всю невозможность нормальной жизни в деревне. Такие колебания, такая борьба с самим собой, противоречивое соединение сильных и трезвых, прозорливых мыслей с утопическими надеждами явились отражением того метания между деревней и городом, землей и фабрикой, трудом на себя и трудом на других, которые были столь характерны для поденщика и батрака, деревенского полупролетария, уже втянутых в орбиту купонной жизни, но еще не расставшихся со своими земледельческими идеалами. Поэтому так причудливо уживаются у Успенского 80-х годов идея жизни «трудами рук своих» и насмешка, ирония над такой берложной жизнью, солидарность с «формулой прогресса» Михайловского и опровержение ее. Из указанных противоречий Успенский не вышел на твердый путь. Но важно то, что в своей критике капитализма Успенский звал не в «эдем патриархальной тупости» и «зоологической правды» жизни «по солнышку». Отвергая нечеловеческую правду капитализма, он высмеял и «райскую» жизнь «трудами рук своих». Он ненавидел хищное кулацкое гнездо, но и не мог тешить себя при виде миллионных масс бездомных людей «гнездышком» якобы самостоятельного крестьянина-хозяйчика. Успенский рвался на простор жизни, свободной и от власти Купона, и от гнета патриархально-крепостнической неподвижности.
Принципиально новым для характеризуемого периода в творчестве Успенского явилось то, что теперь он обращается непосредственно к политической проблематике, его крайне интересуют политические процессы того времени. Внутренняя и внешняя политика самодержавного правительства после 1881 года получила в лице Успенского, как и Салтыкова-Щедрина, своего глубокого обличителя. Писатель в ряде произведений и писем осудил реакционный курс внутренней и внешней политики правительства Александра III. Создавая своеобразную маскировку от цензуры, Успенский обращается к прошлым временам, к эпохе Аракчеева и реформ 1861 года. Характерно, что Успенский собирает сведения об Аракчееве, в архиве писателя
- 332 -
хранятся сделанные неизвестным жителем военных поселений воспоминания о нем. Прошлое, считал Успенский, должно «осветить безобразие настоящего». Намекая на лорис-меликовскую «диктатуру сердца», как диктатуру кнута и пряника, Успенский устанавливает, что для всей политики российского самодержавия и его слуг было характерно сочетание «меда» и «дегтя». Каждый новый период в истории «усвоения новых порядков» отмечался или медовым «(мягче! либеральнее! не так круто! и т. д.)», или дегтярным характером «(без послабления! неумолимо! непоколебимо твердо и т. д.)» (VIII, 514); а наиболее часто соединением того и другого.
Руководствуясь своим пониманием существа самодержавно-бюрократической политики, сочетающей в себе «мед» и «деготь», Успенский высмеял деляновский циркуляр о «кухаркиных детях», вскрыл антинародную деятельность крестьянского банка, показал убожество, непоследовательность и бесплодность крестьянского законодательства. Тексты «высочайших» повелений, манифестов и речей, статьи Каткова, выступления членов государственного совета, прожекты Пазухина, не говоря уж о лорис-меликовских докладах, не были лишены «медово-дегтярной» манеры, сатирически высмеянной Успенским.
Созданное Успенским образное понятие «деготь» и «мед» характеризовало не только политику Александра III и самодержавия в целом. Своим образом-понятием Успенский пользуется для определения сущности всего самодержавно-чиновничьего строя жизни, ее господствующих общественных условий и нравственных понятий. В изъятых редакцией «Русских ведомостей» страницах «Писем с дороги» писатель говорит о «медово-дегтярном строе жизни». Успенский становится на точку зрения того положения, в котором оказывается русский крестьянин, подвергающийся одновременному воздействию руки, источающей, с одной стороны, мед, а с другой — деготь. В результате такой «педагогики» образуется продукт русских медово-дегтярных условий жизни: невинный «мужик», со следами розог, в кандалах и на каторге. Но и в тюрьмах, на каторге «мужиков» ставят в те же медово-дегтярные условия: «мысль „тюрьмоведа“ одновременно совершенствуется в двух совершенно противоположных направлениях — наилучших условии исправления и наилучших условии заточения» (XII, 205—206).
Художник создал образы, в которых обобщающее воплотил сущность «лютой жизни», «безобразия настоящего». В серии «Бог грехам терпит» (1881) имеется полный юмора и издевки, политических намеков рассказ «Маленькие недостатки механизма», в котором автор дает почувствовать темную, грубую и неразборчивую силу самодержавно-полицейских предписаний: «немедленно», «разыскать», «представить», глядишь — «сцапали и поволокли». Человек — «чист», но боится: «Ну-ка..., какое-нибудь окажется касание, бог его знает? .. Потому, ежели человек не знает ничего, не понимает и в то же самое время боится беспрестанно, то всё можно...» (VII, 323, 324, 335).
«Безвременье» — так одним словом охарактеризовал писатель эпоху 80-х годов, время, когда по шапке узнавали «социлиста» (VII, 495), когда слово «агент» было «так же всемогуще, как во времена Гоголя было всемогуще слово „ревизор“» (VII, 379). Писатель говорит о невыносимо тяжелой обстановке 80-х годов, когда требовалось, чтобы вся жизнь человека «была перед начальством „как на ладони“... — молчи, терпи, ешь и не расспрашивай» (VII, 374). И писатель приходит к общей оценке эпохи 80-х годов: «неприветлива» и «некрасива», «неласкова современная действительность» («Безвременье»).
- 333 -
Успенский ведет напряженную борьбу со всеми проявлениями политической, в особенности идеологической реакции. Он выступил решительным противником тех примиренческих, ренегатских, оппортунистических и либерально-кулацких идей, которые уже в 80-е годы стали явственно определяться в среде народнической интеллигенции. Звание «интеллигентного человека» в представлении Успенского 80-х годов обязывало к тому, чтобы быть общественным деятелем-борцом, а не приспособленцем. Убежденный в неправде окружающих отношений, «интеллигентный человек» обязан «требовать перемен в окружающем положении», поступать «вопреки требованиям среды, поступает в смысле несогласия с окружающими обстоятельствами и положением дел» (XIV, 295).
Успенский не впадал в тот мрачный, безысходный пессимизм, который всё более охватывал русскую интеллигенцию и нашел выражение в статьях В. Соловьева. Успенский признал необходимым решительно выступить против пессимистических взглядов этого философа. В феврале 1888 года под впечатлением соловьевской «громокипящей» статьи «Россия и Европа» Успенский задумал и частично написал статью «Хорошего понемножку», в которой пессимизму Соловьева противопоставил идею исторического прогресса.
Вместе с тем Успенский ведет борьбу и с антиобщественными, «десертными» вкусами и настроениями «скучающей интеллигенции» и «взбеленившегося обывателя». Замечательным документом этой борьбы является очерк «Скучненько!» (1885). Здесь писатель высмеивает критику, выражающую жажду «общества» ожить «в ореоле восторга», найти облегчение от тягот жизни в области искусства, далекого от улицы и низведенного «на степень развлечения».
Отвечая Н. Минскому и всем певцам «гармонических впечатлений», чистых «идеалов», «красивого тела», Успенский провозглашает свой программный тезис о том, что истинная красота выражает лучшие чаяния и представления народа и должна служить народу, воодушевлять на подвиг во имя народа. В 1885 году Успенский создает свой программный очерк «Выпрямила», посвященный величайшему творению искусства — Венере Милосской. Апологеты «искусства для искусства» видели в Венере Милосской воплощение того «чистого» и «вечного», что призвано возбудить «ореол восторга», «пафосскую страсть», чувство неги и наслаждения живым, «смеющимся» телом. Записки Тяпушкина резко полемичны по отношению к идеям, высказанным Фетом в стихотворном и прозаическом описании Венеры Милосской. Венера Милосская в представлении Успенского дает возможность «чуять» тот идеал, то совершенство жизни, к которому через общественную борьбу и искания ума должен прийти человек. Животворящая «тайна каменного существа» несет «большую радость» и «счастье», она «выпрямляет» и расширяет «скомканную человеческую душу», знакомит «с ощущением счастия быть человеком» (X1, 265, 270).
Идеал, данный творцом Венеры Милосской, сливается в представлениях Успенского с тем, что хранится в недрах трудовой народной жизни, в облике героической личности, одухотворенной борьбой за счастье народа. Вот почему мысли о Венере Милосской воскрешают в памяти Успенского и дорогие ему черты В. Фигнер. В наброске «Венера Милосская», являющемся черновым вариантом «Выпрямила», имеется прямое указание на В. Фигнер («припомнилась мне Ф...», X1, 468). В окончательном тексте этот намек был заменен словами: «фигура девушки строгого, почти монашеского типа» (X1, 251). Венера Милосская воскрешает и картины радостного, как бы освобожденного от каторги труда народа. И Венера Милосская, и изящно, легко
- 334 -
и гармонически работающая «деревенская баба», и, наконец, строгая девушка, олицетворяющая «гармонию самопожертвования», воплощают в себе прекрасное, напоминая писателю о жизни, которая должна быть, о необходимости борьбы ради ее торжества. Положения Н. Г. Чернышевского о том, что «прекрасное есть жизнь», «такая жизнь, какую хотелось бы ему <человеку> вести, какую любит он», и «прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям» (II, 10), получили в творчестве Успенского дальнейшее развитие. Собственно уже Чернышевский указал на красоту трудовой жизни народа. Успенский знал каторжные условия труда народа. Но он же, предвосхищая М. Горького, указал и на торжествующую поэзию, красоту труда.
Прекрасное в жизни и в искусстве, возбуждая отвращение к строю жизни, основанному на угнетении человека человеком, и говоря о такой жизни, которая должна быть, распрямляет душу измученного человека и говорит ему: «не робей». Прекрасное возбуждает и воодушевляет человека к деятельности на благо народа, поднимает его на борьбу за торжества идеала, воплощенного в прекрасном, обязывает к служению народу во имя «бесконечно-светлого будущего». Но Успенский не понимал, что счастье ощущать себя человеком способен утвердить на земле только научный, пролетарский социализм, он не знал реальных путей пересоздания жизни по законам красоты. Поэтому так естественно для него иллюзорное упование на целительную силу идеала, заключенного в Венере Милосской. Успенский не понял, что Парижская Коммуна, изображенная им в записках «Выпрямила», как раз и несла отрицание ненавистного писателю купонного строя жизни во имя тех идеалов, которые он открыл в Венере Милосской.
Произведения писателя 80-х годов характеризуются, как и прежде, слитностью художественного образа и публицистики. Неверно представление некоторых современников Успенского, в том числе и Г. В. Плеханова, о том, что в последний период деятельности писатель будто превратился исключительно в публициста, перестав быть художником. В. И. Ленин, а также ленинская «Искра», отводя эти необоснованные заявления, указали на познавательную силу и совершенство художественно-реалистического искусства Успенского. Во второй половине 80-х годов писатель создал ряд беллетристических произведений («Про счастливых людей», 1885; «Развеселил господ», 1886; «Петькина карьера», 1886; «Не быль, да и не сказка», 1887; «Паровой цыпленок», 1888; «Взбрело в башку», 1888; «Расцеловали», 1888; «Извозчик с аппаратом», 1889; и др.), которые наглядно свидетельствуют, что ни о каком «упадке» художественного дарования Успенского или о перерождении его творчества в «чистую» публицистику не может быть и речи. Писатель на протяжении всего творческого пути не терял огромной художественной творческой силы, которая обеспечила его произведениям славу образца в области очерка, маленького рассказа, художественной публицистики, полемической статьи-очерка, фельетона, сказки. Именно в этой области Успенский открыл путь А. П. Чехову и В. М. Гаршину, В. Г. Короленко и А. М. Горькому.
В 80-е годы Успенский создает большие очерковые циклы («Скучающая публика», 1883—1884; «Волей-неволей», 1884; «Через пень-колоду», 1885; «Кой-про-что», 1885—1887; «Письма с дороги», 1885—1888; «Поездки к переселенцам» и др.). Своеобразие этих очерковых серий сравнительно с предшествующими заключается в том, что они лишены ведущих персонажей (за исключением «Волей-неволей» — отрывков из записок Тяпушкина). В композиционном отношении они не имеют той проблемной целостности, которая характеризовала предшествующие очерковые циклы о деревне.
- 335 -
«Живые цифры». Автограф Г. И. Успенского. 1888.
- 336 -
В журнальном варианте очерков «Через пень-колоду» имеется важное отступление, в котором писатель характеризует свои новые очерки. Жизнь, говорит Успенский, идет вперед, но с такими «ненужными, нелепыми, жестокими случайностями и осложнениями, что выражение через пень-колоду, которым мне хотелось охарактеризовать это бестолково-трудное движение, можно упрекнуть разве только в некоторой мягкости...» (IX, 595). Но если так идет жизнь, то волей-неволей через пень-колоду должна идти и мысль наблюдателя, что в свою очередь не может «не класть своей печати на манеру и на способ литературного изложения». Очерки должны показаться беспорядочными, «мечущимися с предмета на предмет, прерывающими речь об одном для того, чтобы, начав о другом, также прервать и начать о третьем и т. д.» (IX, 596). Успенский просит не смущаться «видимою нестройностью» его наблюдений. Автор указывает, что в его беспорядочных очерках есть центр, как он есть и в самой жизни, которая «идет и идет вперед, идет к правде, к торжеству ее» (IX, 596).
Писатель выражает надежду, что к этому же центру сойдутся все те «якобы случайности отступлений от начатого, прерванных речей и т. д.» (IX, 596). Существенно было и то, что Успенский в 80-е годы обращается к изображению масс, находящихся в движении, в исканиях, а он, автор, движется вместе с ними. Мимолетные встречи, знакомство с разнообразными представителями трудового народа, «образованного общества», Купона, беседы, случаи дорожной жизни, столкновений заполняют страницы очерков Успенского, придавая им своеобразие. Они тесно переплетаются или отдаленно перекликаются между собою, образуют единое большое полотно и создают впечатление, будто автор пишет их, не отрываясь от пера и не зная, когда должны завершиться его встречи и разговоры. Соединенные вместе, очерковые циклы Успенского последних лет создают обширнейшую и разностороннюю картину народно-трудовой жизни России в условиях капитализма. В центре этой картины — трудовая масса в ее отношениях с теми, кто командует народом и покупает рабочие руки. Психология толпы, песня, смех, речь, мнения о жизни, чаяния и стремления, невзгоды и радости, смерть, борьба с голодом — всё это изображено Успенским так сильно, ярко и широко, как еще никто из русских писателей не изображал. В массовых сценах и картинах, событиях и эпизодах Успенский показал себя мастером народного диалога. Писатель стремится понять, чем живет эта многомиллионная толпа, как она объясняет свою жизнь. И поэтому так естественен его интерес к тому, о чем она говорит. Успенский умеет слушать и наблюдать толпу, сливаться с нею, улавливать в ней тончайшие движения души и сердца, сильные порывы гнева и озлобления. Масса в изображении писателя — не безликая, однообразная толпа. Успенский поистине велик, когда он воспроизводит в рамках небольшого рассказа или очерка разноречивые суждения, борьбу мнений, столкновение разных точек зрения, мимолетные переходы и оттенки в диалоге, сливая всё это с зарисовкой общей обстановки, портретов участников бесед и споров, их нравственного и социального облика, колорита их речи. Рассказ «Паровой цыпленок», положительно оцененный Л. Толстым, воспроизводит беседу простых людей «о душе». Главный оратор, курятник, специалист по «куриной психологии», утверждал, что паровой цыпленок не имеет души: «он и ходит и ест, а размышления в нем нет». Юмористически переданный разговор об искусственном разведении цыплят сменился суждениями о выдумках вообще и был завершен горьким признанием молчавшего до сих пор «недоимщика»: «...нашему брату, мужику, всё от выдумок-то хуже да хуже... Давит нас выдумка на всех путях, жмет... А подати — подай...» (X2, 295). Комментируя слова
- 337 -
«серого мужиченки», автор дает обобщающее заключение, которое вместе с репликой недоимщика пропитывает веселый юмор рассказа той печальной иронией, которая была так характерна для писателя.
По этому же принципу построен и рассказ «Извозчик с аппаратом». Здесь тоже с юмором воспроизводятся мнения толпы об удобствах и неудобствах использования извозчика, имеющего счетный аппарат. Начатый с веселым юмором, рассказ завершается уже не печальной иронией (как в диалоге «Паровой цыпленок»), а выражением авторской душевной муки, вызванной и положением доведенного «до мертвого молчания» извозчика, и бездушием общества к его судьбе, ликованием «чистой публики» по случаю открывшейся возможности за гривенник сделать на извозчике конец в версту.
Успенский особенно ценил народное слово, сказанное без оглядки на начальство, он был великим мастером иносказаний, раскрывающих истинное лицо действительности. А. М. Горький сказал, что Успенский «не мог, по условиям царской цензуры, точно воспроизвести мужицкие речи».1 Неласковые речи людей простого звания о начальниках и порядках, распоряжениях правительства подтверждают справедливость замечания М. Горького. Успенский действительно не мог передать всего, что он слышал и видел во время своих встреч с трудовым народом. Намеки, идущие далеко, а чаще выразительный жест и мимика, умолчания — вот то единственное, что оставалось в распоряжении писателя. И не случайно он с таким искусством разработал мимический диалог и признавался, что можно «обо многом» молчать (IV, 70). Очерк «Пока что» (1887) является образцом такого мимического диалога. В дискуссии о просвещении принял участие «батюшка». В ответ на усиленные крики земца о том, что нельзя всем идти в школу, батюшка возразил: «Да позвольте... Человек создан по образу и подобию божию...». В толпе поддержали такое заявление: «Верно!..».
«А образ божий неотъемлем от божией премудрости... Каким же родом можно отнять премудрость от образа человеческого?». В толпе опять поддержали такой ход аргументации в пользу просвещения. «Ведь „премудрость“ обязательна для человека, раз он по образу божию сотворен, а не то что...
«— Вот то-то и оно-то! — послышалось со всех сторон.
«Это выражение было как бы сигналом для того, чтобы ясная и живая речь собеседников мгновенно заменилась мимикой. Всеобщая и инстинктивная потребность в мимике почувствовалась всеми (как это я замечал множество раз) именно в тот момент разговора, когда собеседникам стала совершенно ясна цель беседы..., когда именно и должен бы был начаться настоящий, полный жизненного интереса разговор. Но наша мысль привыкла, пока что, останавливаться именно перед самою-то сутью дела, привыкла ждать, годить и ограничиваться мимическим решением вопроса.
«— А между тем, что мы видим? — спрашивал батюшка и многозначительно умолкал.
«— То-то и оно-то! — кричали все хором» (X2, 400—401). А через минуту началась уже чистая мимическая пантомима.
Хотя Успенский и делал замечания о несовершенстве своих произведений, о том, что они неладно скроены и не вполне крепко сшиты, что они — не более, как черновая работа литературы, однако в них неизменно виден большой художник и мыслитель. Он соединяет строгое исследование жизни с обсуждением общественных задач с точки зрения нужд трудящихся. В этом легко убедиться на примере изображения им живых цифр («Четверть
- 338 -
лошади», 1887; «Квитанция», «Дополнения к рассказу „Квитанция“», «Ноль целых», 1888). Здесь органически слилось всё, что так присуще писателю: и великая правдивость анализа жизни людей, превращенных капиталистической действительностью в дроби и нули, и громадный художественный талант, с которым он изображал микроскопические цифры статистических таблиц в образах живых людей, и страдания писателя при виде жизни несчастных бедняков, его попытки вступиться за них. С искусством большого художника Успенский проникает в самые тайны существования «живых цифр». Писатель считал, что цифрами говорит «сущая правда», что быть десятичной дробью, потерять самое малейшее представление о праве на существование, напоминающее «целое», есть удел трудящихся в условиях капиталистического общества. «Три ужасных нуля» — так выразительно и с потрясающим смыслом назвал Успенский один из своих очерков, в котором живыми и страшными встают эти нули, характеризующие положение деревни: на учебную часть — 0, на больницы — 0, на благотворительную часть — 0. Успенский в цифрах разгадывал драму народной жизни.
7
Г. В. Плеханов в статье об Успенском рекомендовал ему отказаться от народнических теорий и обратиться к марксизму. Выражение глубокого уважения к К. Марксу, преклонение перед его научным авторитетом встречаются в текстах и устных высказываниях Успенского задолго до статьи Плеханова. А. И. Иванчин-Писарев в своих воспоминаниях («Из жизни Г. И. Успенского») рассказывает о неодобрительно-насмешливом отношении писателя к попытке Степняка-Кравчинского создать сказку («Мудрица Наумовна»), популяризирующую «Капитал» Маркса. Успенский по этому поводу явно иронизировал («Карла Маркса в сказку вздумал переделать»), считая, что учение автора «Капитала» не нуждается «в пышных ризах фантазии». «Мне думается, — говорил Успенский, обращаясь к Кравчинскому, — рабочий скорее усвоил бы идеи Маркса, если бы вы прямо изложили их простым языком...».1
Данный эпизод относится ко времени пребывания Успенского в Париже, перед отъездом его в Калугу (1875). Видимо, писатель ознакомился с первым томом «Капитала» сразу же после его легального издания в Петербурге в 1872 году. Имя Маркса появляется в работах Успенского, начиная с 1881—1882 годов.
Во второй половине 80-х годов Успенский мучительно бьется над решением основного для себя вопроса: кто прав в понимании экономической жизни России, марксисты или народники? Об этом свидетельствует небольшой цикл очерков 1888 года под общим названием «Грехи тяжкие», включающий очерк «Подробности неожиданной путаницы. Пришествие господина Купона. Следы темной старины». Этот очерк печатался в «Русской мысли» в тот момент, когда писатель создавал свой ответ («Горький упрек») на письмо Маркса в редакцию «Отечественных записок», датированное ноябрем 1877 года и опубликованное в России в «Юридическом вестнике» в 1888 году.
Сопоставление очерка «Пришествие господина Купона...»2 с «Горьким упреком» говорит об их определенной идейной связи. В статье о письме
- 339 -
«Горький упрек». Автограф Г. И. Успенского. 1888.
- 340 -
Маркса писатель разрешает те мучительные для него сомнения, которые он столь напряженно высказал в очерке. Желая понять царство Купона, Успенский в названном очерке выражает сомнение в правильности своих взглядов и обращается к взглядам марксистов. «Есть взгляды, — говорит он, — освещающие их совершенно иным светом, есть люди умные, знающие эти порядки в подлиннике, то есть изучившие их на месте их возникновения, в Европе, которые смотрят на это дело совершенно иначе. Уравнение всего общества, то есть всех сортов „инструментов“, от огромного до самого маленького размера, будто бы уравняет всё перекалеченное человечество и в стремлении к выходу из этих тисков; мало того, наши разглагольствования о мужике и о том, что он „всё сам“ и так далее, почитаются проповедью полного отчуждения от общественности... Берлога медвежья — вот что такое „трудами рук-то своих“, братец ты мой!.. Да, брат, существуют и такие взгляды на трудолюбивого земледельца! Что будешь делать? Действительно, для иного бесчувственного существа лучше такой берлоги, как деревня, не найти места; можно прожить век, не ощутив душевного беспокойства, — а это неправда, потому, что кругом беда и горе, и грех. Надо крепко подумать об этом деле. Может быть, и правда, что современные купонные злодейства увенчаются, в конце концов, всеобщим, всечеловеческим стремлением к устроению жизни ко благу всякого, я не знаю!» (XI, 373—374).
Приведенные суждения Успенского о судьбе человека и народов при капитализме чрезвычайно характерны и для самого писателя. И ему свойственен страх за судьбу человека, и горькая ирония над собственными убеждениями, и стремление мужественно смотреть вперед, понять учение «умных людей» о том, где следует искать спасения человеку при капитализме. Очерк овеян скорбными раздумьями и сомнениями.
В статье «Горький упрек» Успенский делает новый шаг по пути прояснения своих взглядов, преодоления своих сомнений. Письмо Маркса помогло художнику разобраться в собственных исканиях, уяснить экономическое положение России, задачи русского передового общества, литературы и журналистики. Успенский выражает сожаление, что на письмо Маркса русская журналистика не обратила внимания. Он рекомендует В. Соболевскому сделать из него извлечения на страницах газеты «Русские ведомости», посылает письмо профессору Миллеру, осведомляет о нем Михайловского. Наконец, в конце декабря 1888 года Успенский пишет для «Волжского вестника» статью «Горький упрек», явившуюся прямым ответом на письмо Маркса. Статья Успенского по цензурным условиям не была опубликована на страницах «Волжского вестника»,1 но в рукописи была известна широким кругам казанской интеллигенции, в среде которой Успенский имел большую популярность. В. Н. Поляк, заведующий редакцией «Волжского вестника», в одном из неопубликованных писем к Успенскому (1888 год) сообщает, что «статья „Горький упрек“, не пропущенная цензурой, ходит здесь по рукам. Меня просят спросить Вас, — не позволите ли ее списать в нескольких экземплярах, так как желающих прочесть ее — масса».2
Статья «Горький упрек» написана с огромным подъемом, определившим весь ее тон и художественно-публицистические черты. Если очерк «Грехи тяжкие» проникнут скорбно-лирическими раздумьями автора о том, «что-то
- 341 -
будет?», «как это понять?», то «Горький упрек» по своему жанру, по тону, приемам развертывается публицистически, как целенаправленный и мобилизующий ответ писателя на захватившие его в очерке сомнения.
Письмо Маркса отвечало на самые сокровенные думы писателя, его глубокие волнения и беспокойства. Недаром в письме к В. Соболевскому он признается: «Как это письмо меня тронуло! Ведь это Маркс! Не Лев Толстой, не Вышнеградский, не Катков» (XIV, 198). «Нет! — подчеркивает писатель в самой статье. — Это не московский „патриот своего отечества“, вопиющий о поощрении „прызводства“ средствами казначейства; это не „народник“ с искреннею любовью к прекрасному, тщательно собирающий цветочки радующих душу [измученного, истосковавшегося общества] действительно благообразнейших явлений нашей народной жизни; это и не „марксист“, полагающий, что цветочки, собираемые народниками, должны всё-таки погибнуть ввиду фатальности теории капитализма» (XII, 13).
Таким образом, Маркс как исследователь русской экономической жизни стоит, по характеристике Успенского, неизмеримо выше всех тех представителей русской общественной мысли, которые безуспешно пытались дать объяснение русской действительности. В противоположность им Маркс выдвигает, по мнению писателя, совершенно новые, подлинно научные принципы подхода к изучению экономики. Успенский особенно подчеркивает противоположность марксова метода народнической субъективной социологии. Маркс как ученый дорог Успенскому тем, что он, по словам писателя, не разделяет явления нашей жизни на отрадные и безотрадные, но берет их «в полном объеме» и извлекает из них «ничем не прикрытую, подлинную сущность» (XII, 10). Такой подход позволяет Марксу, по мнению Успенского, быть строго объективным, правдивым в своих суждениях и выводах об экономике России и Западной Европы. Все эти высказывания Успенского, несомненно, были направлены против субъективно-социологического метода народников. Именно для них были характерны произвольные и догматические, субъективистские суждения о действительности, представление о ней как о сумме «отрадных» и «безотрадных» или «желательных» и «не желательных» явлений, игнорирование ее «полного объема», неумение понять ее «подлинную сущность».
Высоко оценивая лишенный хотя бы малейшего «колебания в понимании подлинной сущности фактов нашей действительности» метод Маркса и противопоставляя его прежде всего методу народников, Успенский полностью соглашается с тем выводом, к которому пришел Маркс в своих изучениях экономического положения России. «Несколькими строками, — говорит писатель, — написанными так, как написана каждая строка в его „Капитале“, то есть с безукоризненной точностию и беспристрастием, — К. Маркс осветил весь ход нашей экономической жизни, начиная с 1861 года» (XII, 7).
Успенский обращает особое внимание на научную добросовестность Маркса, на тщательное и длительное изучение им русских источников. Писатель поражен, что автор письма взял на себя огромный труд изучения русского языка с тем, чтобы иметь возможность в подлинниках знакомиться с русскими материалами. Неудивительно поэтому, что «слово» Маркса о России Успенский берет в качестве руководства в оценке положения и задач России. У Маркса, констатирует он, «строгий, беспристрастный взгляд... на „нас, русских“, на наш русский народ, на его экономические особенности и на его поистине священные обязанности к самому себе...» (XII, 7—8). Письмо Маркса выражает, по словам писателя, «грозный и горький упрек в том великом грехе, который русское общество совершает против самого же себя» (XII, 7). Этот упрек, посылаемый Марксом, следует
- 342 -
услышать, подчеркивает Успенский, «всякому русскому человеку, чтобы, так сказать, „опомниться“, „очувствоваться“ в понимании своих личных и общественных обязанностей» (XII, 7).
В этих словах сказывается отзвук народнических иллюзий, до конца не изжитых писателем. Однако важно другое. Статью «Горький упрек» следует рассматривать с учетом очень важного письма Успенского к В. М. Соболевскому от 3 ноября 1888 года. В нем писатель особо выделяет основное положение письма К. Маркса: «Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она игла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, — чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя».
Процитировав эти слова Маркса, Успенский дает к ним выразительный антинароднический комментарий: «Ведь это смертный приговор!.. Вот тут-то и было наше дело — да сплыло» (XIV, 197). После таких категорических комментариев становится очевидным, что перед Успенским как автором «Горького упрека» вовсе не стояла типично народническая проблема о том, удастся ли лучшим людям России приостановить наступление капитализма и повернуть развитие страны на особый путь, исключающий капитализм. Крах «хождения в народ», разгром «Народной воли», бичуемая писателем общественная пассивность интеллигенции, весь опыт русской жизни за десять лет, прошедших после 1877 года, когда Маркс написал свое послание, говорили Успенскому, что в стране нет фактических данных, нет реальных сил, которые позволяли бы надеяться на скорое устранение Купона, что русское общество ничего не сделало для того, чтобы воспользоваться возможностями «прекрасного случая», и поэтому Россия продолжает развиваться именно в том капиталистическом направлении, в каком она развивалась, по характеристике Маркса, с 1861 года. И писатель в том же письме к Соболевскому осуждает тех «самохвалов», которые «из статистических данных извлекают одни прелести жизни народа, великое будущее (В. Пругавин, В. В.), выбрасывая всю мерзость запустения...». Как и народников-самохвалов, Успенский осуждает и «Марксов-Карликов», которые «выбрасывают из этих же данных всё, что еще живо оригинальностию, конечно, случайно, и повелевают покориться всем „перипетиям“» (XIV, 197). Из этих положений Успенского видно, что он ведет борьбу и против «самохвалов» (т. е. народников), и «Марксов-Карликов». Под последними Успенский вовсе не разумеет всех марксистов. «Марксы-Карлики» — образ, которым писатель характеризовал опошленное, искаженное и вульгарное понимание идей Карла Маркса. Если крестьянина обрекали на «вываривание в фабричном котле», говорили о благодеянии такого фазиса, становились в позу апологетов капитализма и доказывали непоколебимую непреложность, фатальность его законов, выдавая всё это за «марксизм», то Успенский, обличитель капитализма и защитник трудового народа, высмеивая подобные взгляды, назвал их носителей «Марксами-Карликами». Писатель проницательно разграничивает вопрос о том, как теорию Маркса понимали его «почитатели» и «противники» и как ее понимает сам Маркс. С чувством глубокого удовлетворения Успенский отмечает, что Маркс своим воззрениям на судьбы человечества вовсе не придает того фатального смысла, который ему приписывали критики и который открывали в его трудах псевдопоследователи. Поэтому полемика Михайловского против Маркса явилась в представлении Успенского собственно недоразумением. Из статьи Успенского видно, в какое действительно смешное положение попали «критики» Маркса во главе с Михайловским.
- 343 -
Иллюстрация:
Сочинения Г. И. Успенского. Титульный лист первого издания. 1883.
С дарственной надписью В. М. Гаршину.
- 344 -
Статья «Горький упрек» в целом — один из выразительнейших памятников старой русской демократической публицистики той эпохи, когда идеи марксизма начали пробивать себе путь в России, завоевывать умы пролетариев и передовой демократической интеллигенции. Успенский смело шел навстречу этим идеям. Его ответ на письмо К. Маркса, проникнутый чувством глубокого, искреннего уважения к творцу «Капитала», явился не только отражением исканий самого автора. «Горький упрек» вместе с тем отражал и всё возрастающий авторитет марксизма в широких пролетарских и демократических кругах русского общества. Чувствами и мыслями этих кругов и руководствовался Успенский, говоря с глубочайшим уважением и признательностью о Марксе.
В итоговых исканиях Успенского 80-х годов наметился разрыв с народнической идеологией. Однако он не сделал того решительного шага, который мог бы избавить писателя от его иллюзий и поставить на твердую почву научного мировоззрения. Успенский в фабричном рабочем не признал ту социальную силу, которая способна преобразовать общество. Писатель не увидел в городском пролетарии того действительного друга трудовой деревни, которого он столь упорно и безрезультатно искал. Успенский не дожил до серьезных успехов крестьянской демократии, возглавленной рабочим классом.
Всё это должно было привести и привело писателя к катастрофическим итогам. Е. Леткова свидетельствует о мучительном признании писателя: «А душа-то народа опустошается, да опустошается. А как бороться? И есть ли такая сила? Я сейчас не вижу, не вижу...».1 В письмах Успенского конца 80-х — начала 90-х годов мелькают выражения, свидетельствующие о его тяжелом нравственном состоянии. Ему сухо и холодно жить, он сбит с толку течением времени, безобразие настоящего и тьма кромешная давят и терзают его.
Одним из непосредственных источников приближавшейся душевной болезни писателя явился потрясший его голод двадцати губерний в 1891 году, на что обратил внимание В. Короленко. В автографе отрывка из Памятной книжки (предположительно 1893 год) пребывание в Колмовской лечебнице связывается Успенским со страшным голодным годом в России.2
Успенский скончался 7 апреля 1902 года.
*
В. И. Ленин высоко ценил наследие Глеба Успенского. Свое отношение к творчеству писателя В. И. Ленин выразил известной цитатой из английского издания книги одного из первых русских марксистов И. А. Гурвича — «Экономическое положение русской деревни» (1892). В работе «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» В. И. Ленин, указывая на одну из коренных ошибок «старого русского социально-революционного народничества» — «непонимание классового антагонизма внутри крестьянства», — с удовлетворением обращается к названной книге И. Гурвича и вносит его подстрочное примечание о Глебе Успенском в основной текст своей работы. В примечании И. Гурвич писал: «Глеб Успенский одиноко стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общую иллюзию. Со своим превосходным знанием крестьянства и со своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм
- 345 -
сделался основой экономических отношений не только между ростовщиком и должником, но между крестьянами вообще». (См. его статью «Равнение под одно» в «Русской мысли», 1882, № 1).
В истории русского критического реализма Успенский занимает своеобразное и почетное место. Сохраняя связь с эстетикой революционной демократии, следуя в существенном за реализмом Щедрина и Некрасова, Успенский, однако, обнаруживает и свою зависимость от патриархальных иллюзий в демократическом движении, поэтому он отдает известную дань народническим предрассудкам, слабым сторонам толстовского учения, проявляет он известные колебания в отношениях к Достоевскому, выражает симпатии к некоторым идеологам сектантского движения. Писатель иногда становится в позу художника-моралиста. Эта особенность реализма Успенского сближает его с В. Гаршиным. Но у автора записок «Волей-неволей» еще нет гаршинского превращения фактов повседневной жизни в давящий и терзающий кошмар, во всечеловеческую трагедию.
Успенский связан и с Чеховым, который называл своего старшего собрата первоклассным писателем и часто цитировал его. Сурово реалистическая, антинародническая традиция Успенского в изображении деревни, интеллигенции и мещанско-чиновничьей среды была продолжена в произведениях А. П. Чехова. Последний отметил справедливость деревенских наблюдений автора «Власти земли». Вызвавшие в свое время бешенство и сумятицу народников и националистов, фразы Успенского «жутковато и страшновато жить в этом людском океане» (VIII, 210) и «не суйся!» («Крестьянин и крестьянский труд», VII, 40) подтверждались и Чеховым: «страшно жить в деревне» («Моя жизнь»), «жить с ними страшно» («Мужики»). В чеховской правде о деревне, столь близкой выводам Успенского, слышится боль за крестьянина-человека.
Успенский явился непосредственным учителем Короленко, который указывал на свою творческую зависимость от «Нравов Растеряевой улицы». Автор «Истории моего современника» признавался, что в очерке «Ненастоящий город» он сильно подражал Успенскому. Любовь Короленко к народу, как и у Успенского, ничего не имеет общего с народнической идиллической любовью. Народ следует любить таким, каким его сделала история, в реальном «мужике» не следует разочаровываться, в нем есть здоровая и подлинная сила.
В художественной манере, в творческих принципах Успенского и Короленко есть много общего. Они оба придают своеобразие художественному очерку, стирая грань между собственно очерком и новеллой, причем у Короленко наблюдается тенденция к преобладанию новеллистических форм, у Успенского — очерковых. Короленко и Успенский в своих очерках выступают как непосредственные наблюдатели жизни, они любят писать с натуры. Поэтому в основе их произведений зачастую лежит рассказ о личных встречах и личных переживаниях.
Наследие Успенского явилось творческой школой и для такого знатока русской дооктябрьской деревни, как С. Подъячев. По произведениям Успенского учился и А. М. Горький, который подчеркнул роль автора очерков о народной жизни в формировании своего отношения к действительности. «Я думаю, — писал Горький, — что на мое отношение к жизни влияли — каждый по-своему — три писателя: Помяловский, Глеб Успенский и Лесков... Я думаю, что именно под влиянием этих трех писателей решено было мною самому пойти посмотреть, как живет „народ“».1
- 346 -
На первых порах молодого Горького захватила проповедь Успенского о деятельности интеллигенции в народе, о жизни трудом на земле. В «Беседах о ремесле», рассказывая о впечатлении, вызванном чтением произведений Успенского, Горький признавался, что писатель «будил в нас какое-то особенно тревожное и актуальное чувство».1 В 1887 году Горький лично обратился с письмом к Успенскому по поводу изображенной писателем жизни крестьянина Земля и учителя Брага. «...как велика, — спрашивал Горький, — доза правды в этой книге,2 т. е. существуют ли Земля и Брага и если существуют, то как и где таковых отыскать. Весьма возможно, что таким сообщением вы укажите путь десятку-другому парней, желающих приложить свои силы к честному и полезному делу. Обращаясь к Вам, как человеку, о котором, слышал много хорошего и который — я уверен — не откажет в помощи».3
Однако Горький вскоре понял, что Успенский не может быть учителем жизни.
М. Горький не верил в «божью правду», к которой звал Успенский, разумея под нею правду человечных, совестливых отношений людей друг к другу. Художник революционного пролетариата не мог пойти и за призывами Успенского, обращенными к интеллигенции, которая обязана была по иллюзорному представлению писателя найти себе место в условиях крестьянской жизни. Не страшили основоположника социалистического реализма и предупреждения Успенского о том, что горько будет дело интеллигента в том случае, если шестьдесят миллионов «мужиков» вдруг возьмут да и справятся сами собой, оставив за бортом интеллигенцию. Как признавался Горький, ему было ясно, что «взять» некому, да и «нечего взять». Не в деревне следовало искать источника возглавляющей и организующей инициативы, о которой когда-то говорили революционные демократы. К тому же, подчеркивал Горький, «места себе „в крестьянской жизни“ я не мог получить, инспектор народных училищ Малиновский определенно заявил, что я не буду допущен к экзаменам „по причинам, не от него зависящим“».4 Да собственно и сам Успенский подтверждал справедливость такого горьковского заключения: его честные интеллигенты, как правило, не находили себе места в деревне.
Отбрасывая иллюзии и опасения Успенского, не соглашаясь с его практической программой, Горький видел в Успенском одного из своих учителей, изумительного реалиста, превосходного знатока народной жизни, талантливейшего писателя, обладающего острой социальной зоркостью. «Трепет его гнева и отвращения пред „повсеместным душегубством“, сознавался Горький, обязывали к совершению чего-либо решительного.5 Высоко оценивая правдивость Успенского, его богатейший опыт личного общения с трудовым народом, мастерство очеркиста, М. Горький рекомендовал советской литературной молодежи учиться у Глеба Успенского «уменью наблюдать и широте знания действительности».6
Так много сделавший в расчистке «почвы будущего», Успенский, большой художник-мыслитель, навсегда останется дорогим, близким и для социалистической культуры.
СноскиСноски к стр. 277
1 «Искра», 1902, № 20, 1 мая, редакционная статья «По поводу смерти Г. И. Успенского».
2 Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений, т. VIII. Изд. Академии Наук СССР, 1949, стр. 394. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XIV, 1940—1954).
Сноски к стр. 278
1 Печатание «Нравов» в «Современнике» прекратилось, так как журнал в 1866 году был закрыт.
2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XIX, Гослитиздат, 1939, стр. 227. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XX, 1933—1941).
Сноски к стр. 279
1 «Русский мир», 1871, № 86, 8 ноября.
2 «Заря». 1872, № 2.
Сноски к стр. 281
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, СПб., 1904, стр. 444.
2 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, М., 1949, стр. 880. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XVI, 1939—1953).
Сноски к стр. 284
1 М. Е. Салтыков-Щедрин в рецензии на «Смешные песни» А. Иволгина писал: «...ныне же арена сатиры настолько расширилась, что психологический анализ отошел на второй план, вперед же выступили сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности» (VIII, 326).
Сноски к стр. 285
1 В сборник вошли следующие произведения: «Будка», «Зимний вечер», «Тише воды, ниже травы», «Нужда песенки поет», «Тяжкое обязательство», «Примерная семья», «Задача», «Перепутье», «Спустя рукава».
2 Помимо «Нравов», в сборник 1872 года включены: «Из биографии искателя теплых мест», «Прогулка», «Бойцы», «Извозчик».
3 Кроме «Лентяя...», в сборнике впервые был напечатан рассказ «Про одну старуху».
4 «Русский мир», 1871, № 92, 4 декабря.
5 «Русский вестник», 1873, № 9, стр. 379.
Сноски к стр. 286
1 А. Скабичевский, Сочинения в двух томах, т. I, СПб., 1895, стр. 598, 599.
2 Впервые опубликован в 1933 году (см. Н. Щедрин, т. VII, стр. 518), но был использован автором в «Письмах из провинции» (1868—1870).
Сноски к стр. 289
1 В записках брата писателя И. И. Успенского есть указание на то, что прототипом Михаила Ивановича был тульский рабочий, воспитывавшийся в доме отца писателя И. Я. Успенского. Однако найти какие-либо данные о жизни этого рабочего пока не удалось.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 394.
3 Н. Флеровский свидетельствовал, что «в промышленных губерниях он <рабочий> как будто пробуждается к жизни». См.: Н. Флеровский. Положение рабочего класса в России. СПб., 1869, стр. 403.
Сноски к стр. 292
1 Более подробно о творчестве Успенского 60-х годов см. в книге: Н. И. Пруцков. Глеб Успенский в шестидесятые годы. Тула, 1952.
Сноски к стр. 294
1 «Неизлечимый» создавался в Париже и был написан в 1875 году до встречи с Лавровым, которая, очевидно, состоялась осенью 1875 года. Каменский приехал в Париж в августе 1875 года, а затем вместе с Успенским отправился в Лондон. «Неизлечимый» был напечатан в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за тот же год.
2 См., например, мемуары Н. А. Морозова: Повесть моей жизни, т. 1. М., 1917, стр. 228—230. Горькие для него наблюдения крестьянской жизни подтверждались и Успенским.
Сноски к стр. 295
1 Поездка в Сербию («прямо из Парижа») состоялась осенью (октябрь — декабрь) 1876 года.
2 С. И. Васюков. Из воспоминаний о Г. И. Успенском. «Исторический вестник», 1902, июнь, стр. 938.
3 «Отечественные записки», 1877, № 2, стр. 302.
Сноски к стр. 297
1 Классической в этом отношении является характеристика поведения «сухой воблы» как товара для экспорта в очерке «Неплательщики» (см. IV, 37).
2 См. начало повести «Неизлечимый»: взгляды обывателей «глухого города» на свое «сказочное» существование (IV, 165, 169).
3 М. Е. Салтыков-Щедрин тоже говорил о необходимости «развязать руки писателю». В письме к Пыпину он признавался, что дорожит формой «лишь настолько, насколько, она дает... больше свободы» (XVIII, 234).
Сноски к стр. 299
1 Автор предупреждает, что он не имеет никакой «иносказательной цели», выводя в очерке образ «иностранца», аналогичным героем мог быть и «россиянин» (IV, 289). Современники Успенского видели в образе «иностранца» изображение Н. Е. Битмита, англичанина по происхождению, но давно живущего в России и принимающего участие в народническом движении (арестован в 1879 году и выслан за границу). См. историю Битмита: В. Г. Короленко. История моего современника. Собрание сочинений, т. VII, изд. «Правда», М., 1953, стр. 200 и следующие.
Сноски к стр. 302
1 См. «Отечественные записки», 1876, № 10, отдел «Современное обозрение», стр. 125.
Сноски к стр. 303
1 Полемикой Успенского против славянофильства и великодержавного шовинизма проникнуты многие страницы «Дневника». Ср. «Отрывок четвертый» («В степи»): «Славянская раса, славянская идея, православие...» (V, 193).
2 См. «Отрывок второй»: «реферат о народном образовании» (V, 65), «столичная реформа» и «столичная идея», превращающиеся в деревне «в простое требование денег» (V, 88).
3 См. «Народная книга»: полемика с газетой «Новое время».
Сноски к стр. 304
1 «Темному» деревенскому случаю Успенский в «Дневнике» посвящает ряд эпизодов: Милочка, посаженная на цепь, убийство миром и во главе с мирским человеком Иваном Васильевым конокрада Федюшки, сумасшедшая девушка, которую ждут те же вожжи и кнуты, которыми ее будут, как и Милочку, «вразумлять».
2 См., например, анонимную статью: Из журналов и книг. «Неделя», 1878, № 40.
3 Заметим, что социологи и экономисты народнического направления игнорировали исследование влияния барщинных отношений на современную им «освобожденную» деревню.
Сноски к стр. 306
1 Ср. с этим противоположные признания в «Дневнике» об адских душевных муках автора, когда он оказался в деревне (см. т. V).
Сноски к стр. 307
1 «Искра», 1902, № 20.
Сноски к стр. 308
1 Критика Успенским дележа земли по способу «носком в пятку» была направлена в адрес Златовратского, автора «Деревенских будней».
2 «Правда», 1936, № 217, 8 августа.
Сноски к стр. 310
1 Успенский очень высоко ценил редакторскую работу М. Е. Салтыкова-Щедрина, признавался, что он «может мне указать» (XIII, 497).
Сноски к стр. 312
1 Уже в «Дневнике» есть фраза (на отношениях крестьянина к земле держится «вся русская сила»), которая развернется во «Власти земли» в тезис, характеризующий понимание Успенским сущности философии русской истории.
2 В письме к В. Е. Генкелю от 13 февраля 1888 года Успенский писал, что он в первых главах «Власти земли» представил дело земли в «очищенном виде» (см. XIV, 91).
Сноски к стр. 313
1 Здесь Успенский цитирует название сборника рассказов и очерков А. Левитова «Горе сел, дорог и городов» (1874).
2 Подчеркнутые нами слова иронически воспроизводят характеристики, близкие или аналогичные тем, которыми любил пользоваться Успенский в очерковых циклах «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Из разговоров с приятелями».
Сноски к стр. 314
1 Письмо было опубликовано Герценом в «Колоколе» 1 марта 1860 года.
2 См. варианты очеркового цикла «Крестьянин и крестьянский труд» (VII, 489).
Сноски к стр. 316
1 См. предисловие Ф. Энгельса к немецкому изданию «Нищеты философии» (1941, стр. 9). Приведенное положение Ф. Энгельса используется и В. И. Лениным в статье «Две утопии» (т. 18, стр. 328).
2 Более подробно о крестьянских очерковых циклах см. в книге: Н. И. Пруцков. Глеб Успенский семидесятых начала восьмидесятых годов. Изд. Харьковского университета, 1955.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII, 1931, стр. 76.
Сноски к стр. 317
1 «Правда», 1936, 8 февраля. Ср. у Салтыкова-Щедрина в его письме к Михайловскому: «А между тем, и Толстой и Успенский только и бредят мужичком; вот мол кто истинную веру нашел!» (XX, 145).
2 А. М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, Гослитиздат, М., 1953, стр. 347—348.
Сноски к стр. 318
1 О них Успенский написал цикл очерков «Невидимки».
Сноски к стр. 319
1 Ленинский сборник, XIX, стр. 346.
2 Так презрительно Щедрин окрестил В. К. Сютаева. Первые заметки и статьи о В. Сютаеве начали появляться в русской печати в 1880—1881 годах.
3 В ноябрьской книжке «Русской мысли» за 1884 год была опубликована статья-очерк Успенского «Трудами рук своих», в которой он цитировал «формулу прогресса» Михайловского.
Сноски к стр. 320
1 Данное письмо обнаружено С. А. Макашиным и опубликовано с кратким комментарием в «Огоньке» за 1951 год, № 5, стр. 24.
Сноски к стр. 321
1 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР, ф. 313, оп. 1, № 107.
Сноски к стр. 322
1 В очерках «Пришло на память» (1881) Успенский называет Демьяна «предместником» Ивана Ермолаевича. «Теперь Демьян, — сообщает автор, — разжился, бросил аренду и содержит в Петербурге извозчичий двор. Тогда, давно, он только наживал, и наживал со старанием, прилежанием и большим умением» (VII, 113).
Сноски к стр. 324
1 В статье «Пессимизм как отражение экономической действительности» (1895) Г. В. Плеханов с удивлением спрашивал, как можно оставаться народником, будучи автором такой картины русской жизни, какая нарисована в «Мелочах путевых впечатлений»? (другое название «Из путевых заметок»). «Ведь, чтобы быть народником, — замечает Плеханов, — надо верить, по крайней мере, в возможное развитие некоторых основ старого народного быта. А к какому же развитию способен этот океан Семенов Никитичей...» (Г. В. Плеханов, Сочинения, т. X, Госиздат, 1925, стр. 150). Критик не понял естественной для писателя закономерности в переходе от «Власти земли» к циклу путевых очерков о Кавказе.
Сноски к стр. 326
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 472, 473.
2 В указанные годы были опубликованы две работы Г. В. Плеханова — «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия».
3 А. Серафимович справедливо замечает, что Успенский под влиянием идей К. Маркса замышляет в конце 70-х годов цикл очерков о «Власти капитала». («Культура и жизнь», 1948, 31 марта).
Сноски к стр. 327
1 Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 25, Гослитиздат, М., 1937, стр. 180.
2 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. X, Госиздат, 1925, стр. 62.
Сноски к стр. 329
1 Дань такой наивности Успенский отдал в крестьянских циклах.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 212.
Сноски к стр. 330
1 Глеб Успенский. Материалы и исследования, 1, Изд. Академии Наук СССР, М. — Л., 1938, стр. 370.
Сноски к стр. 337
1 А. М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 27, 1953, стр. 269.
Сноски к стр. 338
1 А. И. Иванчин-Писарев. Хождение в народ. Изд. «Молодая гвардия», М. — Л., 1929, стр. 321.
2 Так для краткости будем называть третий очерк из цикла «Грехи тяжкие».
Сноски к стр. 340
1 Не удалась и попытка А. И. Эртеля напечатать ее в задуманном им сборнике в пользу Воронежской публичной библиотеки. Со статьей Успенского читателей впервые познакомил (в отрывках) В. Н. Поляк в 1902 году в своих воспоминаниях о писателе: См.: «Саратовский листок», 1902, № 74, 2 апреля.
2 ИРЛИ, ф. 313, оп. 3, № 242.
Сноски к стр. 344
1 Е. Леткова. Про Глеба Ивановича. «Звенья», 1936, № 5, стр. 698.
2 ИРЛИ, ф. 313, оп. 1, № 173.
Сноски к стр. 345
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, стр. 348.
Сноски к стр. 346
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, стр. 342.
2 Речь идет о книге Тимощенкова «Борьба с земельным хищничеством», которую Успенский использовал в десятом очерке цикла «Письма с дороги» («Трудовая жизнь и жизнь труженическая»).
3 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, 1954, стр. 6.
4 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, стр. 348.
5 Там же, стр. 347, см стр. 342.
6 Там же, т. 24, стр. 476.