159
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
160
161
1
Классик русской и мировой сатиры, один из величайших русских писателей, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии.
Семья, в которой он рос, весьма полно отразила в своем быту условия и процессы русской жизни того времени.
Отец писателя, Евграф Васильевич Салтыков, происходивший из старинного дворянского рода, женился на дочери богатого купца. Мать Салтыкова, Ольга Михайловна, внесла в обломовскую атмосферу скудеющего дворянского поместья дух приобретательства и предпринимательства. Она была помещицей-купчихой, у которой крепостнический деспотизм соединялся с крепкой хваткой буржуа-накопителя. Надо добавить, что для применения этих качеств Ольга Михайловна, удесятерившая состояние семьи, нашла простор в своем уезде, где нарождающиеся капиталистические отношения были уже достаточно сильно выражены. В рамках крепостнической системы эти отношения приводили к усиленной эксплуатации крестьянства, выжиманию из него не только средств к привольной дворянской жизни, но и для коммерческих операций. По воспоминанию современников, крепостное право доходило здесь «до ужаса». Все «прелести» крепостной кабалы Салтыков «видел в их наготе».
Отец сатирика, человек по тому времени довольно образованный, был ханжой и крепостником. В мир низменных интересов семьи он не внес никакого облагораживающего начала. Дом Салтыковых не знал ни той внешней культурности, особенно в быту, ни эстетических интересов, которые были свойственны другим помещичьим семьям и не свободной от позора крепостничества. Чуткой юной душе и быстро развивающемуся уму будущего писателя ничто не мешало осознать страшную неправду окружающей жизни. О своем детстве сатирик вспоминал как о безрадостном и лишенном поэзии: суровая и жадная рука матери ощущалась непрестанно и, конечно, больше всего «повинными работе» крепостными людьми.
«Я слишком близко видел крепостное право, — писал Салтыков впоследствии, — чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда...».1
Крепостнические нравы давали себя чувствовать и внутри семьи Салтыкова: «А знаете, с какого момента началась моя память?» — говорил Щедрин С. Н. Кривенко. — Помню, что меня секут, кто именно не помню, но секут как следует, розгою...».2
162
В родительском доме Салтыков был одинок. Он не любил своей семьи и ее быта и всецело был на стороне крепостных.
В 1836 году, десяти лет от роду, Салтыков поступает в Московский дворянский институт, в который был преобразован Московский университетский пансион. Славные вольнолюбивые традиции этого учебного заведения, из которого вышло столько крупных деятелей русской культуры, еще были живы в Дворянском институте, когда там учился Салтыков, и оказали свое влияние на его развитие. Здесь открылся ему новый мир — мир русской поэзии, литературы, и он навсегда полюбил этот мир, столь противоположный тому, что окружало его в детстве.
Через два года Салтыков как один из лучших учеников был переведен в Царскосельский лицей (в 1844 году переименованный в Александровский), где некогда учился величайший русский поэт А. С. Пушкин. Салтыков неохотно отправлялся в это привилегированное учебное заведение, хотя попасть туда считалось большой удачей. Но уже в Дворянском институте юный Салтыков думал не о карьере сановника, а об университете и просил мать оставить его в институте, на что она, разумеется, не согласилась.
Шесть лет провел Салтыков в лицее. Здесь его развитие пошло быстро вперед. Недаром он прослыл среди своих товарищей-аристократов «умником», далеким от них по своим интересам и способностям. В стенах лицея он встретился со своими будущими врагами — будущими министрами, губернаторами, дипломатами. Но здесь же возникли у него связи, имевшие большое значение для его идейного роста. Салтыков сблизился с учившимся тогда в старших классах Буташевичем-Петрашевским. В лицее же испытал будущий писатель влияние «пламенного слова» Белинского, духовным воспитанником которого считал себя всю жизнь. Здесь же стал он писать. Традиции стихотворства были очень сильны в учебном заведении, прославленном Пушкиным. Каждый класс имел своего преемника великого поэта; одним из таких преемников считался и Салтыков.
Дошедшие до нас стихи Салтыкова отмечены сильным влиянием Лермонтова и других поэтов той эпохи и свидетельствуют о большой начитанности юного автора в русской и зарубежной литературе. Колорит этих стихов мрачен, и вряд ли можно считать эту мрачность напускной или только навеянной литературными образцами. Рано ознакомился Салтыков с темными сторонами русской действительности своего времени. Такие стихи, например, как «Младенческие грезы какой-то тайной грустию полны», выражали подлинные переживания молодого поэта.
Стихотворения Салтыкова печатались в солидных журналах (первое его стихотворение «Лира» появилось в 1841 году в «Библиотеке для чтения». Большая часть опубликованных стихов печаталась в плетневском «Современнике» за 1844—1845 годы). Однако по выходе из лицея Салтыков перестал писать стихи. Очень строгий к себе, он не любил вспоминать о них впоследствии, а если и вспоминал, то как о ребячестве.
По окончании лицея Салтыков поступает в 1844 году на службу в канцелярию Военного министерства. Служба тяготит его. Теперь ничто уже не мешало более полному сближению его с той революционно настроенной молодежью, которая, воспитавшись, как и он, на статьях Белинского, жила наиболее передовыми идеями современности. На склоне дней Щедрин вспоминал, что идеи эти — идеи утопического социализма — внушили ему уверенность, что «золотой век» не позади, а впереди. Уверенность в достойном человечества будущем заставляет думать о том, как его приблизить. Работать для такого будущего он считает долгом всякого мыслящего человека. В условиях русской действительности это означало борьбу с крепостничеством.
163

М. Е. Салтыков-Щедрин.
Литография Дейнерта с портрета 1850-х годов.
Салтыков входит в круг Петрашевского, своего старшего товарища по лицею, жадно поглощает сочинения утопистов: Сен-Симона, Фурье, Кабе, Консидерана и других, изучает политическую экономию. За четыре года жизни в Петербурге он приобрел солидные знания в области общественных наук. Его мысль, всегда самостоятельная и независимо критическая, окрепла. В кругу передовой молодежи он скоро определяет свою собственную позицию. Он расходится с Петрашевским и сближается с подававшим большие надежды критиком В. Майковым и столь же молодым и одаренным экономистом В. Милютиным. Разногласия с Петрашевским, которому был столь многим обязан в своем развитии, повидимому объясняются весьма рано обозначившимся критическим отношением молодого Салтыкова к утопистам, в особенности к фурьеризму. Отрицание исторической роли масс и революционных методов
164
борьбы за новое общественное устройство, характерное для утопистов, не могло звучать убедительно даже для молодого Салтыкова. В то же время Салтыков был далек, как показывает его советский биограф С. А. Макашин, от либерально-реформистских иллюзий. Салтыков прошел ту школу, которую с 1848 года начал проходить Чернышевский.
Оставив стихи, Салтыков обратился к прозе и на первых порах — к прозе самой «смиренной» — к рецензированию книг, главным образом имеющих отношение к воспитанию, которым всегда особенно интересовались просветители.
Лейтмотив этих рецензий — отрицание воспитания, оторванного от жизни, культивирующего нездоровую мечтательность, предрасполагающего к тому, что позже получило наименование обломовщины. Автор имеет в виду дворянское воспитание, готовящее «лишних людей».
Рецензии молодого Салтыкова отличаются зрелостью мысли и стиля. Даже в их лексике встречаются уже обороты, которые впоследствии будут названы «щедринизмами». Враг бесплодной мечтательности и эстетического дилетантизма, рецензент высоко ценит подлинное искусство, восстает против его вульгаризации, проявляет тонкий вкус и высокую культуру. В этом отношении любопытна рецензия на «Рассказы детям из древнего мира» Ф. Беккера. Она свидетельствует о серьезных размышлениях ее автора об искусстве и его задачах. Отвергая эстетизм сторонников «чистого искусства», молодой Салтыков чужд и узко утилитаристского подхода к поэзии: «...нет более просветляющего, — пишет он, — очищающего душу чувства, как то, которое ощущает человек при знакомстве с великим художественным произведением. Разумеется, осязательной, непосредственной пользы от этого знакомства не может быть, но и смешно было бы под словом „польза“ разуметь исключительно один материальный, наглядный результат. Разве не великая для человека польза в том, что художественное произведение приводит его к сознанию собственных его сил, что оно вызывает их, возбуждает к деятельности и открывает ему новый, необъятный мир, который до того времени оставался незатронутым, незамеченным...» (I, 353).
Будущий великий писатель отчетливо сознает большое значение художественной формы как необходимого условия идейного воздействия литературы.
В ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1847 год печатается первая повесть Салтыкова «Противоречия» под псевдонимом М. Непанов. В марте 1848 года в том же журнале появилась его новая повесть «Запутанное дело» под инициалами М. С.; эта повесть привлекла внимание передовой молодежи своей идейной направленностью. Ее заметили, по-своему, представители правительства и даже сам царь. Опубликование «Запутанного дела» совпало с революцией 1848 года на Западе, сильно испугавшей Николая I и тех, кто его поддерживал. Произведение, столь ярко отразившее и выразившее возбуждение умов, вызванное как событиями в Европе, так и крестьянскими волнениями в самой России, было признано секретным комитетом «по ревизии литературы» (слова Салтыкова) наиболее резким проявлением пагубного вольномыслия. Салтыкову грозила солдатчина. Военный министр Чернышев был взбешен, что такой крамольник служил в его канцелярии. Дело кончилось ссылкой в Вятку за «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие».1 Эта
165
мотивировка принадлежит самому Николаю и, как свидетельствует приведенный С. А. Макашиным документ, относится не только к «Запутанному делу», но и к «Противоречиям». Самодержавие обнаружило здесь верное чутье: вступал в литературу действительно опасный его враг. Отправляя Салтыкова в Вятку «для службы», царь и его сатрапы отнюдь не намеревались когда-либо вернуть его оттуда. Лишь после смерти Николая I явилась для Салтыкова возможность освобождения. Ему пришлось провести в Вятке без малого восемь лет, самых тяжелых в его жизни.
Но Салтыков не стал одним из тех «лишних людей», которых изобразил в своих «Талантливых натурах». Его молодая, жаждавшая деятельности натура, его страстное желание принести пользу своему народу не могли не проявить себя и в тех условиях. Очень характерна для служебной деятельности Салтыкова в ту пору история с так называемой «Камской оброчной статьей», иначе говоря, государственным земельным участком в Вятской губернии. Он пересдавался малоземельным государственным крестьянам частными арендаторами, захватывавшими путем подкупа чиновников эту землю в свои руки. Границы ее не были установлены, чем пользовались в своих интересах купцы и кулаки, снимавшие ее у казны: они взыскивали с крестьян плату и за исконные участки последних, как за якобы принадлежавшие к «Камской статье». Вследствие этого возникали постоянные тяжбы с крестьянами, которые обычно решались не в их пользу. Недовольство нещадно эксплуатируемых крестьян перешло наконец в открытый протест. Когда истек срок аренды, они отказались уйти с «Камской статьи», к которой обычно причисляли и часть крестьянской земли.
Для ликвидации «беспорядков» был отправлен с воинской командой Салтыков. Благодаря ему дело обошлось без кровопролития. Салтыков встал на сторону крестьян. В своем рапорте он доказывал их право на «Камскую оброчную статью», которую они в течение десятков лет очищали от леса. Начальство, конечно, не согласилось с Салтыковым.
Как показывает типичный для того времени исход этого и других дел, существенных результатов в пользу крестьян Салтыков не достиг и достичь не мог, что скоро понял и сам. Но тысячи верст, которые он исколесил «по казенной надобности», дали ему громадный и драгоценный для писателя-реалиста опыт. Салтыков, пожалуй, один во всей русской литературе своего времени изучил так основательно и широко, на самой непосредственной практике, взаимоотношения бюрократического аппарата с народом. Плодом многолетних наблюдений, накопившихся за время ссылки, и явились «Губернские очерки», задуманные, а может быть, как предполагают, вчерне набросанные еще в Вятке.
«Губернские очерки» выдвинули М. Е. Салтыкова-Щедрина в первые ряды русских писателей. Хотя они и печатались в умеренно-либеральном «Русском вестнике» за 1856—1857 годы, но когда вышли отдельной книгой, не осталось никаких сомнений, что новая крупная сила появилась на левом фланге русской общественности. Правда, Щедрину предстояло еще пройти через период изживания иллюзий. Таким периодом явились годы подготовки к реформе и самой реформы. Это годы созревания Щедрина как революционно-демократического сатирика.
После неудачной для царизма Крымской войны казалось, что растерявшееся на первых порах правительство не будет противиться прогрессивным стремлениям. В связи с подобными ожиданиями, естественно, ожили иллюзии служения народу во враждебном народу лагере, в которых Щедрину пришлось разочароваться на своей вятской службе. Эти утопические иллюзии поддерживались тем, что правительство Александра II не только вернуло
166
Салтыкова из ссылки, но привлекло его к государственной работе, вплоть до назначения вице-губернатором сперва в Рязани (1858), затем в Твери (1860). Назначение передового писателя, бывшего ссыльного, на ответственные административные посты свидетельствовало и об испуге, и о попытке власть имущих обмануть общественное мнение.
Салтыков развил энергичную деятельность администратора, отстаивающего интересы закрепощенных масс. «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа. Очень, слишком даже будет!»1 — заявил он подчиненным. С присущей ему настойчивостью борется он со всякими злоупотреблениями помещичьей власти. Однако скоро на горьком опыте он убедился, что никакие чины, звания и должности не помогут администратору в его деятельности, если она направлена в пользу народа. Салтыков встретил противодействие и сверху — от высшего начальства, и снизу — от своих же подчиненных.
Встревоженные помещики стали сплошной стеной против беспокойного вице-губернатора, которого они прозвали вице-Робеспьером, в Петербург посылались доносы и протесты. Для Салтыкова создалась невыносимая обстановка, и в 1862 году он оставил службу и вошел в редакцию «Современника» в самый критический для органа революционной демократии момент: «Современник» был приостановлен на восемь месяцев, Чернышевский заточен в Петропавловскую крепость, либералы объединялись с крепостниками, реакция перешла в наступление по всему фронту. В это время под влиянием происходящих событий Щедрин преодолевает иллюзии о возможности мирного устранения общественного зла и убеждается в неизбежности революционного способа общественных преобразований.
После ареста и ссылки Чернышевского «Современник» стал подвергаться еще более тяжелым цензурным гонениям. Внутри редакции отношения осложнились (разногласия между Антоновичем и Жуковским, с одной стороны, и Щедриным — с другой). В 1864 году Щедрин снова поступает на государственную службу, но уже по другому ведомству — Министерству финансов, где, ему казалось, честные и добросовестные люди нужны при любой политике. Но и эта иллюзия скоро рассеялась. Начиная с 1864 года, когда Салтыков был назначен председателем пензенской казенной палаты, по 1868 год он находится в состоянии непрерывной войны с реакционной администрацией, пытающейся всячески дискредитировать его как лицо «неблагонадежное». В 1866 году его переводят в Тулу, в 1867 году — в Рязань. В результате ряда конфликтов с высшей губернской властью он в 1868 году вынужден оставить службу, на этот раз навсегда.
Выйдя в отставку, Салтыков вступил в редакцию «Отечественных записок», только что перешедших к Некрасову. С 1878 года, после смерти Некрасова, Салтыков становится ответственным редактором этого журнала.
*
В 1884 году правительство нашло подходящий момент для осуществления своего давнего желания: оно закрыло «Отечественные записки». В атмосфере предательства либералов, морального разложения буржуазно-дворянской интеллигенции это легко было сделать. Щедрин горько жаловался, что не раздалось ни одного слова сочувствия со стороны тех, кто причислял себя к прогрессивному лагерю. С закрытием «Отечественных записок» закончилась редакторская деятельность Салтыкова, чрезвычайно значительная
167
в истории русской журналистики и являющаяся также одной из наиболее важных областей громадного жизненного труда писателя.
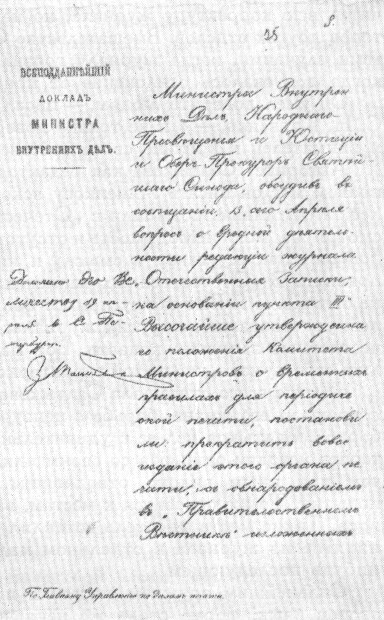
Доклад министра внутренних дел о прекращении
журнала «Отечественные записки».
Салтыков был идеальным руководителем журнала. Интересы последнего ставил он на первый план, жертвуя порою своим писательским делом. Такая необыкновенная преданность журналу объясняется тем, что он смотрел на «Отечественные записки» как на единственную легальную возможность деятельности в интересах революции, орудие посильного в данных условиях воздействия на общество, орган пропаганды дорогих Щедрину идей. Салтыков — крупнейшая наряду с Некрасовым литературная сила «Отечественных записок» — проводил в них линию Чернышевского и Добролюбова и сдерживал, насколько мог, народнические тенденции своих сотрудников. Деятельность Салтыкова-Щедрина как редактора имела две стороны: одна из них — непосредственная работа с авторами, другая — борьба с цензурой: непрестанное лавирование между расставленными ею повсюду подводными камнями и открытая борьба с ней, конечно, неравная.
Салтыков являлся замечательным редактором потому, что был первоклассным писателем. Корифей и признанный вождь демократической литературы не брезгал никакой «черной работой», никому не поручал правки рукописей своего отдела.
«Он сильно марал и исправлял рукописи..., — рассказывает один из работников редакции «Отечественных записок», — иные страницы и совсем вновь бывали переписаны на полях его рукою».1 Иногда он изымал то или другое действующее лицо и соответственно изменял всё произведение. Не удивительно, что одни и те же авторы в «Отечественных записках» писали хорошо, а в других журналах — дурно.
Но исключительная редакторская активность сочеталась у Щедрина с необычайным тактом. При энергичнейшем вмешательстве в работу авторов, начинающих или не определившихся настолько, чтобы самим отвечать за себя, Салтыков был весьма осторожен, когда имел дело с писателями опытными. Здесь вопрос ставился так: соответствует ли произведение направлению «Отечественных записок», и если он решался утвердительно, то редактор не становился между автором и читателем.
168
Салтыков-редактор не ограничивался беллетристическим отделом. Он читал всю корректуру журнала, но не посягал на самостоятельность редакторов других отделов. Вмешательство Салтыкова ограничивалось здесь лишь теми случаями, когда журналу грозила опасность со стороны цензуры или когда допускалось отклонение от принципиальной линии журнала.
Он умел доверять людям, — писал сотрудник «Отечественных записок» С. Н. Кривенко, — «и не только доверять, но и уступать».1 Он был терпим и внимателен к критике своей собственной работы.
Авторитет Салтыкова как редактора был чрезвычайно высок. С полным правом мог он писать Анненкову вскоре после закрытия журнала: «Наиболее талантливые люди шли в „Отечественные записки“ как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне — доверяли, моему такту и смыслу и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял. В „Отечественных записках“ бывали слабые вещи, но глупых — не бывало... Я Вам скажу прямо: большинство новых литературных деятелей, участвовавшее в других журналах, только о том и думало, чтобы в „Отечественные записки“ попасть. Вот Вам характеристика журнала, и позволяю себе думать, что в этой характеристике я занимал свое место» (XX, 56).
Больше всего отягощала Салтыкова, можно сказать без преувеличения — сокращала его жизнь, борьба с цензурой. Но как ни изнурительна была эта борьба, Салтыков вел ее с удивительной настойчивостью и выдержкой. Потерпев неудачу один раз со своим или чужим произведением, Салтыков под тем или иным видом, отводившим глаза цензоров, возобновлял свои попытки. То же относится к местам, зачеркнутым красным карандашом цензора. Такие места писатель вставлял в другое произведение или проводил изъятое из журнала в отдельном издании, если не в первом, то в каком-нибудь последующем.
Сильнейшим оружием писателя в борьбе с цензурой был щедринский эзопов язык, форма столь же неуязвимая, сколько прозрачная. Благодаря эзопову языку сатира Щедрина не только не притуплялась, но приобретала особую остроту. И это усиливало злобу палачей слова. Взбешенные мастерством эзопова языка, который мешал им придраться непосредственно к Салтыкову, цензоры мстили за свое бессилие журналу, запрещая, вырезывая из отпечатанных книжек другие статьи или объявляя страшные для периодического издания «предостережения». Вот один из примеров.
«Повелось думать, — пишет В. Е. Евгеньев-Максимов, — что предостережение <полученное журналом в 1883 году> было вызвано именно статьей Николадзе, так как только о ней упоминалось в тексте его».2 На самом деле причиной его была XXII глава «Современной идиллии» — глава о политическом процессе в Кашинском суде.
Каково было знать Салтыкову, что он своими произведениями навлекает кару на «Отечественные записки»!..
Но разъяренные ударами своего гениального противника представители власти переходили от обычных «законных» мер к методу «чтения в сердцах», осужденному их же цензурным уставом.
За шестилетие — с 1874 по 1879 год — на каждые десять выступлений Салтыкова в журнале приходилось, по данным Евгеньева-Максимова, четыре цензурных инцидента. Но такими цифрами число изъятий далеко не ограничивается. Многое еще изымалось самой редакцией после просмотра знакомыми
169
цензорами, в частном порядке сигнализировавшими о неизбежности кары при напечатании той или иной статьи.
После 1 марта всё внимание цензуры было направлено на Салтыкова.
Особенно любопытна цензурная история третьего письма «К тетеньке», в котором писатель выступил с разоблачением «Священной дружины». Сознавая большое общественное значение этого письма, Салтыков-Щедрин потратил много усилий, чтобы провести его через цензурные препоны. Он использовал трения между департаментом полиции (Министерство внутренних дел), с одной стороны, и «Священной дружиной», охранительной организацией, в которую входили члены царского дома, — с другой. Борьба шла с переменным успехом. Но общественное значение письма сознавал не только автор, сознавала это и цензура. Представитель последней, приставленный к «Отечественным запискам», обвинил автора письма в том, что он изобразил «не только со смешной, но и с ненавистной стороны стремления охранительной партии к водворению спокойствия и нормального положения в нашем отечестве... Не подлежит сомнению, что статья Щедрина, будучи дозволена, сделается достоянием всей нашей периодической печати».1 Заключение цензора решило вопрос.
В сообщении о закрытии «Отечественных записок» правительство рассматривает их как революционный орган. Указав на участие сотрудников журнала в тайных организациях, оно делает такой вывод: «Нет ничего странного, что статьи самого ответственного редактора, которые по цензурным условиям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и за границей. Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями и в редакции „Отечественных записок“ не покажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества».2
Закрытие «Отечественных записок» нанесло страшный удар по всему освободительному движению, лишившемуся своего передового печатного органа.
Характеризуя свое состояние после закрытия журнала в «Приключении с Крамольниковым», Щедрин говорит, что «душа его была запечатана», «отнято главное, что составляло основу и сущность... жизни». Никогда не представлял себе Крамольников «даже в воображении... несчастия столь глубокого... Разверзлась темная пропасть и поглотила то „единственное“, которое давало жизни смысл» (XVI, 224). Такой смысл давало Салтыкову-Щедрину постоянное общение с читателем, олицетворявшим для него все те слои русского общества, на которые распространялось благотворное действие литературы. Сатирик лишился, как он говорил, «употребления языка», потерял свою многолетнюю трибуну, с которой по всей России разносилось его пророчески обличительное слово. Всё же он не сдался и с присущей ему энергией продолжал бороться, воспользовавшись тем, что либеральные издания, учитывая выгоду сотрудничества знаменитого писателя, открывали ему свои страницы. Он пишет такие произведения, как «Мелочи жизни» (1886—1887), «Сказки» (1886), «Пестрые письма» (1884—1886) и «Пошехонскую старину» (1887—1889). Все они политически актуальны, не исключая «Пошехонской старины».
«Пошехонской стариной» закончилось непрестанное ратование автора за то, чтобы «восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не
170
обнимет» (XVI, 226), ратование, которым являлась вся сорокалетняя литературная деятельность Салтыкова. Эта деятельность была поистине великим подвигом. Последние пятнадцать лет ее — годы самого напряженного и плодотворного творчества — писатель был настолько тяжело болен, что лучшие врачи того времени (Боткин, Белоголовый) удивлялись тому, как Салтыков мог жить с такими недугами.
Салтыков-Щедрин останется классическим примером того, какую стойкость и силу в борьбе дает человеку великая общественная идея, если он предан ей, и глубокое сознание ответственности перед будущими судьбами своего народа.
До последних дней жизни (Щедрин умер 28 апреля 1889 года) он не переставал работать, не выпускал из рук своего острого боевого оружия, несмотря на горькое чувство «оброшенности», пережитое им в 80-х годах. После смерти Некрасова он продолжал в народнических «Отечественных записках» дело «Современника».
Вера в конечное торжество дорогих ему идеалов социально-справедливого общества не покидала сатирика, хотя перспективы близкого будущего казались ему мрачными. Эти идеалы Щедрин называл на своем языке «утопиями», чтобы не употреблять одиозного для известных кругов слова «социализм», а с другой стороны, чтобы выразить свое отношение к наиболее популярным в его время социалистическим учениям. Бесспорно, он сознавал их утопический характер, но столь же несомненно, что утопичными считал он не основные их положения, которые называл «неумирающими», а предложенные донаучным социализмом пути к их осуществлению. Таково было отношение Салтыкова к утопическому социализму, начиная с первых повестей до конца его пути, когда в «Мелочах жизни» он выразил тот же взгляд, но определил притом причину слабости домарксовского социализма.
«Ошибка утопистов заключалась в том, — говорит сатирик-мыслитель, — что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его малейшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли может создать свое конечное благополучие... Тем не менее..., идея освобождения жизни... от мелочей... продолжает волновать мыслящие умы. Но к ней прибавилась и еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижною...» (XVI, 445, 446).
Эти замечательные строки — плод размышлений сатирика над величайшей идеей своего времени — относятся не только к классикам утопического социализма. Как приведенное, так и другие высказывания Щедрина показывают, насколько далеко опередил он народников: вместо народнического признания «критически-мыслящей», гуманной личности творцом прогресса — понимание решающей роли масс, отрицаемой утопистами, в историческом процессе; вместо свойственного народникам, как и вообще утопистам, игнорирования политических форм общественной борьбы — признание громадного значения «политической среды», «характера этой среды», «той или иной ее подготовки» (сатира Щедрина является сатирой социально-политической); вместо «доброй воли» утверждается объективная историческая необходимость, которую пытались отрицать товарищи писатели по «Отечественным запискам» во главе с Михайловским; вместо независимого от природы и истории психического мира — мира идей, чувств и стремлений — мир внешний и не неподвижный, как у просветителей XVIII века, к которым примыкали и утопические социалисты XIX века, а мир развивающийся.
171
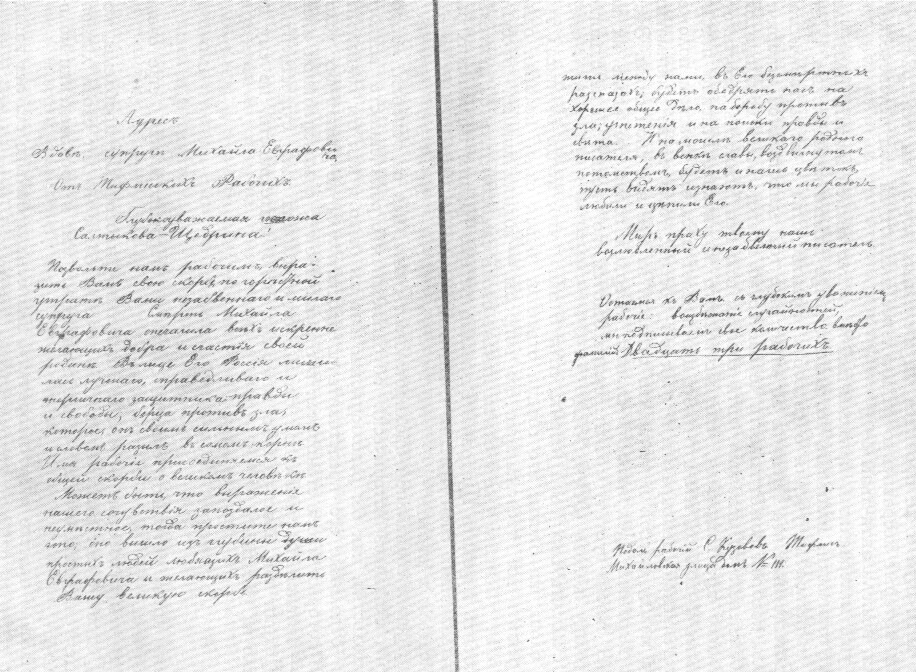
Адрес от тифлисских рабочих вдове М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1889. Первая и
последняя страницы.
172
Судьба идеала поставлена в зависимость от развития самой жизни, от движения, свойственного самой объективной действительности, от реального подчинения природы человеческим обществом. «Фурье, — замечает Щедрин в «Мелочах жизни» (XVI, 446), — провидел ненужных анти-львов и анти-акул и не провидел ни железных дорог, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели анти-львы».
Это уже материализм, примененный к общественной жизни, преодолевающий утопические иллюзии, но, конечно, еще далеко не марксизм. Щедрин не поднялся до учения о способах производства и их исторической смене. Естественно, что Щедрин не видит еще той единственной исторической силы, которая может повести человечество, прежде всего трудящихся, к «освобождению от мелочей», хотя сознает всю ненадежность для такого дела мелкого производителя, «хозяйственного мужичка». Именно потому мучительнее и глубже, чем кто-либо, переживает писатель трагизм положения крестьянской демократии в царской России: отсутствие понимания контакта между массой и теми, кто отдавал за нее все свои силы. Этот трагизм выражен Щедриным в словах: «Сердца горят, но огонь их не проницает сквозь густоту мрака; сердца бьются, но биения их не слышно сквозь толщу желез» (XVI, 536).
Как счастлив был бы Щедрин, если б знал, что, когда он писал эти горькие слова, на биение его сердца отвечала новая сила, которая одна смогла решить все тревожившие его вопросы, — поднимавшийся русский пролетариат, умевший уже в самом начале своей самостоятельной деятельности любить и ценить Щедрина. Известно письмо группы тифлисских рабочих, выразивших свои чувства к великому писателю. Но письмо не застало писателя в живых.
В ощущении социальной изолированности, или, как он говорил, «оброшенности», сказалась исторически обусловленная ограниченность всякого просветительства, как бы революционно оно ни было и как бы гениальны ни были отдельные его представители: просветители не знают тех условий, при которых масса становится восприимчивой к революционной идее, а идея — великой материальной силой. Эти условия уже существовали, когда Щедрин так блистательно завершал свою деятельность, но ему не дано было их узнать.
2
Ранняя проза сатирика, особенно повесть «Противоречия», еще очень слабо изучена.
Между тем некоторые основные социально-философские проблемы, которые Щедрин будет разрабатывать в течение более 40 лет своей литературной деятельности, в какой-то мере намечены уже в произведении молодого автора.
Юношеская повесть «Противоречия», написанная больше ста лет назад, увлекает нас и до сих пор напряженными исканиями, мучительной и упорной внутренней работой, характерной для людей 40-х годов. Здесь личные отношения людей из морально-психологической проблемы становятся проблемой социальной, объясняются общественными отношениями, условиями жизни. Речь идет не о «свободе чувства», как во многих «психологических повестях» 40-х годов, написанных под влиянием Жорж Санд, но о самой возможности нормальных человеческих чувств в современном автору обществе. Молодой писатель относится с недоверием к стремлениям и эмоциям,
173
не находящим проявления во внешнем мире. Салтыков сомневается в их реальности, жизнеспособности.
Отсюда и нерешительность, и мучительная рефлексия Нагибина, героя «Противоречий», имеющая столь своеобразный характер.
«Что я ее люблю — и это будет верно; что я не люблю ее — и это справедливо!.. если я и действительно люблю ее всеми силами души, то, тем не менее, сознание неразумности этой любви, при наличных условиях жизни, так сковало меня, что я стою, как пораженный громом...» (I, 150—151).
Гамлетизм Нагибина — от познания ненормальности состояния общества, состояния, при котором «искусственность одна только и натуральна, а естественность, напротив, совершенно неестественна» (I, 150).
Здесь Нагибиным высказана одна из заветнейших идей Щедрина, составляющая пафос его сатиры в дальнейшем, — об извращении человеческой природы в классовом обществе. Нагибина эта глубоко справедливая мысль, однако, убивает, вместо того, чтобы стимулировать к действию.
Нагибин сознает ограниченность своего созерцательного мышления. Одну из главных причин постигших его несчастий он видит в том, что ему «не дано практического понимания действительности» (I, 195). Но понимание это невозможно без действия. «Беспрестанно стараясь примирить противоречие теории и практики», он не имел успеха, «потому что между теориею и жизнью не было посредствующего члена, не было деятельности, которая одна только в состоянии совершить великое дело примирения» (I, 195).
Отношения между общественным идеалом и действительностью были тем вопросом, который особенно мучил Нагибина. Идеал этот был дан поколению Нагибина утопическим социализмом. Но, разрешая противоречия между личностью и миром, социалистический идеал в его утопической форме содержал в себе новое противоречие — противоречие идеала и действительности. Утопические социалисты как просветители привносили идеал в действительность извне, а не выводили из нее. В «Противоречиях» ясно намечена и эта проблема.
«...идя шаг за шагом по горячим следам развития человечества, — говорит Нагибин, — я пришел к признанию другой действительности, — действительности не только возможной, но и непременно имеющей быть» (I, 152—153). Однако Нагибин не сумел вывести ее из «самой этой борьбы и разрывчатости», не сумел найти в них «зачатки будущего» и определить свое место в этой борьбе противоречий: «отказавшись от утопий и отвернувшись от status quo», он «повис на воздухе между тем и другим» (I, 153), пришел к фатализму.
«Противоречия» перекликаются и здесь с позднейшими, зрелыми произведениями Щедрина, для которого вопрос о «другой действительности» и ее социальном обосновании имел такое существенное значение в плане мировоззрения вообще и художественного творчества в особенности. Вопрос этот принял для Щедрина впоследствии более конкретные формы, но уже намечен в повести «Противоречия», как и многое, с ним связанное. Тут и вопрос о «призраках», о традициях, потерявших свое живое содержание и тяготеющих всё же над людьми, и вытекающая отсюда проблема морали, враждебной человеку и человечности. Слова Нагибина о Валинском напоминают характеристику Станкевича, данную десятилетие спустя Добролюбовым.
Психологические коллизии у Нагибина — мысли и чувства, мысли и воли — лишь частное отражение более глубоких общественных конфликтов. Именно сознание этого делает героя «Противоречий» примечательной разновидностью
174
«лишних людей». Он близок им по своему происхождению, воспитанию и мироощущению. По своему же общественному положению Нагибин — разночинец. Отсюда его острый интерес к социальным проблемам. Десятилетие спустя Нагибин нашел бы свой общественный путь и тем самым выход из своего заколдованного круга. В 40-х же годах судьба такого интеллигента-одиночки во многом напоминает судьбу Рудина, напоминает историю последнего и вся ситуация повести Салтыкова.
Слабой стороной первой повести Салтыкова-Щедрина является недостаточная объективность образов. Далеко не всегда живут они своей собственной жизнью. Часто споры Нагибина с Таней — споры автора с самим собой.
Отмеченные недостатки Салтыков стремился преодолеть в своей следующей повести, в «Запутанном деле» (1848).
Салтыков дает ясно понять, что общественные перевороты производятся не разглагольствованиями беобахтеров и звонских, в лице которых в повести пародированы тенденции, весьма ходкие в кружках Петрашевского, а просветленными мичулиными, глаза которых в конце концов раскроет сама жизнь.
Взгляд и симпатии автора выражены достаточно отчетливо в строках о впечатлении, произведенном на Мичулина оперой Россини «Вильгельм Телль», которая шла в 40-х годах на петербургской сцене под названием «Карл Смелый».
Мичулин «никак не ожидал, чтоб за звуками могла ему слышаться толпа, — да и какая еще толпа! — вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой еще он не видывал, и, что всего страннее, возможность которой он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать» (I, 265).
Сознание мичулиными возможности революционного действия той самой толпы, которую они составляют, определяет своеобразие произведения.
«Запутанное дело» — повесть о «маленьком человеке», по своей теме она типична для «натуральной школы». Мичулин напоминает Акакия Акакиевича. И тот и другой — обделенные жизнью и природой люди. Но на этом их сходство кончается. Непримиренность со своим положением, глухой, но неизменный протест против него — отличительная черта Мичулина. Маленький человек — не безответная тупица, не пишущая машина, а пусть и неразвитая, но живая личность, как бы весь строй жизни ни обезличивал, ни калечил его — вот что говорит Салтыков в «Запутанном деле». Автор не столько вызывает жалость к своему маленькому герою, сколько будит мысль, направляет ее на причины страданий маленького человека. Оригинальность молодого автора наиболее ярко выразилась там, где он претворяет в художественный образ сен-симоновское уподобление классового общества пирамиде.
Мичулин видит во сне, что образующие пирамиду колонны «сделаны вовсе не из гранита или какого-нибудь подобного минерала, а все составлены из таких же людей, как и он, только различных цветов и форм...» (I, 275).
Мичулин узнает среди них знакомые лица, все они «так низко стоят, так бессознательно, безлично улыбаются...». Но вот он замечает «в самом низу необыкновенно объемистого столба — такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить..., голова Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера... Вообще, во всей фигуре этого странного мифического Мичулина выражался такой умственный пауперизм, такое нравственное нищенство, что
175
настоящему, издали наблюдающему Мичулину сделалось и тесно, и тяжко..., он чувствовал, как, одно за другим, пропадали те качества, которые делали из него известный образ...» (I, 275, 276).
Иллюстрация:
«Запутанное дело». Первопечатный текст. «Отечественные записки», 1848, № 3.
Здесь в зачатке одна из художественных особенностей зрелого Щедрина.
В аналогии, развернутой в целую картину, тенденция действительности показана как совершившийся факт; в данном случае — тенденция к обезличению тех, на кого классовое общество давит всей своей тяжестью.
176
В чувстве социального неравенства, ничем не смягчаемом, эмоциональный тон повести. Даже одни и те же детали пейзажа воспринимаются по-иному людьми разного общественного положения. И «свинцовая тяжесть» тумана, и злой ветер вызывает у «сытого господина» в карете состояние, напоминающее беззаботное детство, когда в долгие зимние вечера так хорошо было уноситься в мир сказок, но «петербургский осенний вечер утрачивал... свой благовидный и благонамеренный характер» для того, кто «не в карете ехал, а шел себе скромно пешком». «Холодный и резкий ветер, дувший ему в самое лицо..., не убаюкивал его воспоминаниями детства, а жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывал ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: „озяб бедный человек!“» (I, 217).
Мать-природа ведет себя в «Запутанном деле» поистине лицеприятно: баловней судьбы убаюкивает она своими ветрами и вьюгами, а к пасынкам ее не знает жалости.
Существенную роль играют в «Запутанном деле» сны. Столь важная черта щедринского стиля, вполне определившаяся впоследствии, — фантастика как одна из особенностей реализма писателя появилась в зачатке уже тут.
Интересно, что в снах Мичулина не только не осуществляются его мечты, а разоблачается их неосновательность. Их функция — подчеркнуть, концентрированно выразить всю кошмарность яви. Не всегда это удается молодому автору: часто этим приемом не столько усиливается и закрепляется реалистическое изображение действительности, сколько заменяется то, что в нем отсутствует: пластичность, четкость образов.
От реальности уже никак нельзя уйти Мичулину в его сновидениях, она сама поспорит со всяким кошмаром. Кошмарность яви для молодого автора — в подавлении жизни, в обезличении и обездушении человека. Это и символизировано в художественно развитой Салтыковым аналогии классового общества с пирамидой, образуемой живыми людьми. И эту мысль, ставшую живым ощущением художника, его болью, создающую эмоциональную окраску произведения, свой страстный протест против такой жизни Салтыков и выражает всеми доступными ему средствами. Уже здесь начинается столь характерное для Щедрина «обыгрывание» канцелярского языка. Действительность дана подчас через призму этого языка, и в этом противопоставлении последнего живой жизни еще более резко выявляется иго, над ней тяготеющее.
Обезличенная и обездушенная жизнь обрекает человека на страшное одиночество и бессилие, порождая равнодушие к человеческой судьбе, своей и чужой, равнодушие косности.
«На улице, по обыкновению, сновала взад и вперед толпа, как будто искала чего-то, хлопотала о чем-то, но, вместе с тем, так равнодушно сновала, как будто сама не сознавала хорошенько, чего ищет и из чего бьется» (I, 249—250).
Косность означает для Салтыкова прежде всего бессознательность этой толпы. Человек «толпы», Мичулин, понял причину своего бессилия распутать «запутанное дело», когда увидел себя в своем вещем сне, увидел, что «часть, называемая черепом, ...была окончательно выписана из наличности» (I, 276). С этой точки зрения осмысливается у Салтыкова такой художественный прием, как повторение одного слова, одной детали. Если у других писателей он служит средством индивидуализации, то у Щедрина он выражает слабость мысли, инертность, механистичность, а в конечном счете — бессознательность жизни «под игом безумия».
177
Мысль Мичулина не может справиться с той работой, которую вызвало его бытие; его вопросы приобретают характер навязчивой идеи, выражающейся в беспрерывном повторении одних и тех же слов. Одержимый своими вопросами и сомнениями, Мичулин везде на них наталкивается. Даже вещи причастны к его душевному смятению. Они точно так же вопрошают его, как вопрошает он самого себя: «...и комод и картина тоже... допекали ужасно и насмешливо спрашивали: „а отвечай нам, отчего оно лотерея? какое твое назначение?“» (I, 256).
Этот прием органичен, вытекает из отношения автора к действительности, из его жизнеощущения: мы встречаем его на всем протяжении повести сатирика или отдельно, или осложненным другими приемами, направленными к той же цели.
Вот Звонский, «готовый всех полюбить и все простить», и «непримиримый» Беобахтер. Несмотря на видимую противоположность, это — явления одного порядка. Оба они ничем не могут помочь мичулиным, ибо чужды живой жизни. Это выражается и в их рассуждениях. Единственное назначение последних — служить самоуслаждению беобахтеров и звонских.
Косность, омертвение их душ передано в автоматизме повторяющихся движений и даже мыслей.
В образе девицы Ручкиной это уже своеобразно щедринское использование детали дано в ничем не осложненном виде.
Сочетание миниатюрного и механизированного делает из девицы Ручкиной прообраз щедринской куколки. Настойчивые домогательства Ивана Самойловича она отводит все время повторяющимся выражением: «Уж я что сказала, так уж сказала».
Повесть Салтыкова «Запутанное дело», несмотря на свои художественные недостатки и обильные реминисценции, заинтересовала наиболее чутких современных читателей — передовую молодежь — и крепко запомнилась. Через 12 лет после ее появления, когда Салтыков был уже знаменитым автором «Губернских очерков» и ряда других произведений, Добролюбов писал: «Ни в одном из „Губернских очерков“ его не нашли мы в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству, как в его „Запутанном деле“... То было направление живое и действительное, направление истинно гуманическое, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями».1 Произведение это наиболее последовательно отразило в русской художественной литературе настроения кануна революционной грозы 1848 года. Идеи освобождения человечества от классового гнета, провозглашенные утопическим социализмом, проводятся здесь без сентиментальности и апелляции к небесам, без проповеди христианского милосердия, свойственных русским и западным последователям сен-симонизма и фурьеризма, а с полным сознанием необходимости революционной борьбы против социальной несправедливости.
Последнее из ранних произведений Салтыкова — рассказ «Брусин» написан уже в вятской ссылке, в 1849 году. По «Брусину» можно судить об умонастроениях писателя того времени, так мало нам известных.
Рассказ «Брусин» написан в защиту жизни, против нагибинской мудрости, в подтверждение которой Николай Иванович и рассказывает свою историю. История эта должна ответить на вопрос: что происходит, когда «лишние люди» начинают действовать, пытаются устроить свое счастье?
178
«...тут, — полагает Николай Иванович, — и окажется вся гнусность, да еще и не простая гнусность, а с затеями, с прибаутками...» (I, 287). Действительно, в романе «лишнего человека» Александра Андреича Брусина с некоей девицей Олей немало дурной затейливости и всяческой изломанности. И всё же от облика Брусина «веяло теплотой жизни». Его невыдержанность лучше мертвенной инертности. Он живет, а следовательно — действует. Практицизм Николая Ивановича («не бросаться в воду, не спросясь броду») ведет к тому, чтобы «всю жизнь... сидеть сложа руки» (I, 288), ибо порожден страхом перед жизнью, недоверием к ней.
В «Брусине» Салтыков отразил ту фазу в развитии «лишнего человека», когда он от философских отвлеченностей переходит к социальной утопии. В утопизме находят свое выражение гуманистические черты его натуры (чуткость к чужому горю, стремление к справедливости), как и бессилие человека, оторванного от русской жизни. В конце концов те же черты, что и раньше, но они уже больше не проявляются в абстрактном философствовании. Брусины и напоминают рудиных, и отличаются от них: последние отразили более раннюю эпоху в истории «лишнего человека», хотя «Рудин» и был создан Тургеневым значительно позже. В Брусине достаточно ясно выражено и такое характерно рудинское сочетание, как талантливость и невыдержанность.
Много общего и различного у Брусина и Нагибина. И тот и другой, хотя и мнят себя большими реалистами, — во власти призраков. Потому эти искушенные, казалось бы, умники оказываются обманутыми романтиками. Различие же между ними в том, что призраки Нагибина созданы его мнительным рассудком, а призраки Брусина — его разгоряченным воображением, не умеряемым практическим смыслом, которому, действительно, взяться неоткуда. Отсюда и нелепости его поступков.
В «Брусине» Салтыковым впервые введен образ рассказчика. В этом произведении ощущается своеобразный щедринский юмор (начало романа Брусина и Оли), не смягчающий суровой действительности, но полный сочувствия к жертвам того строя жизни, при котором «одна неестественность только и может быть названа нормальною» (I, 332). Но при этих достоинствах в «Брусине» есть серьезный недостаток, которым объясняется, может быть, то, что Щедрин не напечатал его по возвращении из ссылки. Основная идея произведения, которую мы формулировали как преодоление нагибинского квиетизма, всё же не получила достаточно ясного художественного выражения. Обусловлено это, вероятно, душевным состоянием сосланного в Вятку автора. Если он и не хотел смириться перед действительностью николаевской реакции, то, с другой стороны, считал невозможной борьбу с ней в данное время. Мысли «молодого человека», задуманного как антипод Нагибину, двоятся и слишком часто совпадают с нагибинскими. В процессе спора собеседники как бы обмениваются местами: Николай Иванович начинает защищать активность, а «молодой человек» оправдывать нагибинскую пассивность. И хотя рассказ кончается весьма бодро: «Нужно действовать, как можно больше действовать!» (I, 332), но с этим связывается и некоторая защита личного произвола в выборе действия, и некоторая моральная нетребовательность. В данных условиях лучшим девизом, по мнению alter ego автора, является «живи — как живется, делай — как можется» (I, 332).
«Брусиным» заканчивается ряд ранних повестей Салтыкова. Они составляют своеобразную трилогию, выражающую определенное единство идей, настроений, проблем, образов. Салтыков отобразил здесь особую разновидность типа «лишних людей», оригинально претворил литературную традицию в изображении этого типа.
179
Ряд важных мотивов и идей его зрелого творчества находим уже здесь то как намек, то как довольно ясно высказанную мысль. Содержание этих произведений глубоко чуждо всякому либеральному приятию действительности. В них выразились наиболее радикальные воззрения эпохи.
3
По возвращении из вятской ссылки в 1856 году Щедрин опубликовал «Губернские очерки». Содержание «Губернских очерков» чрезвычайно многообразно. Шумный успех книги был вызван тем, что в ней литература после долгих лет молчания впервые открыто заговорила о таком исконном зле, как взяточничество. Однако последним далеко не исчерпывалась тематика и проблематика «Губернских очерков». Перед читателем прошли в «Губернских очерках» все классы крепостнического общества.
Самое чиновничество — исполнительный аппарат самодержавия — было показано в своем антинародном существе. Злостные взяточники, виртуозы своего дурного дела, — наименее важная часть картины. Они важны лишь как симптомы, как пятна на больном теле, сигнализирующие о гниении всего общественного организма. Автор находит даже теплые слова сочувствия в рассказе о незадачливом мелком чиновнике, которого нужда, те условия, в которые бюрократия ставила своих чернорабочих, доводят до преступления («Первый шаг»). Тут лишний раз подтверждается то, что составляет пафос «Губернских очерков»: дело не в лицах, не во взяточниках и даже не во взяточничестве. Дело в системе, в порядке жизни.
«Как бы вы ни были красноречивы, как бы ни были озлоблены против взяток и злоупотреблений, вам всегда готов очень простой ответ: человек такое животное, которое без одежды и пищи ни под каким видом существовать не может» («Скука», II, 229).
Острие сатиры направлено в «Губернских очерках» против тех, кто в «благодарности» не нуждается, против верных слуг самодержавия, возводящих в принцип угнетение народа. В образах таких «честных» чиновников даны уже в зародыше позднейшие щедринские типы царской бюрократии с их «административным восторгом». В «Озорнике» обличен и заклеймен своего рода бюрократический «идеализм» в лице фанатика административной схемы, циркуляра. Высокомерно презирая народ, игнорируя его потребности, он втискивает жизнь в удобные для самодержавия рамки. А в «неподкупном» Филоверитове («Надорванные») показано бездушие бюрократической «законности», ее механическое действие, юридическая «логичность» которого равна его бессмысленности. Для Филоверитова важна не истина, а форма, и в жертву последней приносятся живые люди. И «кабинетно-силлогистическая деятельность», направленная против них, растаптывающая прежде всего простых людей, доставляет Филоверитову особое, садистское наслаждение.
Нельзя не отметить здесь и такую черту «Губернских очерков»: чиновничьи типы — звенья единой цепи, а все вместе отражают бюрократический аппарат в целом: от вершины, сливающейся с помещичьим классом (в провинции — Чебылкины и Голубовицкие), до обслуживающих этот класс щупальцев, питающихся за счет того же народа, хотя и в неизмеримо меньшей степени, чем их хозяева.
И как нет здесь стоящих особняком типов бюрократического мира, так и вообще нет тут изолированных фактов, — все они связаны непрерывной цепью типических обстоятельств, все факты даны как следствие единой крепостнической системы, подавляющей бесправную и запуганную чиновниками крестьянскую массу.
180
В этом отношении примечателен раздел «В остроге», где бесправие крестьянства выявлено с особой четкостью («Посещение первое», «Аринушка»). Чрезвычайно типична горькая судьба крестьянина в рассказе «Аринушка», поплатившегося годами острога за то, что поддался чувству жалости и приютил у себя умирающую нищенку. Ее смерть ужасает его: обнаружение трупа в мужицкой избе связано с обвинением хозяина в убийстве. Он кладет тело Аринушки на санки, обвязывает вожжами, чтобы «не болталось», и вывозит в поле, но за «мертвое тело» должен тогда отвечать «мир». И все с облегчением вздыхают, когда по вожжам обнаруживают «виновника».
Иллюстрация:
«Губернские очерки». Титульный лист первого
издания. 1857.
Если помещики и чиновники даны в тонах сатиры, то народ — в тонах лирических и мягкого, сочувственного юмора. Народ противопоставлен своим угнетателям не только в общественном, но и в нравственном отношении. Душевная чистота его составляет резкий контраст моральной испорченности господ, его сердечность — их черствости и бездушию. Здесь есть еще сентиментальная идеализация некоторых черт закрепощенного крестьянства, от которой Щедрин откажется впоследствии. Так, он пишет с глубоким сочувствием о религиозности народа — о богомольцах, странниках, о вере в другой мир, как единственном прибежище в юдоли их страданий. Однако это не помешало такому строгому критику, как Добролюбов, дать весьма положительную оценку изображению народа в «Губернских очерках». Подкупала преданность народу и вера в его силы: «...он любит этот народ, — писал о Щедрине Добролюбов, — он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых и неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Их-то защищает он от разного рода талантливых натур и бесталанных скромников, к ним-то относится он без всякого отрицания» (I, 200).
Именно защита тружеников важна для революционно-демократического критика, для него «великолепен контраст между... свежими чувствами простолюдинов и надменной пустотой генеральши Дарьи Михайловны или гадостным фанфаронством откупщика Хрептюгина» (I, 200).
Хотя чувства эти и направлены неверно, но самая их сила — залог великого будущего, того, что народ найдет правильный путь: «...уж зато, если
181
поймет что-нибудь этот „мир“, толковый и дельный, если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться» (I, 202). «Губернские очерки» убеждали, что на дворянскую интеллигенцию, на всех этих буеракиных и лузгиных надеяться нельзя. Если Щедрин еще идеализирует в «Губернских очерках» религиозное чувство народа, то он далек от приятия каких-либо церковных учений, и это отличало его от славянофилов, к сближению с которыми он дал повод. Для славянофилов важнее всего была не нравственная сила народа, выражающаяся в его вере, а самый объект последней: православие, «восточное христианство». Щедрин же отвергает всё содержание подобных верований с их аскетизмом, с их враждебной жизни мистикой, умея уже тогда материалистически объяснять это содержание. (См. относящиеся к тому же времени статьи о Кольцове и о «Сказании о странствии и путешествии... инока Парфения»).
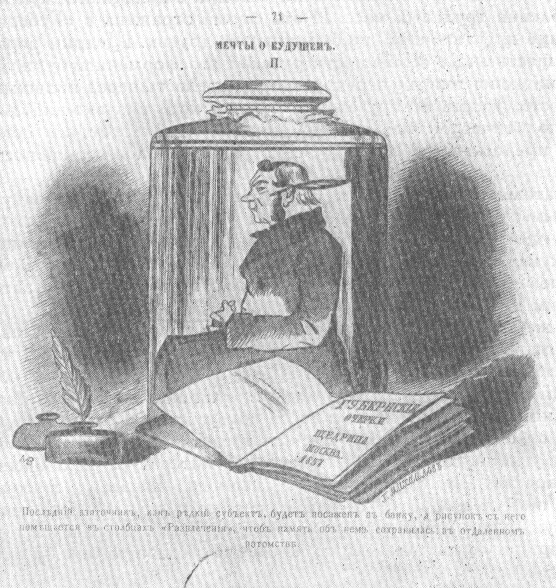
Мечты о будущем. Карикатура в журнале «Развлечение». 1859, № 6.
Не менее отрицательно относился писатель к религиозным учениям, враждебным господствующей церкви, — к расколу во всех его разновидностях. Этой теме посвящены два мастерски написанных рассказа: «Старец» и «Мавра Кузьмовна». Замкнутая жизнь раскольничьих общин создавала особенно благоприятные условия как для всяких видов изуверства, так и для подчинения темной и беспомощной массы верующих господствующей верхушке.
К расколу, в котором передовые люди того времени видели форму народного протеста против власти, Щедрин отнесся с трезвым реализмом.
182
Раскол был связан не с крепостнической, а с кулацкой и купеческой формой ограбления трудовых масс. И эта форма отражена в «Губернских очерках» в лице хрептюгиных, ижбурдиных и других. Щедрин верно и точно уловил существенные особенности русской дореформенной буржуазии: ее отсталость, низкопоклонство перед высшими, наглость перед низшими, алчность и мелочность, узость ее кругозора. Чуждая хоть сколько-нибудь самостоятельной политической мысли, она широко использует все средства, которые ей предоставляет взятка, всемогущая в условиях крепостнического общества.
Отрицательное отношение к буржуазии не ограничивается у Щедрина «поштенным купечеством». В одном из «Губернских очерков» находим явную сатиру на идеалы западников, не видевших Ничего выше капитализма. Очерк этот («Скука») и самым своим содержанием и трогательным обращением к «учителю» — Петрашевскому — свидетельствует о верности автора социалистическим идеалам юности.
Здесь же точке зрения надклассовой культуры противопоставлено классовое понимание последней. Но ни в чем так резко не сказалось это понимание и качественное отличие сатиры Щедрина уже в ту пору от либерально-дворянской идеологии, как в его образах «лишних людей». В изображении их отрицание господствующего класса обнаружилось не менее сильно, чем в фигурах открытых врагов народа, непосредственно осуществлявших режим насилия и угнетения. Впервые в русской литературе излюбленный типический характер предшествующего периода показан совершенно по-новому. «Лишние люди» были здесь впервые судимы и осуждены с точки зрения «мужицкого демократизма». В «Губернских очерках» Щедрин сатирой на дворянскую интеллигенцию начал свою славную борьбу с либерализмом.
Замечательное произведение Щедрина вызвало многочисленные отклики в печати. Игнорируя антидворянскую тенденцию «Губернских очерков», либерально-дворянская и эстетская критика сводила значение книги к разоблачению отдельных злоупотреблений. Таким образом, «Губернские очерки» снижались до уровня среднего произведения «обличительной» литературы. Самую их тематику, энциклопедически широкую и богатую, либерально-эстетская критика сузила, считая книгу лишь собранием более или менее забавных анекдотов о взяточниках и казнокрадах, исправимых путем морального или административного воздействия. Снисходительно похваливая автора за честность и осведомленность, либеральные эстеты совершенно отрицали в нем художника.
Самый крупный из них — Дружинин — дал такую курьезную оценку «Губернских очерков»:
«По верности и основательности подробностей, по непринужденной прямоте, с какою г. Щедрин подходит к делу, нельзя не признать в нем человека, служившего и знающего службу, да сверх того глядящего на служебные интересы глазом полезного и практического чиновника... Читатель видит и понимает очень хорошо, что рука, набросавшая портрет какого-нибудь вредного Порфирия Петровича, сумеет и в жизни поймать Порфирия Петровича, взять его за ворот и передать в руки правосудия, назло всем козням виноватого».1
Навязывая произведению Щедрина функции весьма близкие к функциям полицейским, критик-эстет засвидетельствовал свою неспособность понять и оценить новое, выдающееся явление русской литературы.
183
Как все произведения, отражающие наиболее глубоко свою эпоху, «Губернские очерки» превосходили своим содержанием идейный уровень большинства их читателей. «Обличительство» же, к которому Щедрин, собственно, не имел отношения, глубиной не отличалось, оно отвлекало внимание читателя от основных вопросов русской действительности ко всякого рода бытовым, житейским мелочам, а главное — внушало либеральные иллюзии.

«Губернские очерки». Змеищев и Марья Гавриловна. Рисунок
М. С. Башилова. 1869.
Не удивительно, что наиболее передовые современники высоко оценили книгу и горячо приветствовали ее автора.
«Как хороши „Губернские очерки“..., — писал Т. Г. Шевченко в своем дневнике в 1857 году. — Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда!».1
184
Выражением мнения наиболее прогрессивной части общества были статьи Чернышевского и Добролюбова о «Губернских очерках». Лишь революционно-демократическая критика могла дать им наиболее справедливую оценку.
Чернышевский и Добролюбов умели отделять «Губернские очерки» от «обличительной литературы», от либеральных подражаний Щедрину. Они чутко уловили, что и образы произведения, и самое отношение к ним художника определены отрицанием всей правительственной системы, ее идеологии, убеждением в необходимости их конца и в том, что «возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурака».1
Но для революционно-демократической критики звучал в «Губернских очерках» еще подтекст. Этот подтекст — те же идеи, которыми проникнуты юношеские повести Салтыкова, — идеи утопического социализма. Николаевская система отрицается не только с политической точки зрения. Отрицание дореформенного строя переходит в отрицание всей социальной пирамиды вообще. В «Надорванных» нельзя было не видеть сатиру на всякое классовое «правосудие», в «Скуке» — на буржуазных идеологов с их восторгом перед промышленно-капиталистическим «преуспеянием», которое якобы осчастливит народ.
Для Чернышевского и Добролюбова бесспорно, что «точка зрения народа» — точка зрения автора «Губернских очерков». Исключая «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, ни в одном произведении русской прозы народ не был еще так резко, так отчетливо противопоставлен господствующему классу.
Великие критики полностью признали революционизирующее действие щедринской книги, возбуждавшей в читателе отвращение и ненависть к крепостничеству и самодержавию, и своими статьями всемерно усиливали ее действие. В этом смысле «Губернские очерки» представляли для них весьма благодарный материал, так как те революционные выводы, которые подсказывались читателю Чернышевским и Добролюбовым, неизбежно вытекали из самих «Губернских очерков».
«Губернские очерки» в целом противоречили упованиям на благие намерения власти, распространенным в то время и среди демократической интеллигенции; вся беспочвенность подобного оптимизма выяснилась из самого произведения. Оно не только не внушало читателю иллюзий, но рассеивало их. И недаром Чернышевский в своей статье о «Губернских очерках» мог написать по поводу заключающей их картины похорон «прошлых времен»:
«Не слишком ли вы поторопились со своими похоронными желаниями? Мы решительно не понимаем: к чему, зачем и на каком основании устроили вы эти похороны?.. Взгляните на дело вашим спокойным и проницательным взглядом, и вы вместе с нами от души весело посмеетесь над вашим странным заблуждением... Слава богу, все наши добрые знакомые находятся в добром здравье и совершенном благоденствии, никто из них и не думал умирать».2
Правда, эти строки были в корректуре зачеркнуты автором, вероятнее всего, по цензурным соображениям, но Добролюбов полгода спустя, в связи с новыми десятью главами книги, писал: «Не дальше, как в прошлом году сам г. Щедрин похоронил прошлые времена. Но вот опять все покойники оказались
185
живехоньки и зычным голосом отозвались в третьей (по первоначальному плану Щедрина, — А. Л.) части „Очерков“» (I, 197).

«Губернские очерки». Порфирий Петрович. Литография
П. Ф. Бореля с рисунка М. С. Башилова. 1869—1870-е годы.
Именно Щедрин, столь глубоко разоблачавший систему, а не отдельных людей, подтверждал истину этих слов своих лучших критиков всем содержанием книги. Ряд рассказов, написанных после «Губернских очерков», посвящен такой теме, как живучесть «прошлых времен». Перед нами тот же Крутогорск, только не времен Николая I, а в период подготовки крестьянской реформы, частью те же лица, но в новых условиях.
Рассказ «Приезд ревизора» служит доказательством, что уже в 1857 году у Щедрина не осталось и следа от иллюзий, которые еще можно усмотреть в «Губернских очерках». Щедрину ясно, насколько устойчива старая администрация, как велика инерция крепостнического общества. «Конфуз», вызванный у бюрократии «новыми веяниями», оказался непродолжителен.
Быстрое развитие революционно-демократической идеологии Щедрина сказалось в новых его циклах и в том, что «провинция» и «столица» с ее «благими намерениями» оказываются совершенно тождественными. «Благие
186
намерения» — результаты преходящей конъюнктуры. В основе такого отождествления — глубоко реалистический взгляд на помещичье государство. В «Гегемониеве» автор дал революционно-демократическую сатиру на это государство, на классово-враждебную народу власть — на «варягов». Здесь же раскрыта связь, объединяющая и верхи, и низы чиновничества — одинаково враждебное отношение к народу.
Глубоко принципиальный характер щедринской сатиры, направленной против системы и потому именно отвергающей ее отдельные звенья, выражен чрезвычайно удачно в следующих словах Гегемониева, обращенных к произведенному в становые Потанчикову: «Думаешь ты, может быть, что становой есть Потанчиков, есть Овчинников, есть Преображенский? А я тебе скажу, что все это одна только видимость..., в существе же веществ становой есть, ни мало, ни много, невещественных отношений вещественное изображение...» (III, 276—277).
В произведениях, созданных после «Губернских очерков», демократическое мировоззрение писателя получило дальнейшее развитие и углубление. Изображая либерального чиновника как вариацию озорника или Филоверитова из «Губернских очерков», Щедрин метит и бьет дальше. Писатель оценивает всякое явление не столько по его местному значению, сколько по общей социальной значимости. Вообще глубокое понимание роли либералов и дало ему возможность выступить с такой энергией против них уже тогда, когда они были еще в оппозиции к власти, конечно, достаточно лойяльной. Щедрин понял, что основная линия борьбы проходит не между консерваторами и либералами, группировками одного и того же господствующего класса, а между помещиками и крестьянами. Либералы — союзники царизма, помогающие ему предотвратить крестьянскую революцию. «Лишние люди» при Николае I, не чуждые передовых идей, они становятся людьми «нужными» при Александре II. От портретов «лишних людей» в «Губернских очерках» Щедрин переходит к острому политическому памфлету против этих теперь «нужных людей». В «Скрежете зубовном» Щедрин показал в либералах наследников старых «варягов». Ратуя за «свободы» и всякие конституционные гарантии в пользу дворянства, либералы борются за неограниченную эксплуатацию народа, за превращение рабочей силы в дешевый товар и соответственно этому — за уменьшение крестьянских наделов. При таком понимании классовых вожделений либерального дворянства не могло уже оставаться никаких иллюзий относительно характера его оппозиционности. Проницательно понято и убедительно показано сатириком в «Скрежете зубовном», что либеральная оппозиция с ее гласностью и устностью лишь особая форма сотрудничества с властью. Общественное возбуждение исчерпывает здесь себя в потоке слов. В то же время одной из важнейших функций либерального витийства является борьба с революционной пропагандой.
Против этой функции либеральной «постепенно-неторопливой гласности» направлена сатира «Литераторы-обыватели», в которой Щедрин выступает против «обличительства». Либерал льстит обывателю, внушает ему, что, повторяя звонкие либеральные фразы, он становится силой. От великих идей общественного пересоздания либералы отвлекают к «малым делам». В борьбе против либеральной контрреволюционности, в обнажении либеральной лжи проявился в щедринской сатире тот «мужицкий демократизм», которого тогда не мог понять Герцен, взявший «обличительство» под свою защиту от ударов Чернышевского и Добролюбова. В этом столкновении Щедрин был с ними, а не с Герценом.
Либералы, по Щедрину, — главная опасность для народа. Крепостники кажутся ему пока более смешными, чем опасными. В щедринской сатире претензии
187
помещика-крепостника смешны уже потому, что он не обладает никаким подлинным культурным превосходством над крестьянином, которого так хочет опекать. Наиболее удачно выразил Щедрин свое отношение к самым отсталым и реакционным элементам дворянства в рассказе «Госпожа Падейкова». В образе заскорузлой крепостницы раскрыто и выставлено на позор сентиментальное ханжество, полное жалости к себе и ненависти к «младшим братьям». Самое большее, на что способна госпожа Падейкова, — это отказаться от того, что собственно уже не принадлежит ей.
Тема реакционного дворянства и его судьбы, — укажем в этой связи еще на рассказ «Деревенская тишь» (1863), — нашла свое продолжение в дальнейшем творчестве Щедрина.
Однако Щедрин несколько недооценивал в то время политические возможности этой группы. То, что казалось еще в конце 50-х годов бессильным и жалким, ожило и властно заговорило.
Помещики-либералы, помещики-крепостники, администраторы всех видов — все они противопоставлены у Щедрина народу.
Отношение сатирика к народу также изменяется в смысле большей ясности, глубины и правдивости. В «Губернских очерках» еще не изжито полностью сентиментальное отношение к народной массе: здесь и мотивы покаяния в вине перед ней, и восхваления крестьянского долготерпения и т. п.
Последний раз такие мотивы звучали у Щедрина в «Святочном рассказе», но уже здесь автор начинает преодолевать их. Он больше говорит о пробуждении крестьянского протеста, чем о смирении и «долготерпении».
Особенно резко выражен этот протест в рассказе «Развеселое житье». Поэзия любви, но любви, которая не отождествляется со смирением, а побуждает к бунту, к мести за отнятую радость, противопоставлена здесь варварскому помещичьему угнетению. В рассказах данных циклов (назовем еще рассказ «Миша и Ваня», признанный цензурой «разжигающим чувства ненависти и мщения») остро ставится крестьянская проблема. Она волнует Щедрина не только как мыслящего человека своей эпохи вообще, но и как революционного демократа — в особенности.
В «Скрежете зубовном» не оставлена еще надежда на мирное разрешение земельного вопроса. Автор убеждает помещиков и государственную власть капитулировать перед Иванушкой, внушает им мысль о безнадежности борьбы против справедливых требований народа.
В 1862 году стало ясно, что помещичье государство не капитулировало и не капитулирует. Об этом свидетельствовали арест и осуждение Чернышевского, репрессии против других передовых деятелей, разгром польского восстания.
В обстановке спада революционных настроений царское правительство продолжало осуществлять некоторые «реформы». В 1864 году были изданы законы о земском самоуправлении и новых судах. Освобождение крестьянских масс не только от власти помещиков, но и от земли повлекло за собой образование огромной армии пролетариата и рынка дешевой рабочей силы. «...после 61-го года развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века».1
Антикрестьянский характер крестьянской реформы был так же ясен Щедрину, как и Чернышевскому. Щедрин сознает неосновательность просветительских надежд на то, что одна из противостоящих сил — класс, представляемый либералами, уступит проповеди благоразумия и гуманности. Эти надежды
188
сменяются у Щедрина отчетливым сознанием того положения вещей, которое точно и ясно сформулировано Лениным в статьях о реформе 1861 года.
Когда классовый смысл «реформ» достаточно определился, когда больше не приходилось говорить о каких-либо серьезных уступках господствующего класса, вывод мог быть лишь один: возрождение подлинное, а не «глуповское» принесет только революция.
Мысль о необходимости революционного исхода из создавшегося положения не была для Щедрина чем-то новым. Не забудем, что молодость писателя прошла в период идейного подъема в России 40-х годов, революции 1848 года на Западе.
Революционная молодежь 60-х годов напоминала ему петрашевцев, передовую молодежь 40-х, жадно ловившую вести из революционной Франции, ту молодежь, одним из представителей которой был он сам. Не закреплением ли связи революционной традиции 40-х годов с новым общественным движением было включение «Запутанного дела», носившего на себе отблеск революции 1848 года, в «Невинные рассказы»? Вопрос о необходимости и исторической справедливости революционного переворота был для него решен в положительном смысле в 60-е годы. Его волновал теперь другой вопрос: может ли крестьянство в более или менее близкие исторические сроки подняться на революционную борьбу со своими угнетателями?
При такой общественно-политической позиции Щедрин не мог не выступить против тех группировок среди демократической интеллигенции, которые под впечатлением разгрома революционных сил отказались от продолжения борьбы и даже придумали для этого отказа принципиальное оправдание. Одна из этих групп признала распространение знаний среди имущих классов единственным средством улучшить положение «голодных и раздетых», смотрела на массы лишь как на пассивный объект, а не субъект исторического процесса. Эти взгляды Щедрин решительно осуждает в январской хронике «Современника» за 1864 год, являющейся началом ожесточенной полемики с «Русским словом». Но Щедрин этим не ограничивается. Критика Щедрина, направленная против «Русского слова», основана на глубоком убеждении в том, что революция немыслима без самого активного участия масс. Поэтому основной вопрос для Щедрина: как привести в движение эту главную силу революции? У современных ему рядовых революционеров Щедрин не видел понимания этой задачи и способов ее решения. Щедрин убежден, что при тех же, а может и меньших жертвах могли быть достигнуты лучшие результаты, если б революционер умел подойти к массе, найти общий с ней язык, овладеть ее вниманием, завоевать ее доверие. Передовой человек обязан войти в самую гущу народной жизни, оставаясь в то же время самим собой. Не снижая своих идеалов, а вместе с тем и не опускаясь до уровня отсталых слоев народа, он должен как терпеливый воспитатель и педагог последовательно поднимать их сознание, начав с наиболее понятного. Для этого необходимы люди столь же практичные, как и самоотверженные, не замыкающиеся в тесном кругу единомышленников, а работающие везде и повсюду для своей цели.
Образ такого революционера Щедрин хотел создать в превосходно начатом в этот период, но, к сожалению, не законченном романе «Тихое пристанище». Тема романа — тот же основной для Щедрина вопрос эпохи: вопрос о гибкой тактике революционной борьбы, — тактике, основанной на трезвом учете своих сил и сил противника, предполагающей не только протест возмущенной насилием личности, но организацию протеста масс. Напомним, что в 1862 году появляются «Отцы и дети» Тургенева, которых Щедрин не признал верным отражением идей и стремлений «молодого поколения».
189
В 1863 году как своего рода ответ Тургеневу печатается в «Современнике» «Что делать?» Чернышевского. Разделяя основную мысль этого романа, Щедрин считал, что некоторые стороны его нуждались в дополнениях и разъяснениях. Естественно, Щедрин захотел сказать и свое слово о «новых людях», изобразить их не только в спорах и беседах, которыми поглощен Базаров, но и в общественной деятельности. В отличие от Базарова, герои «Тихого пристанища» должны были выражать положительные идеалы, а от героев «Что делать?» отличаться более тесной связью с повседневной действительностью, с ее нуждами и борьбой. Таков замысел романа «Тихое пристанище», который в условиях того времени не мог быть осуществлен автором как реалистическое художественное произведение. В процессе работы Щедрину стало ясно, что произведение, смысл которого заключался в постановке таких вопросов в наиболее убедительной и доступной форме, не увидело бы света. Но еще важнее то, что в самой жизни герои задуманного романа не могли достаточно проявить себя. Сам Щедрин указывал на это серьезнейшее, по его мнению, препятствие для создания положительного характера: «... новый человек, — писал он, — делается невольным теоретиком, т. е. таким лицом, которое недостаток практической деятельности невольно возмещает теоретическими об ней рассуждениями» (VIII, 63).
Таким образом, не осуществилось одно из интереснейших по замыслу произведений Щедрина, где он хотел показать, как группа молодежи не только объявляет войну старому миру, не только страдает за свои убеждения, но и наносит ему умелые удары. Погружаясь в самую тьму, герои «Тихого пристанища» должны спасти живых людей от патриархального деспотизма в своеобразной обстановке раскольничьей секты. Но эти частные цели не заслоняют общего. Раскол — лишь одно из тех обстоятельств, которые «встречаются беспрестанно», и потому «для каждого из них нужны люди, нужен общий план, нужна дисциплина (IV, 316). А то, что практичность этой молодежи не имеет ничего общего с практицизмом, что ее революционность столь же несомненна, как и реализм ее мысли, явствует из следующих слов одного из главных персонажей повести Крестникова: «Знаете ли, как кончают самонадеянные мальчишки, подобные нам? Они кончают или самоубийством, или...» (IV, 317).
Это многозначительное «или...» давало до сих пор повод некоторым исследователям приписывать Щедрину готовность к компромиссу с господствующим злом. Но речь в «Тихом пристанище», как и в других одновременных высказываниях Щедрина, шла не о сделках со старым миром, а о целесообразных средствах революционной борьбы.
Приписывающие Щедрину «практицизм» и тому подобные грехи с тем же основанием могли бы предъявить такие же обвинения Левицкому (Добролюбову), который в романе Чернышевского «Пролог» говорит: «...никакое положение дел не оправдывает бездействия; всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное; всегда надобно делать все, что можно» (XIII, 247). Вспомним, что Левицкий призывает делать «всегда что-нибудь» не для чего другого, как для революции, для ее приближения. И тот же смысл в словах Щедрина: «...никто не имеет права отказываться от участия в жизни, как бы она ни была преисполнена лжи и нечестия. Жизнь сама, изнемогая под бременем насилия, взывает о помощи, и тот не исполнит своего долга, как человек, кто отвратится от нее» (IV, 290). Меньше всего склонный к иллюзиям, Щедрин понимал, что «бремя насилия» сбросит только революционная сила. В годы торжествующей реакции он оставался последовательным революционным демократом, наиболее близким к Чернышевскому и Добролюбову.
190
4
Один из характерных признаков творчества Щедрина — цикличность построения произведений. Эта форма давала возможность отражения жизненных явлений как некоего единства при всем их многообразии. Цикличность придавала сатирическим очеркам и обстоятельность эпоса. Выявляя в злободневном черты, выходящие далеко за его пределы, Щедрин избирает форму цикла, где из очерка в очерк проходят те же персонажи и развиваются их судьбы, как наиболее удобную для выполнения его задач. Цикличность, как мы увидим, имеет еще и другие функции.
Интересно, что произведения, даже не включенные автором ни в один из циклов 50—60-х годов, мыслились им и создавались как звенья того или иного из них. Так, к крутогорскому циклу сами собой примыкают такие повести, как «Жених» и «Яшенька», и такое крупное произведение, как «Смерть Пазухина». К Крутогорску, готовящемуся к реформам, относятся отрывки из «Книги об умирающих» с замечательным образом поручика Живновского, перешедшего туда из «Губернских очерков». В «Сатиры в прозе» вошли бы «Каплуны» и «Глуповское распутство», если бы цензура их не запретила, и очерк «Глупов и глуповцы», повидимому, затерявшийся в редакции «Современника» (см. IV, 495). Особняком стоит пьеса «Тени» и незаконченное «Тихое пристанище». Они не входят в рамки циклов.
Нельзя не отметить глубоких расхождений в эстетической оценке «Губернских очерков» и последовавших за ними произведений, которую они получили со стороны представителей разных литературно-общественных группировок.
«...если г. Щедрин имеет успех — то, говоря его словами, писать уже „не для че“. — Пусть публика набивает себе брюхо этими пряностями. — На здоровье!».1 Так отзывался Тургенев о «Губернских очерках», отвергнутых по его совету «Современником» и привлекавших читателей к «Русскому вестнику», где они первоначально печатались. Позднее Тургенев высоко ценил Щедрина как художника. Высокую эстетическую оценку дали «Губернским очеркам» Чернышевский и Добролюбов, отметив их большое общественное и литературное значение.
В «Губернских очерках» важное место занимает цикл «Талантливые натуры». Здесь Щедрин, разрабатывая излюбленную проблему русской литературы предшествующего периода, проблему «лишнего человека», выполнил завет Белинского (в обзоре литературы за 1845 год) — сделал «лишних людей» предметом сатиры. Он облек их в обломовский халат, показал их как бытовые явления, и не поднял над средой. Недаром в своей статье о «Губернских очерках» Добролюбов уделил столько внимания «талантливым натурам». О последних он высказал ряд соображений, впоследствии развитых в статье об «Обломове».
Ближе всего Щедрин стоит к Некрасову своим резким противопоставлением высших и низших общественных слоев: «благородные» чиновные бюрократы и их «рабочие руки» — приказные, подьячие; помещичье-чиновный мир и крестьяне. Острие сатиры направлено против господствующих классов и в защиту той непросвещенной массы, которая третировалась либеральными «обличителями». Наоборот, «просвещение» этих высших классов, их «цивилизаторское» опекание масс становится уже в «Губернских очерках» предметом бичующего сарказма. Неудивительно, что стилистические средства, служащие у ряда писателей приукрашению жизни помещичьего класса, иронически
191
направлены Щедриным против него или всячески снижаются, как у Некрасова. Для выражения симпатий автора к народу используются элементы народного творчества, культивируется крестьянский сказ («Пахомовка», «Аринушка»).
Сатира Щедрина отличается, как мы видели, осознанной целенаправленностью демократического и революционного характера. На это указывал первый проницательный критик «Губернских очерков» — Н. Г. Чернышевский. В «Губернских очерках» сознательно отвергается порочная система, порождающая порочных людей, на первый план выдвигаются социально-типичные факты, обусловливающие человеческие поступки. Однако «Губернские очерки» еще не свободны от протокольности, эмпиризма, которые ослабляют здесь элементы социальной сатиры. Лишь позднее Щедрин овладел исключительным умением из анекдотичного, казалось бы невероятного, делать типичное, естественное в самой своей нелепости и тем самым усиливать революционную действенность своих сатирических циклов. Что касается образов «Губернских очерков», то они во многом варьировали уже существовавшие в русской литературе типы. Но щедринское сказалось и тут.
Щедрин затрагивает то новые области жизни, создавая новые ситуации для известных уже характеров, то изменяет самые характеры. Здесь еще сатирик не ставит себе задачей датъ заостренную до гротеска характеристику всей отрицаемой действительности, всего социального ее смысла, как, например, в «Истории одного города». Обозначается достаточно ясно другая своеобразная черта Щедрина. Если Пушкин в заметке о характерах Мольера и Шекспира отвергал односторонность художественного изображения вообще, то Щедрин стремился избегать односторонности даже там, где она наиболее оправдана — в изображении сатирических характеров; избегать ее, если эти характеры типичны лишь для отдельных моментов, отдельных областей действительности; стремился дать сатире многообразие широкого и свободного отражения жизни, не только не ослабляя сатиру, но усиливая ее действие. Даже Филоверитов в частной жизни остается человеком и соболезнует людским бедам. Но существует разрыв между поведением подобных персонажей в быту и их общественной деятельностью. Убеждая своими образами и ситуациями в неизбежности такого разрыва, Щедрин повышал эффективность сатиры, направленной против исключающей человечность деятельности файеров и филоверитовых. Позже Щедрин создаст на этой основе ряд образов несоизмеримо более художественно значительных. Назовем хотя бы фигуру щедринского Молчалина.
В произведениях, примыкающих к крутогорскому циклу, — в «Женихе», «Яшеньке», в первом отрывке из «Книги об умирающих» и особенно в «Смерти Пазухина» — продолжается это перерастание гоголевского в щедринское. «Яшенька» — этюд о дворянском недоросле, который в условиях крепостного права полностью лишен способности к самостоятельному существованию. Образ создается и авторскими ремарками, и поведением персонажа, обнаруживающим пассивность его натуры. Это та же обломовщина, но изученная на особом извращении человеческого существа, с выделением и заострением тех черт, которые мог подметить только взгляд сатирика. Подмеченное здесь получило свое развитие впоследствии. Это — пустословие и пустомыслие. Им соответствует своеобразная фантастика, создающая для подобного характера особый, лишенный какого бы то ни было разумного содержания мир, который, однако, помогает ему скрасить свое убогое существование. Такая фантастика, избавляя от беспросветно-унылой скуки, делает существование таких натур еще по-особому устойчивым.
192
«Смерть Пазухина» построена по принципу единого действия и разных характеров, по-своему участвующих в нем. Алчный Прокофий, чадолюбивый хищник Лобастов, прожженный пройдоха и ханжа Фурначев, готовая вгрызться в горло врагу Живоедиха, вечно несытая паучиха — жена Фурначева, никогда не унывающий Живновский — все они действуют метким, острым словом, которым поражают друг друга и уничтожают, сами того не сознавая, самих себя.
Наивно хитрые, а вначале растерянные речи Прокофия сменяются затем восторженными возгласами упоенного удачей и местью собственника. Семинарско-канцелярским языком Фурначев маскирует свои мошеннические цели, оглушая своего собеседника и вместе с тем разоблачая себя, преуспевавшего статского советника. Все эти персонажи говорят афоризмами, крылатыми формулами и характеристиками, концентрированно выражающими их сущность.
Язык щедринских персонажей подчас не столько сообщает, сколько «создает обстановочку» для темных людей и их делишек. Значительнейшие образы Щедрина, как, например, Иудушка Головлев, раскрываются прежде всего через их речь. Щедрин подготовлял этот образ, создавая фигуру Фурначева. Пустословием, «скучной» речью Фурначева прикрываются его плутовство и пронырливость, напоминающие во многом Порфирия Петровича из «Губернских очерков» (у них обоих весьма сходная биография). Оставался еще один шаг: алчное лицемерие и пустословие должны были стать не только симптомом морального разложения, но и душевного распада вообще, сочетаться с фантастикой пустомыслия; когда это произошло, тогда и стяжательство обнажило себя как мания, бессмысленный рефлекс больного мозга, а не естественное проявление ловкого хищника, стремящегося к определенным целям, как у Фурначева. А язык таких героев, не столько выражая мысли, сколько пустомыслие, явился признаком опустошенной психики.
Драматическая сатира «Тени» написана в первой половине 60-х годов. Она не совсем закончена, в пьесе недостает каких-то последних штрихов. Щедрин не опубликовал ее; она появилась впервые двадцать пять лет спустя после смерти сатирика. Зная, с какой настойчивостью он проводил в печать свои произведения, можно из такого отношения к своей пьесе заключить, что она его не удовлетворила. Действительно, она уступает превосходной «Смерти Пазухина» с ее классически четкой композицией, выдержанностью и законченностью характеров и той мощью языка, о которой мы только что говорили. Не был, повидимому, доволен автор и непомерно длинными монологами, хотя и сильными, но тормозящими действие и превращающими его в исповедь героев. Содержание исповеди связано с мотивом стыда, столь характерным для сатиры Щедрина.
Действующие лица пьесы сами себя характеризуют, как бы просыпаясь на мгновение от того кошмара, в который погружены, как бы на мгновение останавливая автоматический бег своей жизни, ее «призрачную суету», увлекающую их за собой. Так, например, Клаверов, карьерист-приспособленец, мечущийся между старым и новым, осознает наедине с собой всю бессмысленность и позорность своей жизни, всю призрачность своей власти, всю ничтожность достигнутого, которое далось ему ценой унижения своего человеческого достоинства.
«Ведь я дрянь, — говорит он, — я сам выскочил в люди по милости женщин вольного обращения!.. ведь не могу же я скрыть от себя, что я лакей, что я держусь именно потому, что я лакей!» (IV, 382).
Клаверов сознает в такие минуты, что соблазнившая его жизнь — «самая чудовищная барщина, какую только может придумать воображение самое развращенное» (IV, 396), что он лишь «тень человеческая».
193
Иллюстрация:
«Отечественные записки». Обложка журнала.
194
Следующий по пути Клаверова, завидующий ему Бобырев восклицает, оставшись один: «Какой срам! какой срам!.. бывают минуты, когда меня просто томит страстное желание опять возвратиться к тому ничтожеству, из которого я попытался выйти. Чего я желаю? чего я искал? Если спросить меня по совести, я и сам едва ли буду знать, что ответить... Да куда же я попал, боже мой! не во сне ли я? не горячечный ли бред все эти Клаверовы, Таракановы, Обтяжновы!.. весь этот срам, вся эта гнусность... всё, всё красным клеймом выпечатано на лбу моем!» (IV, 401, 405). Сравнивая «Тени» с предыдущим драматическим произведением Салтыкова-Щедрина, мы не находим в нем этого саморазоблачения героев. В «Смерти Пазухина» всё построено на том, что они разоблачают друг друга, и это разоблачение сливается с их борьбой между собой. Здесь нет поэтому тех отделенных от действия моментов, которые замедляют его в «Тенях». Мотив «стыда» требовал иной формы, и к ней Щедрин и обратился, забраковав свою «драматическую сатиру». Не удовлетворил его, вероятно, и женский образ «Теней» — жена Бобырева, соблазненная и развращенная Клаверовым. Несколько натянутой и искусственной может показаться сцена ее перерождения из легкомысленной и пустенькой женщины, увлеченной своими дешевыми успехами, в человека, познавшего всё ничтожество окружающего ее мира.
Но суровая самокритика, которой подверг свое произведение автор, не должна помешать нам оценить высокие достоинства пьесы. Ряд сцен написан с поистине щедринским мастерством. Чрезвычайно правдиво понята и изображена столичная бюрократия в один из тех моментов, когда, не изменившись по существу, она потеряла прежнюю уверенность и невольно оглядывалась на людей нового типа — на Шалимовых.
Шалимова мы знаем по «Сатирам в прозе» («Клевета», «Наши глуповские дела»), «Невинным рассказам» («Наш дружеский хлам»). Как ни пакостят враги Шалимова, каждый из них трясется «при одном имени Шалимова», каждый из них боится «его пуще палки и боя смертного!» (III, 235, 236). И в «Тенях» автор сумел открыть, рисуя отрицательные персонажи, перспективу положительного.
По сравнению с «Губернскими очерками» в «Сатирах в прозе» углубляется типичность художественного изображения. Преодолевается эмпиризм. Крутогорск заменяется Глуповым. Изображение становится непосредственно связанным с классовой борьбой в стране. Достижение полной согласованности между обобщенностью и актуальностью, даже злободневностью изображения становится одной из существенных и близких нам черт щедринского реализма.
Переходом от «Губернских очерков» к «Сатирам в прозе» является бо́льшая часть «Невинных рассказов», в особенности те из них, которые перешли в этот цикл из начатой, но незаконченной «Книги об умирающих». В «Невинные рассказы» не перешли два отрывка из этой книги. В одном из них реализован задуманный Щедриным рассказ об идеалисте сороковых годов. Другой отрывок из «Книги об умирающих» (1858) посвящен смерти неугомонного, казалось бы, несокрушимого подпоручика Живновского. Это своего рода исповедь, раскрывающая характер героя не только тем, что рассказывается, но и тем, как рассказывается. И на смертном одре Живновский не изменил себе. Он ни о чем не жалеет, ни в чем не раскаивается. Если бы ему довелось начать жизнь сызнова, он полностью повторил бы прожитое. Живновский любуется собой; он полон чувства превосходства над окружающим. Он постиг всю мудрость жизни, найдя ее в вине и беспрерывной потехе. В нравственном смысле Живновский на всю жизнь остался неизменно бессознателен: он будет спокойно мучить и
195
издеваться по приказу того, кто его кормит и поит, или просто от скуки, чтобы развлечься, не испытывая при этом злобы, а после — раскаяния. Зубодробящий поручик даже добродушен. Изворотливость в борьбе за жизнь соединяется в нем с детской наивностью. Живновские страшны тем, что до них «дойти» нельзя, что чувство человеческой личности, человеческого достоинства им чуждо («лицо что! лицо — рожа и больше ничего!..»).
Другие два рассказа из начатой «Книги об умирающих» — «Гегемониев» и «Зубатов» — вошли в «Невинные рассказы» как повествование о настоящем. И если перед нами здесь старые типы, то самое включение очерков, им посвященных, в новый щедринский цикл лишь подчеркивает и подтверждает живучесть старого. В рассказе «Зубатов» (1859) мы видим уже зрелого Щедрина. Рассказ построен также по методу самохарактеристики, на афоризмах администратора николаевской службы, выражающих его сущность. «Гегемониев» (1859) — сатирическая интерпретация «прописных» истин, оправдывающих и укрепляющих господство помещиков и бюрократов. Обыгрывая ходячую легенду о призвании варягов, внедряющую в сознание масс идеологию господствующего класса, Щедрин бил врага его же оружием. Официальная легенда направлена Щедриным против того дела, которое она защищает. Достигается это мастерским противопоставлением ее основных элементов: «обилия» — «порядку».
Разрабатывая свой особый метод социальной сатиры, Щедрин должен был утвердить свою творческую самостоятельность главным образом по отношению к своему величайшему предшественнику и учителю в области сатиры — Гоголю, влияние которого на Щедрина было столь велико.
В рассказе «Приезд ревизора» (1857) взята гоголевская тема и развернута в той конкретной обстановке, в тех условиях, в которых пришлось жить Щедрину. Есть даже Бобчинский или Добчинский — Иван Павлыч Вологжанин; есть сходство в обрисовке действующих лиц. Разговоры «приятной во всех отношениях» Дарьи Михайловны по существу напоминают разговоры жены городничего с Хлестаковым, но по форме соображены с рангом и положением первой.
Губернаторша говорит те же вещи, но ссылается на Гёте, Бальзака, Жорж Санд. В таком использовании одного из моментов комедии Гоголя сказалось уже характерное для Щедрина снижение дворянской «просвещенности», в которой он всегда склонен видеть приукрашивание праздности и скуки.
Но самое важное из того, что отличает эту вещь от гоголевской и показывает своеобразие щедринской сатиры, — это отношение к самому ревизору, вернее к самой проблеме ревизора. Гоголь сокрушает своего городничего и ему подобных тем, что заставляет их принять мнимого ревизора за настоящего, поверить в призрак, созданный воображением взяточников и казнокрадов. Щедрин же бьет по самому принципу «ревизора», выявляя полное единодушие этого представителя столичных верхов с ревизуемыми провинциальными чиновниками и его солидарность с ними. Посланный «из Петербурга» ревизор также оказывается «мнимым». Ревизора настоящего надо искать за пределами дворянско-бюрократического мира.
Чем больше выясняется этот особый характер щедринского ревизора, основная идея всего рассказа, тем яснее становится, что Щедрин не подражает Гоголю, а использует его сюжет в своих целях как революционно-демократический сатирик.
Щедрин и все другие революционно-демократические писатели вышли из гоголевской школы. Всю жизнь Щедрин считал Гоголя величайшим русским художником, самым близким из своих предшественников. Однако новая
196
эпоха, сделавшая доступными литературе такие сферы действительности, которых Гоголь не мог касаться, требовала своего сатирического стиля, проникнутого ясным и определенным политическим сознанием. Сделанное нами сопоставление лишь иллюстрирует и подтверждает на новом примере замечательное указание Чернышевского, что Гоголя «поражало безобразие фактов, и он выражал свое негодование против них; о том, из каких источников возникают эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, он не размышлял много... Теперь, например, Щедрин вовсе не так инстинктивно смотрит на взяточничество — прочтите его рассказы „Неумелые“ и „Озорники“ и вы убедитесь, что он очень хорошо понимает, откуда возникает взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено. У Гоголя вы не найдете ничего подобного мыслям, проникающим эти рассказы» (IV, 632, 633).
Это правильное положение Чернышевского нуждается сейчас в некотором уточнении. Если Гоголь имел уже в виду не только отдельные отрицательные факты, но и общую гнетущую атмосферу, в которой действовали его герои, то Щедрин вполне сознательно ставил себе социально-политические задачи — задачи разоблачения режима, а это предполагало новые конфликты, новые приемы. Рассказ «Приезд ревизора» интересен тем, как один из таких значимых для Гоголя конфликтов снимается или теряет во всяком случае свое прежнее значение. Для «обличительной литературы», к которой совершенно неправильно относили и Щедрина, оно еще вполне сохранилось. «Приезд ревизора» свидетельствует, что не только вслед за Добролюбовым (см. статью «Литераторы-обыватели», 1861), но и гораздо раньше, уже в 1857 году, Щедрин резко выступил против «обличительной» литературы.
Другое произведение цикла — «Святочный рассказ» (1858) осуществляет иную задачу на том же пути создания стиля сатиры, соответствующей революционно-демократической идеологии. Это — преодоление традиции сентиментально-идиллического изображения народной жизни, привлекательной своей простотой и непосредственностью, традиции, которой и Щедрин отдавал ранее дань. Напомним страницы «Губернских очерков», посвященные религиозному чувству народа, идеализированному и опоэтизированному. В «Святочном рассказе» идиллии противопоставлены такие исключающие ее факты, как рекрутчина, с одной стороны, и, с другой — шутовство Абессаломова, выгнанного со службы потому, что его нос не понравился губернатору (сюжет, заостренный Щедриным, вопреки его анекдотичности, до социального протеста, что ему не всегда удавалось в «Губернских очерках»).
Если раньше наивно чистая вера простых людей противопоставлялась Щедриным цинизму и опустошенности верхов, то здесь эта вера понята уже как своего рода опиум народа.
«Святочный рассказ» интересен в данной связи тем, что, еще поддаваясь сентиментальному лиризму, еще не совсем отделавшись от традиционных представлений, автор одновременно противопоставляет им суровую правду жизни, изобличающую их ложь. Реалистический пафос рассказа выражен и в видении города, душащего своей прозой всё наивно-идиллическое.
В другом цикле того же периода, в «Сатирах в прозе», впервые достаточно определенно выразилась одна из своеобразных особенностей щедринской сатиры, зародившаяся еще в «Запутанном деле»: использование фантастики как одного из приемов реалистического изображения действительности.
197
«Глуповский цикл» — не сборник фельетонов, а своеобразное сочетание жанров, использованных в познавательно-пропагандистских целях. Щедрин и здесь делает то, что Некрасов — в области поэзии: переосмысляет старые жанры и на их основе создает новые.
Название «Сатиры в прозе» отлично передает своеобразие цикла. Щедрин откровенно заявляет о «прозаическом», деловом характере своей сатиры, ставящей в центре внимания не психологические моменты, а моменты общественные. Автор обычно начинает с социально-философского размышления или публицистического анализа фактов и отношений: характерный иронический или саркастический язык и сатирические маски указывают на художественную специфику изложения. Затем авторский монолог начинает обрастать элементами «чужой речи», монологами сатирических персонажей, их «афоризмами», в которых они обычно выражают у Щедрина свое миросозерцание, свою «мудрость», диалогами и, наконец, снова анализ, резюме, автокомментарий, с использованием обращения автора к изображаемым лицам.
Здесь Щедрин творец жанра, в который публицистика входит как необходимый элемент художественности, без которого не существовало бы ее неповторимого, чисто щедринского творческого своеобразия. В этом новом жанре фигура рассказчика выполняет совершенно другую функцию, имеет другой смысл, чем в «Губернских очерках». Рассказ о событиях, являющихся предметом сатирического изображения, ведется часто лицом, которое само принадлежит к объектам сатиры. Такой прием будет применен Щедриным в дальнейшем. Вспомним «Обращение к читателю» в «Истории одного города», где это явно подчеркнуто, или такие произведения, как «Дневник провинциала в Петербурге», «Современная идиллия» и другие.
Одним из оригинальных моментов построения своеобразного жанра, созданного здесь Щедриным, является сатирическое описание, принимающее форму воспоминания, иногда юмористически, иногда лирически окрашенного. В последнем случае часто пародируются «общие места» лиризма в литературе предшествующего периода.
«Глупов! милый Глупов! отчего надрывается сердце, отчего болит душа при одном упоминовении твоего имени? Или есть невидимое, но крепкое некоторое звено, приковывающее мою судьбу к твоей, или ты подбросил в питье мое зелья, которое безвозвратно приворожило меня к тебе? Кажется, и не пригож ты, и не слишком умен; нет в тебе ни природы могучей, ни воздуха вольного; нищета, да убожество, да дикость, да насилие... плюнул бы и пошел прочь! Ан нет, все сердца к тебе несутся, все уста поют хвалу твою!».
И вся эта «лирика» вдруг намеренно сбивается с тона: «Странная какая-то творится тут штука: подойдешь к тебе поближе, вкусишь от винограда твоего — тошнит; чувствуешь, как въяве дураком делаешься; уйдешь от тебя — плачешь: чувствуешь, что вдруг становишься словно не самим собою!» (III, 66).
Удобной формой эзопова языка становится сатирический пейзаж: «Осенью Глуповица надувается и как будто проявляет желание подурить...: всё мне кажется, что она сбирается какую-то неслыханную дебошь сделать. Но ожидание мое напрасно. Тщетно вглядываюсь я в колышущуюся пучину вод; тщетно жду: вот-вот разверзнется эта пучина, и из зияющей пропасти встанет чудище рыба-кит! Вместо того, я слышу только, как шлепают волны об берега, как они разлетаются в брызгах, и опять шлепаются, и опять разлетаются... Под звуки этого шлепанья славно спится глуповцам» (III, 238, 239).
198
Эти первые опыты сатирического пейзажа достигают предельного совершенства в «Истории одного города», где в двух строках, с исключительной сжатостью и простотой рисунка дана вся сущность «идеи» персонажа, которому пейзаж служит фоном: «... пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху вместо неба, нависла серая солдатская шинель...» (IX, 404).
Подлинный лиризм появляется у Щедрина в этот период обычно только тогда, когда он говорит о мужике. Речь Щедрина принимает тогда народный склад. Обращаясь к мужику, сатирик не может не объяснить его страданий несознательностью и использует излюбленный фольклорный образ:
«Дурак Иванушко! чему смеешься?... Или сердце в тебе взыграло?.. Или пахнуло на тебя свежим воздухом?.. Или почуял ты, что пришел конец твоему гореваньицу, тому злому, лютому гореваньицу, что и к материнским сосцам с тобой припадало, что и в зыбке тебя укачивало, что и в песнях тебе подтягивало, что и в царев-кабак с тобой разгуляться похаживало?» (III, 251).
Иванушка-дурачок народных сказок вносит лиризм в революционно-просветительскую сатиру, которая стремится сделать его умным Иванушкой.
Если «лирическое отступление» у Щедрина служит целям сатиры, если оно, пародируя лиризм, иронично по существу, то и, наоборот, юмор, ирония, даже сарказм служат подлинному лиризму, входят в него формирующим элементом. По этому принципу построен рассказ «Для детского возраста» (1863, «Невинные рассказы»), где прелесть детства оттеняется неприглядными образами отцов. Однако пошлость не всегда щадит и. детей, и лирическая тема, исчерпав себя, переходит здесь в сатирическую.
Так определялись в данный период некоторые черты стиля сатиры, воинствующей по своему содержанию, разнообразной по форме, создаваемой не по старым канонам, но свободно использующей художественное наследство в своих целях.
Этот период может быть назван временем становления сатиры, непосредственно отданной на службу революции.
Крутогорск «Губернских очерков» и Глупов «Истории одного города» — два полюса художественного мышления Щедрина, но они не изолированы, их связывают многообразные нити. В произведениях, написанных в период между созданием «Губернских очерков» и «Истории одного города», многое поднято на более высокую ступень обобщения, чем в первых (например, фигура подпоручика Живновского), предваряются (в лице, например, Зубатова) даже значительнейшие образы гениальных сатир 70-х годов.
Произведения Щедрина 1856—1866 годов составляют единое целое с его творчеством последующих лет.
5
Социально-экономические процессы, происходившие в России вскоре после «освобождения» крестьян, Салтыков-Щедрин отразил также и в публицистических циклах «Признаки времени», «Письма о провинции», очерке «Итоги» и других. «Признаки времени» печатались Щедриным в журналах «Современник» и «Отечественные записки» с 1863 по 1871 год, «Письма о провинции» — в «Отечественных записках» с 1868 по 1870 год. В 1869 году вышло отдельное (неполное) издание обоих циклов в одной книге.
Основным вопросом, занимавшим Щедрина, да и всех передовых людей того времени, являлся вопрос о сущности крестьянской реформы 1861 года, о ее влиянии на судьбу русского крестьянства.
199
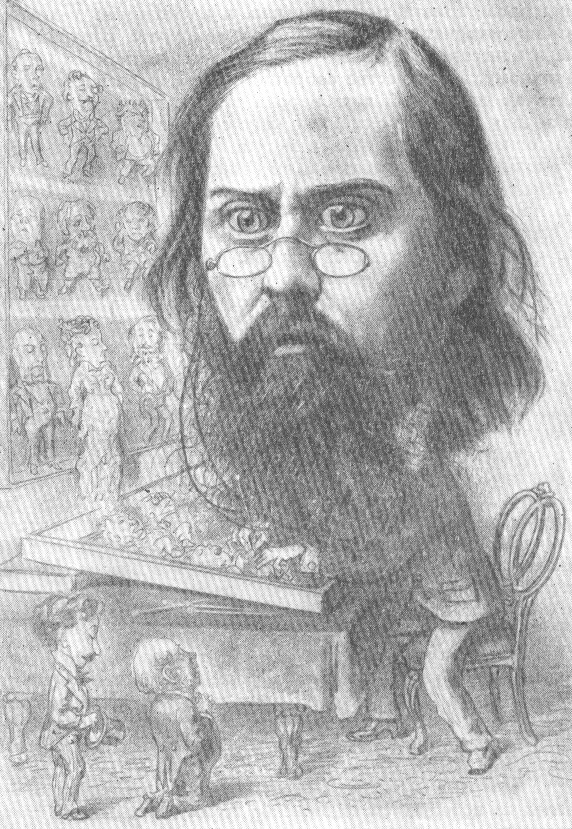
Салтыков составляет коллекцию своих героев. Карикатура
А. И. Лебедева. 1877.
В «Признаках времени» и в «Письмах из провинции» Щедрин дает яркую картину капиталистического хищничества, расцветшего в России в годы, когда, по выражению В. И. Ленина, «на смену крепостной России шла Россия капиталистическая»,1 когда «крепостное мучительство» заменялось, по словам Щедрина, «мучительством вселенским», т. е. капиталистическим. «Всю общественную ниву заполонило хищничество, всю ее, вдоль и поперек, избороздило оно своим проклятым плугом» (VII, 158). Уже в эти годы Щедрин осмеивает учение народников о социалистическом характере крестьянской общины, их отрицание неизбежности капитализма в России и возникновения
200
пролетариата, хотя, конечно, и не понимает великой исторической роли пролетариата как класса. Для демократа Щедрина «народ является не в качестве меньшей братии, наряженной и приглаженной по-праздничному, а в качестве собрания людей, выросших в меру взрослого человека». Как подлинный друг народа сатирик считает необходимым говорить ему правду резко и прямо. Он уже ясно различает в народе элементы, представляющие «идею демократизма», и во имя их роста и развития считает невозможным «ни нагибаться, ни кокетничать» с народом (VII, 264). Щедрин прекрасно понимает, что грядущая судьба России зависит от того, как скоро проснется революционное сознание в массе народа.
Свою веру в силы народа, в его неизбежную победу над строем эксплуататоров и человеконенавистников Щедрин почерпнул у Белинского и Чернышевского. Именно к ним мысленно обращается он, решая вопрос о революционном пробуждении народа. «История показывает, — говорит сатирик, — что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе, и что только те политические и общественные акты получали действительное значение, которые имели в виду толпу» (VII, 262).
Щедрин беспощадно срывал маски с дворянских и буржуазных либералов и «прогрессистов» всех мастей. В очерке «Новый Нарцыз» сатирик вскрывает реакционную сущность земских деятелей, занимающихся осуществлением куцых буржуазных реформ. Он окрестил их кличкой «сеятели» и показал, что, прикрываясь маской либерализма, они выступают верными защитниками самодержавия и врагами народа, что вся их деятельность сводится к личному обогащению за счет трудящихся. Такой же сильный удар по дворянскому либерализму наносит Щедрин и в очерке «Итоги». Именно здесь он употребляет ту классическую формулу «сидение между двумя стульями», которой впоследствии В. И. Ленин многократно клеймил либерализм. Щедрин показывает, что борьба между буржуазными партиями является борьбой внутри класса эксплуататоров, борьбой, как говорил Ленин, «исключительно из-за меры и формы уступок».1 Отношение к народу, цели и задачи у этих партий одни и те же: «Прогрессист, — пишет Щедрин, — такой же идеолог, как и консерватор или ретроград, и душа его так же мало откликается на дело, как и душа самого заскорузлого ханжи-обскуранта» (VII, 423).
В очерке «Итоги» Щедрин бичует реакцию, охватившую буржуазную Европу вслед за поражением Парижской Коммуны. Великий писатель-демократ выступает как защитник коммунаров, как беспощадный судья и обличитель озверевшей от крови буржуазной банды Тьера и ее единомышленников.
Очерковые циклы «Признаки времени» и «Письма о провинции» являются образцом страстной сатирической публицистики Щедрина. Отрицательные персонажи, представители социальных сил, враждебных народу, объединены в группы, каждой из которых дана сатирическая кличка. Перед читателем проходят «сеятели» — земские, «литераторы-обыватели», «литераторы-легковесные», стоящие на защите интересов правящих классов, «хищники» — крепостники и буржуа; «складные души» — либералы, «русские гулящие люди» — космополиты. Все они характеризуются с точки зрения их враждебности народу, образ которого неизменно присутствует в произведениях Щедрина. Говоря, например, о паразитичности, продажности и космополитизме правящих классов России, Щедрин тут же противопоставляет
201
им подлинный патриотизм простого народа: «Русский мужик... является самим собою, то есть простым, непринужденным и... не придет ему в голову стыдиться того, что он русский» (VII, 113).
В последующих произведениях Щедрин перейдет к сатирической зарисовке отдельных типов, представлявших собой те или иные эксплуататорские группы, конкретизирует и художественно разовьет общие политические оценки и выводы, которые он дал в «Признаках времени» и «Письмах о провинции».
В период расцвета — с 1868 по 1881 год — Щедрин написал большинство самых крупных и значительных произведений: «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Культурные люди», «В среде умеренности и аккуратности», «Господа Головлевы», «Круглый год», «Убежище Монрепо», «За рубежом» и другие.
Все эти произведения рисовали достоверную и широкую картину общественной, политической борьбы России тех лет, картину огромных социально-экономических сдвигов, происшедших в России за истекшее послереформенное двадцатилетие. 70-е годы, по характеристике В. И. Ленина, были в мировой истории началом эпохи «перехода от прогрессивной буржуазии к реакционному и реакционнейшему финансовому капиталу... подготовки и медленного собирания сил новым классом, современной демократией».1 В России это был период бурной капитализации всех остраслей хозяйства, период осуществления буржуазных реформ, явившихся решительным шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную монархию. Это был также период бурного созревания революционных сил России, что привело к революционной ситуации 1879—1880 годов.
Революционный демократ Щедрин с предельной исторической точностью и правдивостью запечатлел в своих произведениях 70-х годов все эти важнейшие процессы.
Щедрин и Некрасов представляли самую передовую мысль этого периода, несмотря на расцвет народнической идеологии и ее большую популярность среди интеллигенции. В их руках было революционное знамя Чернышевского и Добролюбова, они продолжали традиции вождей русской революционной демократии как в журнале «Отечественные записки», так и в своем творчестве. Щедрин и Некрасов били по всем устоям царской капитализирующейся России, обнажали гнилость ее основ, паразитизм ее правящих классов, продажность либеральной интеллигенции. Они звали народ и прогрессивную интеллигенцию к свержению самодержавия, к борьбе за новый общественный строй.
Велика роль Некрасова и Щедрина в разоблачении иллюзий народничества, в раскрытии несостоятельности и ложности его теоретических положений. Вместе с тем Некрасов и Щедрин были певцами и проповедниками практической деятельности революционного народничества, его сближения с массами. Их творчество сыграло огромную революционизирующую роль и для передовой интеллигенции, и для народа. В Щедрине, как и в Некрасове, революционная молодежь 70-х годов видела своего верного и постоянного союзника.
Произведения Щедрина 70-х годов отражают могучий рост политического сознания великого сатирика и его художественного мастерства. Именно в эти годы он обобщил свои наблюдения и выводы относительно всех основ самодержавной России, всех ее паразитических классов и групп.
202
Мысли о необходимости скорейшего революционного ниспровержения несправедливого общественного строя высказываются им в этот период необычайно резко, жанры его сатиры и приемы сатирической типизации развернуты во всем многообразии.
Это было время героических подвигов революционного народничества, проникновения в Россию идей марксизма, время великих деяний Парижской Коммуны, возникновения первых революционных организаций русских рабочих. Революционное народничество сыграло положительную роль в политическом пробуждении России, несмотря на порочность своей теории.
В творчестве Щедрина 70-х годов стояли те животрепещущие проблемы, которые были предметом острейшей политической борьбы этого времени.
Его продолжал глубоко волновать вопрос о роли народных масс в историческом процессе, о степени их готовности к борьбе, о тех путях, которыми должен идти народ к своему освобождению. Эта проблема была основной проблемой времени, и именно она стояла в центре творчества Щедрина. Как и народнические теоретики, Щедрин задумывался над вопросом о героической личности, о ее роли в истории, о взаимоотношении ее с народом. Но вопрос этот решался Щедриным с позиций, диаметрально противоположных народническим.
В центре щедринского творчества стояла основная проблема современности — проблема капитализации России. И этот коренной вопрос решался революционным демократом Щедриным по-иному, нежели народниками. Наконец, важнейшей проблемой творчества Щедрина были судьбы дворянской и буржуазной интеллигенции, ее связи с народными массами.
Эти основные жизненные проблемы, особенно резко и по-новому вставшие в 70-е годы, Салтыков-Щедрин решал с позиций авангарда революционной демократии, с позиций Чернышевского и Добролюбова. Но Щедрин был не только верным учеником Чернышевского и Добролюбова, но и гениальным продолжателем их дела в новых исторических условиях. Он развил многие положения их теории, внес новое в решение ряда коренных проблем современности.
Коллектив журнала «Отечественные записки» состоял в основном из революционных демократов и народников, так как политические интересы их на этом этапе были едины, несмотря на серьезные теоретические расхождения. Вокруг Некрасова и Щедрина группировались все лучшие демократические силы русской литературы. В «Отечественных записках» расцвело творчество Глеба Успенского, Островского, Мамина-Сибиряка, Решетникова, Засодимского, Златовратского, Каронина и многих других. Все они испытали на себе могучее влияние Щедрина как политического деятеля и как художника. Многие из них обязаны становлением своего мировоззрения именно Щедрину. Глубокое уважение к творчеству Щедрина, к его героической защите интересов народа питали все крупнейшие писатели того времени, хотя и стоявшие на иных политических позициях. Для всех их — Тургенева, Толстого, Гончарова, Лескова, Писемского — Щедрин был писателем-борцом, самоотверженным и бесстрашным защитником угнетенных. Он вторгался в жизнь со страстью революционера.
С 1863 по 1873 год Щедрин работает над новым циклом сатирических рассказов «Помпадуры и помпадурши». В 1870 году он заканчивает сатирическую эпопею — «История одного города». Оба эти произведения построены на одном и том же материале: они рисуют сатирические образы высших царских чиновников, грабительскую и антинародную деятельность бюрократического аппарата самодержавия в пореформенных условиях.
203
О непосредственной прямой связи замысла цикла сатирических рассказов «Помпадуры и помпадурши» и сатирического романа «История одного города» Щедрин говорит неоднократно.

«Помпадуры и помпадурши». Сомневающийся. Из альбома литографий
А. И. Лебедева «Щедринские типы». 1880.
Основные герои цикла «Помпадуры и помпадурши» — это администраторы-градоначальники пореформенного времени. Вышедшие главным образом из среды родовитого дворянства, невежественные и наглые, получившие воспитание в петербургских ресторанах, они с юности мечтают дорваться до власти. Болтовня о реформах, о «возрождении» создала им славу либералов. В период проведения куцых буржуазных преобразований тысячи этих хищников ринулись «цивилизовать Россию». Получив места помпадуров в Навозном, Паскудске, Семиозерске и других городах, они немедленно
204
сбросили маску либерализма, обнажив подлинное волчье лицо крепостников и реакционеров, ненавидящих народ.
В образе Козелкова ясно проступают черты Органчика-Брудастого из «Истории одного города». Феденька Кротиков, приехавший в Навознов с мыслью «о необходимости заведения фабрик, о возможности... населить и оплодотворить пустыни, о пользе развития путей сообщения, промыслов, судоходства, торговли» «достиг относительного успеха лишь по части пресечения бунтов и взыскания недоимок» (IX, 182, 183). Он окончательно «пришел к убеждению, что либеральные идеи скрывают в себе пагубное заблуждение» (IX, 186), и сменил знамя либерализма на «знамя борьбы», то самое знамя, которое водрузило «на развалинах любезного отечества» кровавое Версальское собрание, задушившее Парижскую Коммуну. Великий сатирик показывает единство устремлений правящих классов России и буржуазной Европы, их глубокую враждебность народу и революции.
Помпадур Толстолобов от «обширной» программы улучшения свиноводства, рыбоводства, посевов персидской ромашки приходит к короткому слову «фюить», т. е. необходимости жестокой расправы со всеми инакомыслящими. Смысл нарисованной им картины антинародного администрирования помпадуров после реформы сам Щедрин образно разъяснил в главе «Мнения знатных иностранцев о помпадурах». Принц Иззедин Музафер-Мирза, приехавший с востока учиться искусству управления в России, с удовлетворением восклицает: «Ай-ай, хорошо здесь!.. народ нет, помпадур есть — чисто! Айда̀ домой риформа делать! Домой езжал, риформа начинал. Народ гонял, помпадур сажал; риформа кончал» (IX, 271).
Великое множество типов, подобных тем, которые выведены в «Помпадурах и помпадуршах», сатирик наблюдал в жизни в период своей службы вице-губернатором и председателем Казенной палаты.
Доказательством этому служат его письма. В «Помпадурах и помпадуршах» четко выступают многие основные приемы сатирического письма Щедрина: умение необычайно скупыми мазками нарисовать тип, конденсирующий в себе основные черты враждебного класса, умение точно и верно раскрыть через речь персонажа его социальную сущность, вскрыть черты идиотизма и механичности, характеризующие правителей самодержавия, как тупое орудие угнетения.
В «Помпадурах и помпадуршах» получает развитие сатирический пейзаж Щедрина. Описанию возрождающейся ликующей природы противопоставляется показ весеннего «возрождения» прыщей на физиономии Козелкова, его скотских похождений под охраной квартальных.
Весна в Семиозерске лишена поэзии. Она возбуждает у людей, окружающих Козелкова, лишь низменное чувство: «Крыши домов уж сухи; на обнаженных от льдяного черепа улицах стоят лужи; солнце на пригреве печет совершенно по-летнему... Поползли червяки; где-то в вскрывшемся пруде сладострастно квакнула лягушка. Огнем залило все тело молодой купчихи Бесселендеевой» (IX, 127).
Лирический пейзаж у Щедрина возникает только там, где природа воспринимается глазами простых трудящихся людей.
Образ мрачного самодержавного города Глупова вставал, как мы знаем, в воображении сатирика еще в начале 60-х годов в очерках «Литераторы-обыватели», «Наши глуповские дела», «Клевета», «Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство», «К читателю» и других. В этих очерках, так же как и в цикле сатирических рассказов «Помпадуры и помпадурши», рассказе «Испорченные дети», намечены основные черты правителей этого страшного города, олицетворяющего собой крепостническую царскую Россию.
205
Секрет необычайной художественной силы этого произведения и его подлинный политический смысл Щедрин раскрывает сам в письме в редакцию журнала «Вестник Европы». В журнале «Вестник Европы» в 1871 году появилась рецензия Суворина (впоследствии — издателя реакционной газеты «Новое время») на «Историю одного города», где он упрекал Щедрина в искажении русской истории, в оскорблении народа, в несправедливом отношении к русским либералам, в бессодержательном смехе. Щедрин был крайне возмущен этой рецензией. Протестуя против клеветы Суворина и журналистов реакционно-охранительного лагеря, Щедрин писал А. Н. Пыпину 2 апреля 1871 года: «Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не веселонравия... Для меня хронология не представляет стеснений, ибо... я совсем не историю предаю осмеянию, а известный порядок вещей» (XVIII, 235).
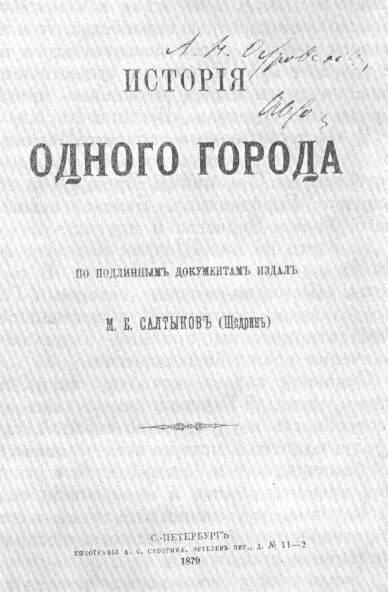
«История одного города». Титульный лист
первого издания. 1879.
С дарственной надписью А. Н. Островскому.
В предисловии к «Истории одного города» Щедрин, говоря о связи событий, происходящих в городе Глупове, с событиями, происходящими в высших правительственных кругах царской России, насмешливо отмечает: «...даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина — распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского — неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу... Летопись... обнимает период времени от 1731 по 1825 год. В этом году, повидимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною» (IX, 275, 276). В последней фразе Щедрин намекает на кровавое подавление декабристского движения царским правительством в 1825 году. В черновом варианте этого отрывка сатирик прямо говорит о «петербургских сферах» и о «петербургской действительности», а не о «литературной деятельности», как потом ему пришлось писать из-за цензурных соображений. Взяв в качестве канвы повествования историю русского самодержавия
206
в XVIII веке, Щедрин привлек все основные черты, свойственные самодержавию и в XIX веке. «Так как меня специально занимает вопрос, отчего происходят жизненные неудобства, то я и занимаюсь только теми явлениями, которые служат к разъяснению этого вопроса. Явления эти существовали не только в XVIII веке, но существуют и теперь, и вот единственная причина, почему я нашел возможным привлечь XVIII век», — писал Щедрин в редакцию журнала «Вестник Европы» (XVIII, 238).
В «Истории одного города» Щедрин выводит целую галерею страшных по своей жестокости и тупости градоначальников города Глупова: Брудастого (он же Органчик), Прыща (он же «фаршированная голова»), Фердыщенко, Бородавкина, Беневоленского, Негодяева, Перехват-Залихватского, Угрюм-Бурчеева и других.
Каждого из них Щедрин наделяет фамилией-кличкой. Этот прием применяли еще писатели XVIII века. В творчестве Гоголя он приобрел новые черты. Фамилии-клички, которыми Гоголь наделяет своих персонажей, определяют их социальное, общественное содержание. Щедрин пользовался этим сатирическим приемом в целях прямого, резкого, политического обличения враждебных классов.
Основная задача, которую ставил перед собой сатирик, характеризуя типы правителей Глупова, заключалась в том, чтобы показать их полнейшую неспособность к управлению страной, глубокую враждебность трудящемуся народу, идиотизм, потерю всех человеческих свойств, превращение в машину для беспощадного и бессмысленного угнетения народа. Не случайно поэтому в их внешнем облике и внутреннем содержании превалируют эти черты автоматизма, механичности, тупой жестокости. Все эти люди являются олицетворением бессмысленного, несправедливого строя, зиждущегося на угнетении и произволе.
Самым обобщенным выражением сущности самодержавия является образ Угрюм-Бурчеева. Это не просто Павел I, Николай I, Аракчеев, хотя черты их вошли в тип Угрюм-Бурчеева; это символ самодержавия, символ всякого угнетения и произвола. Он сконцентрировал в себе многие конкретные черты антинародных правителей России и Западной Европы, тем самым став прообразом правителя эксплуататорского строя вообще. Угрюм-Бурчеев рисуется как «мрачный идиот», помешанный на муштре и «ничего не преследовавший, кроме правильности построений». Он целиком разрушил город Глупов, построил на его месте казармы, а из глуповцев создал роты и батальоны. Он даже задумал прекратить течение реки-жизни, но она не покорилась ему. Создавая внешний портрет Угрюм-Бурчеева, сатирик выделяет в нем черты эксплуататора-вырожденца: идиотизма, бессмысленной жестокости и произвола. Это железный робот, ненавидящий живое, готовый на всё ради сохранения своей власти. «Он был ужасен...» — так начинает сатирик описание внешности Угрюм-Бурчеева. «В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамляют узкий и покатый лоб...; взгляд чистый, без колебаний; ...челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам... Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным „Устав о неуклонном сечении“... Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель» (IX, 401, 403—404).
207
Рисуя этот портрет-символ, Щедрин тут же от автора объясняет читателю, что Угрюм-Бурчеев не случайное частное лицо. «Обыкновенно противу идиотов, — пишет сатирик, — принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется» (IX, 404). Сатирик упорно внушает читателю мысль о том, что наличие фантастики и гиперболизма в методе его сатирического изображения никак не нарушает, а лишь только полнее выявляет реальную жизненную сущность его героев. Гиперболичны и фантастичны лишь внешние черты облика и поведения персонажей, сущность же их правдива и реальна до мелочей.
Так, нелепая теория «нивеляторства», теория превращения мира в жуткую казарму, разделение людей на роты и батальоны была придумана не Угрюм-Бурчеевым. Он повторил лишь то, что до него пытались проводить в жизнь реальные правители (Павел I, Аракчеев). И эта теория вновь возникла в умах правителей капиталистических стран в наше время, много десятилетий спустя после исчезновения «бывого прохвоста».
Брудастый-Органчик, несмотря на предельную фантастичность, даже сказочность своего облика (вместо головы у него вставлен примитивный механизм, при помощи которого градоначальник выкрикивает только два слова: «разорю!» и «не потерплю!»), также совершает весьма обычные, реальные поступки, не отличающиеся от поступков правителей, имеющих на плечах головы живые, а не деревянные. При въезде в губернию он порет ямщиков, затем день и ночь пишет «всё новые и новые понуждения». По его приказам хватали, ловили, секли, пороли, описывали и продавали. Эти методы управления страной были испытаны веками, и для их проведения в жизнь можно было иметь и «пустую посудину, вместо головы». Недаром смотритель народного училища на вопрос глуповцев: «бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд?» отвечает, что подобное вполне возможно, что некий правитель Карл Простодушный, «который имел на плечах хотя и не порожний, но всё равно как бы порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал» (IX, 291, 296). Обосновывает сатирик и крайнюю бедность языка Органчика, в лексиконе которого только два слова: «разорю!» и «не потерплю!». Другие слова не требовались Органчику по роду его деятельности. Это опять-таки типическая черта представителей определенной социальной системы, чуждой народу. «Есть люди, — пишет Щедрин, — которых всё существование исчерпывается этими двумя романсами» (XVIII, 239). Именно таким являлся и Органчик-Брудастый. Щедрин обобщил, довел в его облике до предела черты автоматизма. Градоначальник Василиск Бородавкин, знаменитый своими «войнами за просвещение», т. е. за внедрение в быт глуповцев горчицы и персидской ромашки, представлен как злобная, бездушная кукла. Свои дикие войны он ведет при помощи оловянных солдатиков. По внешности он и сам такой же. Но сущность его поведения, его поступков вполне соответствует конкретному политическому строю, который он собой представляет. Отрицая фантастический характер образа Бородавкина и его оловянных солдатиков, Щедрин пишет: «Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание» (IX, 355).
В облике градоначальника Прыща (он же «фаршированная голова») ведущей чертой является животность, чуждость всему человеческому, мыслящему.
208
Его внешний вид напоминает откормленное животное: «Плечистый, сложенный кряжем... Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов» (IX, 371). И окончательно лишается всех человеческих свойств Прыщ в сцене съедения его головы предводителем дворянства.
В отличие от образа Угрюм-Бурчеева, Бородавкина, Перехват-Залихватского в зарисовке Прыща, Органчика, Грустилова и некоторых других звучит не только бичующий сарказм Щедрина, но и ирония, временами даже веселый юмор. Когда же речь идет о их действиях в отношении народа, то они описываются в обычном для Щедрина саркастически мрачном тоне. Показ сопровождается страстными политическими комментариями автора.
Как и Угрюм-Бурчеев, все остальные градоначальники города Глупова — олицетворение определенных типических черт правителей характерных для несправедливого социального строя. Поэтому в их раскрытии отсутствует углубленный психологический анализ. К автоматам, куклам и животным это не применимо. У них нет переживаний, нет сердца, нет совести. Эта гротескность облика вполне закономерна для тех задач, которые ставил перед собой революционный демократ Щедрин. Политический смысл этих образов, их сущность, враждебную всему живому и мыслящему, массовый читатель усваивает при помощи таких приемов яснее и нагляднее.
Изображая, казалось бы, совершенно невероятные поступки правителей города Глупова, Щедрин никогда не отрывался от реальной действительности, с громадной художественной силой осуществлял принципы реалистического искусства. В своих произведениях он многое пророчески предсказал. Он писал «Историю одного города» в годы реакции и террора, которые наступили после покушения на Александра II в 1866 году. В эти годы произвол царских сатрапов принял чудовищные формы. Но подобные взрывы необузданной реакции повторялись в России и в последующие десятилетия (80-е годы, 1907—1909 годы). Жизнь давала огромное количество фактов, напоминающих те, которые совершали градоначальники города Глупова. В 1876 году правительство, например, разрешило губернаторам самим издавать «обязательные постановления». Щедрин в письме к П. Анненкову в том же году говорит по этому поводу: «Вы, может быть, пропустили этот факт без внимания, а право он достоин того, чтоб над ним задуматься. У меня был изображен Помпадур, имевший страсть к законодательству, и писавший средние законы, между прочим, „устав о печении пирогов“ («запрещается печь пироги из песку, из глины и прочих строительных материалов») — теперь этот Помпадур будет воспроизведен в самой жизни. Так-то жизнь иногда идет наперебой самой невероятной сатире. Кто мог думать, что я в этом случае буду пророком — а вот, однако ж вышло, что я всё это предвидел и изобразил» (XIX, 79—80). Как известно, глуповским губернатором, одержимым любовью к писанию законов, был в «Истории одного города» Феофилакт Беневоленский.
Образы помпадуров и градоначальников «Истории одного города» создавались Щедриным не только на основе русской действительности. Большой материал давала сатирику и буржуазная Европа, особенно Франция и Германия. Щедрин наблюдал реакционный бонапартистский переворот во Франции, возведший на престол Наполеона III, «под бандитской пятой» которого Франция томилась целых двадцать лет. Сатирик с возмущением писал о деспотизме этого бандита, о продажности французской буржуазии. Перед глазами Щедрина была в это время также и бисмаркская милитаристская Германия, социальный строй которой во многом напоминал дикую фантазию Угрюм-Бурчеева.
209
Многие дворянские и буржуазные либералы, ненавидевшие Щедрина за его революционный демократизм и разоблачение гнилостности основ эксплуататорского общества, клеветнически обвиняли его в том, что он пренебрежительно изобразил народ в «Истории одного города». Эта клевета до глубины души возмущала великого сатирика, и он разъяснил этот вопрос в письме к Пыпину и в письме в редакцию журнала «Вестник Европы». «...что касается до моего отношения к народу, — писал Щедрин Пыпину, — то мне кажется, что в слове „народ“ надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавкиных, Бурчеевых и т. п., я, действительно, сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием» (XVIII, 235). И действительно, Щедрин в «Истории одного города», как и в других своих произведениях, горько смеется над народом в тех случаях, когда он, понукаемый идиотами-правителями, занимается междуусобными распрями, покорно подставляет спину для порки, безропотно выносит дикие издевательства эксплуататоров. Но сатирик никогда, ни на один миг не забывает о подлинной сущности русского народа: о его свободолюбии, о гордой душе его и непреклонной воле, о великой силе, которая должна непременно проснуться и уже много раз давала знать себя самодурам-угнетателям.
Щедрин говорит, что в изображении народа, которое дается в «Истории одного города», «о действительных» свойствах и речи нет, а есть речь только о «наносных атомах», т. е. о воздействии на психику народа долгих лет кабалы и угнетения.
Уже в цикле очерков о Глупове, предшествующих «Истории одного города», Щедрин говорит о пробуждении сознания у забитого народа — Иванушки. Иванушка начинает анализировать. «Глуповское миросозерцание, глуповская закваска жизни находятся в агонии — это несомненно», — пишет сатирик (III, 268).
Несмотря на резко критическое отношение к народной пассивности, покорности и долготерпению, Щедрин и в «Истории одного города» рисует облик народа проникновенными красками. Сатирик глубоко сочувствует страданиям угнетенного народа. Особенно ярко проявляется это в сценах народных бедствий. Пожары и голод, происшедшие в Глупове во времена правления Фердыщенко, переданы с потрясающей наглядностью и трагичностью.
В главе «Голодный город» сатирик, показывая жестокие страдания жителей, рисует образ народного ходока Евсеича. Это человек самоотверженно служащий народу, страстно ищущий путей к правде: «Нет! мне с правдой дома сидеть не приходится! потому она, правда-матушка, непоседлива! Ты глядишь: как бы в избу да на полати влезти, ан она, правда-матушка, из избы вон гонит...» (IX, 322).
Евсеич знает, что народ неистребим и непобедим, сколько бы ни злодействовали Фердыщенки: «Много годов я выжил!.. — Много начальников видел! Жив есмь!» — восклицает он (IX, 321).
Евсеича заковали за бунтарство в кандалы и сослали, но подвиг его способствовал пробуждению сознания глуповцев.
Лишь прибытие карателей дважды спасает градоначальника от народного гнева. Сатирик неоднократно подчеркивает в «Истории одного города», что власть угнетателей держится на штыках, сами по себе эти правители давно были бы уничтожены. Щедрин нигде ни словом не говорит прямо, что пришли войска, но вместе с тем рисует зловещую картину усмирения восставших: «И вот, в то самое время, когда совершилась эта бессознательная
210
кровавая драма <убийство любовницы градоначальника>, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли.
— Хлеб идет! — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости.
— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей пыльного облака...
В колонну
Соберись бегом!
Трезвону
Зададим штыком!
Скорей! скорей! скорей!»
(IX, 326)
Тот же прием показа карателей в виде «облака пыли» с несколько другим припевом («Трубят рога! Разить врага! Другим пора!») употреблен Щедриным в главе «Соломенный город».
Но в «Истории одного города» Щедрин не ограничивается показом пробуждения сознания забитого народа. Он рисует картину революционного восстания против угнетателей, пророчески предсказывает неизбежную гибель самодержавия. «Оно близилось, и по мере того, как близилось, время останавливало бег свой... Оно пришло...
В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес: „Придет... “ Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе. История прекратила течение свое» (IX, 426). «Эзоповская» манера Щедрина получает в «Истории одного города» свое ярчайшее выражение.
Революционное содержание произведения, как мы видим, зашифровано в его художественной ткани при помощи блестящих сатирических приемов. Здесь впервые проявилось так ярко искусство сатирика находить предельно краткие обозначения для политики правящих классов, для конкретных событий и явлений, о которых нельзя было говорить открыто. Так подавление восстаний царским правительством рисуется в виде «облака пыли», из которого раздаются звуки «Ту-ру! ту-ру!»; революция дана в образе «ливня или смерча», сметающего угнетателей.
Большинство образов градоначальников раскрывают полно какие-либо из наиболее характерных сторон деятельности царизма. Образ Угрюм-Бурчеева выражает сущность самодержавия в наиболее обобщенном виде. Вся композиция «Истории одного города» и стиль этой сатирической эпопеи пародируют труды официальных историков, прославляющих деяния царей.
Бессмертные художественные образы «Истории одного города» сыграли огромную революционизирующую роль, были использованы русскими революционерами как боевое оружие в борьбе с царизмом. В. И. Ленин в своих трудах многократно прибегал к этим образам. Например, характеризуя идеалы монархистов, Ленин писал: «...до сих пор мы видели самодержавие почти исключительно приказывающим, изредка публикующим заявления в духе Угрюм-Бурчеева. Теперь мы имеем открытую защиту помещичьей монархии и черносотенной „конституции“ организованным представительством господствующих классов...».1
211
6
Сатирические хроники Щедрина, которые он начал создавать после «Истории одного города», по жанру несколько отличаются от циклов сатирических очерков. Хотя они также разделены на отдельные озаглавленные части, но их скрепляет или прямая сюжетная связь, или действия одних и тех же («сквозных») персонажей, или большей частью образ рассказчика («я»).
Единая тема, единая мысль связывает всё повествование хроник. В «Господах ташкентцах» — это показ формирования «ташкентцев-цивилизаторов», их антинародных действий в послереформенное время; в «Дневнике провинциала в Петербурге» — оживление крепостников-хищников и их переход на капиталистические позиции; в «Благонамеренных речах» — хозяйничание народившейся буржуазии и групп, ее обслуживающих, наглое попирание буржуазией чести, нравственности, семьи, принципов собственности и государства; в «Круглом годе» — изображение действий послереформенной, «новой» администрации, враждебной народу; в «Письмах к тетеньке» — картина разгула крепостнической и буржуазной реакции 80-х годов и т. п.
Хроника «Господа ташкентцы» (1869—1873) рисует действия старорежимных хищников, имеющих свои традиции в деле ограбления народа, и черты хищников молодых, приобретающих навыки, формирующих определенные моральные черты, необходимые для успешной карьеры «цивилизатора». «Ташкентцы приготовительного класса»: Nicolas Персиянов, Мангушев, «палач» Максим Хмылов, Миша Нагорнов, Порфиша Велентьев и другие — готовятся стать государственными деятелями. Но души их уже с детства искалечены, лишены подлинно человеческих качеств. Nicolas Персиянов, достойный сын своей «куколки»-матери Ольги Персияновой. Мать его была воспитана в специально устроенном «садке», где дворянских детей «выкармливают именно таким образом, чтобы они были bien mises (хорошо одеты), умели plaire (нравиться) и приучались ни в чем себе не отказывать» (X, 103).
Получив воспитание в таком же дворянском «садке», сын Персияновой вышел законченным «шалопаем» и свирепым реакционером. «Я консерватор; я человек порядка». «О! я эти революции из них выбью! Я их подтяну!» (X, 121, 120) — угрожает этот ташкентец «приготовительного класса».
Позднее, в сатирической хронике «Круглый год», Щедрин показал Персиянова в действии, на государственной службе. Он носит там имя Феденьки Неугодова, в котором мы без труда узнаем все черты Nicolas, как в его матери, куколке Natalie, разъезжающей по Европе, узнаем черты распутной «куколки» Ольги Персияновой.
Щедрин не раскрывал психологии Персияновых, Неугодовых и им подобных изнутри. Он сознательно подчеркивает, что никаких переживаний, колебаний и сомнений у подобных типов и не было. Их поступки так же несложны и примитивны, как и мысли. Они болтают, едят, развратничают, нагло рвутся к власти. Умственная и душевная примитивность этих типов сочетается с почти подсознательной звериной ненавистью ко всему мыслящему, подлинно человеческому, прогрессивному. В Персиянове, Нагорнове — «ташкентцах приготовительного класса» — Щедрин показал развитие основных моральных и социальных черт, свойственных административному аппарату самодержавия.
Ольга Персиянова и Natalie Неугодова выглядят наивными простушками по сравнению со своими сыновьями, уже с шестнадцатилетнего возраста приобщившимися ко всем мерзостям жизни правящего класса. Персиянов и его друзья с циничной наглостью говорят о женщинах, о борьбе за чины,
212
о своем праве творить суд и расправу с инакомыслящими, еще не вступив на арену общественной деятельности. Их матери и отцы — космополиты, с родиной их связывает только получение доходов. Они не задумываясь продают свои Монрепо вместе с родительскими могилами и готовы продать всю Россию, лишь бы нашелся покупатель. Щедрин подчеркивает эту мысль, приводя искаженную телеграмму, посланную Natalie Неугодовой сыну из Ниццы. Неугодова просила продать срочно пустошь Рускину, а на телеграфе Рускину переделали на Россию: «Продавай Россию, продавай быстро, высылай деньги... какая, однако ж, можно сказать, провиденцияльная ошибка!» — говорит Неугодову его дядя — рассказчик (XIII, 169, 170).
Но если Natalie и Ольга продавали отечество бессознательно, не задумываясь над тем, что они делают, то их сыновья, ташкентцы нового времени, продают обдуманно, расчетливо, готовясь совершать аферы большого государственного масштаба. У них есть своя идеология предательства и грабежа, наглая до предела.
Приемы, которыми Персиянов, Неугодов и другие молодые ташкентцы пользуются в отношении народа, тоже весьма просты и примитивны, испытаны их предшественниками: «Подтянуть да в бараний рог согнуть!».
Как и ранее, Щедрин идет здесь по пути выделения и подчеркивания ведущих социальных черт типа. В образах Персиянова, Мангушева, Неугодова главное — паразитизм, пустословие, внешний лоск, умственная пустота; а в образе «палача» Хмылова — жестокость, глупость, жажда грабежа; в образе будущего финансиста Порфиши Велентьева — страсть к наживе, хитрость, лицемерие, бездушие.
Значительное место в «Господах ташкентцах» уделено палачу Хмылову. Молодой Хмылов «был угрюм и наводил панический страх на товарищей». Он «любил бить, и притом бил почти всегда без причины, то есть подстерегал первого попавшегося мальчугана, и с наслаждением тузил его, допуская при этом пытку и калеченье... Невежественность „палача“ была изумительна; леность — выше всего, что можно представить себе в этом роде» (X, 140, 141).
Максим Хмылов — третье поколение в семье мелкопоместных дворян Хмыловых, известных своей жестокостью, лихостью и невежеством. Дед Максима — выживший из ума человеконенавистник, в памяти которого засело только одно слово, заменяющее ему весь русский язык: «рви!». Отец — исправник, который грабил и держал в страхе весь уезд. Дядя Максима, Софрон Матвеевич, несет в себе основные черты Иудушки Головлева.
Всё это «окружение» ташкентца приготовительного класса, Максима Хмылова, обрисовано для того, чтобы раскрыть перед читателем процесс формирования характера будущего палача и реакционера.
Максим Хмылов уже в юности сконцентрировал в себе наиболее характерные отрицательные черты окружавшей его общественной среды. После этого он прошел добавочную закалку в специальном учебном заведении, где укоренился в своем стремлении быть палачом всего живого и мыслящего, быть цепной собакой на службе у реакции. Этот тип мрачного, жестокого, тупого истязателя имеет много общего с образом Угрюм-Бурчеева из «Истории одного города».
«„Ташкентцы“ — имя собирательное» (X, 46), — пояснял автор. Этот собирательный тип Щедрин рисует при помощи сатирического преувеличения и гиперболизации. Подчеркивая их основные намерения относительно народа, Щедрин пишет: «Чего хотели упомянутые выше люди? — этот
213
вопрос разрешается одним словом: „Жрать!! Жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было!“» (X, 48).
Этим обусловливается и их внешний, опять-таки собирательный портрет — злобного животного. Черты животности во внешнем портрете Щедрин подчеркивает и в очерках о ташкентцах и в «Круглом годе». Феденька Неугодов, например, зарисован внешне, как молодой жеребец: «без отметин, с широким крупом, с играющей селезенкой».
В публицистической же главе «Что такое „ташкентцы“» сатирик дает коллективный портрет «ташкентцев», как животных: «...мимо меня проходили не люди, а нечто вроде горилл, способных раздробить зубами дуло ружья... Чего хотели эти человекообразные? чему они радовались?» (X, 47).
Ташкентцам — человекообразным в этой сатирической хронике противопоставлен также собирательный образ народа — «человек, питающийся лебедою» — «человек лебеды» (в более ранних произведениях он носит собирательное имя Иванушки).
«...ташкентство пленяет меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается „человек, питающийся лебедою“», — пишет Щедрин (X, 61).
Признавая, что «мрак, окружающий его <«человека лебеды»>, густ очень достаточно», сатирик утверждает, что народ «не просто инстинктивно-копошащийся муравейник, на муравейник, имеющий способность выбирать», что «массы выясняются; показываются очертания отдельных особей...» (X, 62, 63). Но пока что лицо этих конкретных живых особей — носителей революционного начала в народе — сатирику не ясно. Время, когда создавались «Господа ташкентцы» и сатирическое обозрение «Дневник провинциала в Петербурге», было временем бурного развития капитализма в России.
В «Дневнике провинциала в Петербурге» Щедрин говорит: «„Хищники“ — вот истинный представитель нашего времени, вот высшее выражение типа нового ветхого человека» (X, 551).
Щедрин ясно видел, что отмена крепостного права нисколько не улучшила положение народа, который остался попрежнему бесправным. Эта мысль нашла замечательное выражение в образе помещика-крепостника Дракина.
Под шумок либеральных фраз Дракин «что-то подстраивает, и округляет: там переселеньице на вертячие пески устроит, в другом месте конопляннички и капустнички оттянет, будто как испокон веку так владел... Теперь Дракин везде: и на улице, и в театрах, и в ресторанах, и в столице, и в провинции, и в деревне — и не только не ёжится, но везде распоряжается, как у себя дома. Чуть кто зашумаркает — он сейчас: в солдаты в Сибирь! Словом сказать, поступает совсем-совсем так, как будто ничего нового не произошло, а напротив того, еще расширилась арена для его похождений» (X, 533, 536).
«Лизоблюд», «пенкосниматель», «мерзавец», человек, «действующий применительно к подлости» — такими словами заклеймил сатирик либералов в «Дневнике провинциала в Петербурге». Эту великую заслугу Щедрина отметил В. И. Ленин: «...Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой: „применительно к подлости“».1
Щедрин характеризовал либерализм как идеологию эксплуататоров, ставящую своей целью отвлечь массы от «утопии», иначе говоря — от революционных идей, переключить их мысли на пустяки. В «Дневнике провинциала в Петербурге» Щедрин излагает воззрения этих «пенкоснимателей»: «Наше
214
время — не время широких задач! гласит он без всякого стыда: не расплывайся! не заезжай! не раздражай! Взирай прилежно на то, что у тебя лежит под носом и далее не дерзай!» (X, 431—432). Либерал — «василиск празднословия».
Форма построения этой сатирической хроники отличается от предыдущих. В хронике есть сквозной сюжет, но есть и главы общие, подытоживающие события, есть вставные рассказы и новеллы. Эта форма с еще большим блеском будет использована затем в романе «Современная идиллия».
Предметом изображения Щедрин берет в хронике опять распространенный тип «среднего человека». Объясняя это, Щедрин пишет: «Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и неинтересен; но он представляет интерес в том отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей». «...Здесь идет речь собственно не о типах, а о положении минуты, которое выступает тем ярче, чем единодушнее высказывается относительно его лагерь, видящий в чечевичной похлебке осуществление своих идеалов» (X, 530—531). Набросав общий собирательный внешний портрет дворян-хищников, Щедрин переходит к показу их действий. В портрете их преобладают черты животности, тупости и жестокости.
У Прокопа Лизоблюда «лающий голос», Неуважай-Корыто похож на дятла.
Кроме животности, тупости и паразитизма, которые свойственны всей компании крепостников-помещиков, Щедрин отмечает в них еще лицемерие, пустословие и космополитизм.
Смех Щедрина — беспощадный, убивающий. Он выражается в необычайно метких наименованиях либеральных обществ, и в фамилиях-кличках либералов, и в пародировании их политических программ и «ученых» трудов. Непревзойденным образцом сатирического высмеивания либералов является нарисованная Щедриным картина деятельности «Вольного союза пенкоснимателей». Основные положения «Устава вольного союза пенкоснимателей» взяты из либеральной дворянской и буржуазной прессы. Щедрин высмеивает эту прессу, давая ей меткие сатирические клички: «Старейшая всероссийская пенкоснимательница», «Зеркало пенкоснимателя», «Пенкосниматель нараспашку», «Обыватель пенкоснимающий» и т. д.
Лозунг пенкоснимателей — «Наше время — не время широких задач» дословно взят Щедриным из охранительной печати того времени, в частности, из «Санкт-Петербургских ведомостей». Блестящей пародией на псевдоученых являются образы Неуважай-Корыто и Болиголовы. Оба они до такой степени ползают на брюхе перед заграницей, что отказываются в ее пользу от всего русского фольклора. Свое «Исследование о Чурилке» Неуважай-Корыто оснащает «архивными изысканиями». Поставив перед собой несуразную задачу, он с идиотским упорством пытается обосновать ее во что бы то ни стало, не считаясь с фактами действительности. Это та же деревянная кукла-органчик, хотя и занимающаяся не административной, а научной работой. Поэтому, рисуя тип этого ученого-космополита, Щедрин сознательно подчеркивает его бездушие, тупость, деревянность. Он «долбит носом в дерево и постепенно приходит в деревянный экстаз от звуков собственного долбления». Говорит и пишет он деревянным, тоскливым языком: «Не только полагаю, но совершенно определительно утверждаю..., что Чуриль, а не Чурилка, был не кто иной, как швабский дворянин VII столетия. Я, батюшка, пол-Европы изъездил, покуда, наконец, в королевской мюнхенской библиотеке нашел рукопись, относящуюся к VII столетию, под названием: „Похождения знаменитого и доблестного швабского дворянина Чуриля“... я положительно утверждаю, что и Добрыня,
215
и Илья Муромец — всё это были не более, как сподвижники датчанина Канута!» (X, 410—411).

Карикатура М. Чемоданова на цензурные гонения. Журнал
«Фаланга», 1881, № 37.
Эта речь гармонирует с внешним обликом «деревянного дятла». Не случайно и окружающие с удивлением смотрели «на обличителя Чурилки, как будто ждали, что вот-вот придет новый Моисей и извлечет из этого кремня огонь» (X, 411).
Многие образы и меткие выражения Щедрина из «Дневника провинциала» по адресу либералов использует В. И. Ленин в своей борьбе с либералами. Особенно часто пользуется В. И. Ленин одной формулой: «К сожалению должно признаться... хотя с другой стороны нельзя не сознаться».
Процесс капитализации России в эти годы стоит в центре творчества многих крупнейших русских писателей. Его отобразил в романе «Анна Каренина» Лев Толстой, нарисовав гениальную картину разрушения старого, помещичьего и становления нового, буржуазного строя, разорение дворян Левиных и облонских и пришествие на общественную арену «чумазых» банкиров рябининых. Хищный облик нового класса эксплуататоров и его взаимоотношения с дворянством и с трудящимся народом прекрасно показал в своих пьесах А. Островский («Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Лес»
216
и другие). Проблема капитализации глубоко волнует и революционного демократа Глеба Успенского, нарисовавшего в 70—80-е годы процесс «раскрестьянивания» русской деревни, жестокой классовой борьбы, рост буржуазии, а также и пробуждение политического сознания угнетенных масс («Разоренье», «Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Живые цифры»).
Пришествие мироеда в городе и в деревне показывали и писатели-народники, и их произведения, несмотря на ярко выраженные утопические иллюзии, ценны были именно этой ненавистью к нарождающемуся буржуа, реалистическим раскрытием социальных конфликтов в русской деревне того времени (Златовратский — «Деревенские будни», «Устои», Засодимский — «Хроника села Смурина», С. Каронин — «Рассказы о парашкинцах», Н. Наумов — «Паутина»). Щедрин не случайно печатал их произведения в журнале «Отечественные записки». И не просто печатал, а активно редактировал их, настаивал на уничтожении или смягчении выраженных в них народнических иллюзий. Так, повесть «Хроника села Смурина» Засодимского создавалась при непосредственном авторском участии Щедрина, выдвинувшего на первый план образы и сцены, объективно подрывающие идеалы народников (в частности, образы деревенских мироедов). Гневным протестом против буржуазного хищничества насыщена и поэма Некрасова «Современники».
Щедрин понимал неизбежность процесса капитализации России и в то же время глубоко верил в неизбежное крушение капитализма.
7
В произведениях, написанных в 70-х — начале 80-х годов, Щедрин показывает, как дух капиталистического взаимопожирания охватывает решительно все более или менее привилегированные группы Российского государства. Совесть, честь, нравственность повсеместно предаются осмеянию, их отсутствие лицемерно маскируется «благонамеренными речами».
В обширном сатирическом полотне «Благонамеренные речи» (1872—1876) Щедрин намечает ряд основных вопросов, которые подробно раскрывает затем в последующих своих произведениях: «Убежище Монрепо», «Дворянская хандра», «Письма к тетеньке», «Пошехонские рассказы», «Мелочи жизни» и другие.
В «Благонамеренных речах» Щедрин рисует обширную галерею портретов «теоретиков обуздания». Здесь и так называемые «новые люди» — кабатчики, закладчики, и разорившиеся крепостники-помещики: Утробины, Терпибедовы, Гололобовы, Голозадовы, и продажные дворянские либералы. Всё это полчище эксплуататоров нещадно грабит народ и прикрывает свое хищническое нутро «благонамеренными речами» о святости собственности, семьи, государства. В центре хроники стоит буржуа-накопитель Дерунов. Он «по всей округе сеть разостлал». Его богатство пошло от того, что он обворовал на своем постоялом дворе умершего купца. Он дотла разоряет сотни крестьян, силой заставляя их продавать хлеб за бесценок. Он грабит государственную казну, втридорога сбывает ей хлеб, срубает хищнически леса в округе. Дерунов, наконец, обездоливает собственную семью, спаивая сына водкой и живя с его женой. И этот человек, занимающийся, как говорит Щедрин, «уголовщиной», считает себя «столпом» общества, защитником его основ: «собственности, государства, семьи».
Точно так же живут и действуют другие хищники-капиталисты: Антон Стрелов, Хрисашка Полушкин, кабатчик Пантелей Егоров.
217
Таково лицо нарождающейся российской буржуазии в изображении Щедрина.
Подводя итоги, сатирик пишет: «Кончено. С невыносимою болью в сердце я должен был сказать себе: Дерунов — не столп! Он не столп относительно собственности, ибо признает священною только лично ему принадлежащую собственность. Он не столп относительно семейного союза, ибо снохач. Наконец, он не может быть столпом относительно союза государственного, ибо не знает даже географических границ русского государства... Но где же искать „столпов“, если даже Осип Иваныч не столп?» (XI, 144).
Наряду с новыми, капиталистическими хищниками сатирик показывает в «Благонамеренных речах» и хищников старых, крепостнических. В большинстве это — разорившиеся помещики. Капитан Терпибедов при крепостном праве тиранил крестьян, роскошествовал в своем Монрепо, но, разорившись, он назвал Монрепо «Монсуфранс», т. е. «Мое страдание», и занялся вместе с кабатчиком и отставным попом поимкой «неблагонадежных».
Гололобов и Голозадов, растеряв имения, помешались на мелочном притеснении крестьян. Гололобов после реформы спланировал свои земли таким образом, что крестьянину шагу нельзя было ступить, не уплатив штрафа.
Голозадов, поселившись в деревне, всё свое время посвящает тяжбе с крестьянами по поводу разных пустяков, доводя людей до самоубийства.
Это — «рухнувшие столпы» эксплуататорского общества определенного исторического отрезка времени. У них не нашлось силы и энергии перестроиться. Более сильные хищники оттеснили их.
Мария Петровна Промптова — новый тип помещицы, прекрасно приспособившейся к пореформенным условиям. Она, как и Дерунов, и Стрелов, скупает земли, открывает кабаки и лавки. От хрупкой, наивной дворянской «куколки», какой Машенька была в молодости, не осталось и следа. Мечты о «счастье для всех», лирическая грусть «ни о чем» сменились хищной страстью к накоплению, мечтами о более эффективной эксплуатации крестьян. Машенька — ханжа, лицемерка, скряга, страдает неистощимым пустословием. Крестьяне говорят, что Марья Петровна «из-за самых пустяков по целым часам человека тиранит». Она с идиотским злорадством и упрямством обрекает на страдания и нужду своего сына только за то, что он посмел иметь свое мнение. Промптову Щедрин наделяет свойствами, которые найдут классическое воплощение в образе Иудушки Головлева. Сцены разговора Иудушки с Петенькой, едущим на гибель (в романе «Господа Головлевы»), и автора с Марьей Петровной относительно судьбы ее сына Короната совпадают не только по содержанию, но и по форме, по языку.
Осмеянию либерализма Щедрин посвятил много страниц «Благонамеренных речей». В книге выделяются два необычайно ярких портрета — западника Тебенькова и славянофила Плешивцева. Эти либералы находятся как будто в состоянии непрерывной вражды, считая свои взгляды резко противоположными. В изображении сатирика всё это только игра. И Тебеньков, и Плешивцев — в одинаковой степени враги народа, верные лакеи самодержавно-крепостнического строя. Сам Тебеньков признается: «...вся наша полемика есть не что иное, как большое диалектическое недоразумение. Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем — во имя ли принципов „порядка“ или во имя „жизни духа“ — право, это еще не суть важно» (XI, 435).
В очерке «Тяжелый год» показано, как либерал Удодов и другие грабят, продают государство и народ во время Крымской войны. Они поставляли армии сапоги на картонных подошвах, ружья с деревянными чурками вместо кремней, гнилое сено и продукты. И у этих воров и предателей
218
родины хватало подлости кричать о своем патриотизме, напутствовать солдат в бой за «веру и отечество». Очерк «Тяжелый год» является прекрасной иллюстрацией к словам В. И. Ленина о том, что Крымская война «показала гнилость и бессилие крепостной России».1
В очерках «Переписка», «Охранители» и других Щедрин рисует деятельность царской бюрократии нового, послереформенного «закала». Исправник Колотов и помпадур Батищев не отличаются, несмотря на их внешний лоск, по своему существу от старого гоголевского Держиморды. «...Мне казалось, что, несмотря на внешний закал, передо мною стоит всё тот же достолюбезный Держиморда», — пишет сатирик (XI, 72). Характеристика царской бюрократии, даваемая Щедриным в «Благонамеренных речах», полностью соответствует тому, что писал об этой бюрократии В. И. Ленин в девяностых годах: «...отечественная бюрократия ...является и по источнику своего происхождения, и по назначению и характеру деятельности глубоко буржуазной, но абсолютизм и громадные политические привилегии благородных помещиков придали ей особенно вредные качества. Это — постоянный флюгер, полагающий высшую свою задачу в сочетании интересов помещика и буржуа».2
В «Благонамеренных речах» Щедрин разоблачает реакционные теории о неспособности народа к самостоятельной политической жизни. Народ он рисует в обобщенном образе «Простеца», которого окружает «огненная геена». Щедрин взывает к сознанию народа. Он с гневом бичует охранителей всякого рода, которые считают необходимым всячески препятствовать пробуждению народа. Сатирик прекрасно видит, что в основе их проповеди смирения и покорности в народе «лежат темные виды на человеческую эксплуатацию, которая, как известно, ничем так не облегчается, как нахождением масс в состоянии бессознательности» (XI, 45). Он внушает читателю мысль, что единственным хозяином государства должен быть простой народ, так как именно он «несет на себе все бремя действительного производительного труда» и поэтому «ничье освобождение не может так благотворно отозваться на целом обществе, как освобождение простеца» (XI, 49).
Сатирик показывает в «Благонамеренных речах» и новую демократическую интеллигенцию. Непочтительный Коронат — нелюбимый сын кузины Машеньки, уже с юных лет считает себя слугой народа, человеком, который обязан быть там, где он нужнее всего. Он до глубины души презирает хищническую деятельность своей матери. Современный ему общественный строй Коронат сравнивает с домом терпимости и предпочитает «жить в нужде и не иметь постоянного ночлега», чем вести постыдный образ жизни своих родных. Став взрослым, Коронат подготовляет себя к работе на благо народа и в конце концов «ныряет» туда, «откуда одна дорога: в то место, где Макар телят не гонял!» (XI, 386). Образ Короната был взят Щедриным из живой действительности. В его лице показана юность многих деятелей революционной демократии.
В «Благонамеренных речах» намечены и другие образы демократов: кандауровский барин, которого «благонамеренные» выжили из уезда за чтение, Анпетов, ненавидимый всеми хищниками за то, что дружит с мужиками, пашет землю с ними наравне.
В состав сатирической хроники «Благонамеренные речи» первоначально включался и роман-хроника «Господа Головлевы». Даже после того, как
219
сатирик выделил «Господ Головлевых» в отдельную книгу, в художественной ткани «Благонамеренных речей» остались сюжетные нити, связывающие оба эти произведения: в рассказах «Кузина Машенька», «Непочтительный Коронат» и других.

«Благонамеренные речи». Столп. Из альбома литографий А. И. Лебедева
«Щедринские типы», 1880.
8
Рассказы о семействе Головлевых были с восторгом встречены И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, Н. А. Некрасовым и другими.
Тургенев в письме к Щедрину от 28 октября 1875 года, восхищаясь мастерством обрисовки Головлевых, советовал Щедрину приступить к созданию «крупного романа с группировкой характеров и событий»1 на основе этих рассказов.
Мысль эта созрела и у самого Щедрина. 15 мая 1876 года он писал Некрасову о том, что решил довести до конца тему Головлевых и сожалел, что «эти рассказы в „Благонамеренные речи“ вклеил; нужно было бы печатать их под особой рубрикой: „Эпизоды из истории одного семейства“. Я под этой рубрикой и думаю издать их... особой книгой ... А „Благонамеренные речи“ издам особо...» (XVIII, 361). Но отдельной книгой роман «Господа Головлевы» вышел только в 1880 году, на четыре года позднее «Благонамеренных речей». Для отдельного издания «Господ Головлевых» Щедрин написал заключительную, седьмую главу под названием «Расчет».
220
В письме к Е. И. Утину от 2 января 1881 года Щедрин говорит, что ставил себе целью в «Благонамеренных речах» «спасти идеал свободного исследования как неотъемлемого права всякого человека и обратиться к тем современным „основам“, во имя которых эта свобода исследования попирается. По мере сил моих и в размерах цензурного произвола, это и сделано мною в „Благонамеренных речах“. Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются. На принцип семейственности написаны мною „Господа Головлевы“» (XIX, 185—186).
Письмо это в одинаковой степени выражает смысл «Господ Головлевых» и «Благонамеренных речей». Автор ставит в этих произведениях вопрос о той прямой внутренней связи, которая существует между всеми эксплуататорскими классами, и тех основах, которые обусловливают и порождают эту связь.
Для большей четкости он отделяет друг от друга две грандиозные картины, иллюстрирующие этот общий замысел: картину капиталистического хищничества и картину конца крепостнически-дворянского хищничества. В этих произведениях перед нами проходят люди, пришедшие к власти из разных, часто совершенно противоположных общественных групп, люди, представляющие собой два лагеря: новое и старое, растущее и гибнущее. Таковы Деруновы и Головлевы. Но, враждуя, эти лагери стремятся к одной цели, хотя для достижения ее используют разные методы. Этими методами они и отличаются друг от друга: одни грабят с налета и в широком масштабе, другие исподволь сосут кровь в масштабе своего крепостного гнезда. Только в этом, по мнению Щедрина, разница между Деруновыми и Головлевыми. Арена же, где они действуют, — та «страдательная среда», которую они грабят, одинакова у обоих лагерей. Общность цели несомненно должна отразиться на нравственном и физическом облике этих людей.
Щедрин показывает, как уже при самом своем зарождении этот класс буржуазных деятелей несет в себе семена разрушения. Почва, подготовившая гибель Головлевых, на другом историческом этапе несет в себе ту же тенденцию и для буржуазии. Таким образом, без связи с «Благонамеренными речами» нельзя осознать всю глубину и широту замысла «Господ Головлевых». Процесс разрушения и гибели семейства крепостников Головлевых является лишь частью общего процесса, назревающего в классе эксплуататоров, конец крепостничества является для Щедрина грозным предзнаменованием неизбежного исторического конца буржуазии.
В этом сказалась гениальная прозорливость революционного демократа.
Основной жизненный стимул, двигающий семьей Головлевых, — накопление собственности. Распад этой семьи олицетворяет собой распад крепостнического дворянского класса в целом.
Роман начинается с картины мучительного умирания одного из героев (Степана) и на всем своем протяжении рисует целую галерею сходящих с жизненной сцены людей. Умирают эти люди по-разному, но у всех у них смерть мучительная, насильственная и постыдная. Вымирание семьи подготовляется всем строем головлевской жизни. «Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву», — пишет сатирик (XII, 268).
221
Семья Головлевых расплачивается за вековую паразитическую жизнь своих предков. «Бывают семьи, — говорит Щедрин, — над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение» (XII, 270).
«Именно такого рода злополучный фатум тяготел над Головлевской семьей. В течение нескольких поколений, три характеристические черты проходили через историю этого семейства: праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие, последний — являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы» (XII, 272).
Степан Владимирович, или Степка-балбес, — умный человек, с детства унижаемый и гонимый матерью, уехав в университет, становится там приживалом у богатых студентов. Кончив ученье, он не в состоянии работать и опять-таки вынужден быть приживалом и попрошайкой у своих богатых мужиков в городе. Прожив небольшой «кусок», «выброшенный» матерью, он нанимается в ополченцы, но и там оказывается непригодным. После этого дорога одна — назад в Головлево. Теперь только он понял, что «ничего не может». И поняв это, он впал в отчаяние. Брат Степана, Павел — «человек, лишенный поступков», служил, вернее, числился до определенного времени в армии, а затем вышел в отставку, чтобы без помехи предаваться запою.
Сестра Анна убежала из постылого головлевского гнезда, но и она погибла, как только ее бросил муж. Такими же беспомощными «зауморышами» вышли и ее дочери.
Даже такой активный, жизнеспособный член головлевского семейства, как мать Арина Петровна, — рабыня установленного и заведенного ею порядка, построенного на эксплуатации; достаточно его нарушить, и она уже совершенно беспомощна. Такая бесперспективность и растерянность охватили ее при ликвидации крепостного права. Она взволнованно жалуется Иудушке: «Как тут поступить? Ведь мы какое воспитание-то получили? Потанцовать да попеть да гостей принять — что я без поганок-то без своих делать буду? Ни я подать, ни принять, ни сготовить для себя — ничего ведь я, мой друг, не могу!» (XII, 87).
И когда она в Погорелке остается действительно почти одна, когда заведенная ею машина накопления и хозяйственных мелочей остановилась, Арина Петровна умирает. Ничто не могло больше поддержать ее волю к жизни.
Таких ни к чему не пригодных, беспомощных, нежизнеспособных людей выращивала почва крепостнического головлевского поместья. У этих людей не было и не могло быть больших человеческих идеалов, подлинной прогрессивной целеустремленности. Их держал в плену мир житейских мелочей, их интересовал мелочной процесс накопления. Но собственность была для них только средством удовлетворения прихотей и постыдных страстей, вроде запоя, содействовала поддержанию и умножению мира мелочей или полубезумных фантастических расчетов и вычислений, служивших видимостью жизни.
Такова почва, взрастившая Головлевых и обусловившая общность их основных ведущих черт.
Процесс капитализации России определил особенности последнего этапа жизни семейства Головлевых, ускорил его распад. Каждый из членов Головлевского семейства, выходя в жизнь, неминуемо сталкивается лицом к лицу с сильными, жадными и опасными конкурентами.
С арены общественной деятельности были оттиснуты и Степан, и Павел, дослужившийся в армии лишь до низших чинов, и Иудушка, безрезультатно
222
проведший около тридцати лет в департаменте. В дальнейшем одним из самых сильных воспоминаний, возбуждающих ненависть Иудушки к людям, было воспоминание об обидах, перенесенных им в этом департаменте. Конечно, только эта атмосфера ненависти и грабительства в семье и чиновничьем кругу могли выработать в Иудушке кровопийца такой силы.
Капиталистическое безудержное хищничество захватило Головлевых и в первую очередь отразилось на внутрисемейных отношениях, поправ иллюзию о мирной патриархальной семье дворянского гнезда.
Законы крепостнического и вообще эксплуататорского общежития исключали подлинную любовь и привязанность человека к человеку. Всё строилось на расчете: отношение к родителям, брак, отношения родства. Все старались перехитрить друг друга, обмануть, урвать кусок побольше.
Не случайно, что любимым сыном Арины Петровны является Иудушка, наиболее полно воспринявший все принципы эксплуататорского общества. Арина Петровна чувствует лицемерие Иудушки-кровопийца, но ежесекундно попадается в его сети, потому что никто не выполняет так родственный обряд повиновения, никто не имеет в запасе такое количество общепринятых почтительных и лицемерно-ласковых слов, никто не может так трогательно разыграть комедию самоотверженной преданности родителям, как Иудушка. И хотя Арина Петровна видит, как он «закидывает петлю», она не может формально ни в чем его упрекнуть. Иудушка петлей своего лицемерия захлестывает братьев так же крепко, как и мать. Слово «по-родственному» не сходит с языка у Иудушки. В этом слове заключена глубокая насмешка сатирика над всей прославленной святостью родственных отношений в эксплуататорском обществе. Этим словом озаглавлена одна из наиболее потрясающих по силе разоблачения Иудушки глав романа.
С гениальной художественной силой сатирик рисует в романе «Господа Головлевы» процесс распада человеческой личности, утрату всех принципов, всех общественных интересов.
Былая жажда дела, жажда накопления, жажда власти и славы вырождалась у потомков головлевского рода в бесцельную, полубезумную страсть к пустякам, к мелочам.
Живой мир действительности заменялся миром душной, жуткой фантазии, миром небытия. Человеческие страсти, борьба за идеалы выродились у последышей Головлевых в постыдную страсть к копанию в грязных мелочах быта, в полное отсутствие всяких целей и идеалов.
Это были заживо разложившиеся люди. И последним сигналом надвигающейся смерти для каждого из членов этого семейства было равнодушие к созданному ими миру «дарового довольства», чувство тоски и отчаяния, нежданно проскальзывавшее в одурманенное сознание Головлевых. Не случайно, что Иудушке суждено похоронить всех. Он подлинный хозяин и созидатель иллюзорной жизни пустяков и мелочей.
Образ Иудушки-хищника, пустослова и лицемера, порождал разнообразные толки у всех критиков, современных Салтыкову, и критиков последующего времени. Некоторые из них пытались истолковать этот образ, как выражающий не классовые, а некие «общечеловеческие» пороки, или ограничивали его значение только крепостническими рамками.
В. И. Ленин первый дал исчерпывающую характеристику этого образа. Ленин считал Иудушку символом всякой эксплуатации и угнетения, символом человеконенавистничества и реакции, символом лжи, пустословия, паразитичности всех эксплуататорских классов и всех групп, обслуживающих эксплуататоров. Эта гениальная ленинская оценка дает ключ к раскрытию смысла всего романа «Господа Головлевы».
223
Разоблачая политику правящего в России помещика-крепостника в 90-х годах, Ленин говорит: «Это — иудушка, который пользуется своими крепостническими симпатиями и связями для надувания рабочих и крестьян, проводя под видом „охраны экономически слабого“ и „опеки“ над ним в защиту от кулака и ростовщика такие мероприятия, которые низводят трудящихся в положение „подлой черни“, отдавая их головой крепостнику-помещику и делая тем более беззащитными против буржуазии».1 А в другой статье Ленин намечает те связи, те общие принципы, которые объединяют крепостников и буржуазию России и обобщенным выражением которых является образ Иудушки. «...благородный помещик такой же ростовщик, грабитель и хищник, как и любой деревенский мироед, только неизмеримо более сильный, сильный своим землевладением, своими, веками сложившимися, привилегиями, своей близостью к царской власти, своей привычкой к господству и умением прикрывать свое нутро Иудушки целой доктриной романтизма и великодушия».2 Далее Ленин писал: «Ужасно то, что правительство прикрывает соображениями высшей политики свое иудушкино стремление — отнять кусок у голодающего, урезать впятеро размер пособий, запретить всем, кроме полицейских чинов, подступаться к умирающим от голода!».3 Лицемерные речи правительства об «ответственности за благосостояние местного населения» «похожи, как две капли воды, на бессмертные речи бессмертного Иудушки Головлева, отчитывавшего обираемых им крестьян».4
Саркастически осмеивая политику кадетов, Ленин пишет: «К чему борьба, зачем междоусобицы? говорит Иудушка-кадет, вознося очи горе и укоризненно поглядывая и на революционный народ, и на контрреволюционное правительство. Братия! Возлюбим друг друга! Пусть будут и волки сыты и овцы целы...».5
И в другом месте: «Жаль, что не дожил Щедрин до „великой“ российской революции. Он прибавил бы, вероятно, новую главу к „Господам Головлевым“, он изобразил бы Иудушку, который успокаивает высеченного, избитого, голодного, закабаленного мужика...».6
Не менее остро и бичующе использует образ Иудушки Ленин в борьбе с меньшевиками и, в частности, с Троцким. Раскрывая предательское поведение Троцкого, его переговоры с впередовцами, Ленин говорит: «И сей Иудушка бьет себя в грудь и кричит о своей партийности, уверяя, что он отнюдь перед впередовцами и ликвидаторами не пресмыкался.
Такова краска стыда у Иудушки Троцкого».7
Иудушка — типичное явление эксплуататорского строя, он его олицетворение. Иудушка — живая иллюстрация исторической необходимости гибели собственническо-эксплуататорского уклада. Долго и сложно выкристаллизовывался образ этот в творчестве Щедрина. Его черты рассеяны по всем произведениям сатирика, его дела свойственны всем эксплуататорским классам и группам, фигурирующим в творчестве Щедрина всех периодов. Чем ближе к 80-м годам, тем ярче и четче оформляется этот образ на страницах салтыковских хроник общественной жизни. Так, в длинной
224
галерее хищников, пенкоснимателей и человеконенавистников хроники «Господа ташкентцы» вдруг мелькает живой Иудушка. Он носит, правда, другое имя, он приходится дядей школьнику Максимке-палачу, его зовут Софрон Матвеевич. Он тоже помещик, хотя и менее крупный. Вырос он в помещичьей усадьбе и по характеру и делам своим далеко превзошел ожидания папеньки, Матвея Никаноровича, который даже в глубокой старости не находит других слов общения с людьми, кроме короткого и выразительного восклицания: «Рви!». Мысли Иудушки присущи помещику Кондратию Трифоновичу в рассказе «Деревенская тишь». А в «Благонамеренных речах» этот образ выступает еще более четко.
Весь свой гигантский опыт художника-сатирика использовал Щедрин при создании образа Иудушки. Работе над ним он придавал исключительное значение. Он писал Некрасову 9 июля 1876 года: «Боюсь одного: как бы не скомкать Иудушку. Половину я уже изобразил, но в сбитом виде, надо переформировать и переписать. Эта половина трудная, ибо содержание ее почти все психологическое» (XIX, 67).
По своей художественной силе образ Иудушки стоит в одном ряду с такими вершинными образами мировой сатирической литературы, как Тартюф, Плюшкин и другие. Щедрин дал такую характеристику своему герою: «Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ... Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов» (XII, 127, 129).
Иудушка не был патриархальным помещиком. Он знал и способы новейшего капиталистического накопления. Поэтому так легко и спокойно перенес он отмену крепостного права. Иудушка может существовать везде, где есть бедные и бесправные, где общество построено на эксплуатации. Так кровопиец Иудушка, губитель головлевской семьи, вырастает в символ собственника-эксплуататора трудящихся и угнетенных. В этом великая сила творчества Щедрина, его революционное значение.
Основные отрицательные черты всех Головлевых сконцентрированы воедино в образе Иудушки. В нем доведены также до логического конца и черты, свойственные не только гибнущему классу крепостников, но и классу эксплуататоров вообще. На примере Иудушки Щедрин показал к чему может привести и приводит человека эксплуататорский строй.
Всё развитие романа неуклонно идет по одной линии: постепенное умирание всего головлевского семейства и сосредоточение богатств в руках Иудушки. Иудушка уничтожил всё семейство, отнял всю собственность у его членов, но и сам сгнил заживо. Его гибель — закономерный конец романа. В описании смерти Иудушки нет ничего трагического, это — законное возмездие преступнику. Но смерть Иудушки была бы слишком легкой и невыразительной, если бы великий психолог Щедрин не показал еще «пробуждение одичалой совести» Иудушки. Это пробуждение казнит его страшной казнью. «И вдруг, ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт» (XII, 276). Этого Иудушка не вынес. Не раскаяние погнало его навстречу смерти (глубокое раскаяние не могло возникнуть в этой заживо сгнившей душе), а только страх и боль, безумное желание спастись от призраков, которые вдруг встали перед его взором. Такое разрешение конфликта было единственно правильным.
Взяв в качестве основного объекта класс крепостников, наиболее ярко и глубоко отразивший в себе на современном Щедрину историческом этапе
225
все элементы гнилости, паразитизма и реакционности, великий сатирик довел анализ бытия этого класса до глубоких философских обобщений.
Проблема народа, проблема взаимоотношений эксплуататоров и эксплуатируемых является центральной в романе «Господа Головлевы», хотя образы крепостных здесь даны как бы на втором плане.
Немногочисленные сцены, показывающие отношение Головлевых к крестьянам, рисуют ясную картину положения крепостных, характер их взаимоотношений с помещиками. Введение в мертвящую атмосферу жизни Иудушки людей другого лагеря сделано с большим мастерством. Образы крепостных подчеркивают паразитичность и обреченность не только семьи Головлевых, но и всего крепостнического уклада. «Воздух смерти» одинаково витал и в усадьбе, и в поселке, окружавшем ее.
Роман построен по принципу семейной хроники. Само название глав уже свидетельствует об этом: «Семейный суд», «По-родственному», «Семейные итоги», «Племяннушка», «Недозволенные семейные радости», «Выморочный», «Расчет». Сюжет романа развивается с большим напряжением, нарастанием драматического конфликта из главы в главу. Почти все главы, подчиняясь основному замыслу автора — показать гибель класса, — содержат в себе картины смерти кого-либо из Головлевых. В первой главе показана гибель Степана и смерть отца, во второй — Павла, в третьей — проходит тема смерти сына Иудушки Владимира и второго его сына Петра, в четвертой — умирает Петр и сама Арина Петровна Головлева, в пятой — Иудушка отправляет на гибель своего сына и сына Евпраксеюшки, в седьмой — смерть Иудушки и Любиньки. Кроме того, почти в каждой главе читатель узнает о многочисленных «умертвиях» головлевского гнезда, о безумном и жестоком поведении головлевских предков. Так же последовательно протекает процесс потери почти всеми Головлевыми собственности, процесс сосредоточения ее в руках Иудушки — человека, «наполненного прахом».
В композиционном отношении кульминационной является глава «Выморочный», где сатирик рисует страшную картину нравственной гибели человека, потерю им всех элементарных человеческих качеств. Наконец, в главе «Расчет» дается трагическая развязка.
И пейзаж, и речь героев, и авторские характеристики, и отступления — всё в этом романе призвано служить одной цели: показу гибели и разрушения эксплуататорского класса, характеристике его свойств. Возьмем для примера пейзаж. Как известно, Щедрин редко прибегает к пейзажным зарисовкам, но тем не менее он является первоклассным мастером пейзажа.
Вот Степан, умирающий одиноким, оторвавшимся от людей и от жизни, сидит и смотрит в окно на постылые головлевские окрестности, «на крестьянский поселок, утонувший в грязи». «Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности... Всё глядело сумрачно, сонно, всё говорило об угнетении... серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли» (XII, 75).
Ни у одного из членов головлевского семейства природа их родины не возбуждает чувства радости, покоя, душевной ясности. Она всех их давит, как и Степана. Вот одинокая, ограбленная Иудушкой, когда-то властная хозяйка Головлевского гнезда, мать Арина Петровна живет в сиротской
226
усадьбе Погорелка. В самом названии уже заключается характеристика этой усадьбы. Арина Петровна «проснется, взглянет в окно, и долго, без всякой сознательной мысли, не отрывает глаз от расстилающейся без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника впереди не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод; сзади расположены были немногочисленные службы, тоже приходившие в ветхость; а кругом стлались поля, поля без конца; даже лесу на горизонте не было видно... Она вглядывалась в полевую даль, вглядывалась в эти измокшие деревни, которые, в виде черных точек, пестрели там и сям на горизонте; вглядывалась в белые церкви сельских погостов, вглядывалась в пестрые пятна, которые бродячие в лучах солнца облака рисовали на равнине полей, вглядывалась в этого неизвестного мужика, который шел между полевых борозд, а ей казалось, что он словно застыл на одном месте» (XII, 122—123).
Таков пейзаж дворянских гнезд в изображении Щедрина.
Головлево — проклятое место, Головлево — «сама смерть», поэтому вокруг него, как вокруг пушкинского анчара, нет настоящей жизни. Там не благоухают сады, не шумят чудесным успокаивающим шумом леса, не радуются и не впадают в тихую лирическую грусть люди. Там «всё говорило об угнетении». Безнадежным унынием овеяны пейзажи осени. Но пейзаж лета и зимы тоже не содержат в себе ни искры радости и тепла.
Описание страшной, наполненной воплями зимней ночи предшествует появлению в Головлеве Петра, пытающегося найти спасение у Иудушки, и как бы подчеркивает тщетность попыток Петра, неизбежность его гибели. В глухую зимнюю пору, когда «окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет» (XII, 248), приезжает умирать в Головлево и последняя родственница Иудушки — племянница Аннинька. Под вой зимнего ветра, когда «крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега» (XII, 281), идет на кладбище искать своей смерти Иудушка.
Картины весеннего пробуждения природы, возрождения жизни, с таким искусством нарисованные многими классиками русского романа, отсутствуют в романе «Господа Головлевы». Вот весенняя картина, которая рисуется Щедриным вслед за рассказом о грязных предложениях Иудушки в отношении отъезжавшей племянницы Анниньки: «Всё небо было покрыто сплошными темными облаками, из которых сыпалась весенняя изморозь — не то дождь, не то снег; на почерневней дороге поселка виднелись лужи, предвещавшие зажоры в поле; сильный ветер дул с юга, обещая гнилую оттепель; деревья обнажились от снега и беспорядочно покачивали из стороны в сторону своими намокшими голыми вершинами; господские службы почернели и словно ослизли. Порфирий Владимирович подвел Анниньку к окну и указал рукой на картину весенного возрождения» (XII, 188).
В романе «Господа Головлевы» распад дворянства Щедрин показал и путем создания мастерских речевых характеристик героев. Иудушка, охваченный безумной жаждой скопидомства, копания в мелочах, жаждой кровопийства и притеснения, поставивший на место всех человеческих принципов ложь, наиболее ярко воплощает в своей речи те особенности, которые были свойственны его классу в целом, а также и классу буржуазии. Язык из средства общения между людьми превратился у Иудушки в средство их опутывания и обмана. Крестьянин-старик Федулыч так определяет особенности
227
речи Иудушки: «Словами-то он сгноить человека может». А Щедрин вслед за этим добавляет: «Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствования Иудушки! Не простое пустословие это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила из себя гной» (XII, 197). Речь Иудушки насыщена народными поговорками, присловиями, церковнославянскими изречениями, но все эти элементы в его устах теряют свой подлинный, первоначальный смысл, имеют совершенно другое значение, прикрывают ложь. Иудушка, как стеной, отгораживается от мира живых людей различными афоризмами и лицемерными поучениями. «Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется... Он знает, что ничто не застанет его врасплох и ничто не заставит его сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног» (XII, 144).
У Иудушки не сходит с языка слово «по-родственному», но произносит он его именно в период самого жестокого издевательства над родственниками. Он всё время говорит, что надо поступать «по-божески», и беспрерывно совершает преступления. Слова «милый друг маменька», пронизывающие всю его речь, имеют издевательское значение. «По одежке протягивай ножки», «И рад бы до неба достать, да руки коротки», «Поспешность потребна при ловле блох» — изрекает Иудушка в ответ на мольбы и просьбы окружающих.
Речь Иудушки состоит из афоризмов, уменьшительных и ласкательных слов, обращений к богу, беспрерывных повторов одних и тех же слов.
Сама речь построена сатириком так, чтобы вызвать впечатление «точащегося гноя», выматывающего душу «зудения». Примером этого является речь Иудушки у постели умирающего Павла. Точно такую же речь с буквальными совпадениями произносит он у постели умирающей матери: «Ну, бог милостив, маменька!... главное, в обиду себя не давайте! Плюньте на хворость, встаньте с постельки да пройдитесь молодцом по комнате! вот так!
Порфирий Владимирович встал со стула и показал, как молодцы прохаживаются по комнате...
— Сирот бы... — повторила Арина Петровна тоскливо.
— Приедут и сиротки. Дайте срок — всех скличем, все приедем. Приедем да кругом вас и обсядем. Вы будете наседка, а мы цыплятки... цып-цып-цып! Всё будет, коли вы будете паинька. А вот за это вы уж не паинька, что хворать вздумали. Ведь вот вы что, проказница, затеяли... ах-ах-ах! чем бы другим пример подавать, а вы вот как! Не хорошо, голубушка! ах, не хорошо!» (XII, 162).
Передавая речь Иудушки, Щедрин, как правило, всегда сопровождает ее своими комментариями, делает обобщения.
Черновые редакции романа «Господа Головлевы» свидетельствуют о том, как тщательно работал сатирик над речью Иудушки, с каким особым вниманием относился он к каждой интонации. В знаменитой сцене у постели Павла Иудушка, например, вначале говорил: «Как подумаешь, а бог-то на что!» Щедрин эти слова затем вычеркивает и пишет: «Всплакнешь, да и опомнишься: а бог-то на что!» Именно так должен был сказать лицемер Иудушка. Выражение «как подумаешь» слишком просто для него. Далее шла фраза, тоже недостаточно ярко передающая подлое словоблудие Иудушки, даже выражающая некоторое участие к больному. «Жалею более, что болезнь... очень он, маменька, страдает?» Сатирик вскоре заменил ее
228
другой, очень типичной именно для Иудушки: «Не любил он меня, а я — жалею! Я всем добра желаю! и ненавидящим, и обидящим — всем! Несправедлив он был ко мне — вот бог болезнь ему послал, не я, а бог! А много он, маменька, страдает?» (XII, 102). Такому же изменению подвергается обращение Иудушки к Павлу: «Ах брат, брат! Какая ты дрянь сделался!» Слово «дрянь» не свойственно Иудушке, оно слишком для него резко, обычно и не соответствует смыслу. Сатирик заменяет его на типично иудушкино слово «бяка».
Такая же работа производится Щедриным по отбору слов, характеризующих внешнее поведение Иудушки, его манеры. Идя к умирающему Павлу, Иудушка «сгорбился, зашаркал ногами (он любил иногда притвориться немощным: ему казалось, что так почтеннее)»; затем «приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона, встал и вновь очутился у постели» (XII, 103, 104). Появление Иудушки около умирающего происходит в темноте. Павлу кажется, что он «вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась; что там есть и еще, и еще... тени, тени, тени без конца! Идут, идут...» (XII, 104). Иудушка для Павла — олицетворение смерти.
Таким же является Иудушка перед умирающей матерью. «Благодаря опущенным шторам, в комнате царствовали сумерки. Светильни догорали на дне лампадок... Воздух был тяжел и смраден... Порфирий Владимирович, в валеных сапогах, словно змей, проскользнул к постели матери; длинная и сухощавая его фигура загадочно колебалась, охваченная сумерками. Арина Петровна следила за ним не то испуганными, не то удивленными глазами и жалась под одеялом» (XII, 161).
В романе «Господа Головлевы», как и в других произведениях, автор выступает как судья и обличитель. Настойчиво и последовательно, много раз повторяя свои выводы, автор внушает читателю свои мысли о характере того или иного образа или события, подводя тем самым к разгадке общего замысла.
Автоматизм, повторение одних и тех же поступков и мыслей можно проследить особенно наглядно на образе Иудушки, но это есть и в характеристике других образов романа. «Прах», «гроб», «выморочность», «пустословие», «тоска», «лицемерие» — все эти и многие другие часто повторяющиеся сатириком слова создают мрачный колорит.
С большой силой передает Щедрин язык трудящегося народа, противоположный растленному словоблудию Иудушки. Работе над языком персонажей из народа, способу изображения народной жизни Щедрин придавал огромное значение. Еще в 1863 году в рецензии на книгу «Сказание о том, что есть и что была Россия» сатирик писал: «Вообще, услужить народу по письменной части — дело очень трудное. Для этого мало бывалости, мало даже знакомства с сборниками народных пословиц и прибауток, а необходимо прежде всего отречься от всяких преувеличений и быть строгим к самому себе... Он <народ> сам никогда не бездельничает, а потому требует и от тех, которые к нему обращаются, чтоб они высказывали ему свое дело прямо и кратко, без подмеси пустых и наносных речей» (V, 334—335). Щедрин глубоко осознал, что писатель должен брать свои языковые средства из неисчерпаемого, живого источника народного языка. В его произведениях большое место занимают пословицы и поговорки. Еще в 50-е годы Щедрин ведет запись пословиц и поговорок. Все они, как правило, носят обличительный характер: «Лгать не мякина — не подавишься!», «Овец не стало, и на коз честь напала», «Богослов, да не однослов», «Раздайся, грязь! навоз ползет!», «Не плачь,
229
козявка! только сок выжму!», «У них всякого нета запасено с лета», «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан», «Была бы спина, а то будет и вина», «Живет богато — со двора покато, чего ни хватись, за всем в люди покатись», «Пили ели, кудрявчиком звали, а попили поели — прощай шелудяк!» и т. д. (Любопытно, что эту же пословицу много лет спустя вкладывает в уста мужика Л. Толстой в пьесе «Плоды просвещения»).
Речь героев Щедрина из крестьян всегда проста, ясна, доходит до сердца читателя. Крепостные крестьяне Федулыч и Фока из романа «Господа Головлевы», дворовые мальчики Миша и Ваня — герои одноименного рассказа, крестьяне из семейной хроники «Пошехонская старина» и из сказок — все говорят колоритным, точным, мудрым языком. Их речь выражает большую, благородную душу народа, его трезвый и ясный ум, его свободолюбие. «Мы всё скажем, как нас Катерина Афанасьевна мучила, как нам жить тошнехонько стало, как нас день-деньской всё били... всё-то били, всё-то тиранили!» (III, 348) — говорит Ваня перед смертью. Этим идущим от сердца словам противопоставляет Щедрин злобную ругань барыни-самодурки.. Рассказчик-автор выступает в произведениях Щедрина представителем народа не только по мысли, но и по самой структуре языка.
9
Одновременно с романом «Господа Головлевы» в конце 70-х — начале 80-х годов Щедрин создавал сатирические циклы: «В среде умеренности и аккуратности», «Убежище Монрепо», «Круглый год», «Современная идиллия».
Цикл «В среде умеренности и аккуратности» рисует консервативную Россию в период русско-турецкой войны (1877—1878). Сатирик показывает торжество грибоедовских молчалиных и в политике, и в литературе. Обыватели молчалины — опора реакции, рьяные исполнители всех ее подлых мероприятий. Они строят свое благополучие на слезах и несчастьях народа. Их «идиллия счастливым образом совпадает с правилами устава о пресечении проступков и преступлений» против существующего строя. Эти люди, носящие маску невинности, прикрывающиеся девизом «моя изба с краю, ничего не знаю», без всякого угрызения совести ежедневно совершают тягчайшие преступления перед народом.
«Я видел однажды Молчалина, — пишет сатирик, — который, возвратившись домой с обагренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезывать пирог с капустой.
— Алексей Степанович! — воскликнул я в ужасе: вспомните, ведь у вас руки...
— Я вымыл-с, — ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезывать пирог...» (XII, 290).
Руками молчалиных реакция душит народ, с их помощью она растлевает его сознание. Молчалины не только чиновники, они и литераторы: Молчалин издает подлую газетку «Чего изволите?», прославляющую «благодеяния полицейского надзора».
В непропущенной цензурой главе IV этого цикла, называвшегося ранее «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», Щедрин показывал борьбу Молчалина — редактора газетки «Чего изволите?» со всяким свободомыслием. Злобно осуждая идею республики, Молчалин противопоставляет ей в качестве идеального общественного строя всеобщую кутузку.
230
В период наглого торжества реакции, когда жизнь представляла собой «смешанную атмосферу бойни и дома терпимости», особенно ясно видна продажная сущность буржуазной литературы, прессы, юстиции.
Щедрин клеймит журналистов тряпичкиных и подхалимовых, которые издеваются над народом в годы бедствий. Пьянствуя в приволжских городах, они в качестве корреспондентов газеты «Краса Демидрона» печатают статейки «с Дунайского фронта», где призывают народ жертвовать жизнью за царя и отечество. Адвокаты балалайкины идут еще дальше, они заняты подлыми спекуляциями на поставках фронту: снабжают армию гнилыми продуктами. Совершая эти грязные аферы, балалайкины нагло кричат о своем патриотизме, о том, что поставляемая ими тухлая килька поднимает боевой дух солдат. На крови народа наживается буржуазия (купец Дрыгалов).
С глубоким сочувствием и горечью говорит Щедрин о страданиях народа, о его неисчислимых жертвах. Автор словами одного из героев цикла «В среде умеренности и аккуратности» — Глумова, на вопрос о том, что думает народ о завоевании проливов, говорит: «В народе... ничего не знают о проливах, а просто несут свои головы. Только вою очень уж много» (XII, 448).
Яркие сатирические образы балалайкиных, подхалимовых, тряпичкиных были много раз использованы В. И. Лениным в его трудах, давно стали нарицательными.
Резкое обличение хищничества буржуазии, показ ее взаимоотношений с гибнущим классом крепостников дается Щедриным в хронике «Убежище Монрепо» (1878—1879). Так же, как в «Благонамеренных речах» и «Господах Головлевых», Щедрин разоблачает здесь гнилость, эксплуататорский характер устоев буржуазно-помещичьего общества: частной собственности, государства, семьи. С необычайной страстью и гневом вскрывает сатирик человеконенавистническое нутро народившихся буржуа колупаевых, разуваевых, осьмушниковых, с глубокой грустью говорит о том, что их господство не принесет народу ничего, кроме новых страданий и новой кабалы. «Прежде были столпы — помещики, а нынче столпы — кабатчики» (XIII, 60). «Старые столпы подгнили... новые-то столпы и вовсе гнилые».
Щедрин понимал уже в это время, что Россия не может сойти с капиталистического пути, на который она вступила, ей предстоит пройти его до конца. Поэтому он и осмеивал иллюзии народников на кратковременность капиталистического периода. Он видел, что при капитализме и при крепостниках труд крестьянина не радость, а каторга; земля ему не родная мать, а злая мачеха, к которой он прикован цепями горя и нужды.
Но, прекрасно видя и изображая эксплуататорскую, хищническую сущность буржуазии, Щедрин в силу исторических условий не знал еще реальных путей борьбы за уничтожение капиталистического строя. Поэтому произведения Щедрина необычайно сильны своим страстным пафосом обличения и почти лишены показа конкретной борьбы за приход нового общественного строя. «Убежище Монрепо» особенно показательно в этом отношении. Обличение гнилостности «столпов» умирающих и «столпов» нарождающихся дано здесь с обычной для Щедрина силой и глубиной. Сатирик выступает подлинным «прокурором общественной мысли», обвинителем от имени многомиллионного страдающего народа: «Воистину говорю: никогда ничего подобного не бывало. Ужасно было крепостное мучительство, но оно имело определенный район (каждый мучительствовал в пределах своего гнезда)... Ваше же мучительство, о мироеды и кровопийственных
231
дел мастера! есть мучительство вселенское, не уличимое, не знающее ни границ, ни даже ясных определений. Ужели это прогресс, а не наглое вырождение гнусности меньшей в гнусность сугубую?» (XIII, 149—150).
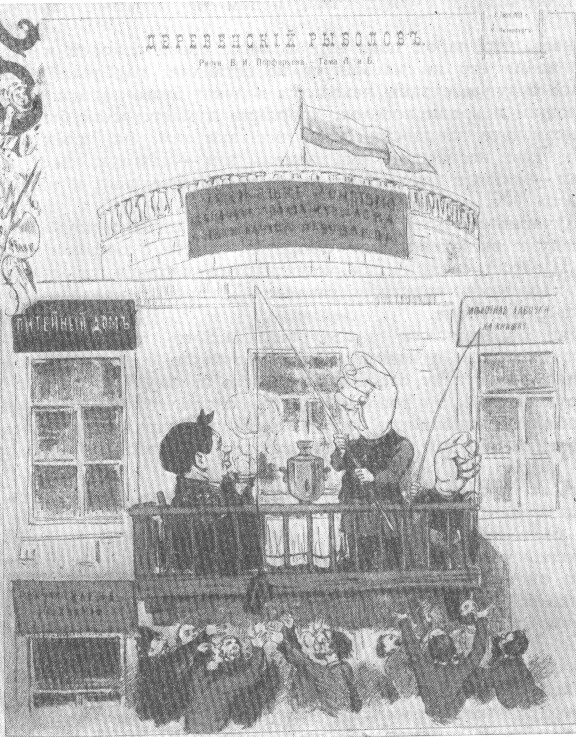
Деревенский рыболов. Карикатура В. И. Порфирьева на мотив «Убежище
Монрепо». Журнал «Осколки», 1883, № 27.
К. Маркс был знаком с творчеством Щедрина. «Убежище Монрепо» он прочел на русском языке. Основатель научного социализма высоко оценил критику капитализма Щедриным, но на полях книги «Убежище Монрепо» он написал: «Последняя часть „Предостережения“ <глава книги> очень слаба; вообще автор не слишком счастлив в своих положительных выводах».1
Характерные для «Убежища Монрепо» мотивы звучат и в другом произведении Щедрина — очерке «Дворянская хандра». Умирающий в деревне культурный дворянин с ужасом видит вокруг себя произвол, творимый
232
кабатчиками, урядниками, попом и другими притеснителями народа.
Он знает, что народ пока еще в массе своей покорен и пассивен, но в то же время его ни на минуту не оставляет глубокая убежденность, что светлое будущее страны находится в руках этого народа. Глядя в окно на утопающий в грязи поселок, дворянин думает: «Как бы то ни было, но от мысли, что заправский узел все-таки там, на посёлке, никак не уйдешь... Там настоящий пуп земли, там — разгадка всех жизненных задач, там — ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего» (XIII, 474).
Не случайно поэтому в рассказе «Сон в летнюю ночь», написанном в 1875 году и включенном в «Сборник» вместе с очерком «Дворянская хандра», Щедрин, сатирически рисуя картину юбилея чиновника — управляющего клозетами, противопоставляет ей картину празднования юбилея труженика-крестьянина.
Сатирик, обращаясь к «культурным людям», т. е. к представителям правящего дворянского класса, с гневом говорит о том, что вся их культура лжива, она ставит своей целью благо эксплуататоров и с пренебрежением относится к трудовому народу, оскорбляет его.
Но юбилеи чиновников из клозетного управления в этом обществе — явление обычное, а юбилеи тружеников-крестьян — недостижимая мечта.
И вот сатирик рассказывает о том, как ему привиделось во сне празднование юбилея крестьянина Мосеича, который 50 лет своей жизни отдал на благо общества. Он кормил страну, защищал ее своей грудью, платил бесконечные поборы. Его истязал помещик, бесчеловечно грабили чиновники, гноили ни за что в тюрьмах, секли и оскорбляли. «Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда... Чье существование может сравниться с этим безмолвным геройством, наградой которому служит одно забвение?» (XIII, 358, 359). Сон автора прерывается на том, что приезжает полиция арестовывать юбиляра и крестьян, чествующих его. Это было согласно с жизненной правдой.
По поводу замысла рассказа «Сон в летнюю ночь» Щедрин сообщал А. Плещееву: «Я думал написать ряд параллелей: с одной стороны — культурные люди, с другой — мужики. „Сон“ есть начало таких параллелей» (XVIII, 310).
Вслед за этим он написал еще пять очерков под названием «Культурные люди», где развивал те же мысли. Но в полной мере осуществить свой замысел сатирик не смог. Опубликованные в «Отечественных записках» главы вызвали такое гонение цензуры на журнал и такие угрозы по адресу автора, что Щедрин вынужден был оборвать хронику, сопроводив написанное сноской: «По обстоятельствам осталось незаконченным».
В центре хроники «Культурные люди» стоит образ провинциального помещика Прокопа Лизоблюда, который также является героем предшествующей хроники «Дневник провинциала в Петербурге». Прокоп, несмотря на свое скептическое отношение ко многим окружающим его «гулящим культурным людям», является, по словам автора, одним «из самых выразительных представителей культурного русского человека, лишь со вчерашнего дня узнавшего о своей культурности» (XI, 510). Он пресмыкается перед людьми, имеющими власть, но считает себя высшим организмом по сравнению с мужиком: «У меня, говорит, в деревне и зальце в домике есть, и палисадничек, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матраце,
233

Из былины «Илья Муромец и Змей». Карикатура А. И. Лебедева. «Наши
знакомые. Фельетонный словарь современников», изданный В. Михневичем.
1884.
а не на войлоке — сейчас видно, что культурный человек живет! А мужик что!» (XI, 506). Эзоповский язык автора не смог скрыть от цензуры всю глубину революционного, разрушительного замысла цикла «Культурные люди». Цензор дал этому циклу такое определение: «...в сатире Щедрина между строк ясно проглядывает желание выставить на позор не
234
одни общественные недостатки, но и тот государственный порядок, который не только делает возможным подобные уродливые явления в общественной жизни, но и потворствует им».1 Действительно, в цикле «Культурные люди» речь идет не об отдельных общественных недостатках, а о том, что насквозь прогнил и совершенно антикультурен правящий класс России — дворянство, как прогнила и вся царская бюрократическая система управления. Уничтожающая щедринская критика растленного, лживого характера показной дворянской и буржуазной культуры была неоднократно использована русскими революционерами в борьбе против либералов, сделавших защиту буржуазной «культуры» своей политической программой. Характерным примером такого использования может служить статья Ольминского «Культурные люди и нечистая совесть», напечатанная в «Правде» в 1912 году. Эту статью В. И. Ленин считал «замечательно удачной»2 именно благодаря тому, что ее автор разил врагов сатирой Щедрина.
В 1875—1876 и в 80-х годах Щедрин лечился за границей. Он побывал в Германии, во Франции, Бельгии. Свои наблюдения над общественным строем буржуазной Европы сатирик отчасти изложил в «Благонамеренных речах» и в других циклах, но монументальную картину жизни и политической борьбы Европы 70-х годов он нарисовал в сатирическом обозрении «За рубежом», которое печаталось в журнале «Отечественные записки» в 1880—1881 годах.
Это новое произведение Щедрина, как и предыдущее, отвечало на самые острые и насущные вопросы современности. Годы революционной ситуации наложили на него свой яркий отпечаток.
Пламенный патриот, Щедрин горячо и убежденно верил в то, что России предстоит великое будущее. Именно эта вера вдохновляла его на борьбу за интересы народа, за честь и достоинство России, ее культуры.
Революционного демократа Щедрина не могли устроить половинчатые буржуазные реформы, не меняющие основного положения вещей, оставляющие народ в кабале у правящих классов. Конечно, он понимал прогрессивное значение промышленного и культурного развития в странах капиталистической Европы, но ему было также ясно, что буржуазный строй не в состоянии обеспечить даже сносного существования трудящимся массам.
Свои заключения о путях и законах развития буржуазных стран Запада Щедрин строил не умозрительно, а на основе живой европейской действительности, на основе жестокой классовой борьбы, которая в то время бушевала внутри этих стран. Щедрин был современником французской революции 1848 года, торжества и гибели Парижской Коммуны. Произведения Щедрина 70—80-х годов создаются под непосредственным впечатлением и влиянием великих революционных идей Парижской Коммуны.
Начиная с 1848 года, Щедрин внимательно следит за назреванием буржуазной реакции в странах Европы. Он с горечью констатирует, что буржуазия, взяв власть в свои руки, отреклась от своих свободолюбивых деклараций, что классовые противоречия, существовавшие в эпоху крепостнического и феодального строя, с приходом буржуазии еще сильнее обострились, обнищание масс и их пролетаризация пошли необычайно быстрыми темпами. Щедрин пишет в «Благонамеренных речах»: «Несмотря на несколько революций, во Франции, как и в других странах Европы, стоят лицом к лицу
235
два класса людей, совершенно отличных друг от друга и по внешнему образу жизни, и по понятиям, и по темпераментам. Во главе государства стоит так называемый правящий класс, состоящий из уцелевших остатков феодальной аристократии, из адвокатов, литераторов, банкиров, купцов и вообще всевозможных наименований буржуа̀. Внизу — кишит масса управляемых, т. е. городских пролетариев и крестьян. И тот, и другой классы относятся к государству совсем не одинаковым образом... Над массами тяготеют два закона: над городскими пролетариями — закон отчаяния, над обывателями деревень — закон бессознательности» (XI, 453, 455).
Это представление о государственном строе Европы остается неизменным у Щедрина и в последующие годы, после личного ознакомления с европейской жизнью.
Раскрывая перед читателями смысл событий, происходящих во Франции со времени бонапартистского декабрьского переворота 1851 года до конца 80-х годов (после падения Парижской Коммуны), великий сатирик наглядно показывает путь французской буржуазии в сторону реакции, постепенный отказ ее от всех свободолюбивых традиций французского народа, продажу интересов родины ради собственных барышей, наступление на все демократические завоевания пролетариата.
Франция, управляемая палачами Парижской Коммуны, в 70—80-х годах представляла собой образец реакционной буржуазной республики, и потому ей так много места уделяет Щедрин в своих произведениях.
Щедрин глубоко скорбел о трагической судьбе французских коммунаров и с гневом обрушивался на буржуазных идеологов и журналистов-охранителей, пытавшихся оклеветать священные дела Коммуны. «Нет ничего отвратительнее, как зрелище торжествующей анархии консерватизма» (VII, 487).
Щедрин никогда не переставал верить в возрождение былой революционной Франции, в силы ее революционного народа. Он ясно видел две Франции — Францию коммунаров и Францию реакционной буржуазии: «...я Францию люблю. Люблю, несмотря даже на то, что она теперь не Франция, а Макмагония» (XI, 522). «Ежели мы не смешивали Францию с Луи-Филиппом и его министрами, то тем меньше были склонны смешивать ее с Бонапартом и его шайкой. Франция являлась перед нами растоптанною, но незапятнанною, и продолжала светить в лице ее изгнанников» (XIV, 165), т. е. героев Парижской Коммуны.
Щедрин призывал французский пролетариат вести массовую революционную пропаганду, воспитывать народ на идеях Парижской Коммуны: «...привить Париж к остальному национальному организму» (VII, 186). Французский народ, по мнению Щедрина, обязан был действовать еще и потому, что своим смирением перед реакцией он поставил бы под удар самую идею революции во всем мире. Каждый рабочий Франции должен помнить, что он представляет «народ, выработавший Париж, а в нем и ту арену политических и общественных вопросов, на которую один за другим выступают все члены человеческой семьи. Для такого народа устранение причин, породивших неудачи, обязательно...» (VII, 194).
Если Франция 70—80-х годов была для Щедрина классическим образцом буржуазной республики «без идеалов, без страстной идеи» и «без республиканцев», то Германию Бисмарка он считал образцом государства милитаристического, агрессивного, угрожающего миру во всем мире.
Германия Бисмарка не оставила камня на камне от тех принципов государственности, которые когда-то, в пору своего либерализма, обещала народу буржуазия; Германия тех лет была оплотом реакции в Европе.
236
Ярка и правдива картина жизни бисмарковского Берлина, нарисованная Щедриным в сатирической хронике «За рубежом». Говоря о наглости прусской военщины, о ее господствующем положении в стране, Щедрин неоднократно подчеркивает одержимость милитаристской буржуазии идеей мирового господства. У этой буржуазии «застенчивость заменилась самомнением, политическая уклончивость — ничем не оправдываемой претензией на вселенское господство» (XIV, 102).
Будучи истинным демократом, Щедрин горячо защищал и высоко ценил носителей свободолюбия, революционные традиции народа и беспощадно бичевал обывателей, склонявшихся перед сильными мира, продавших свою честь и свободу за «гороховицу с салом».
Всем сердцем ненавидя милитаристскую буржуазию Германии, презирая немецких обывателей — бюргеров за их алчность, тупость и душевную ограниченность, Щедрин сочувствовал угнетенному немецкому трудовому народу, изнывающему под «пятой бандита», ропщущему на свою тяжелую участь.
Как бы резюмируя мнения простых людей о немецкой военщине, Щедрин замечает: «...судя по современному настроению умов, думаю, что в настоящее время для доброй половины Германии Берлин не только не симпатичен, но даже прямо неприятен. Он у всех что-нибудь отнял и ничем за отнятое не вознаградил» (XIV, 108).
В своих произведениях, в частности в хронике «За рубежом», Щедрин уделил большое место изображению антинародного, лживого, продажного парламентаризма, которым так гордилась западная буржуазия. Сатирик показал, что в 60—80-е годы парламентские свободы на Западе выглядели уже совсем по-другому, чем во времена прогрессивных буржуазных революций. Буржуазия постепенно отбирала все права, завоеванные пролетариатом. Щедрин раскрыл лживую сущность буржуазных конституционных «свобод», рассчитанных на обман народа, на его еще большее закабаление.
С неослабевающим интересом Щедрин следил за развитием культуры на Западе, которая в своих лучших достижениях оказала большое влияние на него самого.
На протяжении всей своей деятельности он отмечал всегда всё, что появлялось лучшего в западноевропейских литературах. Вместе с тем им высказано немало бичующих слов в адрес реакционных западноевропейских писателей, художников, публицистов, ученых. Сонм «литераторов-паразитов» — так окрестил Щедрин литераторов, находящихся на содержании у буржуазии и служащих для нее орудием в деле нравственного развращения и закабаления масс. «Паразит всегда на стороне сильного против слабого, угнетателя против угнетенного, богатого против бедного. Это одно уже характеризует достаточно его деятельность и рисует его личность» (V, 217). «Литераторы-паразиты» поют «дифирамбы грубой силе», «полному, безапелляционному довольству существующими формами жизни», — пишет Щедрин в статье «Драматурги-паразиты во Франции» (V, 211). В результате подкупов буржуазией «умственных сил» народа, в результате усилий этих продажных паразитов, говорит Щедрин в «Признаках времени», создаются «зрелища, возбуждающие чувственность, литература, проповедующая низменность и пошлость, искусство, чуждающееся мысли и преследующее ее презрением и насмешкою...» (VII, 174).
Щедрин резко восставал против искаженного понимания реализма реакционными писателями Запада или писателями, которых уже в той или иной мере коснулась растленная идеология буржуазии. Многие писатели французской
237
буржуазной «республики без республиканцев», «с сытым буржуа во главе», выполняли своим творчеством заказ этого последнего, который, по словам Щедрина, «в деле беллетристики противник всяких психологических усложнений и анализов». Его интересовало лишь, «каким телом обладает героиня романа, с кем и когда, и при каких обстоятельствах она совершила первый, второй и последующий адюльтеры».
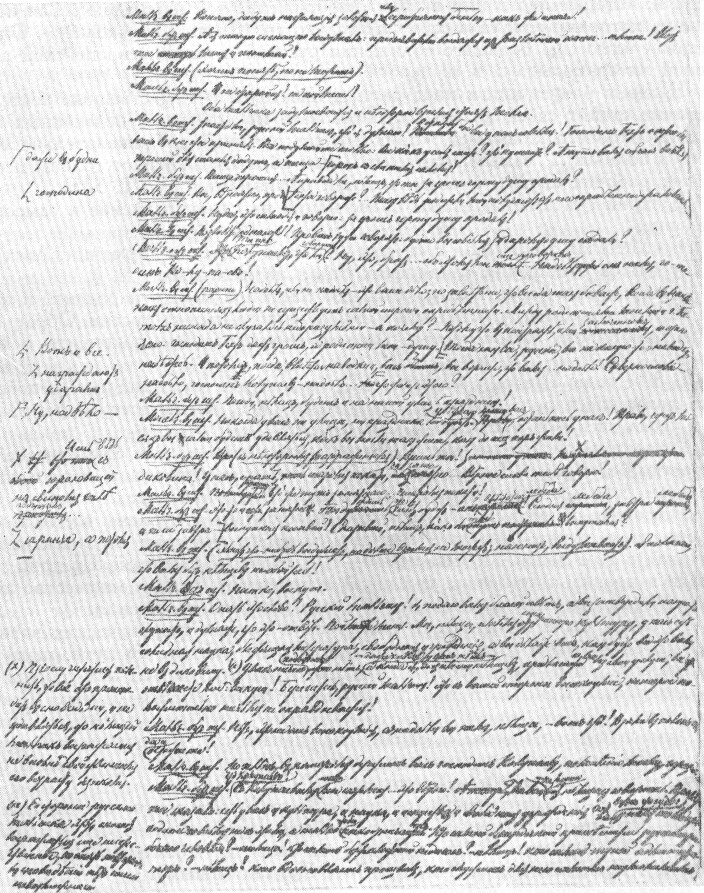
«За рубежом». Автограф М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Щедрин боролся за сохранение и дальнейшее развитие реализма в искусстве, так как без этого оно оказалось бы бессильным разрешать новые
238
задачи, которые перед ним встали: изображение той нарождающейся новой жизни, которая проявляла себя еще только «в отрывках и осколках». Он отстаивал идею еще большего сближения русской и западноевропейской передовой литературы.
Щедрин бичует книги иностранных писателей и общественных деятелей, которые ставят своей целью «содействовать прекращению незаконных претензий рабочего класса» и, «прикрываясь личиной доброжелательности и общей пользы, ...самым возмутительным образом забивают головы несчастных рабочих своими экономическими софизмами» (VIII, 325).
Щедрин считал священным право наций на самоуправление и самоопределение.
В «Мелочах жизни» он с гневом пишет об агрессии Германии, Австрии и Турции в отношении славянских стран на Балканах.
Щедрин был страстным пропагандистом мира между народами, и этим он выражал мысли и чувства всего миролюбивого народа России. Обращаясь к миролюбивому человечеству, Щедрин призывал его покончить с войнами.
В 80-е годы Щедрин был твердо убежден, что зреет мощное, непобедимое движение народа, «имеющее положить конец владычеству буржуазии», как писал он в «За рубежом» (XIV, 208).
Революционный демократ Щедрин всю свою жизнь был писателем, страстно борющимся за интересы народа, «человеком партии», как он называл сам себя. Демократизм и партийность Щедрина неотделимы.
В хронике-обозрении «За рубежом» обобщены и углублены все те мысли Щедрина о путях развития Западной Европы, которые он высказывал, начиная с 70-х годов. Побывав в 70—80-х годах за границей, Щедрин убедился в правильности своих суждений и прогнозов, увидел множество жизненных фактов, подтверждающих его теоретические положения.
Хроника была политически заострена и против теоретических воззрений народничества, утверждавшего, что Россия идет не по пути развития капитализма, а по пути особому, исключительному. «У нас нет городского пролетариата..., но зато мы не имеем и буржуазии», — писал Ткачев Энгельсу.1
Осмеивая народников, Щедрин спрашивает их в хронике «За рубежом»: «...что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых?» (XIV, 71).
Композиция сатирической хроники «За рубежом» соответствует политической остроте поставленных в ней проблем. Щедрин включает в хронику сатирические драматические сцены (разговор двух мальчиков, разговор свиньи с Правдой, графа Твердоонто с Подхалимовым).
Каждая из сценок, включенная в хронику, сама по себе содержит глубочайшее революционное содержание. Взять хотя бы сцену-сказку «Торжествующая свинья», которая многие годы для всех прогрессивных людей мира являлась символическим изображением политической реакции, душащей всё мыслящее и революционное.
Эти сцены как бы подводят итог незабываемым картинам жизни. Здесь и сатирические образы политических деятелей буржуазной Европы: Клемансо, Бисмарка и т. д., и бессмертные сатирические образы представителей русских правящих классов: олицетворение реакции — графа Твердоонто, продажных человеконенавистников чиновников — Удава и Дыбы, «бесшабашных советников», шляющихся по Европе с целью изучения общественных
239
уборных, журналиста-предателя Подхалимова, помещиков — «желудочно-половых космополитов», пресмыкающихся перед всем иностранным, и т. д.
И над всем этим прогнившим, приговоренным к смерти сбродом стоит благородная фигура автора-рассказчика, революционного демократа, «прокурора общественной мысли», зовущего на борьбу с буржуазным строем.
10
Изображению реакции 80-х годов сатирик посвятил большинство произведений последнего периода: «Современную идиллию» (1877—1883), «Пошехонские рассказы» (1883—1884), «Недоконченные беседы (1873—1884), «Письма к тетеньке» (1881—1882) «Пестрые письма» (1884—1886), «Мелочи жизни» (1886—1887) и многие замечательные сказки.
80-е годы в творчестве Щедрина — это время тревожных раздумий над судьбой человечества, период пламенного бичевания политической реакции во всех ее проявлениях. Как редактор самого демократического журнала («Отечественные записки») Щедрин ежедневно сталкивался с политическим произволом, царившим в стране. Со страстным гневом обличал он подлый террор правительства против революционеров, беззакония, издевательства над народом. Узнав за границей от Лорис-Меликова о том, что придворной кликой организована так называемая «Священная дружина» с целью уничтожения русских революционных деятелей в России и за границей, Щедрин принимает все меры, чтобы сообщить об этом революционерам и всем прогрессивным русским людям, чтобы предостеречь их. Деятельность этой бандитской контрреволюционной организации Щедрин обрисовал в третьем «Письме к тетеньке» и в сатирическом романе «Современная идиллия».
Политическую сущность «Современной идиллии» Щедрин охарактеризовал в письме к Пыпину от 1 ноября 1883 года. Возражая против наименования этого произведения «Сборником», Щедрин писал: «Это вещь совершенно связная, проникнутая с начала до конца одною мыслию, которую проводят одни и те же „герои“. Герои эти, под влиянием шкурного сохранения, пришли к убеждению, что только уголовная неблагонадежность может прикрыть и защитить человека от неблагонадежности политической, и согласно с этим поступают, т. е. заводят подлые связи и совершают пошлые дела... Путешествие в Проплеванную совсем не водевиль, а самая сущая истина» (XIX, 365, 366).
События «Современной идиллии» сконцентрированы вокруг полицейского участка, который как бы символизирует собой весь строй современной Щедрину России: с его квартальными, шпионами («гороховыми пальто»), брандмейстерами, хищниками-капиталистами, продажными либералами, трусливыми обывателями. Все они ведут наблюдения за неблагонадежными, заняты поимкой «сицилистов», в число которых вначале попадает даже такой двурушник и предатель, как Глумов. Основная сюжетная линия романа рисует процесс морального падения либеральной дворянской и буржуазной интеллигенции, ее действия «применительно к подлости». Центральные герои «Современной идиллии» — Глумов (герой комедии Островского, действующий в новой исторической обстановке) и рассказчик — «Я». Оба они трусливые приспособленцы, до безумия напуганные реакцией, растерявшие последние остатки убеждений, отдающие душу и тело в распоряжение «охранителей» существующего порядка. Решив «годить», т. е. забиться в собственную
240
нору и закрыть глаза на всё происходящее, Глумов и рассказчик постепенно сближаются со всеми злейшими врагами народа, становятся соучастниками их преступлений. Так, на примере падения этих буржуазных интеллигентов Щедрин показывает, к чему неизбежно должна привести безидейность, отказ от борьбы, потеря веры в грядущую победу народа.
Квартальный Иван Тимофеевич, шпион Кшепшицюльский, брандмейстер Молодкин, купцы и заводчики Парамонов, Кубышкин, Ошмянские, редактор продажной газеты «Краса Демидрона», он же бывший тапер публичного дома, — Очищенный, преступник и лжец — адвокат Балалайкин и другие типы вошли в золотой фонд мировой художественной литературы. Квартальный олицетворяет в своем лице тупость, беззаконие и произвол самодержавия. Этот образ близок к образу градоначальников из «Истории одного города». Не случайно, подобно Беневоленскому и другим, квартальный пишет свой «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении». С необычайной политической остротой и сконцентрированностью нарисована Щедриным система управления царской России в «Сказке о ретивом начальнике». Эта вставная сказка представляет собой гениальный образец политической революционной сатиры. Ретивый начальник, живущий «в некотором государстве», ставил своей целью, по примеру своих предшественников, «как можно больше вреда делать». Он твердо знал, что «обывателя надо сначала скрутить... потом в бараний рог согнуть, а наконец, в отделку, ежовой рукавицей пригладить. И когда он вышколится, тогда уж сам собой постепенно отдышится и процветет» (XV, 215).
Проводя эту программу в жизнь, начальник вскоре достиг того, что край «остепенился» и наступила каторга. «Каторга, то есть общежитие, в котором обыватели не в свое дело не суются, пороху не выдумывают, передовых статей не пишут, а живут и степенно блаженствуют. В будни работу работают, в праздники — за начальство богу молят» (XV, 215). Именно таким мечтали видеть русский народ эксплуататоры всех мастей. Сатирик рисует в этой сказке дикий разгул реакции, политический террор, бешеную травлю честных людей. Ретивый начальник в борьбе против народа призвал на помощь «мерзавцев», т. е. убийц, шпионов. «И вдруг пошла во всем крае суматоха. Кому горе, а „мерзавцам“ радость... Одни пишут доносы, другие вредные проекты сочиняют, третьи об оздоровлении ходатайствуют. Не хлеба нам надобно, а шпицрутенов! вопиют... „Необходимо по началу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать“... „Необходимо обывателей во всегдашнем изумлении содержать“...» (XV, 218).
Такой же глубокий революционный смысл заложен и во вставных рассказах и сценах «Современной идиллии»: «Властитель дум», «Злополучный пискарь или драма в Кашинском окружном суде» и других. В фельетоне «Властитель дум» говорится о Негодяе, стремящемся «воспитать общество в ненависти к жизни, к развитию, к движению» при помощи «бараньего рога» и «ежовых рукавиц». Негодяй — олицетворение распутства, поставившего «себе задачей наполнить вселенную гноем измены, подкупа, вероломства, предательства» (XV, 224, 225, 226). В мировой сатирической литературе мало страниц, которые могли бы сравниться со сценой «Злополучный пискарь или драма в Кашинском суде», где показана судебная расправа самодержавия с угнетенным народом. Продажные царские судьи и прокуроры строят свои обвинения против умирающего пискаря Ивана Хворова на лжесвидетельствах. Основной обвинительницей пискаря в бунтовстве выступает лягушка — «охранительница» существующих устоев. За обвиняемого отвечает жандарм. Подобные судебные процессы над революционерами Щедрин многократно наблюдал в жизни. Мысль о том, что политическая благонамеренность
241
в буржуазном обществе совпадает с уголовщиной, ярко и последовательно доказывается Щедриным на протяжении всего сатирического романа. Все «благонамеренные» действующие лица — преступники, морально растленные люди. Балалайкин — жулик и двоеженец, готовый на всё, многократно сидевший в тюрьме; купец Парамонов — темный делец, наживший капиталы преступлениями; Фаинушка — проститутка; редактор ассенизационно-любострастной газеты «Краса Демидрона» — Очищенный характеризуется тем, что его физиономию разрешается бить за умеренную плату по таксе. Его газета представляет собой типичную буржуазную продажную газету, защищающую интересы того хозяина, который больше платит.
Особый интерес представляют типы новой буржуазии: владельца железных дорог Вооза Ошмянского, фабриканта Кубышкина, купца Вздошникова. Ошмянский из местечкового кустаря превращается при помощи жульнических махинаций в крупного финансового воротилу, верного слугу российского самодержавия, которое когда-то угнетало его как инородца и угнетает его родных. Фабрикант Кубышкин всемогущ. В его руках не только текстильные фабрики, но и газета «Словесное удобрение» и свой «странствующий полководец» Редедя, пробивающий ситцам Кубышкина дорогу за границу. Редедя продает интересы своей страны ради обогащения Кубышкина.
С глубоким сочувствием рисует Щедрин в «Современной идиллии» народные типы. Путешествуя по деревням, компания, предводительствуемая Глумовым, заходит посмотреть древнего старика-крестьянина. На вопрос, чем они кормятся, крестьянка отвечает: «Так кое-чем. Та̀льки пряду; продам — хлеба куплю. Мыкаемся тоже... Строго ноне... Всё одно что в гробу живем... Урядники ноне...» (XV, 199, 200). Далее Щедрин показывает безысходную жизнь талантливого самоучки — мещанина Презентова, изобретающего перпетуум мобиле. Этот человек, страстно рвущийся к науке, изнывающий «от жгучих стремлений к чему-то безмерному, необъятному» (XV, 202), вынужден влачить нищенскую жизнь. В избе его «неприютно, голо, словно выморочено... На окне стояла глиняная кружка с водой, и рядом лежал толстый сукрой черного хлеба. Может быть, это был завтрак, обед и ужин Презентова» (XV, 202).
Говоря о художественной форме «Современной идиллии», Щедрин справедливо сравнивает ее с такими произведениями, как «Записки Пиквикского клуба» Диккенса, «Дон-Кихот» Сервантеса, «Мертвые души» Гоголя. Приемы построения портрета в «Современной идиллии» в основном те же, что и в «Истории одного города»; гротеск, черты животности и автоматизма. Эти приемы распространяются на все отрицательные персонажи, представляющие собой класс эксплуататоров.
Если Редедя похож на обожравшееся животное, то меняла — купец Парамонов представляет собой животное запаршивевшее, хилое. Откормленный, розовый, с пухлыми губами появляется перед читателем буржуа Лазарь Ошмянский. Процесс потери человеческого облика у главных героев начинается с того момента, когда персонаж переходит на стезю «благонамеренности», т. е. становится защитником существующего социального строя. Это хорошо показано на Глумове и рассказчике — «Я». Решив «годить», т. е. смириться с реакцией, с существующим строем, Глумов и рассказчик в скором времени и морально, и физически превращаются в скотов.
Великий сатирик в своей манере художественного построения образа идет во многом от Гоголя. Это ярко видно в портретах многих персонажей «Современной идиллии» и особенно в портрете Выжлятникова. Террорист и шпион Выжлятников, занимающийся статистикой «современного настроения умов», по внешности чрезвычайно напоминает Собакевича: «Весь он был
242
сколочен прочно и могуче, словно всею фигурой говорил: мучить понапрасну не стану, а убить — могу. Ноги как у носорога, руки — фельдъегерские, голос — валит как из пропасти» (XV, 168). Именно таким должен быть вольнонаемый убийца — черносотенец. Стоит только вспомнить описание Собакевича у Гоголя, чтобы наглядно увидеть общность сатирических приемов двух великих писателей. Черты жестокости, деревянности, грубой примитивности, душевной и физической, свойственны героям Гоголя и Щедрина. У Щедрина эти типичные качества подчеркиваются с особой резкостью, получают более четкое социальное обоснование, а главное — выявляют политический смысл изображаемого характера.
Создавая портреты представителей классовых групп, враждебных народу, сатирик в «Современной идиллии» выпячивает в них еще одну очень характерную особенность: их проституированность, продажность. Так редактор ассенизационной газеты «Краса Дермидона» Очищенный «имел физиономию благородного отца из дома терпимости». Щедрин многократно подчеркивает продажность этого человека и строго реалистическим описанием его поведения, и приемами сатирической гиперболизации: на одной щеке Очищенного проступает такса за побои, на другой — реклама об издании газеты. Второй прием только усиливает реалистичность образа Очищенного, глубже вскрывает его классовое нутро. Таким же продажным выглядит и адвокат Балалайкин. Не случайно контора его помещается в бывшем здании публичного дома. «...Это был он, то есть избавитель, то есть „подходящий человек“, по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? Т. е., говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин» (XV, 73).
Так знакомит Щедрин читателя с Балалайкиным в «Современной идиллии». Затем он дает его портрет: «Я не скажу, чтоб Балалайкин был немыт или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые — как ни умывай, ни холь, а всё кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости» (XV, 73).
В «Современной идиллии» только семейство древнего старичка-крестьянина да талантливый самоучка-изобретатель Презентов выглядят подлинными живыми, разумными людьми. «Это был человек лет тридцати пяти, худой, бледный, с большими задумчивыми глазами...» (XV, 201) — таков портрет Презентова. Он необычайно скромен, конфузлив, говорит тихим голосом. Его речь ничего общего не имеет с трескотней Балалайкина, наглой, циничной речью убийцы Выжлятникова, Иудушкиным словоблудием менялы Парамонова, жаргоном хищника Ошмянского.
Очень характерен пейзаж в «Современной идиллии». Картины природы рисует читателю не либерал (рассказчик — главный герой романа), а сам автор. Картины эти, проникнутые глубоким чувством, светом и теплом, подчеркивают страшный облик мира грабителей, убийц, менял: «Воздух был необыкновенно прозрачен, гулок и весь напоен ароматами созревающих овощей и душистых огородных трав. В подросшей за лето траве еще стрекотали кузнечики, а около кустов и деревьев дрожали нити паутины — верные признаки предстоящего продолжительного вёдра. Листья еще крепко держатся на ветках деревьев и только чуть-чуть начинают буреть; георгины, штокрозы, резеда, душистый горошек — всё это слегка побледнело под влиянием утренников, но еще в полном цвету; и везде жужжат мириады пчел, которые, как чиновники перед реформой, спешат добрать последние взятки» (XV, 283). Рисуя полную тепла и мира картину природы, цветущего великолепного сада, сатирик не смог забыть, что хозяином этого сада
243
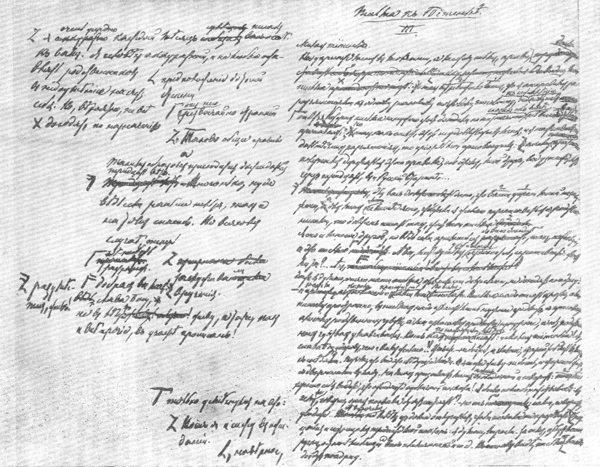
«Письма к тетеньке». Автограф М. Е. Салтыкова-Щедрина.
244
является буржуа Лазарь Ошмянский, высасывающий последние соки из крестьянина. Поэтому в лирическое, проникновенное описание вдруг врывается сатирический образ: сравнение пчел с чиновниками. А вслед за этим рисуется петербургская осень: грязная, промозглая, превращающая «пешехода в чушку», и осмеиваются застарелые болезни чиновников Удава и Дыбы.
В «Современной идиллии», как и в других произведениях, Щедрин использует образы русской классической литературы. Сатирик берет основные черты этих образов и доводит до логического конца, показывая поведение их в новой исторической обстановке. Таковы Глумов и Молчалин.
В «Письмах к тетеньке», написанных в это же время, Щедрин вскрыл, насколько было возможно это сделать эзоповским языком, деятельность террористической организации «Священная дружина», созданной по приказу царя, вывел эту банду под названием «Общество частной инициативы спасения» и показал ее высокопоставленных руководителей.
Особенно резко и прямо сделано это в запрещенном цензурой третьем письме. Сатирик рассказывает о встрече с гоголевским Ноздревым, который стал одним из активных членов этого общества — учреждения не частного, но и не казенного. «С одной стороны, как будто частное, но с субсидией; с другой стороны, как будто казенное, но с тем, чтоб никому об этом не говорить» (XIV, 321). Читатель, разумеется, сразу догадывался, о каком обществе идет речь. Далее словами второго агента — Расплюева Щедрин излагает подлые цели этого «Общества» — аресты и убийства: «...лучше мы на другой манер Россию опутаем. Заведем по всем городам агентов оздоровления, да и объявим под рукою на премию: кто связанного либерала представит — тому приличное вознаграждение, а кто с либералом потихоньку на свой риск обойдется — тому против первого вдвое» (XIV, 330).
Говоря о современной ему жизни 80-х годов, Щедрин в «Письмах к тетеньке» пишет: «Удивительно как-то тоскливо. Атмосфера словно арестантским чем-то насыщена, света нет, голосов не слыхать; сплошные сумерки, в которых витают какие-то вялые существа», «а среди них мечутся обезумевшие от злобы сонмища добровольцев соглядатаев» (XIV, 335).
Эта страшная действительность вызывала у великого сатирика, наряду с резкими словами обличения, ноты трагизма и печали, хотя вера его в счастливое будущее народа не угасала ни на минуту. Да, будущее — против человеконенавистников. «...Я убежден, что честные люди не только пребудут честными, но и победят... Надо всечасно говорить себе: нет, этому нельзя статься! не может быть, чтоб бунтующий хлев покорил себе вселенную!» (XIV, 346). Но вся жизнь Щедрина проходила в этой борьбе с «хлевными принципами», и скорого конца борьбы он не видел и не мог видеть.
В «Письмах к тетеньке» сатирик снова и снова бичует проявления крепостного права, бесчинства высокопоставленных оголтелых бюрократов — грабителей, продажных журналистов — убийц ноздревых, издающих газету «Помои», их сподвижников подхалимовых, тряпичкиных, грызуновых. Отвечая на злобные обвинения охранителей прессы в «повторении», Щедрин говорит: «Нет, именно следует каждодневно, каждочасно, каждоминутно повторять: ложь! клевета! проституция! Повторять хотя бы с тем же однообразием форм и приемов, которые употребляются самими клеветниками и проститутами. Повторять, повторять, повторять. Вот это именно я и делаю» (XIV, 496). И сатирик бесстрашно повторял эту правду, несмотря на все гонения цензуры, на тяжелую и длительную болезнь.
245
Щедрин создал в последние пять лет своей жизни ряд великих по своим художественным достоинствам произведений: «Пестрые письма», «Сказки», «Мелочи жизни», «Пошехонская старина».

М. Е. Салтыков-Щедрин.
Фотография К. А. Шапиро. 1880-е годы. С автографом.
В «Пестрых письмах» Щедрин рисует целую галерею «пестрых людей»: охранителей и шпионов архимедовых, стреловых, скорняковых; озверелых администраторов, ненавидящих всё новое, — генералов пучеглазовых, гвоздиловых, покатиловых, крокодиловых; реакционных реформаторов передрягиных, неослабных, продажных газетчиков подхалимовых.
Характеризуя их, сатирик пишет: «Общий признак, по которому можно отличать пестрых людей, состоит в том, что они совесть свою до дыр износили... это вполне оголтелые, в нравственном отношении люди, — люди, у которых что ни слово, то обман, что ни шаг, то вероломство, что ни поступок,
246
то предательство и измена» (XVI, 400). Генералы составили Общество «антиреформенных бунтарей», майор Стрелов специализируется по арестам «сицилистов», написал «Проэкт всеобщего упразднения», где требует отмены судов, крестьянского самоуправления, земства, всех прав, кроме права быть битым. Вся эта «пестрая» мразь является порождением определенной социальной системы, порождением страшного времени, господства беззакония и произвола. «Ах, какое это было время! — восклицал сатирик, говоря об эпохе реакции 80-х годов. — Мрачное, наполненное привидениями и каким-то удушливым безмолвием. Улицы были почти пусты... По ночам слышались оклики дворников и бряцание оружия по тротуарам. Ночные посещения производились наудачу, случайно, без малейшей системы... Кто мог сжечь старую переписку — сжег; дорогие имена, дорогие речи — всё приносилось в жертву... Ужасно было, ужасно!» (XVI, 389). Рисуя портреты реакционеров-человеконенавистников, сатирик прямо говорит о том, что они олицетворяют социальную систему, построенную на угнетении и эксплуатации. Поэтому и фамилии им он дает соответствующие их социальной функции и моральному облику. «Крокодилов имя собирательное», — пишет Щедрин о генерале-шпионе. Такими же собирательными именами являются имена Передрягина и Неослабного, ведающих департаментами «Завязывания» и «Развязывания» узлов, и других персонажей. Приемы построения портрета здесь сатириком нарочно схематизированы. Таков, например, портрет реакционного журналиста Подхалимова, олицетворяющего собой продажную, лживую буржуазную прессу: «Наружность у него была тоже несамостоятельная: сейчас брюнет, сейчас — блондин. Отсвечивает. Голова — сквозная, звонкая: даже в бурю слышно, как одна отметка за другую цепляется. В глазах — ландшафт, изображающий Палкин трактир. Язычина — точно та бесконечная лента, которую в старину фокусники из горла у себя выматывали. Он составлял его гордость» (XVI, 333). Изображая этот страшный мир «пестрых» кукол-человеконенавистников, Щедрин страстно взывал ко всем живым людям на Руси, будил их на борьбу ради жизни и будущего страны: «где ты, русский читатель? откликнись!» (XVI, 260). Временами, в минуты тоски и одиночества, великому сатирику-демократу казалось, что читателя-друга нет, что он еще «не народился... на Руси», что народ равнодушен к его призывам: «... литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего» (XVI, 260, 261). Народ задавлен игом мелочей, он в неизбывной кабале у эксплуататоров. В массе своей он еще пассивен, но в нем зреют могучие силы протеста, которые начисто сметут этот строй. Уверенность в этом никогда не покидала Щедрина. Именно она выражена им в цикле «Мелочи жизни».
В этом цикле рассказов изображены почти все слои русского общества.
Щедрин правильно понимал мелкобуржуазную сущность крестьянина-собственника, которого народники считали уже готовым к восприятию социалистических идей. С мастерством подлинно великого художника Щедрин создает здесь тип крестьянина — «хозяйственного мужичка», чья цель жизни сводится к мелочной заботе о своем нехитром хозяйстве и которого, несмотря на это, действительность обрекает на разорение. Щедрин изображает также типы мелких служащих, изнывающих под бременем нужды, студента, умирающего с голода, сельской учительницы, задавленной беспросветной провинциальной жизнью, портного Гришки — полупролетария, голодного и бесправного, кончающего жизнь самоубийством. Наряду с этими типами тружеников Щедрин рисует типы людей других классов: послереформенных помещиков, молодых шалопаев и карьеристов, мечтающих дорваться до государственной казны, продажных газетчиков, мироедов. Методы типизирования в «Мелочах жизни» многообразны. Представители угнетенного
247
народа нарисованы с необычайной теплотой и проникновенностью, хищники подвергаются сатирическому бичеванию.
Сатирик показывает пошлость и гнетущую бессмысленность жизни представителей правящих классов. Они не способны ничего создать, они паразиты, а не строители жизни. Но, обращаясь к трудящемуся народу, Щедрин с грустью отмечает, что народ в массе своей еще не проснулся для борьбы, он пока погружен в мелочи жизни, задавлен нуждой и произволом. Щедрин призывал народ освободиться от гнета жизненных мелочей, выйти на широкую дорогу борьбы со всем социальным строем, порождающим эту страшную, тупую, бескрылую жизнь. «Человечество бессрочно будет томиться под игом мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы в обсуждении идеалов будущего», — пишет Щедрин (XVI, 448).
В рассказах «Мелочи жизни» Щедрин прямо намекает на процесс назревания революции внутри страны: «Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни всё больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми» (XVI, 447). Еще более ясно говорит Щедрин здесь о революционной борьбе рабочих на Западе, о неизбежности грядущей революции.
В «Мелочах жизни» Щедрин много места уделил разоблачению реакционного народничества. О крестьянской общине, которую народники считали зародышем социализма, Щедрин пишет очень резко и прямо, доказывая, что община «не только не защищает деревенского мужика от внешних и внутренних неурядиц, но сковывает его по рукам и ногам» (XVI, 432). Эта критика народничества, которую Щедрин проводил и в других произведениях, помогала борьбе революционных марксистских организаций с народничеством. Не случайно В. И. Ленин уже в своих первых трудах использует образы щедринского «хозяйственного мужичка» и кулака-мироеда.
11
К жанру сказки Щедрин на протяжении своего творчества прибегал неоднократно, особенно в 80-е годы, когда ему приходилось выискивать форму, наиболее удобную для обхода цензуры и вместе с тем наиболее близкую простому народу. Не случайно в текст его произведений, политически самых острых, включены сказки (в «Современную идиллию», «За рубежом»). Элементы сказочной фантастики есть и в «Истории одного города» («Органчик», градоначальник с фаршированной головой и др.).
Создавая свои «Сказки», Щедрин опирался на опыт не только устного народного творчества, но и на сатирические басни великого Крылова. В сказках Щедрина органически сочетаются элементы фантастики с реальной, злободневной политической действительностью.
Сказки Щедрин создавал наряду с большими произведениями на протяжении длительного периода — с 1869 («Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и др.) до 1886 года. Но большинство сказок было написано в середине 80-х годов. Именно в эти годы небывалого разгула реакции жанр сказок был особенно необходим Щедрину.
«Сказки» Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего творчества великого сатирика. Написанные главным образом в конце жизни сатирика, они как бы подводят итог его сорокалетней творческой деятельности. Перед читателем возникают знакомые черты щедринских помпадуров —
248
правителей России (Сказки «Бедный волк», «Медведь на воеводстве»), трусливых, продажных либералов («Либерал», «Обманщик-газетчик и легковерный читатель»), эксплуататоров-крепостников («Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), врагов революции — охранителей существующего порядка («Вяленая вобла»), обывателей, смирившихся перед реакцией («Премудрый пискарь», «Здравомысленный заяц», «Самоотверженный заяц»), самодержавия («Богатырь», «Орел-меценат»), наконец, черты великого русского народа — труженика-страстотерпца, накопляющего силы для решительной борьбы («Коняга», «Ворон-челобитчик», «Путем-дорогою и многие другие).
Горячая любовь Щедрина к народу, ненависть и презрение к его угнетателям — получила в сказках особенно яркое выражение. Образ «Коняги» в одноименной сказке — символ крестьянской России, вечно трудящейся, замученной эксплуататорами различных мастей. Коняга-крестьянин является источником жизни для всех, благодаря ему растет хлеб на необъятных полях России, но сам он не имеет права досыта есть этот хлеб. Его удел — вечный изнурительный труд. «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования...», — восклицает Щедрин (XVI, 199). До предела измучен Коняга, но только он способен освободить из плена родную страну: «Из века в век цепенеет грозная неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге» (XVI, 198).
В противоположность «пустоплясам» — славянофилам и реакционным народникам, которые фальшиво умилялись, видя страдания мужика-Коняги, болтали об «идеале труда», об извечном смирении народа, Щедрин всеми силами души отвергал смирение, звал народ к решительной борьбе.
В сказках Щедрина образ мужика противостоит образам представителей господствующих сословий и олицетворяет собой весь трудящийся народ России. Это прямо явствует из сказки: «А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть!», — говорит мужик генералам (XVI, 44). Великий сатирик в этой сказке, как и в других своих произведениях, скорбит о покорности народа перед угнетателями. Он горько смеется над тем, что мужик по приказу генералов сам вьет веревку, которой они его связывают. Но вместе с тем весь облик мужика в сказке дышит несокрушимой мощью, обрисован автором с теплотой и любовью. Мужик честен, прям, добродушен, уверен в своих силах, необычайно сметлив и умен. Он может всё: не только достает пищу, шьет одежду, он покоряет стихийные силы природы, шутя переплывает «океан-море», несмотря на бури и штормы. И к поработителям своим мужик относится насмешливо, ни на мгновенье не теряя чувства собственного достоинства. Генералы выглядят жалкими, ничтожными пигмеями по сравнению с этим великаном. Для изображения их сатирик пользуется совсем другими красками. Они «ничего не понимают», они грязны, трусливы, беспомощны, жадны, глупы. Это паразиты, присосавшиеся к здоровому человеческому организму. Паразитическая жизнь сделала их наглыми, внушила им мысль о том, что они высшие существа. Поэтому и обращаются тунеядцы с их кормильцем-мужиком, как с животным: «Спишь, лежебок! — накинулись они <генералы> на него: — сейчас марш работать!» (XVI, 43).
Спасшись от смерти и разбогатев благодаря мужику, они высылают ему на кухню жалкую нищенскую подачку: «рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!», — насмешливо заключает сказку автор. Саркастическое
249
восклицание полно глубокого смысла. Сатирик хочет сказать народу о том, что ждать от эксплуататоров улучшения жизни бесполезно: в классовом обществе угнетение является законом жизни. Свое счастье народ может добыть только собственными силами, сбросив иго тунеядцев.
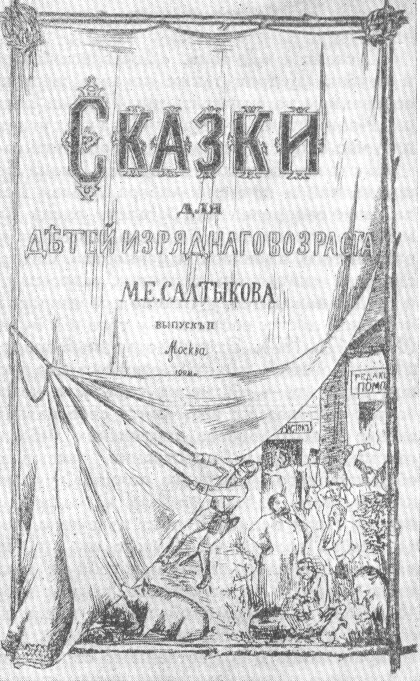
«Сказки для детей изрядного возраста». Обложка
нелегального литографированного
издания. 1884.
Эта сказка была высоко оценена революционными демократами сразу же после ее выхода в свет. Герцен в письме к Огареву 14 марта 1869 года писал: «...читал ли ты в „От. з.“ „Историю двух генералов“? Это — прелесть».1
Та же идея заложена и в сказке «Дикий помещик», написанной в 1869 году. Сатирик в ней ставит проблему взаимоотношения дворян-крепостников и крестьянства, проблему, особенно актуальную и острую в первое послереформенное десятилетие. Сатирик рисует бедственное положение «освобожденного» мужика.
«Скотина на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — всё его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу: — Господи! легче нам пропа́сть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!» (XVI, 55—56). Такой осталась жизнь крестьян и после реформы 1861 года.
Но выжив с земли крестьян, «дикий» помещик сделался самым беспомощным и грязным из всех животных: так его испортило паразитическое существование. Как и генералы из сказки о двух генералах, помещик не имел никакого представления о труде. Оставшись один, он не мог и не захотел трудиться, а наравне со зверями стал вести жизнь лесного хищника. Эта жизнь являлась продолжением его предыдущей жизни. Щедрин здесь снова подчеркивает мысль о том, что русский трудящийся народ является основой государства, он кормит правящие классы, создает их богатства.
Исправник, ругая дикого помещика за глупость, говорит, что без мужицких «податей и повинностей» государство «существовать не может», что без
250
мужиков «на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя» (XVI, 58).
В сказках «Дурак», «Деревенский пожар», «Соседи», «Путем-дорогою» и других Щедрин также показал жестокую классовую борьбу в обществе, основанном на эксплуатации. И Иван Бедный, и крестьянка Татьяна, и «дурак Иванушка», страдающий за всех угнетенных, — все эти люди ясно видят, что существующий строй обеспечивает счастье только богатым.
В сказке «Соседи» в образах Ивана Бедного и Ивана Богатого выведены крестьянин и помещик-либерал. Иван Богатый «сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил... А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но, взамен того, производил ценности». Сатирик говорит, что в классовом обществе так «хитро эта механика устроена», что «который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи со убоиной. С чего бы это?» (XVI, 176, 177). Этот недоуменный вопрос тщетно задают себе Иван Бедный и Иван Богатый. Не смог решить этого противоречия и Набольший (в черновом варианте — «батюшка царь»), к которому обратились два Ивана. Он только призвал их выполнять свое назначение. Щедрин высмеивает в этой сказке и деятельность дворянских либералов, которые, подобно Ивану Богатому, «говорили пространно, рассыпчато и вразумительно», «о пользе общественного и частного почина», учреждали «Общества доброхотной копейки», т. е. издевались над народом. Подлинное решение вопроса о том, почему Иван Бедный терпит извечную нужду и страдания, дает деревенский философ Простофиля: «Оттого, что в планту̀ так значится», — сказал он соседям. — «И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту̀ так значится» (XVI, 181, 182). Замысел этой сказки, как и других сказок Щедрина, именно и состоит в том, чтобы призвать народ к коренному изменению «планта» — несправедливого общественного строя, зиждущегося на эксплуатации. Над вопросом о путях изменения эксплуататорского строя тщетно бьются и Ворон-Челобитчик, и мальчик Сережа из сказки «Рождественская ночь». В поисках правды Ворон обращается ко всем высшим властям своего государства, умоляя их улучшить каторжную воронью жизнь, но в ответ слышит «жестокие слова» о том, что сделать этого они не могут. При существующем строе «кто одолеет, тот и прав», — отвечает Ворону Ястреб. «Посмотри кругом — везде рознь, везде свара», — вторит ему Коршун. Сатирик прямо указывает, кого он подразумевает под воронами: «...вороньё живет обществом, как настоящие мужики...» — говорит Ястреб. — «Со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким-таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось — разве темный человек может это понять?» (XVI, 240, 239).
В ряде сказок сатирик бичует царское чиновничество, грабящее народ. Таковы, например, сказки «Игрушечного дела людишки», «Недреманное око», «Праздный разговор». Мастер Изуверов демонстрирует перед рассказчиком ряд кукол-чиновников. Все эти куклы, несмотря на различный облик, обладают одинаковой сущностью: они грабители и мучители народа. Жестокие куклы-угнетатели стали хозяевами жизни. Такова мысль автора. «Взглянешь кругом: всё-то куклы! везде-то куклы! не есть конца этим куклам! Мучат! тиранят! в отчаянность, в преступление вводят!» (XVI, 128) — с тоской восклицает мастер Изуверов. Царская бюрократия враждебна народу, ее цель — защита прав угнетателей. Эта мысль развивается сатириком в сказке
251
«Недреманное око». Прокурор Куралесыч, герой этой сказки, имел два ока: дреманное и недреманное. «Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки» (XVI, 164). Прокурор этот был занят охранением «основ государства», т. е. искоренял «крамолу», целый день кричал: «...взять его! связать его! замуровать! законопатить!» Но преследуя народ, прокурор оберегал подлинных воров и хищников. Когда ему на них указывали, он возмущался: «Врешь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники! Они своим имуществом спокойно владеют, и все документы у них на лицо. Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтобы принцип собственности подрывать» (XVI, 165, 166). Своими «сказками» Щедрин будил политическое сознание народа, страстно звал к борьбе, к протесту. Так, например, в сказке «Игрушечного дела людишки» чиновника-кровопийцу по прозванию «Гордец» разорвали волки, в сказке «Ворон-Челобитчик» Ворон прямо намекает Ястребу на возможность бунта ворон: «Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы...» (XVI, 238).
Пафосом разоблачения всякого рода антинародных «теорий» пронизаны такие сказки, как «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Здравомысленный заяц» и другие. Премудрый пискарь был «просвещенный, умеренно-либеральный» и жил согласно этой философии. Он не только не решался бороться с миром хищных щук, но даже боялся помыслить о каком-либо столкновении с другими рыбами. Целью его жизни было самосохранение, поэтому пискарь дожил до глубокой старости невредимым. Но какая это была паскудная, бесцельная жизнь! Вся она состояла из непрерывного дрожания за свою шкуру. «Он жил и дрожал — только и всего!». В годы политической реакции особенно злободневно звучала эта сказка Щедрина. Она била по продажным либералам, пресмыкающимся перед правительством из-за собственной шкуры, клеймила обывателей, прятавшихся в своих норах от общественной борьбы. В душу народа глубоко запали страстные слова великого демократа: «Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари» (XVI, 65).
«Верный Трезор» и «Самоотверженный заяц» — герои двух сказок — также воплощают в себе черты рабской покорности обывателя и либерала 80-х годов, напуганных политической реакцией.
Трезор всю жизнь самоотверженно охранял добро хозяина, а когда состарился — его утопили. Здравомыслящий заяц глубоко верит в то, что его назначение быть пищей для волка, поэтому он не протестует, не спасает себя, а хочет растрогать зверя своей честностью. Заяц хочет показать, что он не бунтовщик, «революций не пущал, с оружием в руках не выходил» (XVI, 67).
Прямому разоблачению продажности дворянских и буржуазных либералов сатирик посвятил сказку «Либерал». Здесь сконцентрирована воедино та ненависть к либералам, которую Щедрин выражал во всех своих произведениях. Сатирик раскрыл путь предательства, которым шли либералы.
Либерал начал свою деятельность с того, что требовал «по возможности», затем перешел к вымаливанию «хоть что-нибудь» и, наконец, считая и эту программу крамольной, стал действовать «применительно к подлости».
Таков же примерно и путь Вяленой воблы, которая, активно содействуя реакции, «совершила... чудеса консерватизма» проповедью своей подлой философии: «не растут уши выше лба! не растут!» (XVI, 99, 100).
В сказке «Карась-идеалист» Щедрин вскрывает абстрактный характер учения социалистов-утопистов, которые, не считаясь с непримиримостью классовых противоречий, мечтали о мирном переходе к грядущей общественной
252
гармонии. «Не верю, ...чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию...», — разглагольствовал Карась (XVI, 110). Кончилось дело тем, что его съела щука. В этой сказке сатирик тоже как бы обобщил свой многолетний опыт критики воззрений социалистов-утопистов.
Ряд самых блестящих по мастерству сказок Щедрина посвящен раскрытию антинародного характера самодержавия, показу неизбежной гибели его и всех эксплуататоров. Таковы сказки «Медведь на воеводстве», «Бедный волк», «Орел-меценат», «Богатырь».
Топтыгины из сказки «Медведь на воеводстве», посланные Львом на воеводство, ставили своей целью совершать как можно больше «кровопролитий». И за то постигла их «участь всех пушных зверей»: они были убиты мужиками. Такую же смерть принял и волк из сказки «Бедный волк», который тоже всю жизнь «день и ночь разбойничал». В этой сказке сатирик опять ставит вопрос о непримиримости классовых противоречий в обществе, основанном на эксплуатации. Он вновь и вновь внушает читателю мысль о том, что не могут эксплуататоры создать народу сносной Жизни, как «не может волк, не лишая живота, на свете прожить» (XVI, 71). Только уничтожив несправедливый общественный строй, народ найдет свое счастье.
В сказке «Орел-меценат» дана уничтожающая пародия на самодержавие и охраняющие его классы. Некоторое время орел в силу обстоятельств делал вид, что он любит искусство и науки, но вскоре показал всем свое подлинное хищное лицо: «Просвещение прекратило течение свое». Орел уничтожил соловья, грамотея дятла «нарядили... в кандалы и заточили в дупло навечно», разорил ворон-мужиков. Кончилось тем, что вороны взбунтовались, «инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели», оставив Орла умирать голодной смертью. «Сие да послужит орлам уроком!» — многозначительно заключает сказку сатирик (XVI, 108, 109).
С особой смелостью и прямотой вопрос о гибели самодержавия и о неизбежности революции поставлен Щедриным в сказке «Богатырь». Сказка эта смогла увидеть свет только после Великой Октябрьской социалистической революции. В образе Богатыря сатирик изобразил российское самодержавие, которое обрекло народ своей страны на долгие годы безысходной тяжелой жизни. Только спустя сотни лет «многострадальная и долготерпеливая» страна поняла, наконец, что «богатырь» — гнилой, и Иванушка-народ перешиб кулаком дупло, в котором спал этот мнимый «богатырь».
Царская цензура запретила не только сказку «Богатырь», запрещению и многочисленным переделкам подвергались почти все сказки Щедрина. Об этом свидетельствуют его письма в последние годы жизни. Многие сказки выходили в подпольной печати за границей.
12
В сатирических циклах 70—80-х годов и в «сказках» ярко проявились особенности художественного стиля Щедрина-сатирика, неповторимое своеобразие его языка. Говоря об эзоповском — проклятом эзоповском — языке, «к которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для «„легального“ произведения»,1 Владимир Ильич Ленин имел в виду также и язык любимого им Салтыкова-Щедрина. Сам великий сатирик характеризовал язык своих произведений примерно таким же образом. В сатирической хронике «Недоконченные беседы» он писал:
253
«Создалась особенная рабская манера писать, которая может быть названа Езоповскою» (XV, 340—341). И далее: «...писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Езоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам» («Круглый год», XIII, 267). Всем известно, какую необычайную остроту и идейную глубину содержали в себе сатирические формулы Щедрина, зашифрованные подобным эзоповским языком. Достаточно лишь напомнить те щедринские формулы, которыми так широко пользовался в своих трудах Ленин. Имена почти всех героев, названия многих произведений, вся их сюжетная ткань, огромное количество намеков, ссылок на факты, на события носят в творчестве Щедрина зашифрованный характер, выражены специфическим эзоповским языком. Метафоры и политические формулы Щедрина всегда насыщены глубоким идейным содержанием. Не случайно А. М. Горький как на основное качество Щедрина-сатирика указывал на то, что он «превосходно улавливал политику в быте».1
Щедрин не имел возможности сказать прямо, что вся система управления в царской России порождена несправедливым, эксплуататорским строем, который надо смести до основания. Он не мог заявить открыто, что народ изнывает под игом царизма, а писал о жизни, находящейся «под игом безумия», о том, что «человека, питающегося лебедой», окружает «мрак», из которого необходимо найти выход. Он не мог прямо сказать: «Восстаньте! Сметите с лица земли самодержавие!», а показывал Иванушку (народ), который «ударом кулака» перешиб дупло, где спал «гнилой богатырь» — самодержавие. Вместо того, чтобы говорить о политической ссылке, Щедрин произносил слово «фюить», или «фють!», или называл «места отдаленные», и читателю было ясно. Вместо того, чтобы сказать о войсках, подавлявших восстания, Щедрин говорил, что «послышалось ту-ру-ру», что обывателей «привели к одному знаменателю».
Для шпионов он придумал названия «гороховое пальто», «откровенный ребенок», «человек, читающий в сердцах», «сердцевед». Продажных журналистов он назвал «гиенами», кулаков и капиталистов «чумазыми», «кровопийственных дел мастерами», «мироедами», либералов — «пенкоснимателями», «складными душами», «василисками празднословия», созданную царем террористическую организацию по борьбе с революционерами сатирик окрестил «Обществом частной инициативы спасения». Даже самые фамилии персонажей содержат в себе этот зашифрованный политический смысл, раскрывают классовую сущность капиталистов: Дерунов, Колупаев, Разуваев, Кукишев, Бородавкин, Поганкин, Полушкин, Осьмушников, Кубышкин; помещиков: Гололобов, Утробин, Голозадов, Головлев, Лизоблюд, Погорелов, Проказнин, Затрапезный; продажных журналистов и литераторов: Тряпичкин, Прелестнов, Непомнящий, Подхалимов, Помойкин, Болиголова, Неуважай-Корыто; администраторов и чиновников: Прыщ, Негодяев, Перехват-Залихватский, Органчик, Угрюм-Бурчеев, Удав, Дыба, Бесшабашный, Зубатов, Каверзнев, Монументов, Раскаряка, Крокодилов, Неослабный; названия буржуазных и дворянских газет: «Всероссийская пенкоснимательница», «Помои», «Краса Демидрона», «Куриное эхо», «Литературно-политический нужник», «Чего изволите?».
Такова особенность языка всех произведений Щедрина-сатирика. И замысел большинства произведений Щедрина представляет собой глубочайшее
254
политическое обобщение, зашифрованное всей системой образов, языковыми средствами.
В русской литературе нет писателя, который бы так глубоко знал и так широко представил языковые особенности многообразных правящих, групп России второй половины XIX века, как Щедрин. В этом отношении произведения Щедрина являются ценнейшим историческим документом. Язык персонажей для Щедрина — одно из могучих средств художественной типизации.
Создавая тот или иной образ, Щедрин очень часто даже не рисует внешний портрет, а раскрывает сущность образа через его речь. В этом сказывалась публицистическая манера сатирика. Примером могут служить многие сатирические хроники Щедрина: «Признаки времени», «Письма из провинции», «Дневник провинциала в Петербурге», «Круглый год», «Пестрые письма», «Письма к тетеньке» и другие. Представители эксплуататорских групп даны здесь чрезвычайно ярко, но почти все они раскрывают себя главным образом в речи, а не в действии. Работе над языком сатирик придавал огромное значение.
Черновые варианты его произведений показывают, как тщательно обдумывал и подбирал он то или иное сатирическое определение. Не случайно в письме к Анненкову 18 октября 1880 года Щедрин писал: «Представьте себе, что тут надо каждое слово рассчитать, чтоб оно не представляло диссонанса, чтоб оно было именно то самое, какое следует» (XIX, 175).
Пародирование жаргона эксплуататорских классов закрепляется в памяти читателя значительно сильнее, чем внешняя, хотя бы и яркая характеристика.
Читатель может забыть манеры, внешность и даже поступки пенкоснимателя Менандра Прелестнова из «Дневника провинциала», но он всегда запомнит его пустую либеральную болтовню.
Такими же живыми встают перед нами так называемые ученые «историографы» Неуважай-Корыто и Болиголова, доказывающие происхождение русской песни «Чижик-чижик, где ты был» и «Сказания о Чуриле» от западных образцов. Щедрин дал их портреты не только в самых именах-кличках, но и через пародию на научное исследование, написанную таким языком, каким писали и теперь еще пишут буржуазные псевдоученые.
Специфичен язык молодых хищников, готовящихся стать помпадурами в сатирической хронике «Господа ташкентцы». Их жаргон носит особый характер: Сережа Проказнин, Мангушев, Ольга Персиянова, ее сын разговаривают не на русском языке, а на какой-то полубессмысленной смеси русского с французским. На французский они переходят именно тогда, когда надо сказать какую-нибудь пакость. Этот прием применял Щедрин и в других произведениях. Например, в очерке «Семейное счастье» Митенька упрекает мать-помещицу в том, что она, начиная говорить пошлость, переходит на французский язык.
Щедрин, как никто другой, умеет раскрыть сущность персонажей одним выражением. «Иён достанит!» — говорит Разуваев об ограбленном мужике, и в этих двух словах весь Разуваев, точно так же, как сущность градоначальника-помпадура Брудастого «исчерпывается двумя романсами»: «Разорю!» и «Не потерплю!».
Щедрин — непревзойденный мастер сатирического эпитета. Его эпитет необычайно разнообразен, политически заострен и строится в зависимости от отношения автора к тем или иным явлениям. При описании среды, симпатичной автору, он пользуется мягким юмором, при изображении же типов,
255
классово враждебных народу, Щедрин пускает в ход разящее насмерть оружие политической сатиры.
Каждая социальная группа характеризуется у Щедрина рядом определенных сатирических эпитетов, часто переходящих из произведения в произведение.1
Неожиданный сатирический эффект получается у Щедрина особенно тогда, когда он комбинирует слова сугубо бытовые с официальными или книжными: «нравственные подзатыльники», «казенный пирог» и т. д. Очень многие эпитеты Щедрина благодаря своей меткости вошли в народную речь.
Особенно в сказках Щедрин проявил себя величайшим мастером эзоповского языка.
Сатирик прекрасно знал, что народ, читая, например, в сказке «Орел-меценат» о том, что «орлы хищны, плотоядны», что они «живут... всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают» (XVI, 102, 103), поймет, что речь идет об «орлах», правящих страной; что Топтыгин, посланный «внутренних супостатов усмирять», олицетворяет собой самодержавие, борющееся с революционерами; что «заточили в дупло дятла» — значит посадили в тюрьму человека, неугодного самодержавию, и т. д.
Язык его сказок глубоко народен, близок к русскому фольклору. Сатирик использует традиционные сказочные приемы: «в некотором царстве, в некотором государстве», «жил-был», «мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало», «долго ли коротко ли», «бежит — земля дрожит»; сказочные образы: баба-Яга, Иванушка-дурачок, дреманное и недреманное око и другие. В изобилии использует он народные пословицы, поговорки и присказки как в сказках, так и в других своих произведениях: «не давши слова крепись, а давши — держись!», «двух смертей не бывать, одной не миновать», «уши выше лба не растут», «моя изба с краю», «простота хуже воровства», «живет богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись» и т. д. Речь героев сказок необычайно индивидуализирована, рисует конкретный социальный тип. Возьмем хотя бы властный, грубый язык орла из сказки «Орел-меценат», прекраснодушную болтовню карася-идеалиста, человеконенавистническую «охранительную» философию Воблушки, чириканье беспутной канарейки, елейную, лицемерную речь попа из сказки «Деревенский пожар». Совсем по-иному выглядит речь героев сказок Щедрина, олицетворяющих собой трудящийся народ. Она проста, естественна, умна, колоритна. «А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор. — И я тоже не однова́ спрашивал у людей; где, мол, Правда, где ее отыскать? А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана. — Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили, — пошутил Федор. — Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила» (XVI, 215). Так разговаривают между собой крестьяне из сказки «Путем-дорогою».
В глубоко лирической сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым» Щедрин, непосредственно обращаясь к читателю, высказывает ему свои самые сокровенные мысли относительно невыносимо тяжелой политической обстановки, в которой он жил последние годы. Сатирик жалуется, что «запечатали душу», зажали рот, что, посвятив свою жизнь служению народу, он остался всё же одиноким. «Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался?..
256
Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным... Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие» (XVI, 230).
Так в конце своей жизни великий писатель-демократ пришел к прямому признанию необходимости непосредственного личного участия в революционной борьбе, необходимости организационной связи с людьми, ведущими эту борьбу.
13
Восьмидесятые годы в жизни России были годами безудержной политической реакции и вместе с тем периодом вызревания революционной мысли. Оживление крепостнических отношений в хозяйственной и политической жизни сказалось особенно сильно сразу же после вступления на престол Александра III. Для крестьян наступил новый период одновременно и «крепостнического», и «чумазовского» мучительства, сопровождаемый наглыми и циничными разговорами об облегчении участи мужика. В статье «К вопросу об аграрной политике современного правительства» Ленин, говоря о политике Николая II, указывает на ее истоки в 80-х годах, на «линию Каткова и Победоносцева», на их попытку представить в глазах народных масс самодержавие «стоящим над классами», «охраняющим интересы широкой массы крестьян, оберегающим их от обезземеления и разорения», и заключает: «Разумеется, эта лицемерная „забота“ о мужике на деле прикрывала чисто крепостническую политику, которую названные „деятели“ старой, дореволюционной России проводили с тупоумной прямолинейностью во всех областях общественной и государственной жизни. Самодержавие всецело полагалось тогда на полную отсталость, темноту и бессознательность крестьянской массы. Выставляя себя защитником „неотчуждаемости“ наделов, сторонником „общины“, самодержавие в дореволюционную эпоху пыталось опереться на экономическую неподвижность России, на глубокий политический сон масс крестьянского населения. Вся земельная политика была тогда насквозь крепостнически-дворянской».1 Более подробную характеристику этой эпохи 80-х годов как крепостнической дает Ленин в целом ряде статей. Характеризуя общественный строй России периода 1905 года, В. И. Ленин писал: «Политический строй России за это время был тоже насквозь пропитан крепостничеством».2
Вопрос о крепостнических основах пореформенной России широко ставился Щедриным в «Господах ташкентцах», «Благонамеренных речах», в «Господах Головлевых».
Процессы, происходившие в крепостнической России, гениально и прозорливо осмысливаются сатириком и в произведениях 80-х годов.
Крепостники характеризуются им теперь чертами, во многом присущими классу эксплуататоров в целом, свойственными развитию общественной и экономической жизни в России и буржуазной Европе. Яркую картину этого сходства рисует Щедрин в художественной хронике «За рубежом» и других произведениях. Реакция 80-х годов раскрывается Щедриным всесторонне, во всех ее внешних и внутренних проявлениях. Он ясно видит, какую цель преследуют многообразные представители одного и того же правящего класса — крепостников-дворян. «Спрашивается какие идеалы могут волновать души этих людей? Очевидно, идеалы крепостного права. Какие воспоминания могут освещать их постылые существования? — очевидно,
257
воспоминания о крепостном праве. При нем они были сыты и, вдобавок, пользовались ручным боем. Сытость представляла право естественное, ручной бой — право формальное, означавшее принадлежность к дирижирующему классу», — говорит сатирик в «Письмах к тетеньке» (XIV, 365), характеризуя оживление разорившихся дворян-реформаторов. Точно так же характеризует он и земских дворянских деятелей: «По наружному осмотру и по первоначальным диалогам каждый из них — парень хоть куда, а как заглянешь к нему в душу... — ан там КРЕПОСТНОЕ ПРАВО засело» (XIV, 364). И, наконец, далее в этом же произведении Щедрин уже прямо и подробно высказывает опасения, которые заставляли его бороться с оживлением крепостнических отношений в стране: «Словом сказать, сто̀ит только оплошать — и крепостное право вновь осенит нас крылом своим» (XIV, 372).
Теме крепостничества посвящено последнее произведение Щедрина — семейная хроника «Пошехонская старина».
Так же, как и «Господа Головлевы», «Пошехонская старина» сложилась не сразу. Многие произведения послужили материалом для подготовки этой хроники. В несколько измененном виде в «Пошехонской старине» использованы рассказы и отдельные образы ранних циклов: например, из «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов» («Госпожа Падейкина» и другие). Из более поздних произведений в прямой связи с ней стоят «Пошехонские рассказы». Но ближе всего «Пошехонская старина», разумеется, к «Господам Головлевым». В сущности говоря, это — одна картина, разделенная на две друг друга поясняющих и продолжающих части, которые связаны образами и общей целевой установкой. Даже больше того, «Господа Головлевы» могли быть написаны только тогда, когда у автора было уже четкое и полное представление о прошлом «Пошехонья», т. е. рабской, крепостнической России помещиков и крестьян. На этой базе «пошехонья» и строилась история семьи Головлевых, показ ее нравственного и физического распада. Как бы предполагая создать отдельное произведение, посвященное эпохе крепостничества, Щедрин сознательно исключил из «Господ Головлевых» подробности крепостнического быта, воспитания поколения крепостников, их взаимоотношения с крестьянами, говоря об этом, как о разумеющемся само собой. В «Пошехонской старине» — «лебединой песне» великого сатирика — перед нами раскрываются самые основы крепостнического, российского «пошехонья», этой колыбели всякой реакции, человеконенавистничества, а также отсталости, забитости народной. Если «Господа Головлевы» на примере распада крепостнического общества показали неизбежность распада и разложения всякого эксплуататорского общества, лживость всех его принципов и понятий, то «Пошехонская старина» дала поразительно яркую картину формирования этой психологии крепостников-реакционеров — кадров будущей контрреволюции, врагов прогрессивного человечества, показала самое становление лживых принципов эксплуататорского общества не только в сознании господствующего класса, но и класса угнетенного. В этом огромное значение «Пошехонской старины», этим она интересна и для нас, и для будущих поколений передового человечества.
Вся дореволюционная критика рассматривала «Пошехонскую старину» только как экскурсию в прошлое, как правдивую картину крепостного быта 30-х годов. Для многих это произведение до последнего времени продолжало оставаться только протестом против крепостничества, только суровой «картиной крепостного быта». А между тем нельзя понять всей глубины революционного демократизма Щедрина без правильного понимания этого произведения. Ограничивая столь тесными рамками его значение, мы тем самым
258
суживаем революционное мировоззрение великого сатирика-демократа. Никогда Щедрин не мог быть и не был только регистратором происходивших событий, и тем более никогда он не стал бы тратить время на то, чтобы лишний раз напомнить читателю о прошлом, подобрать общеизвестные факты, повторить общеизвестные истины. Крепостное право было злом — эту истину в 80-е годы массовому читателю уже не нужно было доказывать. И уж, конечно, не ее собирался доказывать Щедрин в «Пошехонской старине». Об этом он говорит сам в черновом варианте вступления к «Пошехонской старине»: «Не вижу так же надобности говорить о тех „реальностях“, которые были крепостному праву присущи, и которые даже теперь мечутся перед глазами как живые. Всё это было в свое время описано и, следовательно, в настоящем случае представляло бы не интерес, а надоедливую вариацию».1 Не воспроизведение быта и нравов крепостной России, а гораздо более широкую задачу ставил перед собой сатирик в «Пошехонской старине». Все произведения последнего, самого зрелого десятилетия подготовляли это великое произведение, вскрывающее основы крепостничества и эксплуатации. Рисуя жуткие картины крепостнического «рая», по которому тосковали в 80-е годы обнаглевшие полчища крепостников-реакционеров и который в замаскированном виде всё же существовал, Щедрин призывал всё живое и мыслящее на борьбу с различными методами и формами закабаления масс. Одна основная мысль, одна великая забота движет рукой умирающего сатирика — это мысль о будущем народа, тревога за его судьбу, тревога за те светлые проблески, за те «подземные ключи» революции, которые собираются похоронить человеконенавистники при самом их зарождении. Поэтому центральной главой «Пошехонской старины» безусловно надо считать главу «Дети». Вокруг нее и для иллюстрации ее располагается весь остальной бытовой и публицистический материал романа-хроники. Не случайно глава эта перенесла столько цензурных мытарств и лишь позднее была включена Щедриным в «Пошехонскую старину». В черновом неопубликованном втором варианте главы «Дети» Щедрин говорит: «Сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей. Я, впрочем, не стану пускаться в отвлеченности. Не скажу, например, что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что разрешение его неразрывно связано с грядущими судьбами страны».2 Эти строки могут быть эпиграфом ко всему произведению. Они предельно ясно раскрывают основной замысел сатирика. В сущности всё огромное полотно щедринского романа-хроники посвящено проблеме воспитания и формирования нового поколения. И об этом формировании в условиях эксплуатации и крепостничества повествует некий Никанор Затрапезный, сам испытавший на себе все губительные влияния эксплуататорской среды. Выводы, которые делает Затрапезный из этого повествования, являются итогом всей жизни писателя-демократа. Главу «Дети. — По поводу предыдущего» <т. е. по поводу общей характеристики крепостного быта, — М. Г.> — Щедрин начинает с того, что защищает свое право делать «обобщения и отвлеченности», т. е. выводы из этих бытовых картин. Обобщения необходимы в жизни мыслящего человека. «...я верил и теперь верю в их живоносную силу; я всегда был убежден и теперь не потерял убеждения, что только с их помощью человеческая жизнь может получить правильные и прочные устои. Формулированию этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа»
259
(XVII, 99). Таким образом, Щедрин прямо и неприкрыто призывает читателя не относиться к его произведению как к сумме бытовых фактов, а видеть в их закономерности нечто более глубокое, исследовать их идейную основу, их последствия. Щедрин протестует против общепринятой, фальшивой педагогики, загораживающей от детей действительный мир со всеми его страданиями и борьбой. Оброшенность и приниженность отравляют существование не только детей низших классов, они являются зачастую и уделом детей классов обеспеченных, ибо в эксплуататорском обществе свободная и действенная натура человека с детства отравляется ядом холопства, пассивности и подчинения. У угнетенных классов это — насильственное, жестокое принижение, постоянно видоизменяющее самую натуру человека, у господствующих — воспитание в ребенке холопа перед более сильными, раба светских законов и привычек, раба своей собственности. Даже самые сильные и властные натуры крепостников, идеализированные сочувствующими им писателями, и те, как и Иудушка, как и всё крепостническое общество, — рабы созданных ими порядков, рабы собственности. Вспоминая «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова внука» Аксакова, Щедрин говорит: «...поскоблите немного и самого старика Багрова, и вы убедитесь, что это совсем не такой самостоятельный человек, каким он кажется с первого взгляда. Напротив, на всех его намерениях и поступках лежит покров фаталистической зависимости, и весь он с головы до пяток не более, как игралище, беспрекословно подчиняющееся указаниям крепостных порядков» (XVII, 353). Фатализм рабства, разъедающий натуру ребенка, формирующий из него бессловесного раба или раба человеконенавистника, сильнее воли индивидуума. Он создан отношениями, господствующими в обществе, его корни кроются в «неправильности и шаткости устоев, на которых зиждется общественный строй» (XVII, 101).
Огромное историческое значение «Пошехонской старины» еще в том, что она, раскрывая корни крепостнических отношений, дает широкую бытовую картину собирания активных сил крепостнической реакции, а также пробуждение сознания забитого, угнетенного мужицкого пошехонья. Щедрин здесь ставит вопрос о последствиях эксплуататорских отношений не только для господствующих классов, но и для народа. Сатирик в «Пошехонской старине» призывает к искоренению этих отношений, к подавлению всякой реакции во имя будущего, во имя воспитания нового революционного поколения. В той же главе «Дети» Щедрин с грустью говорит о торжестве реакции, указывает на борьбу с ней, как на единственный выход для всякого сознательного человека.
В атмосфере паники и предательства, отчаяния и пессимизма дворянской и буржуазной интеллигенции голос великого сатирика-демократа звучал призывом к действенной революционной ненависти. Он напоминал о светлом пути человечества, о революционных идеалах, о необходимости разбудить массы, веруя, что «борьба настоящего неизбежно откликнется в тех глубинах, в которых таятся будущие судьбы человечества, и заронит в них плодотворное семя. Не все лучи света погибнут в перипетиях борьбы, но часть их прорежет мрак и даст исходную точку для грядущего обновления. Эта мысль заставляет усиленнее биться сердца поборников правды и укрепляет силы, необходимые для совершения подвига» (XVII, 103).
Посвящая остальные главы семейной хроники конкретному показу крепостнического прошлого, Щедрин ни на минуту не забывает о связи этого прошлого с крепостническим настоящим и будущим, о той задаче, которую преследует зарисовка этих мрачных картин. О чем бы он ни говорил: о жизни помещиков, о мытарствах крепостных, о воспитании детей — везде
260
мысль о влиянии эксплуататорских отношений на современность, о их живучести, о гибельных последствиях, которые налагают эти отношения на облик народа, на будущее, не оставляет сатирика. Этим объясняется и обилие публицистических отступлений в хронике.
Книга делится как бы на две половины: первую — рисующую образы помещиков, и вторую — образы крестьян, почти исключительно дворовых. Характеристика помещиков и их быта в большинстве случаев доведена вплоть до самой реформы 1861 года. Это было важно для сатирика, так как реформа показала степень жизнеспособности различных групп крепостников и дальнейшие пути и формы их деятельности. Щедрин рисует самую гущу дворянства — среднепоместных и мелкопоместных, т. е. основную невежественную и жестокую массу российского пошехонья. В центре стоит семья Затрапезных, члены которой под другими именами знакомы нам уже по «Господам Головлевым». Совпадает не только обрисовка характеров, но и описание многих семейных сцен, разговоров. Анна Павловна Затрапезная — это в сущности та же Арина Петровна Головлева, властная барыня, созидательница крупного состояния. Часто сходство бывает почти буквальным (например, ее жалобы сыновьям на хлопоты и угроза уйти в монастырь, многие бытовые мелочи, приметы и т. п.). История ее замужества и общий облик ее мужа те же, что и у Арины Петровны. В образах детей мы угадываем взрослых Головлевых. Любимчик и ябеда Гриша имеет все задатки Иудушки-Порфиши — «откровенного мальчика». Сестра Надеха несомненно сбежала бы с любым подвернувшимся корнетом, как это сделала дочь Арины Петровны Головлевой, если бы ее во-время не устроили. Тот же и строй бытовой жизни Затрапезных. Но здесь на примере этой семьи рисуется детальный и глубокий процесс формирования очередного поколения крепостников, картина того, как закладываются тлетворные семена разложения и паразитизма. Вечно полуголодные, униженные дети воспитывались в среде, где все интересы вращались «около средств наживы и сопряженных с нею разнообразнейших форм объегоривания» (XVII, 58). Главы, описывающие физическое и нравственное воспитание детей в семье Затрапезных и ежедневный быт этой семьи, полемичны по отношению к дворянским семейным хроникам. И писатель не скрывает этого; «...Мне было уже за тридцать лет, когда я прочитал „Детские годы Багрова внука“ и, признаюсь откровенно, прочитал почти с завистью» (XVII, 63—64). Как не походил обитатель крепостнического пошехонья у Щедрина на героев дворянских гнезд, нарисованных в предшествующих семейных хрониках! Разных по своему характеру представителей помещичьей среды производила одна и та же крепостническая почва: самоотверженных фанатиков накопления, бездельников и чудаков, бесчеловечных по своей жестокости собственников-истязателей. К этому надо еще прибавить добродушных обжор и сластолюбцев, представителями которых являются предводитель Струнников с женой и тетенька Сластена с внучкой, беспомощных приживалок, как тетеньки-сестрицы, пустословных либералов, как Перхунов, тупых и убежденных консерваторов, как Метальников, лишних людей, как Валентин Бурмакин. Скульптурную выразительность этих портретов можно сравнить лишь с выразительностью образов Гоголя, школу которого прошел Щедрин. Образы помещиков в «Пошехонской старине» выглядят как реальная, бытующая масса. И страшны они именно этой своей мелочной обыденностью и простотой.
Рисуя образы многочисленных категорий крепостников, Щедрин тем самым намечал и дальнейшие пути деятельности этих людей, намекая на те возможные формы, в которых будут проявлять себя представители той или
261
иной группы. Читатель уже сразу может догадаться, что Анна Павловна — этот «министер» сумеет приспособиться к реформе не хуже мироеда Ермолаева, что Гриша — «откровенный мальчик» далеко пойдет по пути кровопийства, а Степка-балбес обречен на голодное умирание, что потомки Анфисы Порфирьевны, если бы они были, превратились бы в пореформенных человеконенавистников дракиных и хлобыстовских, что Григорий, брат Анны Павловны, — Иудушка, еще более активный и страшный, чем Головлев, что Струнников кончит жизнь лизоблюдом и лакеем, а Бурмакин будет странствовать по свету. Но всех этих людей, взращенных одной почвой крепостничества, объединяют общие черты: паразитичность, неспособность к настоящему полезному делу, отсутствие подлинных человеческих, нравственных принципов и главное — глубокая реакционность. Даже Бурмакин выглядит только жалким простаком. Щедрин попутно переоценивает здесь образ «лишнего» человека. Бурмакин, несмотря на весь свой идеализм, в делах практических полагается всецело на традиционные мудрые порядки крепостничества, не решаясь заменить барщину оброком для своих крестьян. Таким образом, единственный культурный человек пошехонского захолустья — и тот не является двигающей силой, а лишь жалким посмешищем пошехонцев, человеком, всеми традициями связанным с прошлым. А «байроническая» натура Клещевинов — и вовсе жулик. О культуре дворянских гнезд нельзя даже говорить. Подлинное лицо дворянского гнезда и даже так называемого «света» было мрачным: отсутствие серьезных интересов и духовных запросов, нравственная нечистоплотность, отсутствие всякого представления о государстве и общественных идеалах. Разве могли быть опорой государства люди, не имеющие понятия о его задачах? «Во всяком случае, — говорит сатирик, — при таком смутном представлении об отечестве не могло быть и речи об общественном деле» (XVII, 351). Поэтому масса дворянства, хотя и приняла сначала с испугом реформу, но потом совершенно успокоилась, не без основания полагая, что всё пойдет по-старому, изменятся лишь формы отношений, а не их существо. Правда, крепостное право, а с ним и прежнее «пошехонское раздолье», как говорит сатирик, «заколотили в гроб и снесли на погост, а какое иное право и какое иное раздолье выросли на этой общей могиле — это вопрос особый. Говорят, однако ж, выросло нечто не особенно важное» (XVII, 39). Это «нечто не особенно важное» по существу мало чем отличалось от крепостного раздолья. Все, в ком было сильно чувство собственности, кто не обладал легкомыслием Струнникова, нашли свое место, так же как нашел его и Иудушка, который тоже спокойно перенес реформу. Поэтому Щедрин с таким сарказмом показал комедию «освобождения» крестьян. Ее в пьяном виде проводили обжоры струнниковы, либералы перхуновы, исправники метальниковы.
Таково избранное дворянское общество, «опора царя и отечества», таковы представители прославленной дворянской культуры. Но значение этой великой исторической хроники крепостничества отнюдь не исчерпывается раскрытием подлинной сущности класса крепостников и процесса его формирования. Вторая и, пожалуй, самая важная задача сатирика в этой хронике — глубокое раскрытие пагубного воздействия крепостничества на те или иные слои народа.
Большинство образов крепостных, фигурирующих в «Пошехонской старине», — дворовые. Это не случайно. Щедрин сосредоточил свое внимание на дворовых совсем не потому, что он плохо знал крестьян, работающих на земле, а потому, что дворовые сильнее остальных испытывали на себе пагубное влияние законов крепостничества. Перед глазами читателя проходят
262
люди различного нравственного облика, нарисованные с огромной любовью, теплотой и впечатляемостью.
Ключница Акулина, преданная раба, советчица барыни и доносчица. Она не за страх, а за совесть несет службу. Мысли барыни стали ее мыслями. Это тип верной рабыни, цель жизни которой — служение господам. Именно о воскрешении таких рабов и мечтал Иудушка. Такой же убежденный раб, только более умный и своеобразный, — староста Федот. Это тип подлинно делового, сильного человека из крестьян, но погубленного крепостничеством. Он убежденный слуга и не представляет себе другого положения. Умирая, он страдает о хозяйском добре, и последнее его слово: «молотьба», которая в это время еще не закончилась на барском гумне.
Таков же в сущности и лакей Конон. Но от первых двух рабов он отличается тем, что вообще не имеет никакого убеждения, никакой цели и почти никаких желаний в жизни. Это вконец обезличенный и забитый человек, для которого жизнь — цепь механических дел и мыслей. В нем, говорит Щедрин, крепостная масса «нашла полное олицетворение своего сокровенного миросозерцания» (XVII, 306). Это рабское миросозерцание долгими годами вколачивалось в головы крепостной массы и настолько твердо в конце концов было усвоено, что у некоторых почти вытеснило подлинное человеческое сознание. «Факты представлялись его уму бесповоротными, и причина появления их в той или другой форме, с тем или иным содержанием, никогда не пробуждала его любознательности», — говорит автор о Кононе (XVII, 307).
Конон — олицетворение одновременно и мужицкого, и помещичьего пошехонья, которое тоже находилось всецело в фатальной рабской зависимости от созданного ими строя. Если Иудушка жил в бредовом фантастическом мире, то для Конона «вся его жизнь представляла собой как бы непрерывное и притом бессвязное сновидение. Даже, когда он настоящим манером спал, то видел сны, соответствующие его должности. Либо печку топит, либо за стулом у старого барина, во время обеда, стоит с тарелкой под мышкой, либо комнату метет» (XVII, 307).
Интересно вспомнить грезы Иудушки, его сны, также повторяющие действительность, в которой он жил. Но еще более дословно совпадает с характеристикой Конона характеристика Павла Головлева. О нем говорится: «Может быть он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и неглуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого, никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слыхали, чтоб кто-нибудь сказал: как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев» (XII, 46). Почти так же выглядит лакей Конон из «Пошехонской старины».
Так отупляло, обезличивало крепостное право и господ, и слуг. Так создавались кадры помещичьего и мужицкого пошехонья, надолго определившие судьбу России, особенности ее дальнейшего развития и те трудности, которые приходилось впоследствии преодолевать растущему революционному движению.
Гоголь грустил, видя рабское мужицкое пошехонье, но Гоголь не чувствовал реальной протестующей силы в крепостном мужике, поэтому так безличны его дяди миняи, петрушки и селифаны. Щедрин болеет сердцем за обездоленного мужика, он беспощадно бичует его рабское обличье, но в глубине души верит в него, чувствует в нем те «подземные ключи» великой
263
революционной силы, которые со временем выйдут наружу и преобразят лицо России. И в этом он видел залог того, что «человеческое» всё же никогда не погибнет «под пеплом гиенского». «Человеческое» зажигает в сердцах угнетенных ненависть к угнетателям. Во имя его крепостные убивают Анфису Порфирьевну и Пса Антоновича — жестоких истязателей.
Образам Акулины, Федота, Конона, покорного живописца Павла в «Пошехонской старине» противостоят образы Мавруши-Новоторки, Ваньки-Каина, Сатира-скитальца, Аннушки, Сережки-портного, Бессчастной Матренки. Правда, Аннушка покоряется рабству, но считает это злом, против которого она бессильна бороться, кроме того, она видит в этом путь к искуплению всех мирских грехов. Аннушка мечтает о переходе в справедливый мир.
При этом, по ее представлению, это будет мир высшего, священного рабства перед богом, но зато там не будет места господам, истязавшим ее на земле. Там будут только мученики, покоряющиеся одному высшему закону, а мучители будут гореть в вечном огне. «„Повинуйтесь! повинуйтесь! повинуйтесь! причастницами света небесного будете!“ — твердила она беспрестанно и приводила примеры из евангелия и жития святых» (XVII, 281). Эта философия непротивленства, конечно, не могла способствовать борьбе в настоящем, наоборот, она даже направлена против этой борьбы. Но всё же Аннушке присуще сомнение относительно святости отношений, созданных господами, относительно их права на власть.
Таким образом, рабство хотя давило сознание массы, но не пресекло ее стремлений к светлому будущему. Оно только наложило печать обреченности, бессилия на ее волю, но тоска по другой жизни никогда не умирала в народе. Это особенно ярко иллюстрирует Щедрин образом Сатира-скитальца. Сатир является как бы теоретиком этой протестующей массы. Он тоже живет верой в будущую загробную жизнь, и потому всю свою земную жизнь посвящает служению богу, чтению церковных книг, странствованиям по святым местам, сбору денег на колокол. Но его стремление к богу связано с отрицанием рабства, не с утверждением его, как у Аннушки. Он инстинктивно и глубоко возненавидел жизнь, которой жили крепостные. Поэтому уже в ранней молодости он убежал из имения и через три года вернулся с деньгами на колокол для крепостной церкви. Все уговоры и брань господ он принимал беспрекословно, но наотрез отказывался выполнять какую-либо крепостную работу и вскоре опять скрылся на неопределенное время. И до самой смерти Сатир оставался таким же закрепощенным внешне, но свободным внутренне. Чувствуя приближение смерти, он мучается оттого, что умирает рабом: «Кругом нас неволя окружила, клещами сжала. Райские двери навеки перед нами закрыла» (XVII, 328).
За свободу, за свое человеческое достоинство борется наиболее многочисленная группа крепостных: Мавруша-Новоторка, Ванька-Каин, Сережка-портной, Матренка Бессчастная. Это подлинные живые люди, остро ощущающие весь ужас крепостных отношений, всю несправедливость существующего строя, люди, униженные в самых своих лучших чувствах. Все они непримиримо враждебны современному им крепостническому бытию. Они хотят жить, и это естественное желание ставит их в непримиримое отношение с помещичьей властью. Самая сознательная и самая мыслящая из них — Мавруша-Новоторка, бывшая когда-то вольной и вышедшая замуж за крепостного живописца Павла. С первых дней приезда в поместье Мавруша становится во враждебные отношения с барыней. Мавруше ненавистно всякое угнетение. Закрепостившись ради любимого человека, она очень скоро осознает весь трагизм своего положения. Отныне все ее помыслы сосредоточиваются
264
на желании разорвать эти страшные цепи. Любовь к мужу бледнеет и наконец переходит в ненависть, когда она видит, что Павел является только слепым орудием в руках барыни. И хотя ей удалось в конце концов сломить упорство барыни — жизнь ее разбита. Остается один выход — смерть. И Мавруша кончает с собой. Она умерла непобежденной. Глубокая человеческая трагедия звучит в этом маленьком рассказе о Мавруше-Новоторке.
Таков же и конец Матренки Бессчастной, которую в наказание за беременность барыня собирается выдать замуж за мальчика «гаденка». Не найдя других средств борьбы, Матренка кончает с собой. Протест других крепостных — Ваньки-Каина и Сережки-портного — выражается в иных, более открытых и резких формах. В отличие от Сатира и Мавруши, у них нет твердой принципиальной линии поведения, нет той убежденности, которая заставила бы отступить господина. Оба они мастеровые, отпущенные в город по оброку. Оба перенесли кошмарные годы учения, один — у цирульника, другой — у портного. Оба рано искалечены и развращены пьяной и нищенской средой. Но вольная среда мастеровых научила их и другому — презрению к подневольной жизни, неуважению ко всем законам крепостничества. Поэтому, приезжая по этапу в деревню, они прежде всего поражают барыню невиданной ею дотоле смелостью, даже совершенным бесстрашием своего поведения и полнейшим неуважением к ее власти. Ванька-Каин почти до истерики доводит строгую барыню своими насмешками и балагурством. Впервые за всё время барыне приходят в голову тревожные мысли относительно извечной покорности своих рабов.
Ванька идет не только против барыни, но и против Аннушкиной философии непротивления. Но он не пытается предпринимать что-либо серьезное для ограждения своей участи от барского произвола. Он не знает других средств борьбы, кроме откровенной издевки и ничегонеделания. Поэтому судьба его решается, как и следовало ожидать, трагически: Ваньку сдают в солдаты.
Такова же судьба Сережки-портного. Испытав с самых юных лет всю тяжесть ученичества: голод, побои, издевательства мастеров и подмастерьев, Сережка приучается пить и воровать. Но скоро из одного ада он попадает в другой: барыня приказывает его изловить и отдать в солдаты. Там его ждет судьба Ваньки-Каина.
Значение этих двух образов еще и в том, что в них Щедрин воплощает не только типические черты судьбы крепостного, но и судьбы любого мастерового, судьбу огромной массы рабочих царской России. Рассказами о тяжелых мытарствах этих мастеровых Щедрин сближает себя со многими писателями-шестидесятниками.
Речь крепостных из «Пошехонской старины» сатириком превосходно индивидуализирована. Ванька-Каин разговаривает с барыней ухарским, пересыпанным прибаутками и анекдотами языком гуляки-мастерового: «мерси-бонжур», «что за оплеуха, если не достала уха!», «очень вам за ласку благодарен», «не доходя прошедши». Это смесь народного языка с нарочито пародированным господским жаргоном.
Другая речь у Ваньки, когда он обращается к людям, близким ему: «А вам, тетенька, хочется, видно, поговорить, как от господ плюхи с благодарностью следует принимать? ... так, по моему, этим добром и без того все здесь по горло сыты!» (XVII, 305). Щедрин насыщал свою речь и речь простых людей пословицами, поговорками. Пародируя жаргоны эксплуататорских групп, он строил речь рассказчика на основе подлинно народного языка.
265
14
Будучи писателем-новатором, Щедрин большое внимание уделял вопросам эстетики, теоретического обоснования нового этапа в развитии русской литературы. Он опирался при этом на эстетику Белинского, Чернышевского, Добролюбова.
Уже в 60-е годы раскрывается еще одна сторона щедринского творчества: его громадное дарование литературного критика. Собственно склонность к литературно-критической работе проявилась в нем раньше. Она была в какой-то мере родственна его сатирическому гению. Мы знаем, что еще в самом начале своей деятельности он печатался как рецензент, а по возобновлению ее выступил в «Русском вестнике» со статьей о Кольцове. Но систематически в области критики Щедрин выступает позже. Изучение этой стороны творчества сатирика заполнило в известной мере пробел в наших представлениях о революционно-демократической критике, о новом этапе ее после Чернышевского и Добролюбова.
Новый этап определялся переходом революционной демократии от нападения к обороне в результате усилившейся правительственной реакции и предательства либералов. Этот переход отмечен обострением классовых противоречий и соответственно этому страстным противопоставлением демократической культуры (литературы) дворянской, а затем и буржуазно-дворянской. Щедрин лучше других понял и блистательно выполнял задачи, поставленные перед критикой новой эпохи. Интерес к вопросам литературы, ее содержанию, форме, методу у Щедрина настолько велик, что его труд литературного критика не ограничивается статьями и рецензиями на специальные литературные темы: его публицистика полна высказываний о литературе, его художественные произведения включают замечательные мысли о ней.
В своих общественных хрониках, статьях и рецензиях в «Современнике» 1863—1864 годов Щедрин выразил то отношение к дворянской культуре, которое характерно для революционной демократии в эти годы ожесточенной классовой борьбы. В высказываниях о Фете, Майкове, А. Толстом, К. Павловой он борется с «искусством для искусства», с «мотыльковой поэзией», срывая с нее маску незаинтересованности в земных делах и разоблачая ее антинародный характер. Политическая направленность критических работ Щедрина той поры ярко выразилась в анализе связи либеральной и реакционной идеологии, поскольку их единство сказывалось в литературе. В критике Щедрина многое заострено и преувеличено, но это было неизбежно, когда некоторые талантливейшие писатели (например, Тургенев, Гончаров, Писемский), во многом разделяя идеологию либерализма, иногда помогали реакции дискредитировать революционную демократию. Беспощадно разоблачает Щедрин и крепостническую «эстетику».
Участием Щедрина в некрасовских «Отечественных записках» начинается второй период его критической деятельности. Здесь надо прежде всего отметить поистине программную статью «Напрасные опасения» (1868). На первый план выступают в ней задачи разночинно-демократической литературы как отражения новой силы в революционном движении, вопрос о целесообразном направлении этой литературы в интересах революции.
Рассматривая произведения демократических писателей — Решетникова, Омулевского, Мордовцева, Шеллера-Михайлова и других, Щедрин ставит перед ними новые задачи, из которых одной из наиболее важных является создание образа положительного героя — труженика-демократа.
Утверждая новое направление литературы, Щедрин призывает к полному овладению художественной культурой прошлого, предупреждает
266
против дидактизма, против голой тенденциозности. Литература, учил Щедрин, не может безнаказанно чуждаться интимной жизни человека, столь великолепно изображенной в литературе предшествующего периода, но должна раскрыть ее на новой основе. И Щедрин в своей критике демократической литературы борется за новое соотношение основных мотивов реалистического творчества: за преобладание общественного над частным, за расширение личного до общественного, за гармоническое сочетание того и другого. Тем самым он требует усложнения индивидуально-психологической мотивировки мотивировкой социальной и соответственно этому перестройки жанров: семейно-бытового романа в социальный, основанный на правильном, сознательном понимании общественной жизни.
Наряду с заботой о развитии демократической литературы в критической работе Щедрина второго периода продолжает занимать важное место борьба с реакционной литературой, с антинигилистическим романом. Значительную роль сыграла борьба Щедрина с Достоевским, полемика с которым ведет свое начало еще с «Современника» 1863 года, где Щедрин выступил против журналов Достоевского «Время» и «Эпоха» и с разоблачением реакционно-индивидуалистической сущности «Записок из подполья».
Следует подчеркнуть, что Щедрин-критик неотделим от Щедрина-художника. Мы знаем, какую роль играют в произведениях Щедрина типические персонажи других классиков русской литературы. Но самое художественное использование этих типов уже предполагало критическое их исследование и являлось единственным в своем роде художественно-критическим творчеством, столь характерным для нашего сатирика. Для него старый образ — не просто форма, в которую он вкладывает свое содержание: типы классической литературы представляют для него людей, которые продолжают жить, а следовательно, и изменяться в новой обстановке. И Щедрин следит за их дальнейшей судьбой, за осуществлением тенденций, заложенных в них. Он раскрывал эти тенденции в общественной практике определенных дворянско-бюрократических группировок. Часто литературный тип интерпретируется Щедриным в полемических целях. Такова щедринская интерпретация типов «лишних людей». Образы Молчалина, Глумова, гоголевские типы, проецированные в плоскость политики и перенесенные из сферы семейно-бытовой в более широкую сферу общественных конфликтов, стали выполнять определенные политические функции. Щедрин развернул и определил их политические возможности в новых исторических обстоятельствах.
Литературная критика у Щедрина чрезвычайно разнообразна по своим жанрам и методам: всякие виды пародии, необыкновенно рельефно выражающие мысль критика, философско-публицистические размышления, драматизированные сцены, характеристики художественных приемов. Рецензии Щедрина — это маленькие сатиры, направленные против претенциозной бездарности и трафаретности мысли. Эти сатиры превращаются в инвективы, грозные беспощадным презрением, когда критику приходится бороться с более вредными явлениями, чем литературное тщеславие и ремесленничество, — с клеветническим дискредитированием дорогих ему идей и стремлений, с предательством посредством слова. Таковы его рецензии против реакционных беллетристов, такой уничтожающей инвективой является, например, его ответ на обращенное к нему письмо Хохлаковой из «Братьев Карамазовых».
В отличие от некоторых товарищей по редакции «Современника», Щедрин сохранил ту нетерпимость к идеализму, которая была характерна для
267
Чернышевского и Добролюбова. Выступая против установленной идеалистами «градации человеческих способностей», Щедрин видит в этом делении их на высшие и низшие проявление того дуализма, который в конечном итоге порождает человеческую неравноправность.
Идеализм для Щедрина порочен прежде всего потому, что он скрывает суть общественных противоречий.
В представлении Щедрина литература являлась одной из главных сил, подготовляющих массу к революционному действию. И эту функцию она выполняет лишь путем реалистического изображения действительности. Щедрин борется за последовательное применение и дальнейшее развитие принципов реализма. В борьбе с той идеологией, которая освящает и оправдывает основанный на эксплуатации строй жизни, реализм употребляет мощное средство: доведение известных общественных основ и принципов, их оправдывающих, до абсурда, раскрытие с революционно-просветительской точки зрения общественных противоречий как проявления нелепости социально-политического «устройства». Силу для критики Щедрин черпал из своего идеала, из своего чувства разумного будущего, из своего представления о человеке, освобожденном от неволи, от всяких видов зависимости и эксплуатации, не только помещичьей, но и буржуазной.
Задачи искусства Щедрин понимал в духе революционно-просветительского гуманизма, сходясь в этом с Чернышевским и Добролюбовым. Искусство убеждает в неизбежности грядущей разумной и свободной жизни, в реальности того, что масса считает призраком, и в призрачности того, что для нее незыблемо и держится лишь благодаря ее слепой вере.
Являясь преемником и продолжателем традиций гоголевской сатиры, Щедрин считал огромной заслугой Гоголя то, что он впервые вывел сатиру на «общественную арену», сделал ее судьей и обличителем не отдельных пороков, а целых классов. Вместе с тем Щедрин видел и «ограниченность» реализма сатиры Гоголя, но не ставил это в вину своему учителю, а считал следствием исторических условий. Щедрин жил в другое время, и многое, что было неясно Гоголю, стало ясно демократу Щедрину. Поэтому и задачи перед своей сатирой Щедрин ставил уже другие. «...гоголевская сатира, — писал он, — сильна была исключительно на почве личной и психологической; ныне же арена сатиры настолько расширилась, что психологический анализ отошел на второй план, вперед же выступили сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности... предметов для сатиры существует весьма достаточно и...эти предметы совершенно новые» (VIII, 326). Сатира, по мнению Щедрина, должна была теперь служить делу активного пробуждения революционного сознания масс, делу показа гнилости, неизбежной гибели общественного строя, зиждущегося на почве угнетения и эксплуатации. Революционная сатира не может замыкаться в кругу «общественных курьезов и странностей». Она — бич всего мертвого, отживающего, всего реакционного, мешающего созданию нового общественного строя. Она — верное оружие борющегося народа. «...Единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности», — писал Щедрин в рецензии на книгу Минаева «В сумерках» (VIII, 297). Такие задачи ставил перед сатирой не только Щедрин, но и Чернышевский, и Добролюбов. Эти теоретические принципы были положены великим сатириком
268
в основу всего своего художественного творчества. Их, как знамя, подхватили прогрессивные русские писатели последующих лет.
Значение Щедрина в истории русской и мировой сатиры обусловлено прежде всего новым жизненным содержанием, гениально постигнутыми новыми типами, «существования которых гоголевская сатира и не подозревала» (VIII, 326), возникающими на основе неведомого раньше исторического «положения».
Изменяется у Щедрина отношение к главному предмету сатиры — пороку — и самое представление о пороке. Все прежние представления о нем кажутся ему, с одной стороны, слишком психологическими, с другой — слишком «юридическими», основанными на «отвержденной морали». «Литература... ведает, — утверждает сатирик, — такие человеческие действия, которые заключают в себе известную степень загадочности и относительно которых публика находится еще в недоумении, порочны они или добродетельны» (XIII, 270).
Но для щедринской сатиры порок проблематичен и там, где он бесспорен для блюстителей буржуазно-помещичьей законности и официальной морали. «Так что ежели человек, укравший грош, в глазах моралиста ни в каком случае не заслуживает пощады, то во мнении человеческой совести и литературы он может оказаться человеком, у которого даже отнять похищенный им грош не совсем ловко» (XIII, 270). За поступком новая сатира видит общественное положение того, кто его совершает, и ставит под вопрос нормальность и справедливость этого положения, открывает проблему там, где всё определялось самим поступком.
Задачей сатиры, по Щедрину, является таким образом, с одной стороны, разоблачение порока, еще не ясного для общественного сознания, — порока, никакими узаконениями и моральными кодексами еще не предусмотренного, а с другой — предметом сатиры являются сами эти узаконения, сама эта мораль, признающая в своей классовой ограниченности порочность человека там, где на самом деле порочно социальное устройство. Постоянно сатирик-мыслитель ставит вопрос и подводит читателя к ответу на него: действительно ли преступно то, что считают преступным, и так ли уж безгрешна официальная добродетель?
Отказываясь признавать порочность поступка только по внешним признакам, писатель признает изменчивость порока «как относительно внешних форм, так и по существу». Щедринская сатира как сатира революционная направляет свой бич именно против тех, чье спокойствие ограждается полицией, судом и всеми кодексами официальной морали. Громадное большинство действительно порочных людей «удобно уживается с этой моралью и под сению ее бездельничает на всей своей воле» (XIII, 271). Эта сатира, по мнению Щедрина, называет ворами и убийцами тех, кого юстиция имущих классов никогда не обвинит в убийстве или краже. В то же время эта сатира не обвинит того, кого обязательно осудит царский суд и предаст всем мукам совести писатель-охранитель.
Мы видим, что сатира Щедрина раскрывает общественные корни нравственных отношений людей. Не личная, а социальная справедливость ставится во главу угла.
С одной стороны, сатира Щедрина отрицает психологизм, не признает самостоятельности и примата внутреннего мира, подчиняя его действительно первичному — «историческому положению», с другой — зависимость человека от общественного бытия она стремится проследить до самых глубин психики. Всё внешнее, резко бьющее в глаза, более или менее случайно. Да оно и не так специфично. Различные виды физических терзаний давно
269
уже знакомы человеку. Психическое же угнетение не только не исключение, но действует с неумолимым постоянством. Щедрин в своей сатире сделал видимым этот невидимый гнет, выражающий самую сущность буржуазно-дворянского порядка, разные формы «фаталистического» подавления и разрушения человеческой личности.
Сатира Щедрина, основанная на более рациональном понимании общественного бытия, чем предшествовавшая, видит свою задачу в разоблачении скрытого трагизма в его твердыне — в твердыне тьмы и бессознательности. Щедрина поражает маска простодушной обыденщины, которая скрывает зло защитным цветом, заменяющим непроницаемую броню. Срывая эту маску, Щедрин учил видеть величайшую ненормальность в привычном, видеть за злом тот общественный строй, для которого нормой является отрицание разумного человеческого существования. Но этому не научишь, воспроизводя обыденное, как обыденное, как примелькавшееся невооруженному человеческому глазу, как воспринимаемое притупленным привычкой чувством. Необходимо в художественном образе показать читателю, каков итог всех тех воздействий, которые оказывает на него данный жизненный строй изо дня в день.
На раскрытие сущности буржуазно-дворянского общества была направлена сатира Щедрина, вызывавшая со стороны апологетов этого общества упреки в неправдоподобии, обвинения в карикатурности ее образов.
Щедрин, как никто другой, был мастером глубочайших социальных обобщений. Исходя из конкретных, часто злободневных фактов, беря за основу какую-нибудь наиболее характерную черту изображаемого явления или человека, «заводя речь издалека», Щедрин приводил читателя к признанию неизбежности гибели социального строя, порождающего подобные явления и типы. Щедрин многократно говорил, что читателя интересует в том или ином романе не семейная драма того или иного частного лица, а драма общественная.
Герой произведения, если облик его реален, является индивидуализированным воплощением социальных явлений, а обстоятельства, в которых он действует, также неизбежно являются типическими для данной общественной формации.
Обосновывая эти мысли, Щедрин писал в сатирической хронике «Господа ташкентцы»: «Если справедливо, что во всяком положении вещей главным зодчим является история, то не менее справедливо и то, что везде можно встретить отдельных индивидуумов, которые служат воплощением „положения“ и представляют собой как бы ответ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы, значит понять и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным и рельефным» (X, 56—57).
Герой произведения интересен читателю не как разновидность человека вообще, а как живой представитель тех или иных общественных процессов, участник классовой борьбы. Поэтому, пишет Щедрин, «и сочувствие, и негодование <читателя> устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздействие их на общество» (X, 57).
Щедрин, как и его великие современники — Чернышевский и Добролюбов, как и Белинский, главным условием реализма считал неразрывную связь с жизнью, отображение ее типических черт, типических обстоятельств. Жизнь является содержанием произведения, а не те или иные сюжетные комбинации.
Типическое в сатире не исключает, а, наоборот, предполагает заострение и преувеличение, доведение до логического конца мыслей и поступков
270
персонажей, домысливание автором их поведения, согласно тому, какую социальную группу представляют те или иные персонажи.
В сатирической хронике «Помпадуры и помпадурши» Щедрин писал: «Литературному исследованию подлежат не те только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает» (IX, 203).
Это суждение Щедрина является теоретической предпосылкой ко всей его практической художественной деятельности как сатирика, вскрывает сущность его сатирического метода.
Всякая сатира имеет дело главным образом с отрицательными типами и явлениями действительности. И здесь особенно важной становится проблема вскрытия всех потенциальных «возможностей» и «готовностей», которые кроются в данном типе, как представителе враждебных социальных сил. Художник-сатирик срывает внешние покровы с изображаемого и обнажает его подлинную социальную сущность. Благодаря этому действия персонажа приобретают общественный характер, а типические обстоятельства, в которых он живет и действует, — конкретно-историческую форму.
Так вызревает тот обобщенный, глубокий вывод о характере самой действительности, о характере социального строя, породившего этот тип, — вывод, ради которого сатирик и пишет произведение.
Доведение до логического конца действий героев произведения — непременное условие сатиры. Оно покажет читателю, «до каких крайних нелепостей» можно дойти, следуя направлению деятельности и мыслям данных типов. «Ничто так не подрывает известного принципа, ничто так не выказывает всей его ложности, как логическое доведение этого принципа до всех тех последствий, какие он может из себя выделить», — писал Щедрин в статье «Современные призраки» (VI, 386).
Образы помпадуров, градоначальников, ташкентцев, либералов, образ Иудушки Головлева, «ретивого начальника» из «Современной идиллии», образы всех сказок Щедрина Ленин высоко ценил за их реалистическое содержание, считал их правдивыми до деталей. Мысли щедринских типов Ленин часто обнаруживал у людей иной общественной среды, иного класса. Это иллюстрирует гениальное пророческое предвидение Щедрина.
После первой русской революции В. И. Ленин говорил, что рабочему классу России, собирающему свои силы для окончательного удара по врагу, нужен новый Щедрин, который бы разил сатирой продажные партии буржуазии.
Необходимость в щедринской сатире не миновала и после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Сатира необходима как средство ниспровержения старого, отжившего и как средство утверждения нового, прогрессивного.
Эстетика великого сатирика-демократа, проникнутая духом революционного дерзания, оказала огромное влияние на дальнейшее развитие русской литературы, ее сближение с борющимся народом. Щедрин учил литераторов всегда помнить о своей роли пропагандистов и исполнять эту роль самоотверженно: «...какою бы непроницаемостью ни были прикрыты стремления, неприятные авторитетному большинству, публицистика и искусство все-таки имеют под руками достаточное разнообразие средств, чтобы сделать их понятными и доступными для пропаганды» (рецензия на книгу «В разброд», VIII, 391). «Литература и пропаганда одно и то же. Как ни стара эта истина, однако же она еще так мало вошла в сознание самой литературы, что повторить ее вовсе не лишнее» (VIII, 116). Принципы своей
271
революционно-демократической эстетики Щедрин отстаивал в жестокой борьбе с реакционными течениями.
Щедрин бичует всякие попытки реакционных писателей замаскировать свои подлинные стремления рассуждениями о свободе, о вреде тенденциозности. «Разрозненность, случайность, вялость — вот характеристические качества произведений, отвергающих так называемую тенденциозность, и не выкупятся эти недостатки никакими подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены», — говорит он, критикуя произведения Я. Полонского (VIII, 424—425). Упрекая некоторых дворянских поэтов в отсутствии четкого миросозерцания, Щедрин приводит им в пример глубокую идейность и прогрессивность творчества классиков мировой литературы. Он говорит, что писатель, лишенный прогрессивного мировоззрения, не может выполнять своего высокого общественного назначения: «...мы утверждаем, что неясность миросозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю. В этом нас убеждают примеры... великих и общепризнанных художников..., они беседовали с читателями не о сновидениях, а раскрывали перед ними ту жизненную разрозненность и смуту, под гнетом которых страдало и страдает человечество» (VIII, 423).
«...Надо всемерно стараться обдумывать то, что намереваешься пропагандировать», — повторяет Щедрин (VIII, 427). Он беспощадно срывает маску «аполитичности» и незаинтересованности с приверженцев «чистого искусства». Теория «свободного искусства» имела в 80-е годы особенно много сторонников. Проповедовали ее главным образом литераторы «благонамеренного» лагеря, находившиеся на службе реакции. Однако их проповеди глубоко расходились с содержанием их собственных писаний и были рассчитаны лишь на умиротворение людей, мятущихся под гнетом реакции. В рецензии на роман «Цыгане» Клюшникова (1871), относящегося к числу подобных литературных «охранителей», Щедрин дал замечательно верную характеристику классовой сущности теории «свободного искусства».
Все рассуждения автора об «искусстве свободном, как вихрь» и «нравственном, как улыбка девственницы», по мнению Щедрина, дают «повод лгать и прикрывать ложь аналогиями, рассчитанными единственно на неразвитость читателя» (VIII, 453). Щедрин в своем отношении к теории «чистого искусства» следовал учению Белинского и Чернышевского.
Он всегда чувствовал себя не только литератором, но и журналистом, «человеком партии», как он откровенно заявил в 1881 году в письме к Гаевскому (XIX, 228).
И как «человек партии», для которого собственное его творчество было лишь оружием борьбы с мрачными силами эксплуатации и произвола, Щедрин неуклонно звал литературу к правдивому отображению этой живой борьбы, к отображению подлинных реальных взаимоотношений, существовавших между классами в действительности. Писатель для Щедрина не спокойный регистратор фактов, а активный участник общественного движения. Нет более высокого назначения для литератора, чем назначение передового борца за дело народа. Литература должна быть действенной, ведущей народ за собой. Она «обязывается вызвать из тьмы эти новые силы, указать на них обществу». «Литература... воспроизводит образ будущего человека» (VII, 455). Настоящий художник, по мнению писателя, должен всеми силами души стремиться к светлому будущему, искать его проблески в жизни, изображать их со всей силой таланта, растить в сердце народа живые зерна этого будущего. «Литература есть тот очаг общественной мысли, который служит представителем не только насущной физиономии и
272
насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить будущую его физиономию», — писал Щедрин в статье «Напрасные опасения» (VIII, 51).
Щедрин неустанно напоминает литераторам о их высокой роли передовых борцов и учителей, говоря, что литература «всегда идет далее общества, всегда видит истину ближе, ибо, во-первых, обладает большею против него суммою знаний и, во-вторых, имеет в своем распоряжении более твердые и выработанные приемы, нежели та завещанная преданием рутина, которою располагает большинство» (VIII, 158). Щедрин клеймит позором многих писателей дворянства, писателей-белоручек, боящихся изображения подлинной жизни. Борьбу народа Щедрин приводит в пример писателям, призывая включиться в нее.
«Ужели мы скажем им <народу>: сгибайся, бедствуй и умирай, но счетов с жизнью иметь не моги!.. Ежели мысль наша и подлинно пришла к убеждению в негодности известных форм жизни, то для того ли только она убедилась, чтобы приобрести право на бессильные жалобы?», — спрашивает сатирик писателей, проповедующих примирение с действительностью (VIII, 314—315).
Отрыв от живой действительности, по утверждению Щедрина, влечет за собой антихудожественность. Характеры и типы героев исчезают, сменяясь ходульными, лживыми схемами. В результате в произведении отражается «не жизнь, а просто бесформенная фантасмагория, наполненная ходячими абстрактностями, а не живыми людьми» (VIII, 437). Жажда дела, борьба за великие идеалы прогресса, участие в повседневной конкретной общественной борьбе были характерными чертами всех передовых людей и в первую очередь виднейших деятелей революционной демократии. Поэтому образы этих людей так часто встают перед глазами Щедрина, когда он начинает говорить о целях и задачах современной ему литературы. Обращаясь со словами горького упрека и ненависти к литераторам-обывателям еще в одном из ранних своих произведений («Сатиры в прозе»), Щедрин говорит: «...ты не замечаешь, что иные люди, иные вещи, что целый новый мир народился кругом тебя. Ты забываешь, что и в устах твоих наставников <Белинского> отвлеченные интересы человечества служили только покровом, под которым не всегда искусно скрывалась томительная жажда иной, более реальной действительности. Ты забываешь, что ты перенял от учителей только фразу» (III, 210). К годам творческой зрелости Щедрина убеждение в необходимости отображения самой гущи жизни и борьбы, требование действенности литературы звучит всё более настойчиво и страстно. Революционная непримиримость писателя по отношению к существующей действительности проповедуется Щедриным во всех его произведениях. Идейно целеустремленного, революционно непримиримого писателя противопоставляет Щедрин массе презренных реакционных сочинителей. «Необходимы подвиги», «Нужен почин», — взывает он к писателям. «Общение с жизнью... всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы» (XIII, 300). Всё творчество великого сатирика является замечательной яркой иллюстрацией этого положения. От «Запутанного дела» до «Пошехонской старины» мы прослеживаем последовательный неуклонный путь писателя-демократа, отражающего в своем творчестве важнейшие боевые вопросы современности, вопросы становления и формирования революционных элементов будущего.
Поэтому вполне понятно, что, борясь за реализм в литературе, за связь литературы с действительностью, за боевой дух литературы, Щедрин одним
273
из основных принципов реализма выставлял принцип народности литературы в противовес узко классовой келейности и ограниченности представителей реакционной помещичье-дворянской литературы. Единственно достойной темой для писателя является, по мнению Щедрина, тема жизни, борьбы и страданий народа, тема путей, которыми он приходит к осознанию своего прогрессивного назначения. Уже в первых своих крупных критических статьях о литературе Щедрин, подводя итог истории развития русской беллетристики и отмечая прогрессивное значение крупнейших русских писателей 40-х годов, говорит о вынужденной ограниченности их реализма. «...не вина писателей, а ограниченность самого круга правды, трудность, с которою сопряжен был доступ в него освежающей струе — вот действительная причина бедности мотивов, которою страдала наша литература сороковых годов», — пишет Щедрин в статье «Напрасные опасения» (VIII, 56). Для писателя 40-х годов проблема ведущего, положительного типа в литературе была трудно разрешима, но в 60-е и тем более в 80-е годы положение серьезно изменилось. «...тип человека, задумавшегося на распутии, исчерпан сполна» (VIII, 57). Теперь неотложной задачей писателя стала задача создания не только отрицательных, но и положительных, ведущих типов. И писателю необходимо было отнестись к их созданию с такой же художественной чуткостью, «с той же правдивостью, с которою литература предшествующего периода относилась к типу человека, страдающего излишним досугом». Где обретаются эти положительные типы? — спрашивает Щедрин и тут же дает ясный ответ. «Очень может статься, что та среда, в которой они обретаются, представляет собою грубую и неприятную на взгляд массу, изнемогающую под игом разнородных темных сил..., но ...несомненно и то, что иной среды, от которой можно было бы ждать живого, не заеденного отрицанием слова, покуда еще не найдено...» (VIII, 57). Именно масса трудового народа, несмотря на страшные условия ее рабской жизни, выделяет подлинно положительных героев — активных борцов с существующим строем.
Щедрин прекрасно представлял себе основные черты этих типов, зная, что воспитывает их угнетенная народная масса. Как подлинный реалист Щедрин запечатлел благородные качества народа России, поднимающегося на защиту своих прав, во многих ярких образах простых людей. Такими образами богаты «Пошехонская старина», «Сказки» и большинство сатирических хроник. Положительные и отрицательные типы в творчестве Щедрина всегда являются представителями основных социальных сил реальной действительности.
Резко и непримиримо относился великий сатирик к узко классовому, искаженному пониманию реализма реакционными дворянскими и буржуазными писателями России и Запада. Например, характеризуя буржуазный французский реализм, Щедрин упрекает французских писателей в однобоком, классово ограниченном изображении действительности, в нетипичности, в подмене подлинного реализма натурализмом, связанным с вульгарно материалистическим подходом к жизни, рассчитанным на вкусы буржуа. «...безыдейная сытость не могла не повлиять и на жизнь. Прониклась ею и современная французская литература и для того, чтоб скрыть свою низменность, не без наглости подняла знамя реализма. Слово это небезызвестно и у нас, и даже едва ли не раньше, нежели во Франции, по поводу его, у нас было преломлено достаточно копий. Но размеры нашего реализма несколько иные, нежели у современной школы французских реалистов. Мы включаем в эту область всего человека, со всем разнообразием его определений и действительности; французы же главным образом интересуются
274
торсом человека и из всего разнообразия его определений с наибольшим рачением останавливаются на его физической правоспособности и на любовных подвигах» (XIV, 200—201). Щедрину в одинаковой степени был ненавистен как идеализм дворянской культуры, так и натурализм литературы буржуазной. Он ратовал за подлинно идейный реализм, в котором бы конкретное изображение повседневной жизни сочеталось «с самою горячею и страстною идейностью» (XIV, 201).
Борясь за дальнейшее развитие реализма, Щедрин высоко ценил достижения писателей-реалистов предшествующей эпохи. Он говорит, что «приемы их были верны, отношение к изображаемому миру честно, и в этом смысле предания, которые она <литература 40-х годов> оставила молодому литературному поколению, заслуживают полного уважения... Молодая наша литература приняла и сохранила эти предания вполне» (VIII, 56—57). Но «остатки старой литературы», т. е. литературы, не считающейся с новым временем и перенесшей прежние приемы и идеи в новую эпоху, стали на пути развития литературы и жизни и совращают с этого пути молодые силы литературы.
В соответствие с потребностями времени Щедрин углублял и развивал теорию реалистического романа. «Мне кажется, — говорит сатирик в „Господах ташкентцах“, — что роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и всё, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер... Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех. Драма начинает требовать других мотивов; она зарождается где-то в пространстве, и там кончается. Покуда это пространство не освещено, всё в нем будет казаться и холодно, и темно, и бесприютно. Перспектив не видно; драма кажется отданною в жертву случайности. Того пришибло, тот умер с голоду — разве такое разрешение может быть названо разрешением? Конечно, может... эта драма существовала несомненно, и заключала в себе образцы борьбы гораздо более замечательной, нежели та, которую представлял нам прежний роман. Борьба за неудовлетворенное самолюбие, борьба за оскорбленное и униженное человечество, наконец, борьба за существование — всё это такие мотивы, которые имеют полное право на разрешение посредством смерти» (X, 55—56). Под «пространством не освещенным» Щедрин, разумеется, понимает народ, того самого «человека, питающегося лебедой», который изнывает под гнетом тьмы и произвола. Сатирик обращает внимание писателей и на тот факт, что великие писатели России всегда стремились найти и осветить эту «арену борьбы». «В этом случае, — говорит он, — я могу сослаться на величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности» (X, 56).
Стоя на идейных позициях революционной демократии, Щедрин вывел русскую сатиру на невиданно широкую дорогу борьбы со всем эксплуататорским миром, борьбы за приближение социалистического строя — самого справедливого строя на земле. Огонь сатиры Щедрина был направлен на силы, враждебные народу.
Одной из основных задач советской литературы попрежнему остается борьба с враждебными силами старого мира, ненавидящими страну социализма, всеми способами и средствами стремящимися затормозить движение человечества вперед, ввергнуть его в бездну невежества и междоусобия. И в этой борьбе Щедрин остается нашим соратником до сих пор.
Сноски к стр. 161
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, М., 1935, стр. 147. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XX, 1933—1941).
2 С. Н. Кривенко. М. Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность, Пгр., 1914, стр. 3.
Сноски к стр. 164
1 С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, ч. I, изд. 2-е, Гослитиздат, М., 1951, стр. 293.
Сноски к стр. 166
1 Г. А. Мачтет. М. Е. Салтыков в Рязани. «Газета А. Гатцука», 1890, № 16—17.
Сноски к стр. 167
1 С. Н. Кривенко. М. Е. Салтыков, стр. 53.
Сноски к стр. 168
1 С. Н. Кривенко. М. Е. Салтыков, стр. 55.
2 В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции. Госиздат, М. — Л., 1926, стр. 105.
Сноски к стр. 169
1 В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, стр. 88, 89.
2 Там же, стр. 119.
Сноски к стр. 177
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, т. II, Гослитиздат, М., 1935, стр. 381. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—VI, 1934—1941).
Сноски к стр. 182
1 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, СПб., 1865, стр. 252, 253, 254.
Сноски к стр. 183
1 Т. Шевченко, Собрание сочинений в пяти томах, т. 5, Гослитиздат, М., 1956, стр. 120.
Сноски к стр. 184
1 См. письмо Салтыкова-Щедрина к И. Аксакову от 17 декабря 1857 года, опубликованное Н. В. Яковлевым в статье «Щедрин и Аксаковы» [Труды Отдела новой русской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР, Изд. Академии Наук СССР, т. 1, М. — Л., 1948, стр. 91].
2 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IV, Гослитиздат, М., 1948, стр. 929. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XVI, 1939—1953).
Сноски к стр. 187
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95—96.
Сноски к стр. 190
1 И. С. Тургенев, Первое собрание писем 1840—1883 гг., СПб., 1884, стр. 50.
Сноски к стр. 199
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 66.
Сноски к стр. 200
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.
Сноски к стр. 201
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 126.
Сноски к стр. 210
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 279.
Сноски к стр. 213
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 287.
Сноски к стр. 218
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 272.
Сноски к стр. 219
1 И. С. Тургенев, Первое собрание писем 1840—1883 гг., стр. 267.
Сноски к стр. 223
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 272.
2 Там же, т. 4, стр. 380.
3 Там же, т. 5, стр. 217.
4 Там же, стр. 236.
5 Там же, т. 10, стр. 190.
6 Там же, т. 12, стр. 304—305.
7 Там же, т. 17, стр. 25.
Сноски к стр. 231
1 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. IV, Госиздат, М. — Л., 1929, стр. 393.
Сноски к стр. 234
1 В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, стр. 50—51.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 35, стр. 31.
Сноски к стр. 238
1 П. Н. Ткачев, Избранные сочинения, т. III, М., 1933, стр. 90.
Сноски к стр. 249
1 А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. XXI, Пгр., 1923, стр. 321.
Сноски к стр. 252
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 175.
Сноски к стр. 253
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, Гослитиздат, М., 1953, стр. 316.
Сноски к стр. 255
1 См. А. Ефимов. Язык сатиры Щедрина. Изд. Московского университета, 1953.
Сноски к стр. 256
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 154.
2 Там же, т. 16, стр. 301.
Сноски к стр. 258
1 Черновая редакция «Пошехонской старины». Архив Щедрина, Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР, ф. 366, оп. 1.
2 Там же, л. 21.