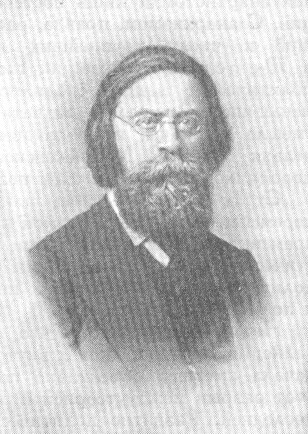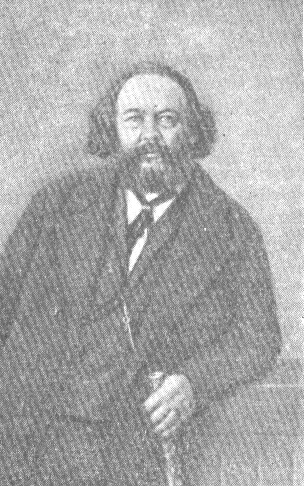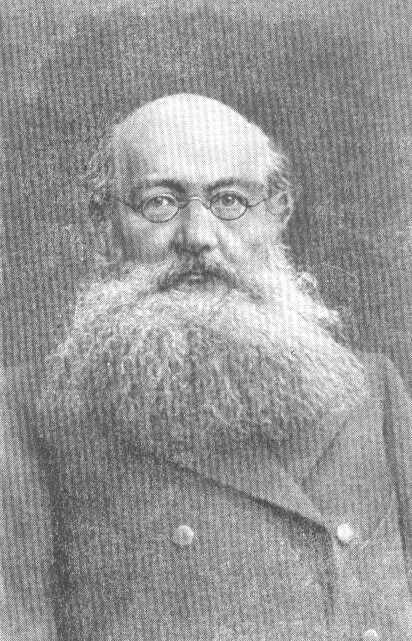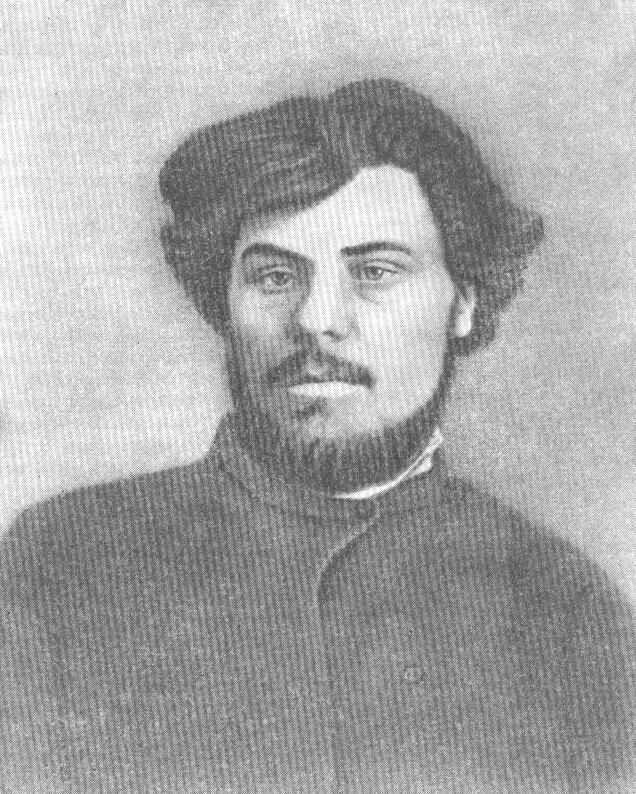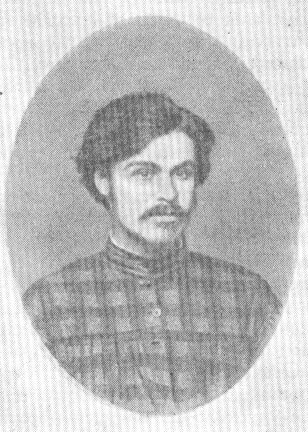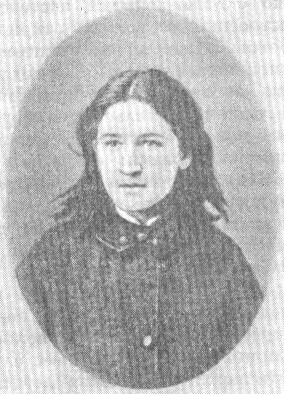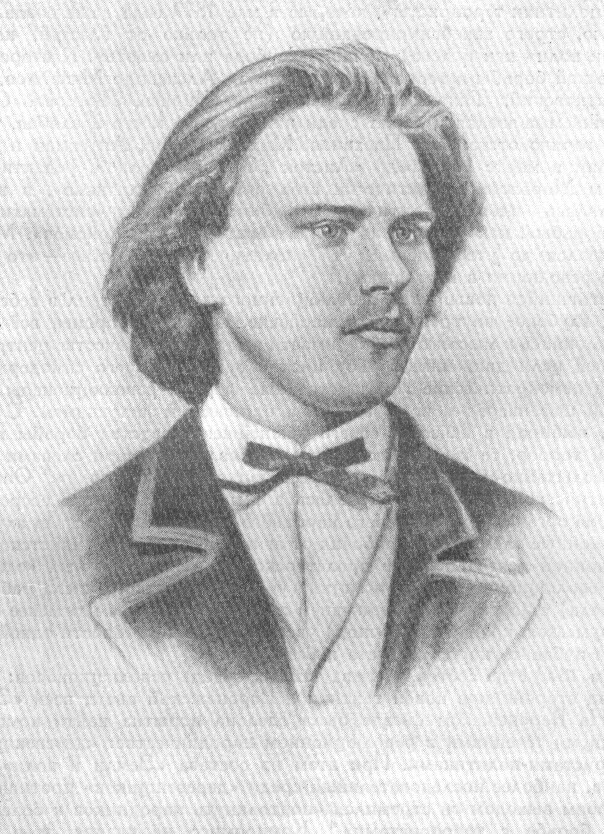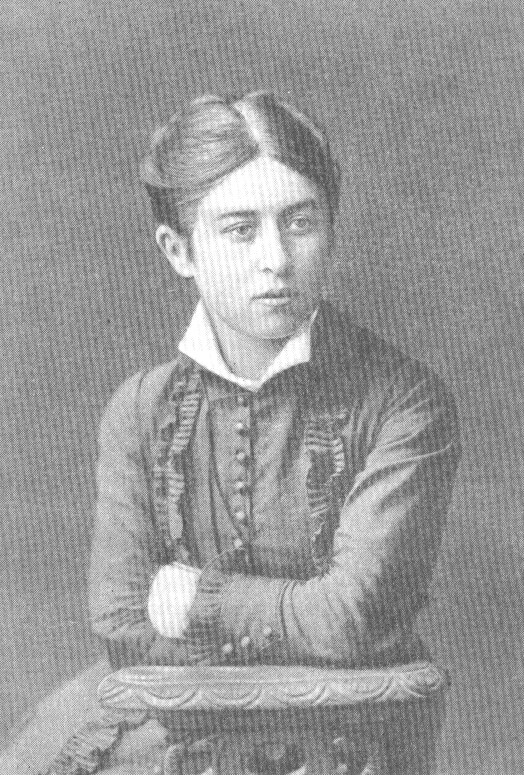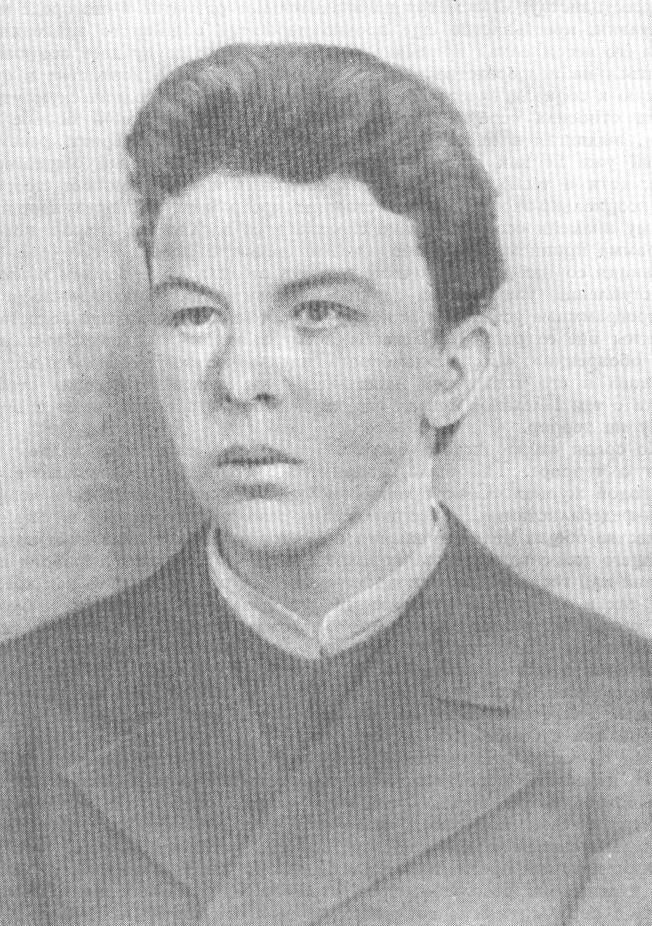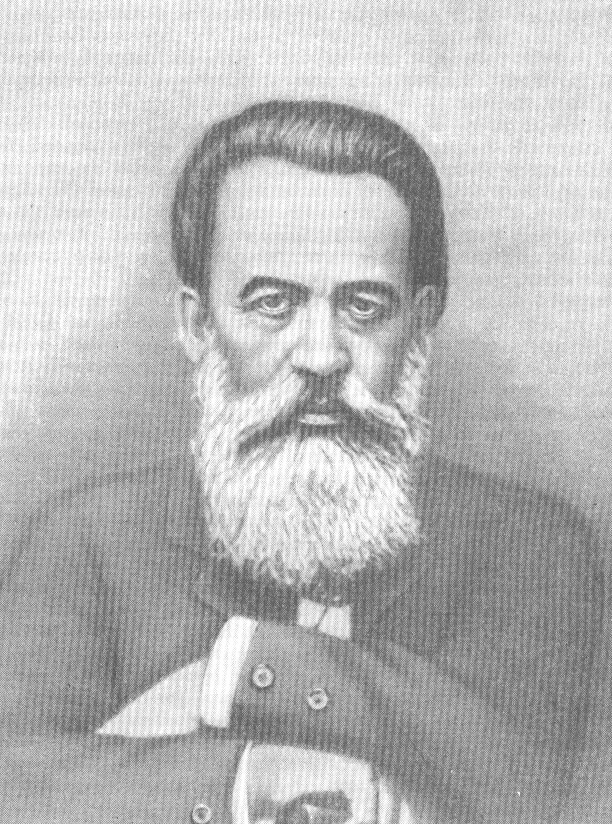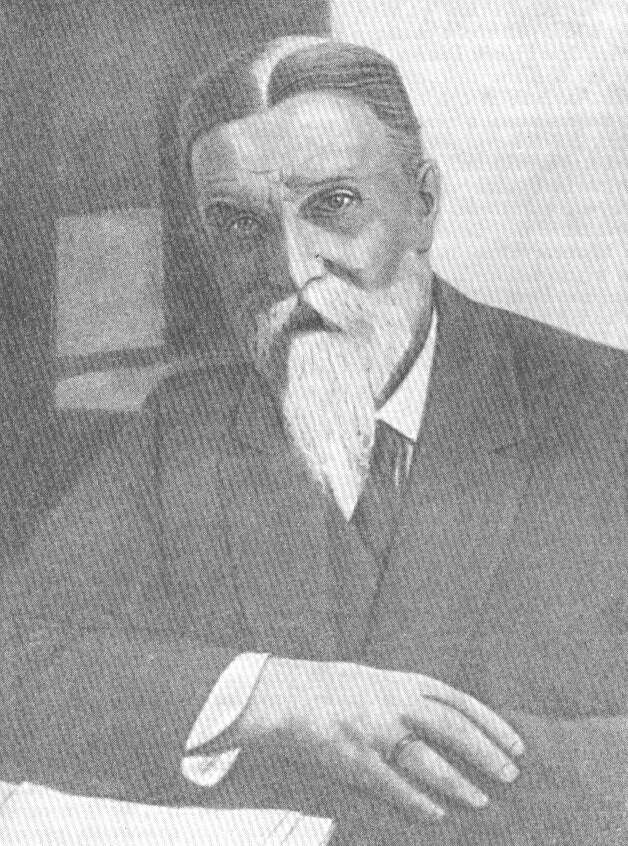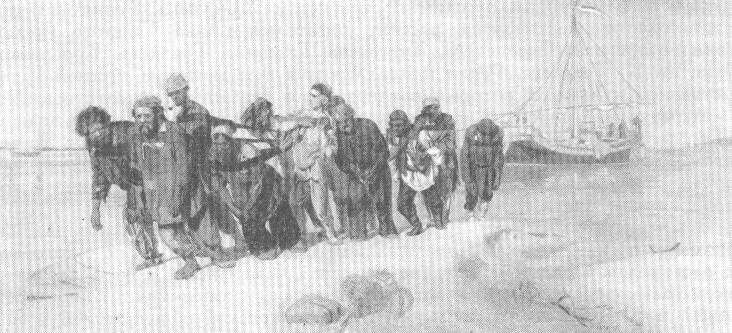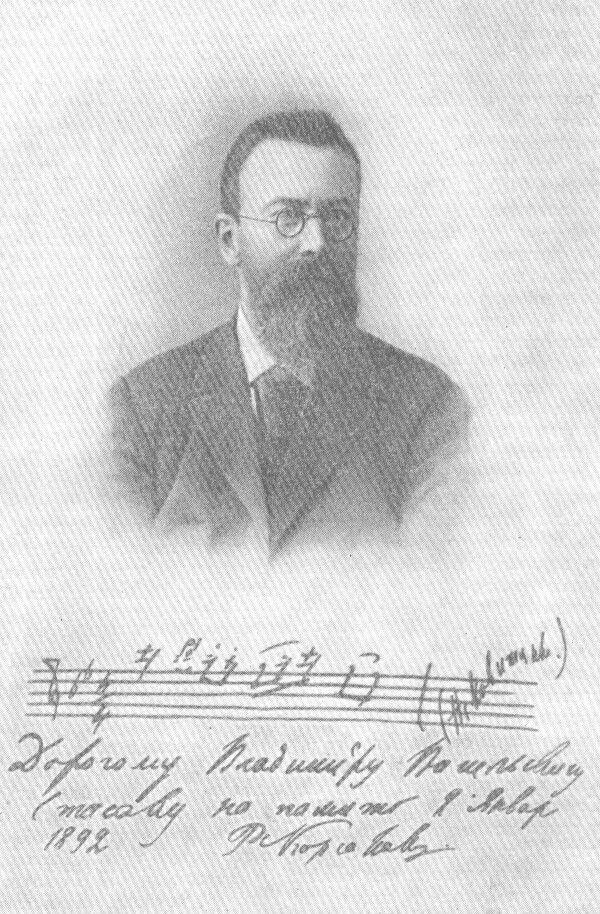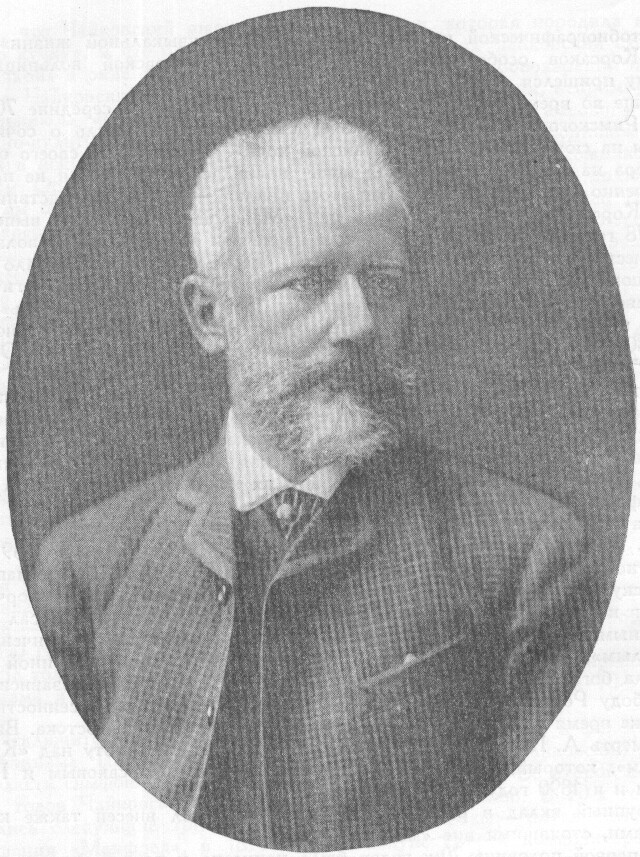- 5 -
ВВЕДЕНИЕ
(СЕМИДЕСЯТЫЕ-ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ)
- 6 -
- 7 -
На протяжении XIX века русская литература пережила полосу исключительного расцвета и прочно заняла одно из первых мест среди литератур всего мира. Начавшийся со времен Пушкина могучий подъем русской классической литературы продолжался и в последнее тридцатилетие XIX века. В 70—80-е годы жили и творили великие русские писатели: Тургенев, Гончаров, Некрасов, Островский, Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чернышевский. В это же время работали в литературе Полонский, Фет, Майков, Писемский, Мельников-Печерский, Григорович. Своего наивысшего расцвета достигает в 70-е и 80-е годы творчество Г. Успенского, Лескова, плеяды демократических беллетристов-народников. В конце 70-х и в начале 80-х годов в литературу вливается новый отряд писателей, часть из которых вскоре заняла место рядом с крупнейшими писателями старшего поколения, — Гаршин, Короленко, Чехов. Наконец, в 1892 году в литературу вошел М. Горький, творчество которого явилось отражением новой исторической полосы, ознаменованной выступлением на арену общественной жизни в качестве передового борца русского рабочего класса и образованием в России марксистской партии.
К. Маркс и Ф. Энгельс, пристально следившие за развитием революционного движения в России и придававшие ему исключительное значение, чрезвычайно высоко оценивали русскую литературу 70—80-х годов. Ф. Энгельс писал в 1890 году Паулю Эрнсту, говоря о норвежской литературе, что Норвегия за последние двадцать лет «пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться за этот период ни одна страна, кроме России».1 «Современные русские... писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны», — указывал Энгельс в более раннем письме (1885 года), адресованном Минне Каутской.2
Русская литература обозреваемого периода развивалась в обстановке назревавшей в стране крестьянской буржуазно-демократической революции, широкого брожения в народной среде. Она была тесно связана с необычайным по своей самоотверженности и героизму революционным движением, участники которого жадно следили за каждым новым словом передовой революционной теории. Эти особые исторические условия, в которых создавалась русская литература второй половины XIX века, гениально освещены в работах В. И. Ленина.
В своем творчестве русские писатели-реалисты отразили тогда те новые вопросы, которые встали в связи с решительным поворотом России на путь капиталистического развития. Они показали разорение деревни, кризис патриархального крестьянского быта и мировоззрения, обнажили противоречие «верхов» и «низов», отразили усиливающуюся власть капитала, вскрыли растущий антагонизм между городским и деревенским пролетариатом и буржуазными собственниками — Колупаевыми и Деруновыми. Преодолевая народнические иллюзии об особых исторических путях развития России, борясь
- 8 -
вместе с тем против апологетики буржуазного предпринимательства, против буржуазного индивидуализма и морали чистогана, русская реалистическая литература напряженно стремилась помочь народу и передовой интеллигенции в борьбе за свободу, в поисках реальных путей общественного преобразования. Острый критицизм по отношению к существующим общественным порядкам сочетался в ней со стремлением раскрыть и показать могучие силы русского народа, его духовное богатство, запечатлеть в живых образах черты русского национального характера, со стремлением к выработке и пропаганде передовых демократических идеалов.
Беспощадное обличение самодержавия, церкви, крепостнических пережитков, сознание враждебности народу буржуазных порядков, победивших на Западе и утверждавшихся в России, близость и горячая любовь к народу, страстная борьба против эксплуатации человека человеком, против расового и национального гнета, сочувствие страданиям народных масс и стремление к борьбе за их счастье, гуманистическая вера в человека и мечта о его светлом будущем — таковы неотъемлемые черты лучших произведений русской классической литературы последней трети XIX века.
*
Отмена крепостного права (реформа 19 февраля 1861 года), подготовленная всем ходом экономического развития России — разложением феодально-крепостнической системы и постепенным ростом капиталистических отношений, — в свою очередь дала очень крупный толчок дальнейшему росту капитализма в России. Период между 1861 годом и девяностыми годами XIX века являлся временем утверждения и победы капитализма в России как новой общественно-экономической формации. Многообразны были проявления процесса капиталистического развития: он охватил область промышленного производства и сельское хозяйство, торговлю и транспорт, сферу кредита, проявился в классовой структуре русского общества, отразился в росте городов и т. д. — и, вполне понятно, резко сказался на развитии общественной мысли и всей духовной культуры.
В своем труде «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин, имея в виду лишь крупнейшие фабрики Европейской России, установил следующие цифры роста числа фабрик и суммы производства (по 71 виду производств): в 1866 году действовали 644 фабрики с производством на 201 миллион рублей, в 1879 году 852 фабрики с производством почти на 490 миллионов рублей, в 1890 году — 951 фабрика с производством на сумму около 588 миллионов рублей. Возрастание производства обгоняло и увеличение числа предприятий, и рост количества рабочих, что было результатом усиленной механизации, ускоренного перехода к машинной технике. На 60—80-е годы XIX века приходится важнейший этап и завершение в основном промышленного переворота в России, начальные моменты которого относятся еще к дореформенной эпохе. Утверждение в производстве «системы машин» имело огромное экономическое и культурно-социальное значение.
Важным фактором экономического и культурного развития явился в это время рост железнодорожного транспорта. За время с конца 60-х до начала 90-х годов русская железнодорожная сеть возросла почти в пять раз, а по сравнению с предреформенным временем железнодорожная сеть начала 90-х годов была больше в 16 раз.
С ростом предприятий фабрично-заводской, а также горной промышленности и железнодорожного транспорта было неразрывно связано усиленное формирование кадров пролетариата. По подсчетам В. И. Ленина, число рабочих в крупных капиталистических предприятиях выросло между 1865 и
- 9 -
1890 годами: в фабрично-заводской промышленности — с 509 до 840 тысяч, в горной промышленности — со 165 до 340 тысяч, на железных дорогах — с 32 до 252 тысяч, а всего с 706 тысяч до 1 миллиона 432 тысяч человек.1 Анализируя эти данные, Ленин приходил к выводу, что за четверть века число рабочих в крупных капиталистических предприятиях увеличилось более чем вдвое, т. е. оно возрастало не только гораздо быстрее, чем население страны вообще, но даже быстрее городского населения,2 которое и само в условиях развития капитализма росло значительно скорее, нежели сельское население. Дело было не только в количественном росте рабочего населения, но и в сопровождавших этот рост качественных изменениях.
Рабочие всё более концентрировались на крупных и крупнейших предприятиях, среди них постепенно, но неуклонно усиливалось чувство классовой солидарности, росло их общественно-политическое сознание, увеличивалась их тяга к культуре. Пролетариат готовился к той роли гегемона общенародного освободительного движения, которая более или менее явственно определилась к 90-м годам XIX столетия и еще резче и для всех нагляднее — в пору первой русской революции.
Крупные цифры роста русской промышленности в пореформенную эпоху не должны заслонять другой стороны вопроса — серьезной отсталости России в промышленном отношении по сравнению с наиболее экономически развитыми странами Запада (Великобританией, США, Германией и др.).
Источник промышленной отсталости коренился в огромных пережитках крепостничества в пореформенной России. Переход от феодально-крепостнической формации к капиталистической совершился в России не путем революции, а путем реформы — половинчатой реформы, осуществленной под дирижерством крепостников-помещиков и их представителя и покровителя — царского самодержавия. Эти-то силы и позаботились о сохранении максимума остатков феодальной старины. Подводя в 90-х годах итог своему исследованию развития капитализма в России, В. И. Ленин с глубокой проницательностью отмечал: «Если сравнивать докапиталистическую эпоху в России с капиталистической..., то развитие общественного хозяйства при капитализме придется признать чрезвычайно быстрым. Если же сравнивать данную быстроту развития с той, которая была бы возможна при современном уровне техники и культуры вообще, то данное развитие капитализма в России действительно придется признать медленным».3 Ленин разъяснял, что развитие не могло не быть во втором смысле медленным, потому что ни в одной капиталистической стране не уцелело столько «учреждений старины», задерживающих развитие капитализма, безмерно ухудшающих положение трудящихся, которые страдают (Ленин тут пользуется выражением Маркса) «и от капитализма и от недостаточного развития капитализма».
Отставание России с наибольшей ясностью проявлялось в ее сельском хозяйстве — этом главном средоточии пережитков «старины».
Проведенная крепостниками реформа 1861 года ограбила крестьян. Она отняла у них значительную часть (в среднем до одной пятой) находившихся прежде в их пользовании земель и лишила их необходимейших для нормального ведения хозяйства угодий. Реформа в то же время наложила на крестьянство непосильное бремя платежей. Несмотря на «освобождение» личности крестьянина от юридической власти землевладельца, крестьянство осталось
- 10 -
низшим сословием, отданным в полную опеку чиновно-полицейскому аппарату, зависимым фактически от того же землевладельческого дворянства. Не имея хоть сколько-нибудь удовлетворительных участков земли, крайне нуждаясь в деньгах на оплату выкупных платежей и всё растущих налогов, крестьяне должны были идти в кабалу к помещикам — арендовать у них землю (подчас свою же землю, отрезанную при реформе) за «отработки», представлявшие собою по одной только форме измененную барщину.
При таких именно условиях в крестьянстве совершался окончательный переход от натурального к денежному хозяйству, происходило всё более широкое вовлечение деревни в водоворот товарно-рыночных отношений. Слабое и беспомощное в большинстве крестьянское хозяйство, поставленное перед лицом сложных и трудных для него экономических задач, падало, деградировало. Уже в конце 60-х годов даже столь умеренный писатель, как Скалдин (Ф. П. Еленев), автор известных очерков «В захолустье и в столице», отстаивал мысль о «безвыходности» положения крестьян, принужденных «ограничивать все свои помыслы и надежды только двумя целями: уплатить повинности и наполнить чем попало свои желудки».1
Имея широкую возможность использовать безысходную нужду крестьян в земле и их вынужденную готовность принимать любые условия, диктуемые помещиками, еще не привыкнув, кроме того, к капиталистической постановке дела и не всегда располагая для нее средствами, многие землевладельцы либо попрежнему применяли чисто барщинную систему хозяйства, либо обращались к смешанным формам, соединявшим черты барщинного (отработочного) и капиталистического хозяйства. Однако переход помещиков от барщинного к капиталистическому хозяйству постепенно усиливался, сфера применения чисто капиталистических методов хозяйствования расширялась.
В совершавшемся исподволь вытеснении отработочной системы капиталистической важнейшую роль играло (как это разъяснено и подчеркнуто Лениным в «Развитии капитализма в России») разорение крестьянства, его разложение или «раскрестьянивание». Отмеченное выше бедственное положение крестьянства, его обнищание и разорение характеризуют обстановку существования рядовой трудящейся крестьянской массы. Но, выделяя на одном полюсе массу бедняков, пролетариев и полупролетариев, крестьянство на другом полюсе выделяло сравнительно немногочисленный слой зажиточных, кулаков, складывавшихся в сельскую буржуазию. В разложении крестьянства находил существенное выражение факт проникновения в деревню, в крестьянство, в сельскую общину капиталистических отношений. В конце 90-х годов В. И. Ленин писал: «Вопреки теориям, господствовавшим у нас в последние полвека,2 русское общинное крестьянство — не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его».3
Развитие капиталистических отношений в помещичьем и в крестьянском хозяйстве было фактом, в подтверждение которого действительность чем дальше, тем больше представляла данные, веские и убедительные для всех, умеющих понимать действительный смысл общественных явлений. Вместе с тем оставались и могущественные крепостнические пережитки, прежде всего — господствующее положение помещиков в землевладении, существование колоссальных помещичьих латифундий. Ленин и в первом, и во втором
- 11 -
десятилетиях XX века мог с полным основанием говорить попрежнему о придавленности чисто капиталистических отношений крепостническими, видя в этом обстоятельстве, в борьбе массы населения против крепостнических отношений — сущность и своеобразие аграрного вопроса в России.
1
В обстановке перехода от крепостничества к капитализму, при значительном переплетении капиталистических и крепостнических (или полукрепостнических) отношений, но при непрерывном росте и упрочении капитализма русское освободительное движение пережило полосу господства так называемого народничества. И именно проблема капитализма являлась коренной, принципиальной проблемой народничества, выступавшего в роли критика капитализма с позиций подавляемого капитализмом мелкого производителя.
Основным положением народничества было признание возможности для России отличного от западноевропейского — некапиталистического — пути развития. «Народники, — писал В. И. Ленин в 1911 году в связи с 50-летием «крестьянской реформы», — проповедывали всегда в своих теориях, начиная с 1861-го года (а их предшественники еще раньше, до 1861-го года) и затем в течение более полувека, иной, т. е. некапиталистический, путь для России».1 Здесь Ленин имел, конечно, в виду народников «в самом широком значении этого слова»,2 обнимающем и представителей русского «крестьянского социализма» 40—60-х годов (во главе с Герценом и Чернышевским), и носителей народнической идеологии в той более специфической форме, которая вполне определилась позднее, примерно на рубеже 60-х и 70-х годов, и за которой собственно и закрепился в дальнейшем в литературе и общественном мнении термин «народничество».
Народничество было сложным явлением, в нем существовали различные течения и оттенки: были народники-революционеры (гегемония революционного народничества характерна для семидесятых годов) и либеральные народники; в самом революционном народничестве существовали разные фракции, как были те или иные различия и внутри легального народничества. Но именно мечтание об особом пути социально-экономического развития России было общим для всего народничества в целом. Всем народникам свойственны были: «осуждение» капитализма как упадка, регресса по сравнению с якобы самостоятельным хозяйством мелких производителей; та или иная степень идеализации общины, а также артели и кустарных промыслов, соединенных с земледелием; признание «общинного крестьянства» чем-то высшим и лучшим сравнительно с капитализмом.3
Из трех народнических «китов» (община, артель, кустарные промыслы) особо решающая роль придавалась общине, которая не только должна была предотвратить, по мысли народников, утверждение капитализма в России, разорение и пауперизацию крестьянства, но и рассматривалась как зародыш и база социализма. Сторонники общины, по словам Н. К. Михайловского, «видели в ней надежное убежище для крестьянской личности от грядущих бед капиталистического порядка». «Правда была, — как убежден был Михайловский, — на их стороне, потому что с распущением общины» у нас должен был бы «повториться процесс европейского экономического развития».4
- 12 -
Ультра-«оптимистом» народничества, с народнической же точки зрения, был В. В. (В. П. Воронцов), один из главных народнических экономистов. Напирая особенно на «международную обстановку» (невозможность, по его мнению, для России конкурировать на внешних рынках с высокоразвитыми капиталистически западными странами), горячо, с другой стороны, доказывая живучесть так называемого «народного земледелия», кустарных промыслов и пр., В. В. отстаивал тезис о «мертворожденности русского капитализма», о наличии «неустранимых препятствий» для «введения в России западных порядков». Капитал в России В. В. расценивал как «узурпатора», «незаконное дитя истории». Выступив с обоснованием своей позиции в статье «К вопросу о развитии капитализма в России» в сентябрьском номере «Отечественных записок» за 1880 год,1 В. В. затем повторял и развивал свои доводы в бесчисленных журнальных статьях и отдельных книгах («Судьбы капитализма в России», «Наши направления» и др.). В сущности идеи В. В. представляли собою самую «последовательную» и одновременно наиболее примитивную форму народнической социально-экономической мысли. К тому же В. В. сразу выступил тогда в литературе как яркий выразитель легалистской, сугубо оппортунистической тенденции в народничестве, связанной с неверием в революцию, с отказом от политической борьбы — не по анархо-максималистским соображениям, а в силу своеобразной идеализации наличной государственной власти, которую В. В. настойчиво звал помочь «народному производству».
Подсмеиваясь над прямолинейностью В. В. и пытаясь занять более гибкую позицию, Н. К. Михайловский (как и все его ближайшие единомышленники) имел с тем же В. В. во многом общую теоретическую почву. Михайловский не считал, что прошлое и настоящее России «фатально» ее «гарантируют» от победы капитализма.2 Он, напротив, почти непрерывно «пугал» русскую интеллигенцию успехами капитализма, ростом силы и влияния буржуазии. Но торжество капитализма рассматривалось им только как возможность, «угрожающая» стране в будущем, возможность, которую можно и должно предотвратить. При этом, как правило, Михайловский весьма умалял (говоря словами позднейшей марксистской публицистики) наличность капитализма в России, «закрывал глаза на то, что есть, и вопрос о факте превращал в вопрос о желательном или должном».3
С самого начала 70-х годов Михайловский, являясь выразителем настроений и побуждений широкого круга современников, выступал на страницах «Отечественных записок» с защитой позиции, которую можно схематически формулировать так: капиталистические отношения и буржуазные интересы, с ними связанные, в России пока слабы, малозначительны; Россия еще в сущности переживает состояние «зародыша», «чистой доски» (tabula rasa), и направление ее дальнейшего развития зависит от энергии, характера, успешности деятельности ее передовых, преданных интересам народа, сил; однако действительность не стоит на месте, облюбованный народниками «тип народной жизни» (якобы враждебный капитализму, — Ред.) с каждым годом, даже с каждым днем «грозит изменением и приближением к европейскому типу», и нужна, следовательно, безотлагательная и самая настойчивая борьба с той неблагоприятной обстановкой народной жизни, которая открывает доступ вторжению капитализма и постепенно усиливает его.
- 13 -
Построение Михайловского с первых шагов было утопичным; с течением времени отстаивание этих взглядов Михайловским и его друзьями становилось более вредным с точки зрения развития общественной мысли и революционного движения. Между тем Михайловский, у которого подчас срывались и более трезвые оценки действительности (особенно в пору второй революционной ситуации),1 в общем и целом продолжал упорно цепляться за свои теории самобытного социально-экономического пути, возможности обойти капиталистическую стадию развития.
С этих именно позиций Михайловский и редактируемое им «Русское богатство» много лет спустя, в начале 90-х годов, объявили войну молодым русским марксистам. Вспоминая высказывания Михайловского 70-х годов, в частности его известную статью 1877 года «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского», один из выдающихся представителей раннего русского марксизма Н. Е. Федосеев указывал ему (в 1894 году): «С тех пор много воды утекло, много произошло перемен, но Вы ничему не научились, ибо с живым увлечением повторяете старые слова...».2
С народнической оценкой капитализма и его перспектив в России неразрывно было связано отношение народников к разным общественным классам и слоям. Как показывает уже само название этого идейного направления, его сторонники должны были проявлять самый живой интерес к вопросу о народе, о его положении, нуждах, настроениях и стремлениях. Понятие «народ» для народников сводилось прежде всего и главным образом к крестьянству. К служению крестьянству, к отдаче ему «долга», лежащего на интеллигенции, призывала читателя народническая публицистика и литература. Левое народничество к крестьянской массе (руководимой интеллигенцией) приурочивало свои революционные надежды и планы.
Веря в коммунистические «традиции» и «инстинкты» русского крестьянства, признавая общину рычагом для социалистического преобразования общества, исходя, наконец, из факта количественного преобладания крестьянства в России и чрезвычайно угнетенного его положения, народники выдвигали его (крестьянство), а не пролетариат, в качестве главной освободительной, революционной силы. Существование рабочих в России, конечно, не игнорировалось и не могло игнорироваться. Но, всемерно подчеркивая непорванную связь значительной части тогдашних рабочих с деревней, народники рассматривали обычно городских рабочих как один из отрядов того же крестьянства. Пусть в одних случаях рабочих расценивали как «испорченных» городской буржуазной культурой крестьян, а в других, напротив, ценили в качестве наиболее подвижного и активного, наиболее восприимчивого к революционной пропаганде народного слоя (вторая точка зрения усиливалась по мере приближения к концу 70-х годов, и в среде деятелей «Народной воли» уже раздавались голоса о «передовой роли» «рабочего населения городов» «во всем народе»).3 Всё равно принципиальный взгляд на соотношение крестьян и рабочих по существу
- 14 -
не менялся: деревня сохраняла в глазах народников значение основного центра народной жизни, крестьянство — главной народно-революционной силы. Понятно, что непонимание народниками самостоятельного места рабочего класса, его великой исторической миссии играло роль тормозящего фактора в развитии подлинно классового самосознания среди революционеров-рабочих описываемой эпохи.
Видя в крестьянском «народе» главную массовую революционную силу страны, народники (по крайней мере значительная их часть) в то же время роль ведущей и направляющей силы революционной борьбы, да в известном смысле и вообще всего поступательного исторического движения, приписывали «критически мыслящей» интеллигенции. Плеханов в одной из своих ранних (и важнейших) марксистских работ — в «Наших разногласиях» — справедливо отмечал, что у народников рядом с беззаветной идеализацией народа и с убеждением (убеждением большинства семидесятников-революционеров) в том, что «освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся», уживалась интеллигентская «самоуверенность». Взывая к интеллигенции, народнические вожди «ожидали социальных чудес от ее деятельности и полагали, что ее преданность заменит народную инициативу, ее революционная энергия займет место внутреннего стремления русской общественной жизни к социалистической революции».1
Обоснованием народнических взглядов на особое историческое призвание интеллигенции (как совокупности борющихся критически мыслящих личностей) занимался П. Л. Лавров в своих нашумевших «Исторических письмах» (впервые в «Неделе» за 1868—1869 годы, отдельно в 1870, потом в 1891 годах). Со своей стороны и Михайловский немало потрудился над созданием ошибочного, утопического учения о личности, об интеллигенции — как «главном архитекторе»2 истории.
Взгляды Лаврова, Михайловского и ряда других народнических идеологов на роль интеллигенции, личности составляли часть их общих идеалистических философско-социологических воззрений. Известна оценка В. И. Лениным философии Михайловского как шага назад от Чернышевского. «Чернышевский, — писал Ленин в 1914 году в статье о Михайловском, — был материалистом и смеялся до конца дней своих (т. е. до 80-х годов XIX века) над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные „позитивисты“ (кантианцы, махисты и т. п.). А Михайловский плелся именно за такими позитивистами».3 Еще в 1870 году в статье «Суздальцы и суздальская критика», посвященной разбору ряда работ о позитивизме, Михайловский признал свою большую или меньшую солидарность с последним в ряде существенных пунктов (о «границах исследования», о классификации наук, о «законе трех фазисов»).4 В частности, Михайловский одобрительно отзывается там и о «субъективном методе в общественной науке», принятом известным теоретиком позитивизма Огюстом Контом, о том самом антинаучном, идеалистическом «субъективном методе», которым пытались руководствоваться во всей своей литературно-теоретической деятельности и Михайловский, и Лавров, и ряд их учеников и последователей. Вопрос о «субъективном методе», однако,
- 15 -
отнюдь не был только вопросом о методе изучения социологических явлений; сами последователи Михайловского — Лаврова вполне признавали, что «субъективный метод исследования и решающая роль субъективных элементов в процессе общественного развития неразрывно связаны одно с другим».1 В качестве важнейшего из таких «субъективных элементов» рассматривалась сознательная воля критически мыслящей интеллигенции, ставящей своей целью «делать историю», двигать ее «в направлении своего идеала».2
П. Л. Лавров.
Фотография. 1870-е годы.Не только в философии и некоторых общих проблемах социологии, но и в теоретическом и практическом решении отдельных вопросов современной общественно-политической жизни проявился «шаг назад» народнических идеологов 70-х годов по отношению к главным деятелям эпохи Чернышевского, прежде всего, конечно, к самому Чернышевскому.
Заслуживает в этой связи внимания проблема «политики», политической борьбы в народничестве.
Не может быть никаких сомнений в том, что все демократические силы народничества всегда были проникнуты глубокой враждебностью как к помещичьему классу, так и к режиму царизма. Общеизвестна ленинская оценка народничества как движения, направленного против помещичьего землевладения и крепостнического государства. Уничтожение всего средневековья в политическом строе (говоря ленинскими же словами) было, несомненно, с самого начала одной из объективных целей народнической борьбы, являвшейся в этом смысле прямым продолжением и развитием революционной борьбы поколения демократов 50-х и 60-х годов. Но известно и то (и об этом также неоднократно напоминал Ленин), что на определенном этапе народничество не ставило перед собой самостоятельной задачи политической борьбы, считало даже такую борьбу отступлением от социализма.
В народническом движении 70-х годов значительным влиянием пользовались анархические теории Бакунина — не только рекомендовавшаяся Бакуниным «бунтарская» тактика, но и бакунинское отрицание всякой «государственности» и какого бы то ни было участия в политических движениях.3
Другой из авторитетных для революционной молодежи 70-х годов народнических идеологов — П. Л. Лавров — с своей стороны был в немалой степени заражен аполитическими предрассудками утопического социализма, являлся если не последовательным анархистом, то, по крайней мере,
- 16 -
полуанархистом и лишь постепенно освобождался от анархистских тенденций. С анархизмом, правда, расходился П. Н. Ткачев, также принадлежавший к числу крупнейших народнических теоретиков, действовавших в 70-е годы в эмиграции. Но для Ткачева, последователя Бланки, все политические задачи сводились к подготовке заговора интеллигентного меньшинства с целью захвата власти. Политического движения в ином смысле и Ткачев не признавал. От аполитического этапа народничества нельзя отделить Михайловского (впоследствии одним из первых среди народников перешедшего на позиции политической борьбы).
Страх перед усилением влияния буржуазии в результате политической перемены, не сопровождаемой немедленно социальным переворотом, и одновременно с этим непосредственная ориентация на крестьянскую социалистическую революцию, одним ударом разрушающую и экономический и политический гнет, питали недоверие массы народников-семидесятников к политической борьбе.
Нечего и доказывать, что теоретические убеждения народников оказывались в противоречии с внутренним смыслом их деятельности, с самого начала имевшей объективно политическое значение. Понятно, однако, что этот разрыв между теорией и реальным содержанием работы вредил успеху последней. Развитие политического движения, направленного против царизма, тормозилось господством анархо-народнического предубеждения против «политики».
Разочарования, испытанные во время «хождения в народ», страшное возмущение зверскими преследованиями, обрушенными властью на самих пропагандистов-народников, безостановочный рост народного разорения при явном изо дня в день обогащении буржуазно-кулацкой верхушки, ряд крупных общественно-политических событий, особенно русско-турецкая война 1877—1878 годов, — всё это способствовало преодолению своеобразного народнического аполитизма. Правда, часть народников сопротивлялась новым веяниям. С другой стороны, у сторонников последних переход к «политике» сопровождался опасным для революции увлечением террористическими методами борьбы, усилением тенденции к подмене народной революционной самодеятельности борьбой горстки героев. Но как бы то ни было сам по себе отказ большинства революционеров от прежнего взгляда на политическую борьбу и сознательное выдвижение задачи уничтожения политического гнета царизма, как важнейшей ближайшей цели движения, знаменовали собой крупный шаг вперед всего русского освободительного движения. «...мы должны поставить своей ближайшей задачей — снять с народа подавляющий его гнет современного государства, произвести политический переворот с целью передачи власти народу», — провозглашалось в программе Исполнительного комитета «Народной воли»,1 составленной и утвержденной в конце 1879 года.
В ходе предшествующего изложения упоминались виднейшие представители соперничавших между собой фракций революционного народничества; из этих фракций более многочисленной была бунтарско-бакунистская, второй по степени распространенности — лавристская, или впередовская (ее органами были непериодическое обозрение и двухнедельник «Вперед»), наименее, особенно вначале, влиятельной — ткачевско-бланкистская (или группа «набатовцев» — по имени печатного органа «Набат», выпускавшегося Ткачевым).
Хотя нет оснований ставить полностью знак равенства между взглядами, с одной стороны, самих Бакунина и Лаврова, а с другой — воззрениями
- 17 -
Иллюстрация:
«Исторические письма» П. Л. Миртова. Титульный лист первого издания. 1870.
- 18 -
всех тех действовавших в России активных народников, которые почитались их последователями, тем не менее литературные высказывания Бакунина и Лаврова служат существенным материалом для суждения об основных позициях и настроениях бунтарского и лавристского1 течений.
В бакунизме в наиболее сильной степени выразилась народническая вера в неодолимую стихийную революционность крестьянских масс. Русский мужик, — утверждал Бакунин, — прирожденный социалист и естественный враг государства. Вследствие отчаянного положения, в котором находится крестьянин, он всегда готов подняться на борьбу, на бунт. Народ, собственно, «никогда не переставал бунтовать». Он, кроме того, постоянно выделяет из себя особый разряд бунтовщиков по преимуществу — это «лихие ребята», бегущие в леса от «государственных злодеев» и становящиеся разбойниками; разбой — «одна из почетнейших форм русской народной жизни», в нем — «предание народных обид, ...доказательство жизненности, страсти и силы народа». Успеху борьбы, которую народ беспрестанно ведет против своих врагов, мешает разобщенность, разъединенность крестьянства. Необходимо соединить все «частные бунты» народа в один «поголовный» бунт, в «народную революцию». В этом долг революционной интеллигенции. Ее задачей не является учить народ. «Мы (т. е. интеллигенция, — Ред.) должны народ не учить, а бунтовать», должны принести ему «единство повсеместного движения».2
П. Л. Лавров (во «Вперед», в брошюре «Русской социально-революционной молодежи») центр тяжести революционной работы переносил на пропаганду, т. е. как раз на ту задачу «учить народ», о которой с пренебрежением отзывался М. А. Бакунин. Лавров требовал «подготовления» народа к революции прежде всего путем социалистической пропаганды в его среде. Вместе с тем Лавров и самое интеллигенцию не считал «готовой», находя в ней пока недостаточный уровень и «социологического понимания», и «нравственного убеждения», он призывал ее настойчиво работать над собой. Весьма большие требования, предъявляемые Лавровым в области научной подготовки будущих пропагандистов, даже рассматривались большинством активной молодежи как увод в сторону от немедленной и прямой революционной деятельности и вызывали энергичные протесты. Не следует, впрочем, думать, что Лавров отодвигал революцию в сколько-нибудь отдаленное будущее. Он полагал, что можно систематической пропагандой в крестьянстве подготовить социальную революцию за немногие годы.
Надо заметить, что Лавров оказался левее многих своих последователей; в местных лавристских кружках была известная часть культурнических элементов; впоследствии Лавров сетовал на то, что его сторонники в России уклонялись от усиления «боевого характера» своей фракции и в конце концов перешли к политике «выжидания», которая является, как писал Лавров, «синонимом самоубийства» для всякой партии.3
П. Н. Ткачев (как и Бакунин) резко расходился с Лавровым по вопросу о «подготовлении» революции. Ткачев доказывал, что всякий народ,
- 19 -
Иллюстрация:
«Положение рабочего класса в России» Н. Флеровского. Титульный лист
первого издания. 1869.
- 20 -
задавленный произволом и измученный эксплуататорами, «всегда может», «всегда хочет» сделать революцию и «всегда готов к ней».1 В частности о России он утверждал (в своем полемическом «Открытом письме» Энгельсу, вызвавшем известный уничтожающий ответ последнего), что здесь «осуществление социальной революции... не представляет никаких затруднений, что в любой момент можно подвинуть русский народ к общему революционному протесту».2 Будучи весьма близок в подобных своих оценках к Бакунину, Ткачев, как уже отмечалось, выделялся своей критикой общих «принципов» анархизма, а с другой стороны — прямым и открытым отрицанием лозунга «освобождение народа посредством народа». Ткачев полагал, что народ сам «не может» себя спасти, что — «себе предоставленный» — народ ни в настоящем, ни в будущем не осуществит идеи социальной революции, которую должна «сделать» и «как можно скорее» революционная интеллигенция. Народу предоставлялась роль «разрушительно-революционной» силы, энергию которой развязывает инициативное революционное меньшинство, «искусно» направляющее ее затем к уничтожению «непосредственных тиранов-эксплуататоров». В дальнейшей созидательной «реформаторской деятельности» меньшинство, захватившее власть, опять-таки «не должно» было, по мнению Ткачева, «рассчитывать на активную поддержку народа».3
П. Н. Ткачев.
Фотография. 1863.Н. К. Михайловский не возглавлял какой-либо отдельной фракции или группировки в движении того времени. Относительно он стоял ближе к Лаврову, далеко не во всем сходясь, однако, и с ним. Хотя Михайловскому и приходилось сотрудничать в подпольной и зарубежной прессе, его деятельность в целом протекала в легальной печати (с конца 60-х до начала 80-х годов в «Отечественных записках»). В сущности Михайловский даже и семидесятых годов не принадлежит целиком и безоговорочно революционному народничеству: уже и в то время у него были отдельные точки соприкосновения с «мирными», либеральными народниками, подвизавшимися рядом с левыми народниками на страницах и «Отечественных записок», и «Дела», и «Слова», и «Недели», и артельного «Русского богатства». Недаром В. И. Ленин, отмечая в качестве исторических заслуг Михайловского его «искреннюю и талантливую» борьбу с крепостничеством и самодержавием, его горячее сочувствие угнетенному положению крестьян, его уважение к подполью и помощь ему, одновременно подчеркивал
- 21 -
у Михайловского «колебания к либерализму» и ставил вопрос о том, что «оппортунисты народничества» из «Русского богатства» позднейших времен могут быть признаны в общем верными его продолжателями.1
М. А. Бакунин.
Фотография. 1870-е годы.В 70-х годах Михайловский, не отделяя себя вообще от тогдашнего революционного поколения, с которым он теснее всего сблизился в пору расцвета «Народной воли», очень резко подчеркивал мысль о ведущем значении борьбы интеллигенции. В 1879 году на страницах «Народной воли», споря с «людьми мирного прогресса», надеющимися на «заботы» самодержавия о народе (хотя «оно до костей исклевало крестьянина своим железным носом»), Михайловский не соглашался и с теми «людьми революции», которые «рассчитывают на народное восстание». «Это, — писал Михайловский, — дело веры. Я не имею ее». Настойчиво призывая тогда к активной борьбе с самодержавием («бейте по обеим головам кровожадной птицы» — двуглавого орла), Михайловский возлагал надежды главным образом на демократическую интеллигенцию, да отчасти и на возможную поддержку со стороны либерального общества.2
Говоря об идейных факторах освободительного движения 70-х годов, нельзя пройти мимо воздействия на него легальной демократической журналистики. Важнейшим ее органом были не раз упоминавшиеся «Отечественные записки», возродившиеся к новой жизни в 1868 году с переходом в руки Некрасова. Три члена бывшей редакции «Современника» — Некрасов, Елисеев и Салтыков-Щедрин — возглавили коренным образом обновленный старый журнал Краевского. Михайловский, игравший всё время (с 1869 года) видную роль среди его сотрудников, вступил в редакцию вместо Некрасова после смерти последнего (1877). «Отечественные записки» просуществовали до 1884 года, когда были задушены царизмом.
«Отечественным запискам» 1868—1884 годов принадлежит почетнейшее место в истории русской публицистики и литературы. Некрасов, Салтыков-Щедрин, Елисеев, Михайловский, а вместе с ними и Глеб Успенский являлись центральными фигурами в журнале. Некрасов и Щедрин руководили непосредственно литературно-художественной частью «Отечественных записок», определяя в основном и целом и весь их общий дух. Михайловский, Елисеев, в немалой мере Успенский наряду со Щедриным и Некрасовым оказывали весьма серьезное влияние на публицистику журнала.
Вокруг литературного отдела «Отечественных записок» Некрасов и Щедрин сумели сплотить десятки крупных беллетристов и поэтов, талантливых
- 22 -
представителей критического реализма, поборников народности, демократизма, участвовавших своим художественным словом в общей освободительной борьбе. Лицо отдела определялось в первую очередь произведениями Некрасова и Щедрина, привлекавшими к журналу интерес, внимание и любовь широких читательских кругов. Некрасов поместил в журнале большую часть «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Дедушка», «Недавнее время», «Русские женщины», «Современники», множество лирических стихов. Щедриным здесь были напечатаны «Письма из провинции», «История одного города», «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Помпадуры и помпадурши», «Современная идиллия», «В среде умеренности и аккуратности», «Убежище Монрепо», «Круглый год», «За рубежом», «Господа Головлевы», «Письма к тетеньке» и т. д. «Отечественными записками» была опубликована подавляющая часть относящихся к концу 60-х — началу 80-х годов произведений Успенского, в том числе «Разоренье», «Из деревенского дневника», «Власть земли». В журнале печатались романы и повести выдающихся писательниц демократического лагеря — Марко Вовчок (М. А. Маркович) и В. Крестовского (Н. Д. Хвощинская), некоторые романы Решетникова, очерки, рассказы, повести писателей-народников — Златовратского, Засодимского, Каронина. Тут появилось большинство рассказов Гаршина, произведения Кущевского, Осиповича-Новодворского, некоторые из крупных сочинений Мамина-Сибиряка. Из поэтов печатались в журнале Алексей Жемчужников, Плещеев, братья Курочкины, Минаев, Надсон, Якубович и другие. Из года в год январские книжки «Отечественных записок» открывались пьесами Островского («Горячее сердце», «Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы», «Таланты и поклонники» и др.). Беллетристика, поэзия, драматургия «Отечественных записок», представленная произведениями и авторами далеко не во всем согласными (достаточно напомнить о расхождениях в освещении крестьянской жизни между Успенским и Златовратским), объединялись глубокой обличительной тенденцией, горячей преданностью народу, стремлением познать действительность и всемерно способствовать ее перестройке в интересах трудящихся.
Отдел публицистики и науки1 также объединял литераторов и ученых, в большинстве проникнутых демократическими стремлениями. Это не значит, что среди них не было существенных идеологических различий. В общественных и литературно-критических обозрениях, в статьях, освещавших те или иные проблемы социальных наук, в общем преобладал народнический тон. Как представители тех или иных оттенков чисто народнической мысли, либо как деятели, близкие хотя бы отдельными сторонами своих воззрений к народничеству, выступали в журнале Н. К. Михайловский, Г. 3. Елисеев, П. Л. Лавров, А. Н. Энгельгардт, В. В. Берви-Флеровский, С. Н. Кривенко, В. П. Воронцов, Я. В. Абрамов, С. Н. Южаков, критики А. М. Скабичевский, М. А. Протопопов, историк А. П. Щапов. Ряд публицистов «Отечественных записок» отражал (с различной степенью последовательности) тенденции революционного народничества, не без колебаний иной раз в сторону «левого» либерализма; у других — либерально-народнические тенденции сказывались более заметно. Оппортунистические ноты звучали у одного из главных руководителей журнала Елисеева. «Внутреннее
- 23 -
обозрение», которое долгое время вел в «Отечественных записках» Елисеев, содержало громадный познавательный материал, вскрывало несостоятельность существующего порядка во всех сферах жизни и управления. Оно было пропитано насквозь заботой о нуждах крестьянства. Шелгунов в своих воспоминаниях выразил впечатление многих современников, когда писал, что «мужик», занимавший «так много места» в «Отечественных записках», обязан во многом (Шелгунов даже преувеличенно утверждал: «Во всем») именно Елисееву. «Конечно, — писал Шелгунов, — не Елисеев его выдумал, но он его сконцентрировал в журнале...».1
Однако Елисеев периода «Отечественных записок» был по существу довольно далек от революционных планов и ожиданий и в своей положительной программе, как и в тактике, часто соскальзывал на либерально-народнические позиции. Внутри редакции это вызывало протесты прежде и сильнее всего со стороны Щедрина.
Анализ материалов приводит к убеждению, разделяемому рядом исследователей, что Щедрин не выступал как сторонник теоретической народнической «догмы» или «доктрины»; он, судя по всему, не разделял народнической веры в общину и одним из первых увидел пришествие капитала в России, причем в конце жизни прямо высказывал мнение (пусть в несколько условной форме), что России придется пережить «эпоху» буржуазного господства («чумазовского торжества»).2
Разделяли также Щедрина с народничеством в той или иной степени философско-социологические воззрения. Он оставался сторонником философского материализма; ему был присущ (несмотря на то, что он не мог подняться до исторического материализма) глубокий социологический реализм. Вместе с тем между поколением народнических революционеров и Щедриным были существенные точки соприкосновения, которые создавали достаточную почву для их совместной борьбы, в частности для общей работы с рядом народников в «Отечественных записках». Это — общая и Щедрину, и лучшим демократам-народникам — острая озабоченность судьбами деревни, поддержка вольнолюбивых чаяний крестьянства, тяга в народ, ненависть к самодержавию, стремление к скорейшему освобождению Родины от его ига, враждебное отношение к капиталистическому порядку, презрение к либерализму, убеждение в необходимости революционных методов борьбы против существующего строя. Щедрин поэтому с живым сочувствием следил за революционным движением демократической молодежи 70-х годов; он, не разделяя чрезмерного революционного «самомнения» передовой радикальной интеллигенции, высоко ценил ее общественный подвиг («Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе», XVI, стр. 420). Молодежь платила Щедрину горячим уважением и любовью, видя в нем одного из своих идейных воспитателей, надежного союзника и руководителя. Характерным выражением (одним из многочисленных) отношения к Щедрину передовой демократической молодежи можно считать адрес, обращенный к нему студентами одного из провинциальных университетов. Студенты приветствовали Щедрина «как испытанного, закаленного вождя, как свою несокрушимую твердыню, вокруг которой возможно собраться дружной толпой и устоять в борьбе».3
- 24 -
*
Переходом к новому фазису в освободительном движении — к «семидесятым» годам — следует считать ряд политических и литературно-общественных событий, приходящихся на 1868—1869 годы.
Сюда относятся такие факты, как студенческие волнения 1869 года (и их подготовка — с осени 1868 года), идейная борьба среди молодежи вокруг агитационных и организационных попыток, связанных отчасти с именем Сергея Нечаева, и зарождение крупной и влиятельной в дальнейшем революционной группы Натансона и других.1 Сюда же относятся такие явления литературно-общественной жизни, как выход в свет «Положения рабочего класса в России» Флеровского, «Исторических писем» Миртова (Лаврова), работы Михайловского «Что такое прогресс?» и т. д. С этим же временем связано и возникновение новых «Отечественных записок», важнейшего общедемократического органа (легального) всего периода.
На время с 1868—1869 по 1873 годы приходится этап подготовки и назревания того широкого движения демократической молодежи, которое определилось к 1874 году в форме «хождения в народ».
Типичной для этих лет является деятельность только что упомянутой группы, основанной в 1869 году Марком Натансоном и развернувшей наиболее интенсивно свою работу с 1871 года. Группа эта возникла в Петербурге, где и в последующем находилось ее основное ядро; но с этим петербургским ядром был объединен ряд более или менее значительных революционных групп в Москве, Киеве, Одессе, Харькове и некоторых других городах. Толчком к образованию натансоновской группы послужили волнения студенчества в Петербурге весною 1869 года, явившиеся симптомом начинавшегося нового оживления демократического движения, и имевшая прямую связь с теми же волнениями агитация Нечаева и его сторонников, рассчитывавших использовать волнения в целях самой лихорадочной и поспешной подготовки большого крестьянского восстания (надежды на возможность такого восстания поддерживались в них брожением в народе, связанным с предстоявшим в 1870 году прекращением 9-летнего срока с момента реформы 19 февраля, в течение которого бывшие помещичьи крестьяне не имели права отказываться от своих наделов). Вокруг Натансона, его ближайшего сподвижника В. Александрова и других объединились те элементы в радикальном студенчестве, которые, во-первых, считали тогда беспочвенными и опасными для революционного дела планы «нечаевцев» и, во-вторых, с самого начала возмущались теми крайне неблаговидными приемами, к которым прибегал Нечаев в своем стремлении поскорее сколотить революционную организацию для попытки осуществить эти планы (крайний авторитаризм, иезуитство, мистификаторство).
«Нечаевские» организационные попытки (в Петербурге, затем и в Москве) были быстро разбиты правительством.2 Оппозиционная Нечаеву группа, несмотря на понесенные потери, уцелела и в ближайшие годы выросла
- 25 -
в серьезную революционную организацию.
П. А. Кропоткин.
Фотография. 1900-е годы.После 1871—1872 годов в этой организации работали такие видные (выдвинувшиеся впервые именно в ней) деятели революционого движения, как С. М. Кравчинский (Степняк), Д. А. Клеменц, П. А. Кропоткин, Л. Э. Шишко, С. Л. Перовская, С. С. Синегуб и другие.1 В московском кружке той же организации находились А. И. Иванчин-Писарев, Л. А. Тихомиров (впоследствии ренегат), Н. А. Морозов, М. Ф. Фроленко, в киевском — Я. В. Стефанович, П. Б. Аксельрод, в одесском — Ф. В. Волховский, А. И. Желябов. Развертывание работы группы и вообще постепенный подъем русского революционного движения в первой половине 70-х годов совершались не только под влиянием условий внутренней жизни, но и под сильным воздействием международных событий, в первую очередь таких, как Парижская Коммуна, борьба I Интернационала (хотя вполне правильная оценка и Коммуны, и тем более положения в Интернационале не была доступна революционерам-семидесятникам в силу их идейной ограниченности).
Практическая деятельность группы (будем ее условно именовать Петербургской революционной группой начала 70-х годов или группой Кравчинского — Кропоткина — Перовской) заключалась в организации и руководстве многочисленными молодежными кружками, в распространении, а затем и издании (постепенно расширявшемся) социалистической и демократической литературы — легальной и нелегальной, наконец, в 1872—1874 годах в установлении значительных по тому времени связей и налаживании пропаганды среди рабочих. Предпринимались уже и отдельные опыты пропаганды среди крестьян (этой-то пропаганде в крестьянстве должна была главным образом послужить в будущем деятельность среди рабочих, рассматривавшихся в качестве самых подходящих посредников между революционной интеллигенцией и деревней).
- 26 -
Уместно здесь несколько подробнее остановиться на так называемом «книжном деле» группы, осуществлявшемся, впрочем, при денежной и практической помощи и других, более мелких кружков. «Книжное дело» сначала было ориентировано только на интеллигенцию, но затем имело уже в виду и «народ» (ближайшим образом — рабочих, в перспективе — и крестьян).
Круг сочинений, распространяемых пропагандистами, был довольно велик, охватывая ученые и публицистические труды, а также художественную литературу. Разумеется, большое место отводилось Чернышевскому, Добролюбову, Писареву.1 Популярны были сочинения ряда русских и иностранных историков и социологов (Костомарова — главным образом «Северно-русские народоправства», Щапова, Мордовцева, Луи Блана, Бокля, Дрэпера и др.). Широко распространялся первый том сочинений Лассаля, изданный в 1870 году в переводе В. А. Зайцева.2
Огромное значение (несмотря на всю ограниченность понимания и истолкования этого великого труда подавляющим большинством тогдашних читателей) имел выход весною 1872 года первого тома «Капитала» Маркса, перевод которого был выполнен частью Германом Лопатиным, а в основном «Николай-оном» (Н. Ф. Даниельсоном).3 Кроме «Капитала», изданного в самой России (в Петербурге) легально, однако подвергшегося скоро преследованию, распространялась вышедшая за границей работа Маркса о Парижской Коммуне — «Гражданская война во Франции».4
Известностью пользовались «Отщепенцы» бывшего сотрудника «Русского слова» Н. В. Соколова, книги беллетриста и публициста А. К. Шеллера-Михайлова «Пролетариат во Франции» и «Ассоциации». Громадна была популярность уже упоминавшихся не раз лавровских «Исторических писем» (импонировавших едва ли не всей демократической молодежи, без различия направлений, своими идеями о «цене прогресса», об ответственности интеллигенции и ее «долге» перед народом) и «Положения рабочего класса» Флеровского.5 Незадолго уже до большого похода «в народ», в конце 1873 года, в России получили распространение некоторые бакунинские книги («Государственность и анархия» в том числе), изданные в Женеве его ближайшими единомышленниками. Тогда же в Россию пришел и первый том Лавровского «Вперед».
- 27 -
С. Л. Перовская.
Фотография. 1870-е годы.
- 28 -
Н. А. Морозов.
Фотография А. Рентца и Ф. Шрадера. 1900-е годы.
- 29 -
Немало произведений художественной литературы находилось «на вооружении» революционеров-пропагандистов 70-х годов. Использование этой литературы происходило различными способами. Иногда в кружках читались те или иные вещи непосредственно по журнальным публикациям. Шло распространение отдельных изданий, не предназначенных специально для целей пропаганды. Наконец, в ряде случаев предпринимались именно специальные издания, рассчитанные прямо на пропагандистское использование.
Иллюстрация:
«Из-за решетки». Титульный лист. 1877.
Достаточно известны интерес и любовь демократического читателя 70-х годов к Некрасову, Салтыкову-Щедрину, Глебу Успенскому. Произведения их послужили делу революционной пропаганды. Особенно в этом отношении использовались «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, щедринские «Два генерала» («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») и т. д. Когда в 1873 году петербургской организацией Кравчинского — Кропоткина — Перовской были напечатаны в Женеве революционные «Песенник» и «Сборник новых песен и стихов», то во второй из них были включены «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» Некрасова.1
Большое пропагандистское значение имели произведения Наумова и Нефедова, изданные для обхода цензуры в виде больших сборников: Ф. Д. Нефедова «На миру» (1872) и Н. И. Наумова «Сила солому ломит» (начало 1874 года). В массу читателей были при этом пущены преимущественно отдельные рассказы и очерки из этих объемистых книг (из Нефедова — «Безоброчный», изданный, впрочем, в 1873 году и отдельно, и «Крестьянское горе»; из Наумова — «У перевоза», «Юровая», «Крестьянские выборы», «Еж» и др.).2 Для целей пропаганды были переизданы (из «Недели» за 1870 год) рассказ М. Цебриковой «Дедушка Егор», очерк писателя-этнографа В. Майнова «Беспутый»; были перепечатаны (впервые появившиеся еще в начале 60-х годов) «Очерки фабричной жизни» А. Голицынского и пр. Подходящим материалом в руках пропагандистов оказались некоторые из «Сказок Кота-Мурлыки» известного зоолога и одновременно беллетриста Н. П. Вагнера («Колесо жизни», «Макс и волчок»
- 30 -
и др.), хотя сам автор был человеком, далеким от демократического движения. Драматическая поэма тоже далекого от революции А. А. Навроцкого «Стенька Разин» (из «Вестника Европы» за 1871 год) представлялась настолько ценной для пропаганды, что группа Кравчинского — Кропоткина — Перовской даже перепечатала ее в своей нелегальной типографии в Швейцарии (с некоторыми изменениями и под более острым заглавием: «Вольный атаман Степан Тимофеевич Разин»).1 На службу пропаганде были поставлены и некоторые произведения западной художественной литературы.2
Петербургская революционная группа возникла задолго до оформления и размежевания отдельных течений революционного народничества; разгром ее правительством произошел весною 1874 года, довольно скоро после того, как окончательно определились две главные народнические фракции — бакунистская и лавристская. Свои позиции она вырабатывала самостоятельно, причем долгое время сравнительно мало внимания уделяла разрешению чисто программных вопросов, будучи преимущественно занята практической стороной революционной деятельности и допуская в своей среде различные оттенки взглядов, различные мнения. Считая важным появление заграничного печатного органа, обслуживающего теоретические и практические нужды русского движения, группа помогла организации журнала Лаврова «Вперед». Она не стала, однако, на позиции «лавризма», хотя сама, несомненно, придавала большое значение «подготовительной» пропагандистской и организационной работе. Как целое, организация не примкнула вполне и к бакунизму, но сторонники бакунизма (пусть не в наиболее крайних проявлениях последнего) в ее составе имелись; если же говорить об эволюции настроений и взглядов членов группы, то она шла именно в направлении умеренного бакунизма (т. е. той формы бакунизма, которая выработалась в практике революционного движения и сводилась к соединению элементов бунтарства с признанием пропаганды).
По мере расширения размаха революционного движения в начале 70-х годов и связанного с этим постепенного обострения революционных чувств среди активных кругов демократической молодежи всё резче проявлялись стремления скорее перейти «к делу», к более или менее прямым попыткам возбуждения народных масс к непосредственным революционным действиям. Эти настроения начинали сказываться внутри той крупной революционной группы Петербурга и других центров, о которой выше была речь, но еще сильнее в некоторых интеллигентских кружках, к ней не принадлежавших. Одним из таких кружков были так называемые «долгушинцы»,3 решившие не позднее первой половины 1873 года приступить к таким действиям среди народа, которые вели бы «прямо» к «бунту».
Долгушинский кружок был разгромлен правительством, едва начав свою работу в народе (распространение прокламаций, беседы с крестьянами в прилегающих к Москве районах). Это было осенью 1873 года. Тогда же,
- 31 -
П. А. Алексеев.
примерно, был сделан опыт «бродячей» пропаганды по деревням Тверской губернии Кравчинским и Дмитрием Рогачевым, произведший, как и долгушинское начинание, большое впечатление в среде революционной молодежи. К концу 1873 года атмосфера среди молодой демократической интеллигенции оказалась уже сильно накаленной. Тут сыграли свою роль продолжавшаяся несколько лет пропагандистская и организационная деятельность различных кружков, воздействие всей легальной демократической литературы и печати, призывы, шедшие из-за рубежа — со стороны литературы революционной эмиграции. Очень важно было то, что среди молодой демократии все шире распространялись данные о растущем разорении крестьянских масс; именно 1873 год ознаменовался тяжелым самарским голодом — тем «страшным бедствием», о котором писал тогда же Лев Толстой.
- 32 -
Мысли о необходимости приложить все усилия для реального сближения с народом, о перенесении в среду самого народа центра деятельности демократической интеллигенции требовали себе путей к осуществлению.
Весна и лето 1874 года явились временем наиболее широкого распространения попыток «хождения в народ», предпринятых из Петербурга, Москвы, ряда городов Украины (Киев, Одесса, Харьков), Поволжья (Самара, Саратов, Нижний Новгород). Записка, разосланная в середине 1875 года министром юстиции графом Паленом и подводившая с жандармско-прокурорской точки зрения первые итоги результатам «дознаний», возбужденных властями по поводу пропаганды в империи, утверждала, что «дознаниями раскрыта пропаганда в 37 губерниях».1
Следует заметить, что в отношении идейно-тактических установок движение 1874 года было далеко от однородности. В нем участвовали последователи бакунизма как крайние (которых в это время именовали «вспышкопускателями» или «вспышечниками»), так и более умеренные. Некоторые из современников потом категорически утверждали, что большинство участников с самого начала движения в народ хотело «непосредственного действия», понимая под этим организацию повстанческих действий, «бунтов». В «хождении в народ», далее, участвовали «чистые» пропагандисты. Наконец, были сторонники «рекогносцировки», разведки народных настроений, изучения народного быта. По существу задачу ознакомления с народом ставили себе и те, кто шел к нему для «пропаганды» или «бунта». Из «бунтовских» проектов ничего не вышло: их сторонники позднее сетовали на то, что все революционеры — участники хождения в народ — на деле сбились на роль только пропагандистов.
Хождение в народ 1874 года быстро было задушено правительством. Было произведено множество арестов. К моменту издания упомянутой выше «записки Палена» оставалось привлеченных к дознаниям в качестве обвиняемых 770 человек (612 мужчин и 158 женщин). Круг так или иначе пострадавших от разных преследований был еще шире.
Но не столько понесенные жертвы, сколько морально-идейные разочарования и испытания повлияли на настроение революционной молодежи. Известны слова В. И. Ленина о том, что массе «энергичнейших и талантливых работников», которая шла в народ исходя из веры «в коммунистические инстинкты мужика», на практике пришлось убедиться в наивности такого представления.2
Не сразу, однако, семидесятники признали свое внутреннее поражение и примирились с ним.
В 1875 году оформилась и в том же году погибла новая революционная группа, известная под названием «кружка москвичей» или «Всероссийской социально-революционной организации». Главной непосредственной целью организации было создание пропагандистских опорных пунктов в ряде промышленных центров для подготовки революционных деятелей из среды рабочих, которые в дальнейшем могли бы перенести распространение «социально-революционных» идей в крестьянскую среду. Новая организация составилась из ряда студентов, русских и грузин, из группы женщин-революционерок, бывших цюрихских курсисток, возвратившихся на родину, из примкнувших к инициаторам передовых рабочих (впрочем, некоторые рабочие входили в число самих этих инициаторов). Видную роль в организации играли уже имевший революционный стаж рабочий-ткач Петр
- 33 -
Алексеев, Софья Бардина и Лидия Фигнер, Георгий Зданович, Иван Джабадари, Михаил Грачевский. Ядро организации сосредоточилось в Москве; работа велась или налаживалась в Иваново-Вознесенске, Туле, Киеве, Одессе. Имелись связи с Петербургом (где вначале были заложены первые основы организации), с эмиграцией (в Женеве на средства организации была основана газета «Работник»). Одной из особенностей новой группы было стремление к более тесному, организованному сплочению революционных сил, к преодолению той распыленности, которая отличала движение во время большого похода «в народ» в 1874 году.
Иллюстрация:
Речь Петра Алексеева. Титульный лист. 1878.
После ряда последовательных «провалов» организация оказалась разрушенной. Из сотни привлеченных половина была предана суду по процессу 50-ти (в Петербурге, в начале 1877 года). Процесс привлек большое общественное внимание. Особенно сильное впечатление произвели речи подсудимых Петра Алексеева и Софьи Бардиной. В марте 1877 года М. Е. Салтыков-Щедрин писал П. В. Анненкову: «Я на процессе не был, а говорят — были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и... Бардиной. Повидимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеваньем, как полагает Ив(ан) Серг(еевич)».1
Громовая речь П. А. Алексеева (с 70-х годов десятки раз издававшаяся) прозвучала как смелый и резкий обвинительный акт против всего строя угнетения и эксплуатации, против царизма, крепостничества, капиталистического хищничества. Яркими красками обрисовал оратор бедственное положение крестьян и рабочих, несколько раз повторяя, что, несмотря на «дарованную» реформу 19 февраля, трудящиеся остаются под гнетом, равнозначным крепостному («Мы — крепостные!»). Алексеев отмечал, что глубоко ошибочно мнение, будто «рабочий народ» «не чувствителен и ничего не понимает». Рабочий народ, заявлял Алексеев, смотрит на существующее
- 34 -
положение как на «временное зло», считает таким злом и «правительственную власть, временно захваченную силою». Отметив дружбу «русского рабочего народа» с «интеллигентной молодежью», которая «до глубины души прочувствовала, что значат и отчего это повсюду слышны крестьянские стоны», Алексеев выразил убеждение в наступлении той поры, когда «подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах». Впоследствии в руководящей статье «Насущные задачи нашего движения», открывшей первый номер «Искры», В. И. Ленин оценил последние слова алексеевской речи как «великое пророчество русского рабочего-революционера».1
Петр Алексеев был самой выдающейся фигурой среди рабочих, судившихся по делу 50-ти. В числе обвиняемых было до 20 процентов рабочих. Алексеев был уже революционером со стажем, свою деятельность он начал в тех кружках рабочих Петербурга, среди которых велась пропаганда интеллигентами из группы Кравчинского — Кропоткина — Перовской и некоторых других групп. Одним из его учителей был медик В. С. Ивановский, впоследствии близкий к Владимиру Короленко (писатель был, как известно, женат на одной из представительниц революционной семьи Ивановских).
Будучи сам ткачом, Петр Алексеев в Петербурге в 1873—1874 годы имел ближайшее отношение и к довольно обширному (распространенному по нескольким районам) кружку «заводских» рабочих (т. е. рабочих металлообрабатывающих заводов и железнодорожных мастерских). Участники этого кружка отличались уже довольно высоким развитием и жадно впитывали в себя общие и политические знания, сообщаемые им интеллигентами. При этом они не оставались пассивными слушателями и робкими учениками, но, напротив, начинали кое в чем проявлять критическое отношение к способам и целям деятельности народнической интеллигенции. Конечно, это не означает, что они уже сумели проложить тогда свои особые пути, но инстинктивные (пусть слабые) поиски самостоятельного пролетарского пути уже начинались. Кружки «заводских» и «фабричных» рабочих Петербурга были разгромлены властями весною 1874 года одновременно с «провалом» Петербургской революционной группы начала 70-х годов. Революционная деятельность среди петербургских рабочих с этим провалом не прекратилась. Ее, в частности, продолжали некоторые из членов упомянутого «заводского» кружка, вышедшие после более или менее продолжительного ареста на волю (или успевшие с самого начала скрыться, как известный Виктор Обнорский). После ряда организационных превращений к концу 70-х годов из этого кружка, к которому в середине десятилетия примкнул Степан Халтурин, выросла организация, вошедшая в историю под именем «Северного Союза русских рабочих».
Еще за несколько лет до оформления «Северного Союза», в 1875 году, в Одессе действовала другая из самых ранних рабочих организаций России — «Южнороссийский союз рабочих». Он объединял 50—60 активных членов (с периферией — до 200 или 300 человек). Был принят «Устав Южнороссийского союза рабочих», выработанный не без влияния и учета уставов I Интернационала и Центральной Женевской секции Интернационала. В уставе «Союза» устанавливалось, что «рабочие могут достигнуть признания своих прав только посредством насильственного переворота, который уничтожит всякие привилегии и преимущества и поставит труд основою личного и общественного благосостояния». Практическими своими задачами «Союз» считал: «пропаганду идеи освобождения рабочих из-под
- 35 -
гнета капитала и привилегированных классов»; объединение рабочих Южнороссийского края; в дальнейшем «борьбу с установившимся экономическим и политическим порядком».1 Несмотря на те или иные слабые стороны (как в теории, так и в практике), «Южнороссийский союз рабочих» сыграл почетную роль в истории рабочего движения в России, ознаменовав объективно некоторый отход от господствовавшего в тогдашнем революционном движении народничества, отразив тяготение передовых рабочих к созданию своей классовой организации. После разгрома «Союза» в конце 1875 года его основные деятели (главный руководитель «Союза» бывший студент Евгений Заславский и ряд рабочих) в 1877 году судились в Петербурге; ввиду почти исключительно пролетарского состава обвиняемых правительство, всегда старавшееся представить революционное движение как чисто интеллигентское дело, лишенное корней в народе, не решилось опубликовать данных о процессе. Сведения о нем тем не менее проникли в общество. Приехавший в то время из-за границы в Петербург И. С. Тургенев, заинтересованный небывалым явлением суда над рабочей организацией, добился возможности присутствовать на процессе.
Революционная пропаганда и разные организационные попытки в рабочей среде затрагивали пока еще, разумеется, очень узкий (и самый передовой) круг рабочих. Но постепенное пробуждение пролетариата в России находило выражение и в форме стачечной борьбы, охватывавшей уже — за 70-е годы — десятки и десятки тысяч рабочих. Известно, что между 1870 и 1880 годами имело место, по крайней мере, от 300 до 350 конфликтов (стачек, волнений и т. д.) на различного рода предприятиях и стройках; конфликты эти были связаны с вопросами размеров и расчетов заработной платы, длины рабочего дня, бытовых условий и т. д. Рабочие разных отраслей промышленности (текстильщики, металлисты и др.) боролись против попыток со стороны капиталистов ухудшить и без того крайне тяжелые условия труда, а иногда — при наличии благоприятных обстоятельств — стремились предъявлением требований и забастовками несколько улучшить эти условия. Масштабы волнений и стачек весьма различны: иногда речь шла о протесте нескольких десятков тружеников, иногда выступали тысячи рабочих на крупнейших предприятиях; если в одних случаях (более часто) стачка или волнение длились день-два (или даже несколько часов), то в других — забастовки продолжались неделями. Большое впечатление в самом начале 70-х годов произвели стачки на Невской бумагопрядильне в Петербурге и на Кренгольмской мануфактуре под Нарвой. Невская стачка (1870 года), охватившая около 800 рабочих, стойко сопротивлявшихся несколько дней нажиму со стороны не только фабричной администрации, но и полицейских властей, заставила о себе много говорить и послужила материалом для судебного процесса против инициаторов забастовки. На Кренгольмской мануфактуре в 1872 году волнения 5 тясяч рабочих (эстонцев и русских, дружно боровшихся вместе) привели к открытому столкновению с войсками, к суду над группой рабочих и каторжным приговорам. Немало было волнений на больших металлообрабатывающих предприятиях Петербурга (Семянниковском, Путиловском и др.), на текстильных фабриках Москвы и Центрального промышленного района и в других местностях. В 1878—1879 годах внимание самых широких общественных кругов было привлечено стачками на некоторых текстильных фабриках Петербурга, вызвавшими довольно значительное движение солидарности
- 36 -
среди рабочих и левой интеллигенции столицы. В этих последних стачках немалую роль сыграли уже рабочие революционные кружки (в 1879 году — «Северный Союз русских рабочих») и организация революционных народников — «Земля и воля». Но подобное вмешательство революционеров в ход стачечной борьбы было для описываемого периода (периода раздельного существования социализма и рабочего движения) исключением. Как правило же, стачки 70-х годов носили стихийный, неорганизованный характер и неоднократно, между прочим, сопровождались «беспорядками», «буйствами» — разгромом служебных помещений и т. д.
Первые опыты создания революционных организаций самими рабочими, успех революционной пропаганды демократической интеллигенции среди десятков и сотен более или менее сознательных рабочих, многократные стихийные выступления целых коллективов фабрик и заводов являлись признаками оформления русских рабочих в самостоятельный класс.
Однако революционеры 70-х годов в своей основной массе не смогли увидеть и понять исторического смысла событий, совершавшихся на их глазах и подчас даже при близком их участии. С. М. Кравчинский («Степняк», автор «Андрея Кожухова», «Подпольной России» и других произведений) еще в 1878 году продолжал утверждать, что русские революционеры оставляют «в тени» фабричный вопрос (хотя и считают необходимой экспроприацию фабрик), потому что «история, поставившая на первый план в Западной Европе вопрос фабричный, у нас его не выдвинула вовсе, заменив его вопросом аграрным».1
Разочарование, испытанное революционной интеллигенцией под влиянием неудачи движения «в народ» в 1874 году, углублялось дальнейшими неудачами и потерями. Тот же Кравчинский писал (1878) в письме к Вере Засулич, что «все почувствовали (почувствовали еще до 1878 года, — Ред.), что таким путем, каким шли до сих пор, идти дальше нельзя», нельзя потому, что революционеры прошли в народе «не понятые, не услышанные».2
Но новый путь, который старались после неудач 1874—1875 годов найти революционеры, не отличался в основных принципиальных отношениях от прежнего. «Новое» в революционной идеологии и практике коснулось вопросов более второстепенных, хотя иногда все-таки далеко не маловажных. Это «новое» определило особенности платформы, выработанной на протяжении 1876 года (потом уточнявшейся) и легшей в основание созданного к концу того же года тайного революционного общества «Земля и воля».3 Платформа эта среди самих современников получила название «народнической»; термин, задолго до того известный, именно теперь получил широкое распространение и наполнен был конкретным общественным содержанием, характеризовавшим вполне определенное направление. В объяснение происхождения и значения термина Александр Михайлов писал (позднее, в конце 1880 года): «Свои теоретические идеалы и симпатии люди этого направления подчиняли насущным, острым потребностям народа и потому называли себя „народниками“».4 Народники-землевольцы
- 37 -
Иллюстрация:
«Земля и воля!», 1879, № 3.
- 38 -
исходили из убеждения, что (говоря словами того же А. Д. Михайлова) зажжет народ революционным пламенем лишь тот, «кто постигнет душу народа, кто заговорит его языком о предметах, волнующих народную жизнь изо дня в день, кто поставить на своем знамении: народное движение во имя народных требований».1
В своей программе землевольцы заявляли, что они считают конечным идеалом «анархию и коллективизм»; но, с другой стороны, признавая, что партия не может навязывать народу этого своего идеала, землевольцы суживали свои требования «до реально-осуществимых в ближайшем будущем, т. е. до народных требований, каковы они есть в данную минуту».2 Такими «суженными» требованиями оказывались: «переход всей земли» в руки крестьянства и равномерное ее распределение; «перенесение всех общественных функций в руки общины, т. е. полное ее самоуправление».3
Кроме такой переформулировки прежних, более далеко шедших, программных лозунгов, землевольцы признали необходимость замены практиковавшейся раньше особенно широко летучей, бродячей формы деятельности в народе прочными деревенскими «поселениями», выдвинули на особо видное место агитацию на почве повседневных нужд и стремлений трудящихся (агитацию «как путем слова, так и, главным образом, путем дела» — бунтов, стачек), отстаивали важность создания крепкой и дисциплинированной организации революционеров. В последнем пункте они достигли серьезных успехов, впоследствии весьма положительно оцененных в «Что делать?» В. И. Лениным.4
Деятельность «Земли и воли» в значительной мере окрасила собой ту полосу революционного движения в России, которая приходится на вторую половину 70-х годов (с конца 1876 до середины 1879 года). Сравнительно громкой и шумной была она в нескольких крупных городах, особенно в Петербурге. Совместно с рабочими кружками столицы и частью по их инициативе «Земля и воля» организовала известную демонстрацию на площади около Казанского собора 6 декабря 1876 года и потом содействовала проведению ряда других демонстративных выступлений студенчества и рабочих Петербурга. Она широко поставила дело нелегального издательства в столице (газета «Земля и воля» и «Листок „Земли и воли“», брошюры на злободневные темы, множество прокламаций). Землевольцы держали связь с кругом передовых петербургских рабочих и участвовали в пропаганде и агитации среди рабочих. Постепенно в землевольческой практике стал занимать заметное место индивидуальный террор, хотя в целом землевольческая организация еще не носила, как появившаяся после ее раскола в 1879 году «Народная воля», сознательно террористического характера. Важнейшей ареной деятельности «Земли и воли», согласно ее программе, должна была быть деревня. Но именно тут «Земля и воля» натолкнулась на трудности, которых она не могла, а частью (поскольку речь идет о последствиях усиливавшегося увлечения части ее членов террором) собственно и не пыталась с достаточным упорством преодолеть.
Частично деятельность «Земли и воли» (затем ее ликвидация — разделение на «Народную волю» и «Черный передел») падает уже на период второй революционной ситуации в России.
- 39 -
*
Подъем общественного движения, вылившийся во вторую революционную ситуацию в России, стал явственно обозначаться приблизительно с зимы 1877—1878 года. Этот подъем был обусловлен рядом обстоятельств. В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» отмечает особую роль революционной борьбы демократической интеллигенции этой поры; в свою очередь повышение активности революционной интеллигенции зависело от обострения недовольства крестьянских масс. Обнищание народа и усиление народной борьбы против феодально-крепостнических пережитков, против принимавшей всё более невыносимый характер помещичьей эксплуатации, против страшного податного гнета (резкое несоответствие между громадными крестьянскими платежами и ничтожной «доходностью» крестьянской земли служило в 70-х годах предметом постоянных суждений в печати)1 являлись тем определяющим социально-экономическим фоном, на котором разыгрывалась драматическая борьба разночинно-демократического общественного слоя.
Крестьянские волнения не утихали на всем протяжении 70-х годов, хотя в общем они не принимали того масштаба и характера, о каких мечтали революционные народники. Точные цифры крестьянских волнений за 70-е годы до сих пор не установлены. Историк Е. И. Батова насчитала за 1870—1882 годы по 37 губерниям около 290 волнений крестьян, относя наибольшее число их к 1870, 1875, 1878—1881 годам. Отдельные волнения носили очень длительный характер, например, на Чигиринщине (в Киевской губернии). Не раз крестьянами оказывалось упорное сопротивление властям, в том числе и военным. Для подавления волнений в двух уездах Воронежской губернии в 1874—1875 годах потребовалось командирование «ревизующего» сенатора и целого пехотного полка. Серьезными столкновениями с властями сопровождались также волнения крестьян в Ставропольской губернии в 1879 году. Волнения в Уральском казачьем войске (казачьи волнения этого времени — своеобразная разновидность крестьянского движения) привели к высылке тысяч казачьих семейств в Туркестанский край. Некоторые из крестьянских «историй» привлекли особенно широкое общественное внимание и вызвали целую литературу. Таково в особенности дело крестьян села Люторичи Епифанского уезда Тульской губернии, преданных суду по обвинению в сопротивлении властям при описи имущества за фиктивные крестьянские «недоимки» помещичьей экономии графа Бобринского.
Характерным фактом для крестьянских настроений 70-х годов является распространение слухов о предстоящих переменах и «льготах», прежде всего о «переделе» земель с целью увеличения крестьянских наделов. Немало случаев распространения таких слухов зарегистрировано уже в первой половине 70-х годов, в частности в связи с введением в 1874 году всеобщей воинской повинности. Резкое усиление слухов, не на шутку встревожившее правительство, стало заметно с зимы 1877—1878 года (несомненно, в связи с событиями русско-турецкой войны); в 1878—1879 годах слухи о переделе были широко распространены во многих губерниях. Это вызвало в середине 1879 года специальный циркуляр министра внутренних дел Макова. «Во исполнение высочайшей воли» Маков предостерегал сельское население «от злых и коварных внушений», подчеркивая, что «ни теперь, ни в последующее время никаких дополнительных нарезок к крестьянским участкам не
- 40 -
будет и быть не может». Печатая в своем первом номере этот, по ее словам, «знаменитый документ», «Народная воля» характеризовала его как «акт величайшей правительственной наглости и цинизма».1 Современники неоднократно свидетельствовали, что циркуляр («объявление») Макова не достиг цели. А. Н. Энгельгардт в своих известных письмах «Из деревни» сообщал: «„Объявление“ вызвало еще большие толки среди мужиков в направлении совершенно обратном. Заметно только стало, что говорят осторожнее, не при всяком: „приказано не говорить пока о земле, до поры до времени“».2 Энгельгардт отмечает обострение слухов в 1880 году под влиянием недостатка хлеба и корма, высоких цен на хлеб. В крестьянстве говорили: «Хлеба нет, хлеб дорог, мужику податься некуда, а у господ земли пустует пропасть».
Неурожай и голод в 1879—1880 годах (особенно тяжелый продовольственный кризис постиг деревню в 1880 году) способствовали осложнению в это время всего внутреннего политического положения страны. Усиление нужды и бедствий угнетенных масс, которое В. И. Ленин считает одним из признаков и условий всякой революционной ситуации, было явно налицо в России в конце 70-х годов. Весной 1881 года внутренний обозреватель журнала «Русская мысль» свидетельствовал, что крестьяне «теперь дошли до последней крайности», и призывал поэтому «спешить облегчением положения крестьян» во избежание широкого разлива народных волнений.3
Крестьянский вопрос был глубокой подосновой второй революционной ситуации (как и первой); крестьянское недовольство и движение было одной из форм ее проявления. Но, в отличие от революционной ситуации конца 50-х и начала 60-х годов, вторая революционная ситуация, возникшая на несравненно более высоком уровне капиталистического развития, отмечена также ростом экономической и политической борьбы русского пролетариата. За 1878—1880 годы произошло не менее 125 стачек и волнений рабочих. Занявшие почетное место в истории русского рабочего движения упорные стачки рабочих петербургской «Новой бумагопрядильни» приходятся на 1878—1879 годы. На время с 1878 до начала 1880 года падает деятельность «Северного Союза русских рабочих», предистория которого восходит, как уже отмечалось, к началу и середине 70-х годов, а оформление состоялось в самом конце 1878 года. Тогда именно, в декабре 1878 года, была утверждена программа «Северного Союза», опубликованная в начале 1879 года в землевольческой типографии в форме воззвания ко всем русским рабочим. В истории рабочего и всего революционного движения в России эта программа является знаменательным документом.
В пору, когда отдельные сторонники (или небольшие кружки сторонников) идеи политической борьбы начинали активно отстаивать эту идею среди народников, встречая пока сильное сопротивление «староверов», организация передовых петербургских рабочих, руководимая столяром С. Н. Халтуриным и слесарем В. П. Обнорским, в свою программу включила положение о том, что политической свободой «прежде всего обеспечивается решение (имелась собственно в виду возможность плодотворной борьбы за решение, — Ред.) социального вопроса», и выдвинула ряд «непосредственных требований» политических и экономических — своего рода программу-минимум, во главе которой стояли требования свободы слова и
- 41 -
печати, права собраний, уничтожения преследования по политическим делам и т. д.1 Правда, основатели «Северного Союза русских рабочих», далеко не до конца еще изжившие влияние анархического народничества, не решились обобщить свои требования в лозунге демократической республики или вообще парламентарного строя; но и то, на что они решились, вызвало критику на страницах «Земли и воли», вследствие чего они вторично выступили с более развернутым обоснованием своих взглядов в интересном и ярком «Письме в редакцию» «Земли и воли». В программе «Северного Союза русских рабочих» обращало на себя также большое внимание смелое по тем временам, когда большинство революционеров неприязненно оценивало платформу и деятельность европейской социал-демократии, признание близости «Союза» по задачам к «социально-демократической партии Запада».2 Известно, что в формулировке своих непосредственных требований «Союз» в той или иной мере следовал образцам, выработанным западной социал-демократией. Известно и то, что весь этот сдвиг (пусть отнюдь не полный и не последовательный) в сторону этой социал-демократии, который заметен в принципах деятельности «Союза», был во многом обусловлен воздействием тех впечатлений, которые некоторыми передовыми рабочими (и прежде всего Обнорским) были вынесены из личных наблюдений западноевропейского рабочего движения.
С. Н. Халтурин.
Фотография.Выделяя отдельные признаки второй революционной ситуации, необходимо и в отношении рабочей массы повторить то, что было сказано о крестьянстве: налицо, особенно в 1880—1881 годы, было резкое обострение бедственного положения рабочих масс, в большой мере связанное с голодовкой в деревне (сокращение производства, безработица и понижение заработной платы).
В сумме тех фактов, которые влияли на складывание революционной ситуации конца 70-х годов, важным слагаемым явились некоторые события международной жизни и брожение, вызванное ими в русском обществе. Мы имеем в виду славянское движение 1875—1876 годов и русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Подъем национально-освободительного движения на Балканах в 1875 и 1876 годах вызвал живое сочувствие в массе русского народа и среди передовой русской интеллигенции. Вместе с тем к движению стремились «пристроиться» общественные верхи, преследовавшие завоевательные цели и стремившиеся к упрочению существующего государственного
- 42 -
порядка. Возникшее в России добровольческое движение увлекло на время многих представителей революционного народничества (на Балканы отправились волонтерами Кравчинский, Клеменц, Сажин и др.). Агитация в пользу поддержки славян велась со страниц «Отечественных записок» (статьи Елисеева, Мордовцева и др.). Михайловский тоже горячо отстаивал справедливость дела славян и в то же время возлагал надежды на общественное пробуждение в самой России как результат воздействия совершающихся событий. В качестве корреспондента побывал в Сербии Глеб Успенский, публиковавший «Письма невоенного человека» в «Отечественных записках», печатавший также корреспонденции в газете «С.-Петербургские ведомости». Однако стремление правительства, славянофильских и откровенно реакционных кругов овладеть положением, возглавить движение, с другой стороны, недостойное поведение части добровольцев, принадлежавших к привилегированной общественной среде или к совершенно деклассированным элементам, — всё это настораживало демократическую и даже часть либеральной общественности.1 Тревогой был охвачен с самого начала Салтыков-Щедрин, боявшийся укрепления и даже усиления реакции под прикрытием освободительных лозунгов; под руководством Салтыкова «Отечественные записки» выравнивали свой курс в восточном вопросе, проявляя заботу о том, чтобы демократическое движение не сбилось с пути, не упустило из виду своих основных задач.
Вступление самой России в войну создавало отчасти новую обстановку. Власть теперь как бы целиком принимала на себя всю ответственность за дальнейший ход дела. Между тем с первых месяцев войны правительство столкнулось с рядом трудностей военного и хозяйственного характера. Сказывались неподготовленность, неумелость высших начальников, административные неурядицы, злоупотребления и произвол. В сентябре 1877 года один из видных сановников (А. А. Половцев) записал в своем дневнике: «Война затягивается. Русские солдаты мрут бесполезно. Банкротство политическое и финансовое приближается, а вместе с ним страх о последствиях столь торжественно заявленной несостоятельности правительства...». Уже тогда возникали разговоры о неизбежности внутриполитических уступок.2 В те же примерно дни Лев Толстой в письме к Н. Н. Страхову выражал свое убеждение, что «эта война, кроме обличения, и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, не может иметь последствия».3 Когда мужество русских войск преодолело, наконец, сопротивление врага, общественная критика нашла себе новую пищу в дипломатических затруднениях и вынужденных копромиссах царского правительства (Берлинский конгресс 1878 года).
- 43 -
Вполне понятно, что условия, созданные в стране ходом русско-турецкой войны, отнюдь не могли способствовать (как о том мечтала часть правящих сфер при начале войны) ослаблению революционной борьбы разночинно-демократической интеллигенции, но, напротив, даже содействовали усилению этой борьбы. Это было тем естественнее, что сама власть нисколько не ослабляла усвоенной ею системы беспощадного преследования любых проявлений протеста и недовольства и не помышляла, конечно, ни о каком смягчении методов своей борьбы против революционной молодежи. Большую роль в поддержании и обострении возбужденного состояния демократической интеллигенции сыграли крупные политические процессы, один за другим происходившие на протяжении 1877 года (и до, и во время войны) и неизменно заканчивавшиеся самыми жестокими приговорами (процесс участников демонстрации на Казанской площади, процессы 50-ти, «Южнороссийского союза рабочих»). Особенно большое революционизирующее значение имел грандиозный процесс 193-х, начавшийся в октябре 1877 года и затянувшийся до января 1878 года. Этот процесс (судились участники подготовительных действий к походу в народ 1874 года и самого этого похода) превратился, по меткому определению Плеханова, в долгий поединок между правительством и революционной партией. Возмущенные бесчеловечным обращением в течение длительного заключения до суда и грубыми беззакониями на самом суде, обвиняемые в своем большинстве прибегли к тактике обструкции (отказ давать объяснения и присутствовать на судебном следствии). Громадное впечатление произвела речь одного из подсудимых — Ипполита Мышкина (обвинявшегося в организации тайной типографии в Москве и в попытке освободить из вилюйского острога Н. Г. Чернышевского). Несмотря на всяческие попытки судебных властей заткнуть ему рот, Мышкин сумел сделать главное: громко высказать свое презрение и ненависть к самому суду и стоявшему за ним царскому правительству и определить смысл основных стремлений тогдашних русских революционеров.
В. И. Засулич.
Фотография. 1870-е годы.В такой обстановке приобрели особое значение выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова1 (январь 1878 года) и процесс по делу Засулич (март 1878 года). Суд этот (суд присяжных) дал выход настроениям недовольства, накопившимся в разнообразных общественных кругах в первый период русско-турецкой войны, и оппозиции к той системе неимоверного произвола, страшного гнета над личностью, над обществом, которые царили в империи.
- 44 -
В среде самого народничества процесс Засулич, бурная демонстрация студенчества у здания суда (с участием и рабочих)1 дали толчок проявлению складывавшихся постепенно, пока еще только у некоторых кругов, настроений в пользу открытого провозглашения лозунга политической борьбы. Интересным симптомом в этом отношении следует признать появившийся в апреле 1878 года в Петербурге нелегальный «Летучий листок» (его автором был Михайловский). Противопоставляя на примере дела Засулич правительство и общество, листок требовал «передачи общественных дел в общественные руки». Цель общественных стремлений формулировалась словами: «конституция, земский собор».2 Внутри тайной народнической организации «Земля и воля» примерно в то же время (и даже уже несколько раньше) сторонником включения «политического элемента» в программу ее деятельности выступил Валериан Осинский, нашедший единомышленников, но и встречавший сопротивление со стороны более влиятельных еще тогда народнических «ортодоксов».
В ближайшие месяцы и годы политическое напряжение в стране не уменьшается. Слухи о неизбежных переменах непрерывно бродили в крестьянстве; стачки и волнения рабочих происходили чаще, чем прежде, и принимали в отдельных случаях сравнительно серьезный характер. На протяжении нескольких лет подряд почти не утихали студенческие «беспорядки» (в Петербурге, Москве, Киеве, Казани, Харькове, Одессе), приводя иной раз к уличным столкновениям. В среде активных революционеров настроение становилось всё более повышенным, выражаясь в вооруженных сопротивлениях, насильственных попытках освобождения политических заключенных, в покушениях на тайных полицейских агентов и на должностных лиц, ответственных за те или иные насилия и зверства над революционерами.
С середины 60-х годов, со времени самого решительного утверждения неприкрытого реакционного курса в правительственной политике, либеральное движение почти не знало каких-либо проявлений, кроме чисто литературных (деятельность легальной печати либерального направления, как толстый журнал «Вестник Европы» Стасюлевича, газета «С.-Петербургские ведомости», пока она находилась в руках Валентина Корша, московская «профессорская» газета «Русские ведомости»), причем и либеральные высказывания в печати носили в это время архиосторожный характер, старательно обходили, как правило, большие общие проблемы и преимущественно направлялись в сторону вопросов просветительного, культурного характера. Характеризуя ретроспективно состояние земской общественности, являвшейся одним из очагов либерализма, за годы, предшествовавшие новому подъёму, «Вестник Европы» в начале 1881 года писал: «Успех общественного дела измерялся не размером сделанных приобретений, а степенью умеренности сделанных обществом уступок. Уступать не слишком быстро — вот к чему сводилась задача всех усилий земского представительства».3
Либералы стали «шевелиться» со времени балканского кризиса и последовавшей за ним русско-турецкой войны, а более заметно после обострения революционной борьбы около 1878 года. Впоследствии (в начале XX века) даже либеральное «Освобождение» должно было признать, что именно
- 45 -
«героическая „крамола“ 70-х и 80-х гг.» «встряхнула» русское общество (имеется в виду либеральное общество), «забывшее» о «неразрешенных исторических задачах устроения страны на началах свободы и законности».1
Надо, однако, сразу подчеркнуть, что лицо русского либерализма по сравнению с началом 60-х годов, когда либералы своей предательской политикой «широковещательного краснобайства и позорной дряблости»2 поддержали пошатнувшуюся власть и весьма реально способствовали подавлению освободительных сил, в существенном нисколько не изменилось. Как всегда, либералы гораздо больше боялись народного движения, чем реакции; как всегда, они отвергали действительную борьбу даже за свои умеренные буржуазные лозунги, не только уклонялись от поддержки демократически-революционных элементов, но сплошь и рядом демонстративно отмежевывались от них и не раз заявляли о своем отказе признать за революционерами право на существование. Поиски соглашения с правительством крепостников, мечтания об уступках «сверху» и резкое отклонение всякой мысли о давлении «снизу» характеризовали и определяли всю линию поведения либералов.
Первые открытые политические заявления либералов, сидевших в земских органах, раздались в конце 1878 — начале 1879 года в ответ на двукратное обращение власти к обществу (в августе 1878 года — после убийства революционерами шефа жандармов Мезенцова и в ноябре того же года) с призывом о содействии в борьбе против революционного движения. Подавляющее большинство земств в своих ответных «всеподданнейших» адресах удовлетворилось выражением полной солидарности с правительством — это были, по признанию представителей «левого» крыла земцев, адреса пошлые, униженные, ничтожные. Кое-где тем не менее прозвучали либерально-оппозиционные ноты — наиболее явственно со стороны Тверского и Черниговского губернских земств, где были сосредоточены наиболее либеральные земские элементы. Земцы и тут расписывались в своих «верноподданнических» чувствах, но вместе с тем жаловались на разгул реакции. Черниговские земцы, ограничившись критическим обзором разных отраслей управления и общественной жизни, в заключение «с невыразимым огорчением» признали «свое полное бессилие принять какие-либо практические меры в борьбе со злом» (революционной агитации). Тверичи, сославшись на то, что царь «даровал» освобожденному от турецкого ига болгарскому народу «истинное самоуправление» (т. е. конституцию), «неприкосновенность прав личности, независимость суда, свободу печати», выражали надежду, что русский народ воспользуется такими же благами, «которые одни могут дать ему возможность выйти... на путь постепенного, мирного и законного развития».3
Повышение активности либеральных общественных кругов получило в начале 1879 года (в феврале — марте) своеобразное и довольно внушительное выражение в демонстративном чествовании И. С. Тургенева в Москве и Петербурге. В этот очередной свой приезд из-за границы Тургенев неожиданно для самого себя сделался предметом самых горячих оваций.
- 46 -
В многочисленных приветствиях, обращенных к Тургеневу, в его ответах достаточно отчетливо проступали чисто политические мотивы. Тургенева, разумеется, приветствовали и как великого художника. Но выдвигалась и мысль о том, что за «Тургеневым-литератором стоит Тургенев-деятель». «Теперь... после войны, когда люди становятся восприимчивее к вопросам общественного строя, мы приветствуем Тургенева и приветствуем его как деятеля», — говорилось на одном из банкетов в честь писателя.1 В одном из студенческих адресов Тургеневу к нему прямо обращена была просьба «объединить все направления и партии», «оформить» движение, существующее среди интеллигенции, «придать ему силу и прочность».2 Несомненно, что в этом адресе отразилось известное воздействие на часть студенчества либеральной идеологии и либеральных иллюзий. Другая часть студенчества, более или менее твердо и сознательно примыкавшая к революционному движению, отмежевывалась (хотя и в осторожных выражениях, избегая задеть высоко ценимого писателя) от специфически либеральных тенденций Тургенева и его политических друзей. Последние же бесспорно хотели использовать кампанию чествования Тургенева как для увеличения своего удельного веса в глазах правящей среды и побуждения ее к уступкам, так и для попытки насколько возможно, так сказать, «прибрать к рукам» освободительное движение среди молодой интеллигенции.
В конце марта — начале апреля 1879 года наиболее активная и «левая» часть либералов решилась на такой шаг, как созыв нелегального (первого в истории либерального движения) «земского» съезда, в котором, впрочем, участвовали наряду с земцами некоторые литераторы, профессора и др. По воспоминаниям известного либерального деятеля той эпохи И. И. Петрункевича,3 присутствовавшие единогласно признавали, что «только конституционный порядок, покоящийся на силе права и закона, может обезоружить террор и ограничить произвол власти».4 «Ввиду такого единства воззрений было принято решение организовать на местах распространение конституционных идей и содействие всяким попыткам предъявления правительству конституционных требований». Незрелость, непоследовательность, трусость либералов тут же, однако, ярко сказались в том, что мысль об организации тайного общества для достижения конституционного строя в России «была съездом решительно отклонена» (как сообщает В. Я. Богучарский5 со слов участника съезда 1879 года, будущего кадета Родичева).
Окончание «земского съезда» совпало с новым громким террористическим актом — покушением (2 апреля 1879 года) А. К. Соловьева на Александра II. Покушение было предпринято по личному почину Соловьева (участника одной из революционно-народнических групп, близких к «Земле и воле»), но при активном содействии ряда землевольцев. Внутри «Земли и воли» к этому моменту наметились уже ясно два течения — защитников продолжения прежней линии (так называемые «деревенщики») и сторонников перехода к политической борьбе, а для этого — резкого усиления террористической практики, взгляд на которую теперь решительно пересматривался: из средства мести, «наказания» начальствующих лиц за свирепые
- 47 -
А. И. Желябов.
Фотография. 1870-е годы.
преследования революционеров террор становился в глазах защитников новой тактики «орудием борьбы для достижения политического и экономического освобождения народа».1 При обсуждении в «Земле и воле» вопроса о предстоящем покушении Соловьева споры достигли большой остроты. По свидетельству Плеханова, «народники» (имеются в виду сторонники прежних позиций) вынесли из этих споров убеждение, что «старое, некогда образцовое
- 48 -
единство общества „Земля и воля“ было разрушено и что теперь каждое направление пойдет своей дорогой».1 К подобному мнению склонялись и «политики-террористы», которые в мае 1879 года даже создали свою отдельную, строго законспирированную (не только от властей, но и от «Земли и воли» как целого) группу «Свобода или смерть». К сторонникам политической борьбы и террора принадлежали Александр Михайлов, Морозов, Квятковский, Тихомиров, Баранников, Ширяев, Якимова. С ними в дальнейшем связался и занял среди них ведущее место Желябов. Старые позиции горячо отстаивали Плеханов, Михаил Попов, Аптекман и другие. Возникший в марте 1879 года «Листок „Земли и воли“», редактируемый Николаем Морозовым, фактически стал органом «политиков», в котором прославлялась идея «политического убийства» как «систематического приема борьбы», как «одного из лучших агитационных приемов». Морозов договаривался до утверждений, что «политическое убийство — это осуществление революции в настоящем».2
Наметившийся новый этап революционного движения таил в себе, таким образом, глубокое внутреннее противоречие. С одной стороны, всё определеннее склоняясь к мысли о необходимости выдвинуть в качестве центральной ближайшей цели движения борьбу против существующего самодержавного строя, за демократические государственные формы, революционеры делали серьезный шаг вперед и порывали с народническим анархизмом. С другой стороны, выбирая в качестве своего важнейшего средства борьбы индивидуальный террор, те же революционеры проявляли, говоря словами Плеханова, «неслыханно-узкое понимание революционного действия».3 Опасность террористической тактики заключалась в том, что она мешала сосредоточению сил на организации массового народного движения, отвлекала активные, революционные элементы из рабочих от агитационно-пропагандистской и организационной деятельности в пролетарской среде. Террор был «единоборством» революционной интеллигенции (участие известного числа рабочих не меняет дела) с царским самодержавием и исходил из более или менее сознанной (разумеется, крайне ошибочной) уверенности в способности одной интеллигенции избавить народ от гнета и бесправия.
Летом 1879 года состоялись два тайных съезда революционеров: Липецкий съезд сторонников новой тактики и Воронежский съезд всей «Земли и воли». На Воронежском съезде была сделана попытка найти компромисс между двумя течениями в революционном народничестве: «деревенщиками» и террористами-политиками. При этом из состава «Земли и воли» вышел Плеханов, наиболее последовательный среди «деревенщиков» противник террора. Своим выходом он стремился «подтолкнуть народников к более решительной борьбе с террористами».4 Компромисс не удался, и в августе 1879 года произошел окончательный раскол «Земли и воли», из которой теперь возникли две конкурирующие организации — «Черный передел» (Плеханов, Стефанович, Засулич, Аптекман, Попов и др.) и «Народная воля» (Желябов, Ал. Михайлов, Вера Фигнер, Перовская, Морозов, Квятковский, Тихомиров и др.).
Начальное «чернопередельчество» не требует в сущности какой-либо особой характеристики, так как оно старалось удержаться на прежних позициях землевольчества, о которых была выше речь. Потом внутри «Черного передела» происходила сложная эволюция, и из него выделились (в начале 80-х
- 49 -
годов) разнообразные группы. Общим для них было то, что они не могли не признать необходимости политической борьбы; в остальном пути различных чернопередельческих элементов значительно разошлись. Наиболее поучительной, конечно, является эволюция эмигрировавших в Швейцарию чернопередельцев — Плеханова, Засулич, Дейча, Аксельрода, Василия Игнатова. Эта пятерка в результате коренного пересмотра старых взглядов перешла на позиции социал-демократии и в 1883 году образовала социал-демократическую группу «Освобождение труда».
В. Н. Фигнер.
Фотография. 1870-е годы.«Народная воля» вначале сумела повести за собой большинство революционной интеллигенции, как и значительную часть революционно настроенных рабочих. Это явилось результатом твердой и решительной постановки ею задачи политического раскрепощения страны, задачи, к концу 70-х годов бесспорно увлекшей очень широкие круги русской демократии.
- 50 -
Надо подчеркнуть, что народовольцы продолжали себя считать и народниками, имея для этого достаточно оснований.
Но народовольцев не без основания именовали (в последующей литературе русского марксизма) народниками, «изверившимися» в народе как активной и тем более инициативной революционной силе. По справедливому замечанию Плеханова (на страницах ленинской «Искры»), «Народная воля» уже не думала, по примеру прежних лет, чтобы революционная деятельность могла «искать отправного пункта для себя в деревне и непосредственно опереться на мужика».1 В силу «неверия в восстание»,2 в крестьянское восстание, народовольцы стали на путь террора, на путь заговорщичества, они, по определению В. И. Ленина, «суживали политику до одной только заговорщицкой борьбы».3 При благоприятном течении событий заговорщическо-террористическая деятельность партии революционной интеллигенции должна была, по мысли многих народовольцев, увенчаться «захватом власти». Вместе с тем распространенной была надежда добиться террором серьезных уступок, обуздать правительственный произвол, уничтожить «нахальное вмешательство» монархического государства в народную жизнь,4 создать предпосылки для широкой, беспрепятственной работы в народе.
«Народная воля» начала свою деятельность с вынесения «приговора» Александру II, за которым (приговором) последовало несколько осенних покушений 1879 года, а затем взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года, организованный непосредственно Степаном Халтуриным с одобрения и при содействии Исполнительного комитета «Народной воли». Взрыв послужил ближайшим поводом для установления так называемой диктатуры Лорис-Меликова.5
До начала 1880 года царское правительство уже успело испытать в борьбе с революционным движением весь доступный ему арсенал самых диких преследований и репрессий. После убийства Мезенцова, потом еще резче после соловьевского покушения на Александра II правительство вводило чрезвычайное законодательство, доводившее до крайности произвол полицейских, судебных и военных властей. 1879 год прошел в бесчисленных гонениях, направленных против демократических, революционных элементов.
Назначение Лорис-Меликова отнюдь не означало прекращения или даже смягчения принимавшихся властью карательных мер против революционеров. Но оно было показателем того, что в сознание правящих верхов начинает проникать мысль о недостаточности только этих мер.
Заигрывание с «обществом», с его либеральной частью наряду с беспощадным подавлением революционного движения — в этом заключалась особенность лорис-меликовской политики. Передовица «Листка „Народной воли“», вышедшего в июне 1880 года, отмечала: Лорис «старается разъединить оппозицию, кокетничать с либералами, с разными земцами и т. п.; красивыми фразами о будущих вольностях он старается отрезать у конституционалистов всякую связь с радикалами».6
Конечно, Лорис-Меликов не мог рассчитывать на достижение своих целей, ограничиваясь исключительно словами и обещаниями; даже либералам требовались хоть какие-нибудь практические «уступки» со стороны правительства.
- 51 -
Иллюстрация:
«Народная воля», 1879, № 1.
- 52 -
И Лорис проявлял кое в чем эту «уступчивость». Немного легче стало дышать печати, что позволило появиться и нескольким новым органам прессы (в частности либеральным изданиям «Порядок» М. Стасюлевича, «Земство» В. Скалона и А. Кошелева). Легче сделалось на время и земству. Для успокоения как «отцов», так и «детей» (студенчества) был отставлен «министр народного помрачения» Дмитрий Толстой.
Опасаясь расширения и обострения крестьянского движения, Лорис-Меликов и его ближайшие сотрудники проектировали экономические и финансовые мероприятия (по существу крайне мелкие, даже ничтожные) для «облегчения» положения деревни. Сбор на местах сведений об экономическом состоянии крестьянства и причинах «упадка народного благосостояния» был возложен на сенаторские ревизии, назначенные в ряде губерний.
С возникновением лорис-меликовской диктатуры («диктатуры сердца», как ее прозвали вне демократического круга) оживился либеральный лагерь. Уже в марте 1880 года Лорис-Меликову была представлена от имени группы «именитых жителей Москвы» записка о внутреннем состоянии России (ее авторами являлись либеральный юрист и публицист, будущий кадетский председатель первой Государственной думы С. А. Муромцев, профессор-экономист А. И. Чупров, земский деятель В. Ю. Скалон). «Выдающаяся особенность» современного внутреннего положения заключалась, по утверждению авторов записки, в «крайнем недовольстве», проникшем собой «всё русское общество». Записка рекомендовала для устранения недовольства «общие» меры — «призыв в особое самостоятельное собрание представителей земства к участию в государственной жизни и деятельности, с прочным обеспечением прав личности на свободу мысли, слова и убеждения». Перед русско-турецкой войной общество, по словам авторов записки, «инстинктивно ожидало, что великое дело освобождения соплеменных народов должно будет сопровождаться и внутренним освобождением». «Неужели же, — восклицали они в заключение своего представления, — нашей стране суждено обмануться в этих заветных чаяниях?».1
Но, как впоследствии отмечал В. И. Ленин, конституционные стремления, проявившиеся явственно в это время в обществе, оказались бессильным «порывом».2 Либеральное общество доказало свою «неспособность поддержать борцов и оказать настоящее давление на правительство».3 Уже упоминавшийся Скалон свидетельствовал потом (в 1882 году), что земцы, «полагаясь на мудрость и благонамеренность власти», «терпеливо» ожидали «мероприятий со стороны самого правительства».4 Правительство же вовсе не торопилось с «мероприятиями», ожидаемыми либералами. Напротив, в сентябре 1880 года Лорис-Меликов, призвав к себе «редакторов большой прессы», счел необходимым специально предупредить их, чтобы они «не волновали напрасно общественных умов, настаивая на необходимости привлечения общества к участию в законодательстве и управлении». Лорис оценил подобные мысли как «мечтательные разглагольствования прессы», «мечтательные иллюзии».5
Народовольцы указывали (во второй половине 1880 года), что вместо реформ «по желанию и почину самого общества» последнее имеет только обещания Лорис-Меликова «сделать ярмо старой системы достаточно удобным
- 53 -
для шеи обывателя». Резко высказываясь против «проповедников смирения», рекомендующих России на проявления возмутительнейшего насилия отвечать «удвоенным холопством и покорностью», народовольцы заявляли: «Не смирение нужно, нужен протест, отпор».1 Революционная партия, как они подчеркивали, ставит ребром «вопрос о низвержении существующего правительства».2
В начале 1881 года Лорис-Меликов предложил Александру II что-то вроде окончательного плана «преобразовательных работ». Он снова отвергал такую «иллюзию», как введение народного представительства на западный манер или хотя бы даже предложения ревнителей «старинных форм российского государства» об образовании «земской думы или земского собора». Вместо этого он рекомендовал всего только учреждение «временных подготовительных комиссий» (чиновничьих) наподобие редакционных комиссий конца 50-х годов по крестьянскому делу для рассмотрения в первую очередь административно-хозяйственных и финансовых вопросов с тем, чтобы работы этих комиссий были обсуждены потом в «общей комиссии» с участием представителей от земства и нескольких крупнейших городов. Александр II примирился с этим планом (невероятно куцым, нисколько не удовлетворявшим даже умеренных либеральных пожеланий и бесконечно далеким от требований революционно-демократических кругов). После убийства Александра II, однако, и этот проект был похоронен.
На самом деле, как впоследствии указывалось В. И. Лениным, лорис-меликовские планы свидетельствовали лишь о колебании правительства, о наличии в его среде сторонников уступок либерализму, не имевших, однако, вовсе определенной программы и не возвышавшихся над уровнем бюрократов-дельцов. Только при условии, если бы давление революционной партии и либерального общества пересилило «противодействие очень могущественной, сплоченной и неразборчивой в средствах партии непреклонных сторонников самодержавия»,3 лорис-меликовский проект мог бы стать действительным шагом к конституции.
История тогда этого условия не создала. Революционная партия не имела опоры в массах. Усвоенная ею террористическая тактика поглощала главные ее силы, будучи сама по себе бесплодной в смысле политических результатов. В рабочих массах не было еще твердой организации; в революционное движение вовлечен был пока лишь узкий круг наиболее передовых представителей пролетариата. О наличии какой-либо организованности в крестьянстве не приходилось и говорить. Либеральное общество попрежнему не шло дальше предъявления осторожных ходатайств или отдельных столь же осторожных выступлений в земских собраниях и в печати. При таких условиях после совершенного народовольцами 1 марта 1881 года убийства Александра II, фактически исчерпавшего лучшие силы самих революционеров, правительству,
- 54 -
и именно его самым реакционным, неуступчивым элементам, удалось не только удержать позиции, но и перейти в контрнаступление и свести на нет «уступки», добытые в годы революционной ситуации.
Вторая революционная ситуация, подобно первой (конец 50-х и начало 60-х годов), не перешла в революцию. Тем не менее события, связанные с периодом второй революционной ситуации, сыграли выдающуюся роль в истории России. Они снова показали с не допускающей сомнений ясностью полную непримиримость, несовместимость существующего режима с потребностями поступательного развития страны. Они снова обличили иллюзорность всяких надежд на «добрые намерения» царизма и подтвердили неизбежность и необходимость непреклонной революционной борьбы против него до его полного и окончательного уничтожения. Вместе с тем событиями была вскрыта беспочвенность «революционного самомнения» интеллигенции и выяснена полная зависимость успеха революционного движения от активного, решающего участия в нем народных масс. Революционная ситуация всколыхнула очень широкие круги; яркие переживания этих лет не были вполне забыты и в наступившую пору реакции. Последующие революционные поколения помнили не только схватки эпохи 1861 года, но и бурные события 1878—1881 годов; они учились на уроках и тех и других. И недаром В. И. Ленин в период деятельности «Искры» и подготовки первой русской революции одну из своих важнейших работ («Гонители земства и Аннибалы либерализма») посвятил изучению и разъяснению опыта как первой, так и второй революционных ситуаций.
2
Примерно на 1881—1882 годы падает переход от «семидесятых» к «восьмидесятым» годам — периоду исключительно тяжелой реакции, проявившейся не только в ультраретроградном курсе правительства (Александра III), но и в понижении общественной активности, в распространении упадочнических идей и настроений, в растерянности значительной части даже и демократической среды.
Период этот является сложным и противоречивым. Правительство, опираясь на крепостнические слои дворянства, стало на путь своего рода «реставрации», перекраивая в реакционном духе реформы Александра II, стремясь задержать и повернуть вспять социально-политическое развитие страны. Была провозглашена «дворянская эра», означавшая максимальное покровительство дворянству в имущественном отношении и направленная одновременно ко всяческому упрочению и расширению политических позиций помещичьего класса. Но правящие круги не могли остановить экономического роста страны, они даже сами естественным ходом вещей вынуждались поддерживать интересы капиталистической промышленности и торговли. От роста промышленного производства неотделим был, разумеется, рост кадров пролетариата, в лице которого зрела и крепла могучая общественная сила, коренным образом враждебная существующим порядкам и грозившая им в будущем неминуемой гибелью. В 80-х годах, как писал потом В. И. Ленин, «был „шаг назад“ к дворянству, но это был шаг назад на ступени пореформенной России, далеко ушедшей от времени николаевской эпохи, когда дворянин-помещик командовал без «плутократии», без железных дорог, без растущего третьего элемента».1
- 55 -
Сложным и двойственным был также процесс, происходивший в общественном сознании. Напомним знаменитое положение Ленина, что «в России не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: „наступила очередь мысли и разума“, как про эпоху Александра III!».1 Постепенно падало, разлагалось революционное народничество. Зато в идейном столкновении с народничеством закладывались уже основы нового, марксистского миросозерцания, зарождалась и понемногу завоевывала позиции русская социал-демократия (это неизбежно вытекало из того роста пролетариата, о котором выше упоминалось). Да, кроме того, даже из кругов самого народничества, как указывалось Лениным, в 80-е годы всё же появились исследования экономической действительности России, «обогатившие русскую общественную мысль»2 и использованные — можно добавить — марксистами для разъяснения ошибочности народничества.
Отмеченные прогрессивные явления, роль и последствия которых вполне выявились и были глубоко осознаны передовым общественным мнением лишь в последующее время, не могут, конечно, вести ни к отрицанию, ни даже к смягчению оценки в целом 80-х годов как реакционного периода. Политическая атмосфера 80-х годов (особенно с середины десятилетия) была гнетущей. Ростки нового довольно долго оставались недостаточно заметными и влиятельными. Крепостники всё выше поднимали голову, держали себя всё более вызывающе. Представители старших поколений, дожившие до этой эпохи, и люди поколения, тогда именно вступившего на историческую арену, находились под непосредственным впечатлением усиливающегося наступления реакционных сил и являлись свидетелями постепенного угасания революционной энергии недавно еще смело и активно действовавших старых радикальных общественных элементов. Недаром в 1885 году вырываются у Щедрина жесткие слова: «Поистине, презренное время мы переживаем, презренное со всех сторон. И нужно большое самообладание, чтобы не прийти в отчаяние».3 А через 20 лет А. М. Горький, начало сознательной жизни которого относится к 80-м годам, мог в «Заметках о мещанстве» сказать об этом времени: «Тяжелые серые тучи реакции плыли над страной, гасли яркие звезды надежд, уныние и тоска давили юность, окровавленные руки темной силы снова быстро плели сети рабства».4
*
Общественный подъем 1878—1881 годов не сразу после мартовских событий 1881 года сошел на нет. Отзвуки подъема еще давали себя знать не только на протяжении 1881, но отчасти и в 1882 году. Сами революционеры далеко не сразу признали свое поражение. В известных кругах общества, особенно среди молодежи, престиж «Народной воли» после совершенного ею убийства Александра II временно возрос. Факты подтверждают свидетельство, например, видного народовольческого деятеля (будущего шлиссельбуржца) Сергея Иванова, утверждающего в статье «К характеристике
- 56 -
общественных настроений в России в начале 80-х годов»,1 что «в то полное тревоги и смятения время» еще «вовсе не было очевидно для всех, в том числе и для самого правительства» падение революционной волны (по крайней мере, скажем от себя, катастрофическое ее падение).
Этому соответствовало и поведение правительства. Правда, неразборчивая в средствах партия «непреклонных сторонников самодержавия» в ближайшие же после 1 марта дни и недели нанесла смертельный удар лорис-меликовским планам и положению самого «диктатора». Александр III легко и весьма охотно согласился с мнением таких своих советников, как Победоносцев, насчет того, что политика «уступок» может повлечь за собой «конституцию», а конституция — эта «фальшь по иноземному образцу» — ведет «к нашему несчастью, к нашей погибели».2 По личному внушению Победоносцева (а в печати — Каткова и др.) Александр III подписал манифест от 29 апреля 1881 года (составленный тем же Победоносцевым), в котором возвещалось, что новый царь «бодро» становится «на дело правления», «с верою в силу и истину самодержавной власти», которую он, Александр III, призван «утверждать и охранять... от всяких на нее поползновений». Изданием этого манифеста, подготовленного втайне от Лорис-Меликова, победоносцевская клика спровоцировала уход из правительства как самого вчерашнего «диктатора», так и его ближайших единомышленников. Тем не менее после манифеста и отставки Лорис-Меликова правительство, по справедливому ленинскому замечанию, «не сразу еще стало показывать все свои когти».3 После Лорис-Меликова в течение года на посту руководителя внутренней политики находился граф Н. П. Игнатьев, известный своими дипломатическими и демагогическими способностями. Проводя реакционный курс, он одновременно морочил наивных людей лозунгом «народной политики», разговорами о «живом участии местных деятелей» в исполнении царских «предначертаний», приглашением безвластных и безответственных экспертов («сведущих людей») из более или менее высокопоставленных «общественных деятелей» для обсуждения отдельных финансово-экономических и административных вопросов.
Так дело шло до середины 1882 года, когда прикрывать дальше «отступление правительства к прямой реакции»4 показалось уже излишним и свергнутого усилиями наиболее «непреклонных» реакционеров Игнатьева сменил граф Дмитрий Толстой, бывший министр просвещения, удаление которого в пору лорис-меликовских веяний в обществе готовы были оценивать как «величайшую из реформ» Александра II. Черносотенные «Московские ведомости», горячо одобряя назначение Д. А. Толстого, писали, что имя его есть уже само по себе «манифест и программа». Имелась в виду программа «укрепления» до крайних пределов полицейской власти, преследования и разгрома всех независимых общественных сил, пересмотра и уничтожения всех неудобных в глазах реакции сторон и последствий «реформаторских» начинаний предшествующего царствования.
В печати и общественном мнении позднейших лет период реакции 80-х годов склонны были обозначать как «победоносцевский». Известны слова Александра Блока:
- 57 -
В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла.
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.Зловещая фигура Победоносцева, обер-прокурора Синода, одного из ближайших советников и вдохновителей Александра III, действительно во многом окрасила собой правление предпоследнего из Романовых. Но не менее (а по временам даже более) влиятельной была роль «министра борьбы» (борьбы против всего прогрессивного и светлого) Дмитрия Толстого, с именем которого неразрывно связана бо́льшая часть реакционных мероприятий этого царствования.
Еще при Игнатьеве, в августе 1881 года, было обнародовано «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», устанавливавшее правила о «чрезвычайной охране» и «усиленной охране». «Положение» наделяло администрацию исключительными полномочиями и подчиняло ее произволу население тех местностей (на практике — огромной части страны), на которые правительство признавало необходимым распространить его действие. В 1882 году появились «Временные» (однако действовавшие целую четверть века) правила о печати, резко ухудшавшие ее положение по сравнению даже с царствованием Александра II, когда, как известно, прессе тоже жилось весьма не вольготно. В 1884 году был издан новый университетский устав, уничтожавший все допущенные ранее начатки автономии высшей школы и подчинявший учащуюся молодежь бдительной полицейской опеке. Тогда же началось широкое насаждение так называемой церковно-приходской школы, прямым назначением которой, по верной оценке даже либеральной печати, было «понижение уровня» начального народного образования. В 1887 году появился позорный циркуляр министра просвещения Делянова (преданного последователя и сподвижника Д. Толстого и Каткова) о «кухаркиных детях», имевший целью «освобождение» средней школы от представителей низших, демократических слоев населения. В 1889 году была осуществлена одна из наиболее крепостнических, если не самая крепостническая мера правительства Александра III: введен институт земских начальников, назначавшихся из потомственных дворян, поставленных над всей сельской и волостной администрацией, наделенных очень широкими административными и судебными правами по отношению к «мужику», над которым земские начальники потом командовали и издевались десятки лет. Новое земское положение, опубликованное в 1890 году, вскоре после смерти Д. А. Толстого, вносило реакционную ломку в прежнее (1864 года) положение о земстве — само по себе также чрезвычайно далекое от самого скромного демократизма — путем уничтожения выборного крестьянского представительства в земских органах и решительного усиления преобладания в земствах землевладельческого дворянства, путем дальнейшего сужения прав земского самоуправления и расширения контроля и власти над ним со стороны администрации. В 1892 году было пересмотрено в реакционном духе положение о городском самоуправлении.
Реакционные мероприятия правительства Александра III сильно затронули область суда. Одним из существенных проявлений реакции явились разнообразные преследования национальностей, значительное усиление национального гнета. Усилились преследования в вероисповедной области.
Лев Толстой, подводя уже после смерти Александра III итоги его правления, писал, что правительство этого царя «изменило, ограничило суд присяжных, уничтожило мировой суд, уничтожило университетские права,
- 58 -
изменило всю систему преподавания в гимназиях, возобновило кадетские корпуса, даже казенную продажу вина, установило земских начальников, узаконило розги, уничтожило почти земство, дало бесконтрольную власть губернаторам, поощряло экзекуции, усилило административные ссылки и заключения в тюрьмах и казни политических, ввело новые гонения за веру, довело одурачение народа дикими суевериями православия до последней степени, узаконило убийство на дуэлях, установило беззаконие в виде охраны с смертной казнью, как нормальный порядок вещей».1
*
Следует остановиться несколько подробнее на гонениях, которые испытала в период 80-х годов печать. Пресса, кроме открыто реакционной, была бельмом на глазу у господствующей клики. Победоносцев в самые первые месяцы царствования Александра III стремился укрепить императора в ненависти к печати, доказывая ему «виновность» газет и журналов в том, что политическими интересами охвачены в стране все — «от государственного человека до сельского дьячка и до последнего гимназиста». Он якобы не мог «надивиться слепоте и равнодушию» тех власть имущих, которые «не решаются на меры к ограничению печати» (как будто печать не была и раньше предельно ограничена в своих возможностях и правах!). «Я был всегда того мнения, что с этого следует начать», — писал Победоносцев царю.2 Уже за 1881 год зарегистрировано не менее 25 случаев репрессий против печати. Приход к власти Дмитрия Толстого сразу же ознаменовался крупным актом, направленным против прессы, — теми «Временными правилами» о печати (от 27 августа 1882 года), которые отмечены выше. Новые правила предоставляли совещанию в составе трех министров (внутренних дел, просвещения, юстиции) и обер-прокурора Синода право прекращать и бесцензурные, и подцензурные издания; газетную прессу они ставили в такое положение, что после временной приостановки, связанной с «третьим предостережением», подвергнутая этой мере воздействия газета неизбежно должна была вовсе закрыться. Правилами были убиты в 1883 году либеральные газеты «Страна» Леонида Полонского и широко распространенный «Голос» Краевского — Бильбасова. Раньше, в 1882 году, независимо еще от новых правил, прекратился выход либеральных газет «Порядок» Стасюлевича (к ней был близок И. С. Тургенев) и «Земство» Скалона и Кошелева. Уцелевшие либеральные органы всегда висели на волоске. Редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский в конце 80-х годов писал Н. К. Михайловскому: «Я думаю, существование населяющих „дома терпимости“ более обеспечено и охранено элементарными требованиями законности, чем прозябание той жалкой разновидности этого рода заведений, которую из приличия называют еще до сих пор „либеральной прессой“. Стоять во главе такого дела становится совсем не под силу ни в каких смыслах».3
Цензурно-полицейские условия, неблагоприятные для либеральных изданий, были невыносимы для печати демократической, перед которой, между тем, складывавшаяся политическая обстановка ставила совершенно исключительные по важности и ответственности задачи. Два руководящих
- 59 -
демократических ежемесячника, издававшихся еще со второй половины 60-х годов, — «Отечественные записки» и «Дело» — в труднейших условиях вели самоотверженную борьбу против натиска реакции. Особенно велика была роль «Отечественных записок» и в первую голову роль Щедрина; его «Письма к тетеньке», печатавшиеся в журнале на протяжении 1881—1882 годов, имели в обществе грандиозный успех и наносили меткие, тяжелые удары правящей клике, реакционерам-крепостникам и их пособникам.1
В 1884 году правительству удалось задушить «Отечественные записки» и «Дело». «Дело» не было формально закрыто властями, его фактическая ликвидация была осуществлена косвенным путем — арестом и высылкой ведущих деятелей журнала К. М. Станюковича и Н. В. Шелгунова.2 «Отечественные записки» были открыто уничтожены. Закрытие «Отечественных записок» (постановлением «четырех») весной 1884 года носило вызывающий и демонстративный характер. Оно сопровождалось правительственным сообщением,3 которое на «некоторые органы» периодической печати возлагало ответственность за «удручающие общество события последних лет», а специально «Отечественные записки» обвиняло в том, что они внесли «немало смуты в сознание известной части общества». Сообщение ссылалось на сходство многих статей легальной прессы по «тону» и «манере изложения» с произведениями тайной печати, на близкие связи некоторых работников «Отечественных записок» с революционным подпольем. С деланным возмущением авторы сообщения указывали на то, что статьи самого ответственного редактора (Салтыкова-Щедрина), запрещенные цензурой, появлялись потом в подпольных и эмигрантских изданиях. Михайловский свидетельствовал через несколько лет: «Душевное состояние Салтыкова после прекращения „Отечественных записок“ было необыкновенно тягостно... Погибло дорогое, любимое детище, в которое он всю душу клал... Оборвалась руководящая нить жизни...».4
Эмигрантское «Общее дело» в майском номере 1884 года отмечало, что «Катковский кружок, правящий... Россией в лице Толстого, уничтожил „Отечественные записки“, как встарь он с такой же целью, по тем же мотивам и с тою же бесцеремонностью уничтожил „Современник“». «Общее дело» справедливо указывало, что, удаляясь из литературы, «Отечественные записки» «оставляют за собой большое пустое место» и что «с их исчезновением реакционный мрак усиливается в России».5
Несмотря на тяжелую идейно-общественную атмосферу того времени, удушение «Отечественных записок» вызвало волну протестов, главным образом
- 60 -
со стороны демократической молодежи. Они выразились в сочувственных адресах Салтыкову, в появлении нелегальных обращений к обществу. В одном из них, исходившем от подпольного московского «Общестуденческого союза», высказывалась надежда, что общество «выразит свое сочувствие великому писателю-гражданину Салтыкову и его сотрудникам, свой протест и негодование русскому правительству».1
Чтобы вполне оценить тяжесть условий, в каких принуждена была жить литература в 80-х годах, надо учесть также практику запрещения и уничтожения отдельных книг,2 кроме того, систему изъятия из публичных библиотек и общественных читален множества выдающихся сочинений крупнейших русских писателей и критиков. Составленный в Главном управлении по делам печати в 80-х годах, переиздававшийся с дополнениями в 90-х и начале 900-х годов «Алфавитный указатель произведений печати, запрещенных к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях», включал сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Помяловского, Решетникова, ряд изданий Гаршина, Златовратского, Короленко, Левитова, Слепцова, отдельные тома Льва Толстого и т. д. Изъяты были целиком в тех же библиотеках и читальнях такие журналы, как «Современник», «Русское слово», «Отечественные записки», «Дело», «Слово», и даже «Русская мысль» (за 1880—1891 годы).
*
Реакционнейшая практика правительства Александра III нуждалась в идеологическом «обосновании», которым занимались несколько органов печати, тесно связанных с правящей бюрократией.
Главным литературно-политическим штабом реакции являлись «Московские ведомости» М. Н. Каткова. Политическая «система» Каткова была весьма нехитрой. Злейший враг демократии и даже либерализма, Катков видел спасительный выход из всех затруднений и кризисов в «сильной», ничем не стесняющейся власти. Он объявлял, что в царствование Александра II, особенно в самом конце этого царствования, власть будто бы держалась «доктрины правительственного бездействия».3 Свой положительный идеал Катков выразил в формуле: «Единая власть (предполагалось: власть неограниченно-самодержавная, — Ред.) и никакой иной власти в стране, и стомиллионный, только ей покорный народ — вот истинное царство».4 Поворот правительства к политике крайней реакции Катков приветствовал как наступление «новой эпохи». После принятия университетского устава 1884 года Катков произнес известные слова: «Господа, встаньте! Правительство идет, правительство возвращается!..».5 Катков требовал утверждения в полной мере «сословного начала» в государственной жизни России, максимального поднятия удельного веса поместного дворянства, всемерной поддержки дворянского землевладения. Он добивался уничтожения суда присяжных, беспрерывно поносил земство и по
- 61 -
существу держал курс на полное его упразднение. Катков изо дня в день травил инакомыслящую печать, охотно прибегая ко всяким инсинуациям и клевете, обвиняя неугодных писателей и издателей в «антирусском направлении», в государственной измене. После смерти Каткова (1887) В. Г. Короленко писал: «Насколько человек может представлять собою олицетворение всего худшего в наши тяжелые дни, — настолько Катков был именно таким олицетворением... русская литература потеряла в лице Каткова только главного прокурора от инквизиции, только главного и талантливейшего из доносчиков на всякое честное и свободное слово».1
Влиятельным в реакционных сферах был князь В. П. Мещерский, публицист и беллетрист (автор хлестких романов из великосветской жизни). Мещерский был личным другом Александра III. Его газета «Гражданин», издававшаяся еще с начала 70-х годов (одно время — под редакцией Ф. М. Достоевского), пользовалась в 80-х годах громадной правительственной субсидией. Мещерский одним из первых выдвинул лозунг — «поставить точку» к реформам Александра II. При преемнике последнего Мещерский выступал в качестве одного из самых крикливых и до крайнего абсурда «последовательных» проповедников и вдохновителей ультрареакционного курса. «Гражданин» с особой настойчивостью оттенял свое дворянское (по сути дела глубоко крепостническое) направление. Князя Мещерского даже такой типичный охранитель, враг русской передовой литературы, как Е. М. Феоктистов (начальник Главного управления по делам печати на протяжении почти всех 80-х и части 90-х годов), наделяет в своих записках характеристиками: «негодяй», «наглец», «презренная личность».2
Несколько отличное от «Московских ведомостей» и «Гражданина» положение в стане реакционной печати занимало «Новое время», для которого годы реакции были порой наибольшего «расцвета». Отличие заключалось в стремлении «Нового времени» (газета находилась с 1876 года в руках А. С. Суворина) овладеть «большой публикой», между тем как «Московские ведомости», а тем более «Гражданин» ориентировались почти исключительно на бюрократическую среду и общественные верхи. Конечно, огромное преувеличение заключено в утверждении историка литературы С. А. Венгерова, будто «Новое время» в 80-х годах «почти безраздельно завладело» этой большой публикой. Но несомненен факт значительной распространенности «Нового времени» в более или менее широких обывательских кругах. Угодничая перед правящими сферами, проспособляясь всеми силами к каждому повороту правительственной политики (газета вполне заслужила щедринскую оценку: «чего изволите»), «Новое время» прибегало для уловления в сети реакции обывательских умов к более «тонким» и хитрым приемам, нежели «Московские ведомости». Его орудием являлось, по справедливой на этот раз характеристике Венгерова, глумление. Одним из важнейших объектов травли со стороны «Нового времени» была русская прогрессивная интеллигенция. Именно в «Новом времени» на рубеже 70-х и 80-х годов был открыт тот поход против интеллигенции, который продолжался в правой прессе на всем протяжении реакционной эпохи.
Реакция 80-х годов имела даже своих «философов» и «теоретиков» в лице Константина Леонтьева и Победоносцева.
- 62 -
К. Н. Леонтьев, горячий почитатель Каткова, которого он находил полезным «заживо политически канонизировать»,1 яростно восставал против самой идеи прогресса, идеи «улучшения жизни для всех», называя ее «ложным продуктом демократического разрушения старых европейских обществ».2 Леонтьеву принадлежит чудовищный афоризм: «надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не гнила».3
Константин Леонтьев был законченным, нагло воинствующим апологетом средневековья, крепостничества, религиозного мракобесия. Черносотенная проповедь его началась еще до обозреваемого нами периода; в 80-х годах она особенно пришлась ко двору политической реакции.
Такой же законченный круг реакционнейших «теоретических» взглядов проповедывался Победоносцевым. Видное место в них занимало отрицание прав человеческого разума (безумной, по его определению, «человеческой мудрости»), враждебное отношение к развитию мысли, к «вере в общие начала». Он выступал как совершенно открытый враг просвещения. Победоносцева пугала «непомерная быстрота» течения жизни; он провозглашал «великое значение» инерции, которою «держится человечество». «Преобразовательное движение», которым «гордится» XIX век, он расценивал как «язву» эпохи. Формулу свободы, равенства и братства он именовал «роковым бременем», тяготеющим над «легковерными умами». Демократия со всеобщей подачей голосов была для Победоносцева «одним из самых поразительных в истории человечества» заблуждений, теорию парламентаризма он называл «великой ложью нашего времени». С ненавистью отзывался Победоносцев о печати как выражении общественного мнения. Всей «лжи» культуры и демократии противопоставлялись им «спасительная» бесконтрольность и безответственность стоящей над народом и обществом власти и церковь как «корабль спасения».4
Говоря о лагере реакционных «теоретиков» и публицистов 80-х годов, нельзя обойти Ивана Аксакова с его газетой «Русь», издававшейся с конца 1880 до 1886 года. На рубеже 70-х и 80-х, особенно в начале 80-х годов заметно некоторое оживление славянофильства. Этому отчасти способствовал Достоевский своим «Дневником писателя», своей нашумевшей «пушкинской» речью. Славянофильство в общем колебалось с начала своего существования между прямой реакцией и либерализмом. У него был свой относительно наиболее «либеральный» период в канун крестьянской реформы.
Потом пошло поправение славянофилов, резко обострившееся к началу 80-х годов. В первые же месяцы издания «Руси» стало совершенно ясно, что Аксаков занимает открыто враждебную позицию не только в отношении демократических и революционных элементов, но и в отношении умеренных либералов. Таким образом, не только «Отечественные записки» или «Дело», но и «Вестник Европы» был втянут в длительную полемику с «Русью». Первое марта вызвало у Аксакова настоящий пароксизм воинствующей реакционности. Он травил прогрессивную интеллигенцию, настойчиво требовал проявления «твердой, строгой, грозной» власти, предостерегал против всякой «уступки крамоле или даже требованиям
- 63 -
европейского либерализма».1 «Постоянную борьбу» свою с «конституционными „веяниями“ в русском обществе» Аксаков через три года выдвигал как заслугу, отмечая с удовлетворением родство своих взглядов на значение «единодержавия» с позицией «Московских ведомостей».2 Даже в оценке реформ Александра II Аксаков подавал во многом руку откровенной реакции, говоря, что в них «правда» переплетена с «ложью», причем «ложь» заключалась в его глазах в «фальшивой окраске, какая придана им примесью западного либерально-конституционного доктринерства».3 Иногда, особенно в самом конце жизни (Аксаков умер в 1886 году), когда реставраторские устремления правящих верхов обрисовались с достаточной полнотой, Аксаков выступал и с призывами к большей сдержанности (пора перестать обрушиваться на реформы Александра II «с ярою до слепоты ненавистью, громя всё сплошь», — убеждал он самых неистовых реакционеров в начале 1885 года).4 Но общий характер аксаковской политической линии был отмечен большой близостью, а подчас и полным совпадением с катковщиной. В частности следует указать на грубые выходки «Руси» против современной передовой литературы, например, против Щедрина.
Самыми вредными пособниками деспотизма законно считали славянофилов 80-х годов все их сколько-нибудь последовательные противники.
*
В обстановке реакции демократической литературе приходилось вести борьбу с издававшейся П. А. Гайдебуровым газетой «Неделя», претендовавшей быть выразительницей взглядов и настроений «восьмидесятника» и действительно отражавшей психологию известных кругов общества реакционной эпохи.
В свое время, до 80-х годов, «Неделя» причислялась с большим или меньшим основанием к левому флангу русской печати. Впрочем, уже в 70-е годы она пыталась занять особую, по сравнению с руководящим органом демократии — «Отечественными записками», позицию, если позволительно так выразиться, сверхнародничества. Эта позиция ярко сказалась в нашумевших в свое время статьях «П. Ч.»5 (1875—1876, особенно статья «Отчего безжизненна наша литература» в № 44 «Недели» за 1875 год). Характерной чертой воззрений Червинского, целиком поддержанных редакцией «Недели», было глубочайшее преклонение, граничащее с идолопоклонством, перед так называемым нравственным складом «деревни», признание его превосходства над нравственными идеалами интеллигенции (хотя бы передовой, демократической и революционной), требование подъема и обновления литературы на крестьянской «народно-психологической» подкладке. В «Отечественных записках» Н. К. Михайловский в целой серии больших статей полемизировал с Червинским и «Неделей». Соглашаясь с некоторыми общими народническими положениями, лежавшими в основе суждений «П. Ч.», Михайловский отвергал то, что считал у него крайностями. «Оживить нашу литературу, прекратить наше нищенство ожиданием надлежащего слова, которое скажут люди деревни, — нельзя», — писал Михайловский. «Голос деревни, — согласно его мнению,
- 64 -
безусловно тут выражавшему точку зрения «Отечественных записок» в целом, — слишком часто противоречит ее собственным интересам, и задача состоит в том, чтобы, искренно и честно признав интересы народа своею целью, сохранить в деревне, как она есть, только то, что действительно этим интересам соответствует».1
Утверждения о «превосходстве» деревни и требования подчинения ее «мнениям» и «голосу» оказались затем в условиях реакции 80-х годов формой и средством прямой антиреволюционной пропаганды со стороны «Недели», где центральной фигурой на ряд лет стал публицист Юзов (псевдоним И. И. Каблица).
Юзов был раньше активным деятелем революционного движения, «бакунистом», участником «хождения в народ». В начале 80-х годов он берет на себя миссию сформулировать и обобщить идейные «Основы народничества» (так называлась книга Юзова, первая часть которой была издана в 1882 году и составилась преимущественно из переработанных статей автора в «Неделе»). Однако статьи Юзова и выросшие из них «Основы» представляли собою невероятное опошление старого, боевого народничества; в связи с появлением этой книги Тихомиров (тогда еще остававшийся революционером-народовольцем) опубликовал в «Деле» статью «Шатанье политической мысли», где открыто заговорил о «народниках», протягивающих «руку примирения» Каткову.2 Михайловский в «Отечественных записках» охарактеризовал произведение Юзова как вздор с апломбом.3 Но этот «вздор» (это был действительно претенциозный вздор) свидетельствовал о начавшемся вырождении в части народнического лагеря. Из статей в «Неделе» в значительной мере составился и новый сборник Юзова «Интеллигенция и народ в общественной жизни России» (издан в конце 1885 года), где автор в отречении от освободительных традиций пошел еще дальше.
Общим у Юзова со старым народничеством оставалось отрицание капитализма и отстаивание внекапиталистического пути для России, причем он занимал в этом вопросе особо крайнюю позицию, оставив за собой даже «оптимистические» прогнозы Воронцова («В. В.»).4 «Специфика» Юзова заключалась в самом резком подчеркивании «самобытности», принимавшем характер неприкрытого национализма и шовинизма, во враждебной оценке роли как радикально-демократической, так и либеральной интеллигенции, по адресу которых выставлялись им обвинения в игнорировании «мнений» народа, в намерении командовать над народом и навязать ему силой «чуждые» России идеалы и учреждения, далее (и в связи с этим) — в непрерывных попытках дискредитировать конституционные требования, в отказе от всякой борьбы с правительством. В 1881—1882 годах Юзов горячо приветствовал обманную и демагогическую «народную политику», провозглашенную министерством Игнатьева, утверждая, что в лице последнего «правительство впервые подняло народное знамя во внутренних делах».5 Много позднее, после выхода второй части юзовской книжки «Основы
- 65 -
народничества» (1893), Михайловский, останавливаясь на претензии Юзова монополизировать в пользу своих взглядов термин «народничество», признавал, что «никто так не скомпрометировал народничество, как он».1
Нельзя, однако, не заметить, что такая черта юзовских взглядов, как апелляция к царизму и бюрократии в надежде обратить их силу и деятельность «на пользу народа», была характерна для более или менее широкого круга выродившихся «народников» 90-х годов, с которыми пришлось воевать русским марксистам.
«Юзовщина» была типична для позиции «Недели» с самого начала 80-х годов. Во второй половине 1882 года «Неделя» выступает против «воображаемой оппозиции», опирающейся «на публику» (т. е. на общественные силы), против «бесцельной ворчливости и хныкания» (т. е. против критики существующих условий), против нападок «на того, перед кем защищаешь свое дело» (имелось в виду самодержавное правительство). Она спорит с чисто «отрицательным» воспитанием, считает признаком общественной зрелости «уменье делать дело», каковое «дело» явно противопоставляется политической, революционной борьбе.2
Самодовольный «практицизм», исключающий «мечтания», стал знаменем восьмидесятнической «Недели». Не революционная борьба, не «политика», а культурничество — таков был ее лозунг.
На протяжении второй половины 80-х годов «Неделя» с постоянством и усердием проповедует отказ от «героизма», поднимает на щит «среднего человека», не ставящего в жизни «идеальных» задач, довольствующегося исполнением «малых дел». «Неделя» обрушивается на чрезмерно, в ее глазах, критическое и отрицательное направление части русской печати и в ряде статей (главного своего сотрудника во второй половине 80-х годов Я. В. Абрамова, перебежавшего к ней, как и Юзов, из лагеря левой демократии, бывшего сотрудника «Отечественных записок») занимается неблагодарным делом коллекционирования «отрадных» и «светлых» явлений.3 С комичным самомнением редакция «Недели» в объявлении о подписке на 1887 год, хвастая тем, что «многие» читатели «дорожат нравственным значением для них» газеты, «ее руководящим влиянием», гордилась своим «освежающим действием и постоянною бодростью духа».4
В «Неделе» была выдвинута теория «поколений». Она отвергала «жалобы на наше время» (на 80-е годы), защищала «среднего» человека реакционной эпохи против обличений со стороны людей, сохранивших верность революционным заветам 60—70-х годов, объявляла этих людей устаревшими, не понимающими новых условий и требований жизни. «Теория» поколений была приложена и к литературе, литературной критике (в этой области на страницах «Недели» подвизались В. Л. Кигн-Дедлов, не только критик, но и беллетрист и очеркист, автор обратившей на себя внимание повести «Сашенька», и Р. А. Дистерло).
Манифестом «недельной» критики явилась статья «Р. Д.» (Р. А. Дистерло) «Новое литературное поколение» (1888 год). Дистерло, собственно, говорил сразу и о «новом поколении» вообще (как он его понимал, конечно),
- 66 -
и о «новом» писательском поколении как показателе и выразителе первого. «Новое поколение, — утверждал автор, — родилось скептиком. Идеалы, которыми жили его отцы и деды, оказались бессильными над ним». Новое поколение не верит в «идеальных людей», не требует геройства от человека. Оно разочаровано в прежних стремлениях и признало «необходимость» действительности, «в которой ему суждено жить», оно «возвратилось к природе», почувствовав ее «всеобъемлющую, абсолютную власть». «Спокойно и безропотно» оно принимает свою судьбу. Соответственно этому «новейшая» художественная литература проникнута стремлением «реабилитировать действительность».1 Н. В. Шелгунов, посвятивший выступлению «Р. Д.» один из ярких «Очерков русской жизни», писал: «Если всё то, что говорит г. Р. Д., перевести на простой, обыденный язык, не употребляя маскирующих литературных слов, то получится вот что: бросьте, господа, все эти завиральные идеи, которые не привели ни к чему, будьте людьми практическими, сидите каждый под своею смоковницей, любуйтесь на природу, а там что будет, то и будет».2
Дистерло пришлось, однако, с сожалением констатировать, что «далеко не всё» в современной литературе проникнуто симпатичным ему духом, которого он не находил у Надсона и Гаршина; он скорбел о том, что печать «идеальных стремлений» прежнего времени лежит и на «некоторых» произведениях Короленко. В сочувственную ему группу Дистерло зачислял Ясинского, Дедлова, Баранцевича, Щеглова, поэта Фофанова; он пытался также и Чехова «пристроить» к этой группе литераторов, проникнутых, как он говорил, «духом признания, а не отрицания действительности» (на деле, как известно, всё творчество Чехова по существу было именно отрицанием позорной и пошлой «действительности» самодержавной полукрепостнической страны).
С «Неделей» — с Юзовым, Абрамовым, Дистерло и т. д. — боролся Н. К. Михайловский. Он, между прочим, отмечал родство общественно-эстетических воззрений сотрудников «Недели» с эстетикой «чистого искусства», представленной некогда «Библиотекой для чтения» Дружинина.3 В связи с отвратительными выпадами «Р. Д.» против демократической и реалистической критики 60-х годов Михайловский прямо говорил о повторении задов «Московских ведомостей» и «Гражданина».
Еще упорнее и настойчивее преследовал жалкие «новые слова» «Недели» старый шестидесятник, бывший сподвижник Чернышевского и Писарева, Н. В. Шелгунов. Многократно возвращался он в своих «Очерках русской жизни» к обличению той «популяризации общественного индифферентизма», которой занималась «Неделя» и которую Шелгунов признавал настоящей «школой общественного разврата».4
Шелгунов, в частности, настойчиво бил по тем элементам пропаганды «Недели», где она смыкалась известным образом с «толстовством». А такие элементы были налицо: на страницах «Недели» имела место популяризация слабых, наиболее порочных сторон моральной проповеди Толстого, и Шелгунов в 1890 году даже писал о «Неделе», как «самой преданной почитательнице гр. Толстого».5
Распространение толстовского учения также следует отнести к «признакам времени» обозреваемой эпохи.
- 67 -
*
Лев Толстой в 80-х годах горячо и страстно выступил в роли проповедника-моралиста, создателя религиозно-философского учения, которое он стремился обосновать собственным толкованием старого христианского вероучения. В зародышах, подчас весьма явственных, это учение можно проследить у Толстого задолго до известного перелома в его мировоззрении. Но как раз к 80-м годам элементы учения гораздо яснее определились и были самим автором уяснены как система, кричащих противоречий которой он не замечал, которая казалась ему, наоборот, цельной и стройной и которую он понес в мир.1 Идейная атмосфера восьмидесятых годов оказалась вполне благоприятной для распространения воззрений Толстого. Да и на Западе, вследствие обострения социальных противоречий и назревшего духовного кризиса среди некоторой части мелкобуржуазной интеллигенции, разочаровывавшейся в буржуазной культуре и не умевшей прочно связать себя с новой общественной силой — пролетариатом, взгляды Толстого с самого начала стали встречать сочувственный отклик.
Противоречия мировоззрения и творчества Толстого, столь ярко и резко обозначившиеся после идейно-нравственного его перелома, зрели давно. На них обратил внимание Чернышевский в начале 60-х годов. Народническо-демократическая критика 70-х годов поставила вопрос о «деснице» и «шуйце», переплетении правильного и ложного у Толстого, но при идейной ограниченности этой критики освещение и оценка ею различных сторон толстовских взглядов не могли стать последовательными и полноценными. Критическая работа по отделению здоровых и ошибочных элементов в воззрениях Толстого приобрела вполне научное направление в позднейшее время в русской марксистской мысли. Подлинную эпоху в изучении и истолковании Толстого составили работы В. И. Ленина.
Оценивая противоречия во взглядах Толстого как выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века, Ленин подчеркивал полную несостоятельность Толстого как «пророка», открывавшего «новые рецепты спасения человечества», и одновременно его величие как выразителя «тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России».2
- 68 -
Принадлежа по своему положению к высшей помещичьей знати, Толстой издавна мучился сомнениями о «неправедности» жизни окружающей и привычной для него привилегированной среды и в конце концов, как он писал в «Исповеди» (1879—1882), отрекся от жизни своего круга, признав, что «это не есть жизнь, а только подобие жизни». «Для того, чтобы понять жизнь, — говорил там же Толстой, — я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа — того, который делает жизнь».
Обращение к народу, именно к русскому крестьянству, по-своему сближало Толстого с народничеством, так же как сознание долга перед этим народом, «вины» перед ним. Толстой разделял с народничеством враждебное отношение к капиталистическому развитию. Он идеализировал весь строй деревенской, крестьянской жизни, отстаивая земледельческий труд и «самостоятельное» хозяйство мелкого крестьянина как единственно нормальные, достойные человека. Во всем этом он был еще более крайний и непримиримый «народник», чем кто-либо другой, во всяком случае — чем наиболее авторитетные и руководящие деятели народничества.
Но в отношении к народу Толстого и народников-революционеров было одно особо существенное различие. Толстой ценил в народе не революционный инстинкт, на который возлагали надежды левые народники, мечтавшие раздуть из искры народного недовольства пламя крестьянского восстания, а, напротив, так называемые христианские добродетели.
С другой стороны, Толстой выступил как великий обличитель, для которого характерен «замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши»,1 причем сила и острота, широта захвата этого протеста с течением времени (90-е годы) не уменьшались, а значительно увеличивались.
Он дал потрясающую по силе и смелости критику современного ему государства, милитаризма, частной поземельной собственности, капиталистической эксплуатации. Его беспощадное обличение полицейско-казенной церкви производило огромное впечатление. «Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя» — этот громкий клич Толстого, раздавшийся в 80-х годах, не прошел бесследно.
Выступая врагом церкви, Толстой сам исходил из начал религии. Толстой имел основание сказать о себе: «...я человек, весь занятый одним очень определенным вопросом, не имеющим ничего общего с оценкою современных событий: именно вопросом религиозным и его приложением к жизни».2 Толстой говорил, что истина совпадает для него с христианством, как он его понимает. Краеугольным камнем его толкования христианства было учение о «непротивлении злу». Он отвергал путь, которым шла русская революционная интеллигенция (не в частностях отвергал, а в главном и основном). Оценивая 20-летний опыт революционной борьбы в России, он признавал, что молодая интеллигенция проявила много истинного желания добра и готовности к жертвам. «И что же сделано? Ничего! Хуже, чем ничего. Погубили страшные душевные силы». Толстой призывал «вместо выстрелов, взрывов, типографий» поверить в «учение Христа», признать «христианскую жизнь» единственной разумной жизнью.3
- 69 -
Христианский путь заключается, учил Толстой, в самоусовершенствовании. «...переустройство отношений человечества возможно только тогда, когда совершится переустройство условий жизни отдельных людей», — писал он в 1886 году одному из «ищущих» интеллигентов,1 разумея внутреннее «переустройство», личное моральное совершенствование.
В обстановке реакции 80-х годов проповедь, начатая Толстым, привлекла большое внимание со стороны более или менее широких и разнообразных общественных кругов. Надо, однако, учесть сложность, неоднородность причин, по которым те или иные общественные элементы и отдельные лица обращались к Толстому. Для одних весь интерес или по крайней мере главный интерес выступлений Толстого заключался в критических, протестующих, обличительных сторонах этих выступлений. В. И. Ленин вскоре после смерти Толстого писал: «Четверть века тому назад критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения вопреки реакционным и утопическим чертам толстовства».2 Других (особенно среди наиболее юной молодежи) подкупала уже одна постановка в сочинениях популярнейшего писателя больных и жгучих этических и общественных проблем; выступления писателя давали немало поводов для оживленных обсуждений, споров. Наконец, началось формирование «секты» толстовцев, превыше всего ценивших проповедь непротивления злу, опрощения, жизни «своим трудом», морального «самосовершенствования» как панацеи от всех личных и общественных неустройств. Правоверные «толстовцы» воспринимали не сильные, а главным образом, если даже не исключительно, самые слабые, реакционные стороны толстовской проповеди. Их, этих чистых «толстовцев», было в сущности немного. Но, используя популярность и обаяние великого имени, они пытались увлечь за собой те или иные кружки интеллигентной молодежи, иногда проникали даже и в рабочую среду.
В целом пропаганда непротивления, противопоставление морального совершенствования личности борьбе за изменение общественно-политических условий представляли опасность, с которой не могли не считаться радикальные элементы общества и демократическая печать. Стремлением разъяснить читателям вред этой пропаганды проникнуты многие публицистические произведения середины и второй половины 80-х годов.
Еще в 1885—1886 годах в эмиграции была написана П. Л. Лавровым статья «Старые вопросы», целиком посвященная разбору «учения графа Л. Н. Толстого» (она была опубликована в «Вестнике „Народной воли“» в 1886 году). Лавров более чем старательно собирал всё то, что, по его словам, можно было «извлечь здравого и полезного из противоречивых элементов, встречающихся в учении нашего великого беллетриста». Вместе с тем он подробно говорил о тех элементах учения, которые находил вредными. Отвергая мысль о «возможности почерпать истинные руководства в жизни из элементов христианского предания и из мистического учения о „непротивлении злу“», Лавров отстаивал «право человека» на революцию и обязанность его «работать на нее».3
Примерно в одно время со статьей Лаврова в самой России появились (в трех книжках «Северного вестника» за май — июль 1886 года) и имели неизмеримо более широкий доступ к читателю и уже поэтому гораздо больший резонанс направленные против толстовского учения статьи
- 70 -
Михайловского.1 Михайловский, как и Лавров, не мог вскрыть социальные корни этого учения, не умел противопоставить ему такой целостной системы взглядов, которая была бы основана на подлинно научном понимании общественных явлений и закономерностей и указывала бы действительно ведущие к достижению победы над силами прошлого линии борьбы. В воззрениях самого Михайловского были черты, роднившие его с Толстым: «отрицание» путей, которыми шел на деле исторический процесс, «отвержение» капитализма, идеализация «самостоятельного» мелкокрестьянского хозяйства и общинного владения землей, в какой-то мере и характер понимания «долга» перед народом. Но Михайловский не мог принять ни слепого преклонения перед крестьянским миросозерцанием, ни безразличия к общественно-политической борьбе, ни учения о непротивлении. В проповеди непротивления Михайловский видел «возмутительное презрение к жизни». Преувеличивая, как можно теперь думать, масштабы воздействия толстовства, он находил, что за Толстым люди «валом валили». Михайловский, отмечая появление с разных сторон протестов против учения Толстого, радовался тому, что «жива душа литературы», что «проповедь общественной анестезии и квиетизма» встречает по мере возможности отпор.2 Отметим, что борьба Михайловского против толстовского «непротивления» расценивалась в качестве его заслуги русскими революционерами-марксистами. В известных письмах Н. Е. Федосеева к Михайловскому (1894) устанавливается тот факт, что марксисты «усердно» рекомендовали рабочим, затронутым влиянием толстовских идей об отказе от насилия, статьи Михайловского о Л. Толстом и толстовцах.3
Систематическую борьбу против толстовства вел на протяжении 1887—1891 годов, до своей смерти, Н. В. Шелгунов. Более десяти статей из «Очерков русской жизни», печатавшихся Шелгуновым в журнале «Русская мысль», целиком или в значительной части были посвящены разъяснению ошибочности толстовского учения.
Шелгунов в связи с полемикой против Толстого особенно большое внимание уделял вопросу о различии «моралистической» и «общественной» точек зрения, о теориях «личности» и «среды». Вопрос, заявлял Шелгунов, заключается в том — развитием ли политических понятий и реформами общественных отношений достигается умственное, экономическое и общественное улучшение, или же вернее идти обратным путем, от личного к общему.4 Находя, что тут речь идет о двух разных «программах жизни», Шелгунов упорно и настойчиво на протяжении ряда лет пропагандировал «теорию среды», отстаивал общественную точку зрения, призывал «бороться против общественных зол общественными средствами».5
Шелгунов критиковал толстовский подход к проблеме народа, противопоставлял ему отношение прежних демократов к вопросу о «мужике». Прежде, указывал Шелгунов, «о мужике говорилось в интересах его экономического и общественного развития, в интересах его общественных и гражданских прав». Теперь, в 80-е годы, у Толстого и других явилось противопоставление мужика «как идеала» беспомощному и расшатанному интеллигенту.
- 71 -
Хотя Шелгунов и писал (1888) о том, что за «новым пророком» — Толстым — пошла «толпа» учеников и последователей, но уже тогда он одновременно высказывал убеждение, что Толстой с его сторонниками «могут образовать только секту мечтателей», а «жизнь за ними не пойдет».1
В лице Шелгунова против толстовства выступил видный представитель демократической литературы 60-х годов. Характерно (иначе, конечно, не могло и быть), что вождь этой литературы Н. Г. Чернышевский, в разгар «проповеднической» деятельности Толстого находившийся уже (после каторги и вилюйского острога) в Европейской России, относился, по свидетельству Короленко, к этой деятельности и ко всему «движению, обозначенному Толстым», «очень насмешливо», говорил о них с особенной резкостью.2 Хорошо известны также сугубо критическое отношение Салтыкова-Щедрина к толстовскому учению и неудача, постигшая попытку привлечения Щедрина к участию в толстовском издательстве «Посредник», вызванная именно резким расхождением между целями издательства и всем направлением литературной деятельности великого сатирика.
Отметим в заключение серьезную и поучительную критику толстовства, толстовского учения о «непротивлении злу» — критику средствами художественной литературы — в творчестве Владимира Короленко 80-х годов. В особенности следует вспомнить в этой связи короленковское «Сказание о Флоре» 1886 года.
*
Непосредственно после 1 марта 1881 года руководители либерального общественного мнения оказались в состоянии замешательства и растерянности, не проявили способности и желания осуществить какую-либо серьезную мобилизацию общественных сил для предъявления настоящих требований правящим верхам, не обнаружили никакой готовности поддержать борьбу демократических элементов. В то же время в очень осторожной и «скромной» форме, часто в замысловатых и завуалированных выражениях либералы давали понять, что они осуждают стремления к «повороту назад» или «остановке на одном месте», призывали считаться с происшедшим ростом общественности и указывали на вытекающую отсюда возможность «таких приемов разработки и подготовки реформ» и «таких размеров самого преобразования, о которых трудно было даже мечтать четверть века тому назад»,3 т. е. в начале царствования Александра II. Указывалось на то, что чаемые мероприятия должны коснуться «области коренных основ государственного управления», что «параллельно с потребностью в реформах растет потребность в гарантиях, в гарантиях для лиц и для учреждений».4 Во всем этом содержался намек на желательность какой-либо формы представительства и более ясно выражалась мысль о насущной необходимости гражданских свобод.
Под давлением усиливающейся правительственной реакции, под жестоким обстрелом Каткова, Аксакова либералы всё больше отступали, урезывали свою программу. В начале 1882 года «Вестник Европы», отвечая на выпады аксаковской «Руси», готов был объявить чуть ли не выдумкой обвинения
- 72 -
по адресу либеральной интеллигенции в конституционных поползновениях. «Именно русский либерализм и не отличается особенным стремлением к конституции по иностранному образцу», — утверждал журнал.1 Всё же в течение «переходного» года, разделявшего министерства Лорис-Меликова и Дмитрия Толстого, тот же, например, «Вестник Европы» еще не отрекался от мечтаний о «правовом порядке» и сознательно принимал аксаковские упреки в стремлении к «сочинительству». «Сочинительство, понимаемое в смысле приискания новых форм для нового содержания, новых средств для новых задач — необходимый элемент государственной жизни», — писал К. К. Арсеньев во «Внутреннем обозрении» «Вестника Европы».2 Комментируя впоследствии эту свою давнюю" статью, Арсеньев заверял, что сочинить «надлежало, очевидно, способ перехода от абсолютизма к народному представительству».3
Конечно, такая относительная «устойчивость» (оказавшаяся тоже весьма недолговечной) отличала лишь «цвет» либеральной интеллигенции, прежде всего ее главных идеологов; либеральная толпа, либеральные обыватели уже и тогда были охвачены паникой и совсем капитулировали перед реакцией. Чем решительнее становился реакционный натиск, тем глубже отступал либеральный лагерь.
В конце 80-х годов Плеханов отмечал, что тогдашний русский либерал давно уже перестал говорить об «увенчании здания» и «единственное, чего он хочет теперь, — это отстоять те учреждения Александра II, которые он сам находил когда-то неполными и непоследовательными».4 Отстаивая теперь против наступающей крепостнической реакции местное самоуправление, либералы стремились убедить правящие сферы в полной совместимости широкого самоуправления с неограниченным самодержавием. Даже у той части бывших революционеров-семидесятников, которые сами укорачивали свое знамя и больше всего заботились о тесном сближении с теми же либералами, подобные выступления последних вызывали досаду, признавались реакционными, вредными, рабьими.5
Либералы 80-х годов выставляли себя защитниками идейно-политического «наследия» 60-х годов, спорили против раздававшихся в части литературы призывов к отказу от преемственности с 60-ми годами; но они это «наследие» истолковывали в узко-реформистском духе и при этом естественно представляли его как нечто единое, стирая все грани между либералами-реформистами и демократами-революционерами 60-х годов.
Несмотря на крайнюю политическую ограниченность либерализма 80-х годов, на убогий и куцый характер его оппозиции, либеральная печать этого времени не могла не быть сравнительно заметным фактором оскудевшей тогда общественной жизни. Дело в том, что после окончательной расправы правительства над левой демократической прессой крупные либеральные издания оказались в монопольном положении. Как бы осторожно и умеренно ни звучали высказывания против крепостнических контрреформ, зверского национализма, преследований науки и просвещения, которые раздавались
- 73 -
в либеральной печати, это была по существу единственная легальная трибуна для критики.
И этой трибуной не могли не воспользоваться в условиях реакции также демократические силы русской литературы и публицистики. Три органа либеральной печати следует преимущественно иметь при этом в виду: ежемесячники «Русская мысль» (Москва) и «Вестник Европы» (Петербург), ежедневную газету «Русские ведомости» (Москва).
«Русская мысль» родилась в 1880 году, как говорили, «в пеленках славянофильства»; ее редактором до 1885 года был публицист, переводчик, театральный деятель С. А. Юрьев, связанный так или иначе со славянофильскими кругами. Но с самого начала мотивы «левого» славянофильства (единственным в своем роде представителем которого был Юрьев, старый друг Салтыкова) смешивались в «Русской мысли» с либеральными и даже народническими. Потом (особенно после перехода редакции в 1885 году в руки В. А. Гольцева, уже и раньше работавшего в журнале) «Русская мысль» была в целом одним из основных органов либерализма. Роль «Русской мысли» очень возросла после закрытия «Отечественных записок» и «Дела». При существовании этих изданий некоторые из их сотрудников печатались иногда также в «Русской мысли» (Глеб Успенский, Златовратский, Мамин-Сибиряк и др.). С удушением «Отечественных записок» участие ряда их бывших деятелей в «Русской мысли» стало активнее, а вместе с тем понемногу в ней начали появляться и работы других участников салтыковского органа. Власти подозрительно смотрели на «Русскую мысль», московский обер-полицмейстер в начале 1886 года выражал пожелание о прекращении «этого вредного журнала».1 Но мнение администрации, что «Русская мысль» сменила «Отечественные записки» в качестве «нового революционного центра», было продиктовано лишь неосновательными, крайне гипертрофированными страхами. Тем не менее журнал (в значительнейшей мере благодаря сотрудничеству демократических литераторов) привлекал большое внимание прогрессивной публики. В. Г. Короленко, сам принимавший в 80-х годах близкое участие в журнале,2 считает, что в описываемое время «как по числу подписчиков, так и по литературному и моральному влиянию он занимал первое место в русской ежемесячной журналистике».3 Из беллетристов видное место в «Русской мысли» несколько позднее занял А. П. Чехов.
В научно-публицистической части журнала среди представителей его демократического сектора наиболее активная роль принадлежала Н. В. Шелгунову.
Шелгунов стал сотрудником «Русской мысли» в 1885—1886 годах. В числе первых работ, помещенных им здесь, находилось начало его воспоминаний (продолжение оказалось тогда невозможным по цензурным условиям). Шелгуновские воспоминания имели важное общественное назначение: речь шла о том, чтобы в меру возможности восстановить подлинную картину умственного и политического движения 60-х годов в противовес тем клеветам и искажениям, которые распространялись о нем известной частью печати. С 1886 года на протяжении целого пятилетия в «Русской мысли» помещались шелгуновские «Очерки руской жизни». В начале своей работы для «Русской мысли» Шелгунов указывал (в частной переписке), что «совсем не компания» ему этот журнал, что «не тут и не с теми» нужно бы
- 74 -
«жить и работать». Он рад был, однако, и тому, что «хоть немножко» удается таким образом дышать.1 Постепенно Шелгунов втянулся в эту работу, которая оказалась исключительно нужной передовым общественным кругам и придала автору такой вес и такое значение, каких, пожалуй, у него не было никогда прежде.
В «Очерках» Шелгунов, как уже приходилось отмечать, воевал с идеологией и психологией «восьмидесятничества» в различных их формах и проявлениях. Он доказывал, что определенная часть публицистов 80-х годов забыла «азбуку общественности».
Несмотря на тяжесть окружающих условий, Шелгунов сохранял веру в неизбежность подъема общественной мысли, коренной перемены к лучшему. На пороге 90-х годов он уже улавливал признаки близящегося перелома.
Надо вместе с тем оговорить, что какой-либо отчетливой и конкретной положительной программы действий для передовых элементов русского общества «Очерки» Шелгунова не содержали. Это было трудно ему сделать и по условиям цензуры внешней, и в силу существования известной «цензуры» внутриредакционной: на попытке сформулировать такую программу Шелгунов легко мог бы непримиримым образом столкнуться с руководителями «Русской мысли». Нельзя упускать из виду и того, что Шелгунов в последний период жизни едва ли сам располагал такой программой или хотя бы существенными ее элементами. Попытки доказать, что Шелгунов в пору писания «Очерков русской жизни» уже стоял на позициях, близких к концепциям русского марксизма, лишены почвы.
Сказанное только что по вопросу о формулировании программы относится и к другому видному сотруднику «Русской мысли», тоже пришедшему в нее из лагеря левой, демократической журналистики — Н. К. Михайловскому.
Михайловский, после закрытия «Отечественных записок» мечтавший о возрождении для себя хотя бы подобия такого «литературного отечества», каким был для него этот журнал, и одно время возлагавший в этом смысле серьезные надежды на новый петербургский ежемесячник «Северный вестник» (куда и он и Короленко вошли было в качестве членов редакции), после крушения этих надежд пошел (в конце 1880-х годов) в «Русскую мысль», где в течение нескольких лет печатал литературно-общественные очерки. «... признать „Русскую мысль“ чем-нибудь родным, к сожалению, не могу», — писал он в начале своего сотрудничества в этом издании его редактору В. А. Гольцеву. Взятые в целом, публикации Михайловского в «Русской мысли» уступали по своему значению, по целеустремленности не только его работе в «Отечественных записках», но и ряду его статей середины 80-х годов из «Северного вестника».
Интересную страницу в ранней истории «Русской мысли» составляет участие в ней вернувшегося из Сибири Н. Г. Чернышевского. Между 1885 и 1889 годами ему удалось поместить в журнале несколько вещей. Но работа великого революционера-просветителя для «Русской мысли» по обстоятельствам, в которых он не был властен, не могла быть связана со злободневными темами политической и литературной жизни. В переписке с Гольцевым Чернышевский относил тогдашнюю «Русскую мысль» к «честным» журналам, однако одновременно он предъявлял ей серьезные упреки в недостаточной определенности, в «шаткости» ее программы.2 Можно предположить,
- 75 -
что Чернышевский, стоявший вдалеке от редакционной «кухни» журнала, в конце 80-х годов не исключал возможности превращения «Русской мысли» в последовательный демократический орган и готов был бы содействовать этому.1 История московской легальной прессы 80-х годов ознаменована также появлением знаменитой философской работы Чернышевского «Характер человеческого знания» («Русские ведомости», 1885).
Газета «Русские ведомости» (либеральный орган группы московских профессоров и литераторов, имевший в то же время заметный уклон к мирному, легальному народничеству) в 80-х годах была довольно широко использована писателями и публицистами разных оттенков демократической мысли. Глеб Успенский, эпизодически помещавший свои произведения в газете еще в 70-е годы, в период 1885—1890 годов был активным сотрудником «Русских ведомостей». К деятельным сотрудникам газеты принадлежал с 1885 года В. Г. Короленко, из крупных произведений которого здесь были опубликованы «Слепой музыкант» (1886) и цикл очерков «В голодный год» (1891). Каронин-Петропавловский, Мамин-Сибиряк и другие беллетристы демократического направления писали для «Русских ведомостей». В 1884—1887 годах на столбцах этой же газеты появились многие «Сказки» Салтыкова-Щедрина.
В «Русских ведомостях» между 1885 и 1893 годами был опубликован длинный ряд публицистических и критических статей Михайловского. Из эмиграции в газету деятельно корреспондировал (конечно, совершенно тайно и для властей и для публики) П. Л. Лавров. Среди местных, русских, корреспондентов находился П. Г. Заичневский.
Относительно «Вестника Европы», общего направления которого мы уже касались выше, в интересующем нас в данный момент смысле (т. е. с точки зрения использования демократической литературой той трибуны, которую могла еще представлять либеральная пресса) наибольшее значение имело сотрудничество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Щедрин уклонился от участия в «Русской мысли»; «Русские ведомости», которые представлялись ему на общем фоне тогдашней печати порядочной газетой и которые он как-то даже называл симпатичными ему, не могли вместить всего того, что создавалось им в те годы. Скрепя сердце Щедрин пошел в конце 1884 года в «Вестник Европы», издававшийся М. М. Стасюлевичем (при ближайшем участии К. К. Арсеньева и А. Н. Пыпина). В 1885 году он писал одному из друзей: «Вам, быть может, известно, что я с конца прошлого года печатаюсь в „Вестнике Европы“. Из этого многие заключают, что я перешел в „Вестник Европы“. Но уверяю вас, что я никуда не переходил и остаюсь на прежней квартире, хотя она и разорена... В „Вестнике Европы“ я нахожусь на положении иногороднего сотрудника».2 Оставаясь до конца «чужаком» в журнале, Щедрин всё же смог провести через «Вестник Европы» свои «Пестрые письма» (1884—1886), «Мелочи жизни» (1886—1887) и «Пошехонскую старину» (1887—1889) — произведения огромной художественной и публицистической силы. Они имели исключительно важное значение, как и печатавшиеся в Москве «Сказки», в борьбе с темными силами реакции, с отступничеством и трусостью, в укреплении воли лучших общественных элементов к борьбе за освобождение родины. Творчество Щедрина 80-х годов,
- 76 -
достойнейшим образом продолжавшее и завершавшее его долголетнее литературное служение, открывшее новые стороны его гениального дарования (см. специальную главу о писателе в настоящем томе), усилило его и раньше выдающийся авторитет и влияние среди передового общества. Современники единодушно свидетельствуют о том, что последнее десятилетие жизненного пути Щедрина явилось порой его наивысшей популярности, говорят о буквально потрясающем впечатлении, производимом на сколько-нибудь чутких читателей этого времени его глубокими и грозными общественными сатирами.
*
Нам необходимо вернуться к вопросу о судьбах русского народничества — в широком смысле, обнимающем и народовольчество, и различные пережитки и трансформации чернопередельчества, и легальную народническую публицистику. Картина здесь была сложной и очень пестрой.
По прошествии нескольких лет после 1 марта 1881 года довольно широкое распространение получила мысль о том, что в этот день смертельный удар нанесен был не только Александру II, но и самой организации «Народной воли». Но сразу после событий начала 1881 года разобраться в положении дано было лишь немногим. Среди этих немногих находился Г. В. Плеханов. По его позднейшим воспоминаниям, он в то время говорил товарищам, что партия «Народной воли» «достигла своего апогея, после которого она неизбежно пойдет под гору... Для меня было ясно уже тогда, что партия „Народной воли“ не повалит деспотизма».1 Но сами уцелевшие народовольцы прилагали пока всевозможные усилия для восстановления и укрепления своего центра. Приток революционной молодежи в партийные группы еще не прекращался. Широкое общественное мнение, не зная реального положения партии, преувеличивало ее силы и возможности. Даже такой не склонный к увлечениям человек, как Елисеев, в начале 1882 года за границей требовал от Лаврова известий из «той лаборатории, которая приготовляет epochenmachende (делающие эпоху) события», жаждал узнать, «какие в сей лаборатории идут работы».2
Планы в этой «лаборатории», действительно, разрабатывались еще смелые и решительные, но неизбежно обреченные на неудачу. Именно в 1881—1882 годах сравнительно широкое развитие получила военная (офицерская) организация «Народной воли», с которой связывались надежды на возможность подготовить попытку «инсуррекции» и хотя бы временного «захвата власти». Утопические планы захвата власти небольшой заговорщической организацией вообще усиленно подогревались и пропагандировались в это время, несмотря на начавшийся фактически упадок «Народной воли». Идея захвата власти для осуществления сразу политического и экономического переворота подробно обосновывалась в № 8—9 «Народной воли», изданном в феврале 1882 года.
Однако крепнущая реакция наносила один за другим тяжелые удары по главным силам народовольцев. К зиме 1882—1883 года был окончательно сметен с лица земли весь старый Исполнительный комитет «Народной воли», уничтожена была и военная организация.
«Народная воля» не располагала никогда сколько-нибудь цельной и стройной, притом единой для всех ее участников теорией. Различные, подчас
- 77 -
противоречивые тенденции уживались в ней рядом или довольно быстро сменяли одна другую. Так и теперь, после новых и новых ударов надежды на «захват власти» и одновременный политический и экономический переворот отступают назад, а на поверхность всплывают и приобретают влияние иные настроения и тенденции.
В частности, дает себя знать стремление к самоограничению в области ближайших программных требований и вместе с тем к установлению взаимопонимания с либеральными элементами общества. Эта тенденция не была новой для «Народной воли». В некоторых кругах партии такие идеи и раньше пользовались успехом, а тотчас после 1 марта они получили даже общепартийную санкцию в известном «Письме» Исполнительного комитета к Александру III. Теперь, с 1883—1884 годов, идеи «Письма», притом сплошь и рядом в сильно заостренной форме, неоднократно и настойчиво выдвигаются на первый план. Показательны в этом отношении уже речи подсудимых на народовольческом процессе 17-ти, слушавшемся весною 1883 года, в том числе, например, речь видного члена Исполнительного комитета Анны Корба, которая сослалась в доказательство «совершенно миролюбивых» целей партии на старое письмо к Александру III и утверждала, что «Народная воля» стремится только к «искренним» и «жизненным» реформам.1 О впечатлении «какого-то крайнего компромисса», оставляемом речами на процессе 17-ти, должен был в том же году сказать основанный за границей «Вестник „Народной воли“».2
Ноты компромисса заметно звучат в «Листке „Народной воли“», вышедшем во второй половине 1883 года и руководимом литератором (из «Отечественных записок», впоследствии одним из главных столпов либерального народничества) С. Н. Кривенко. Кривенко обращался к либералам, взывал к их оппозиционным «преданиям», возлагал на них ответственность за то, что народовольцы вынуждены прибегать к насилию, доказывал тождественность ближайших целей либералов и народовольцев.3
В конце 1884 года, после долгого перерыва, появился новый (10-й) номер подпольного органа «Народная воля». Выпуск его был связан с предпринятой в 1884 году попыткой (довольно быстро провалившейся) восстановления центральной организации «Народной воли», которую возглавил на этот раз один из старейших и авторитетнейших революционеров Герман Лопатин. В руководящей статье «Вместо внутреннего обозрения» Лопатин, указывая на недовольство в массах и высказывая уверенность, что всякий призыв к народу «поговорить по душе» о его нуждах встретит в нем горячий отклик, подчеркивал: «Раздастся ли этот призыв с высоты трона, поколебленного ударами революционеров, или же он будет сделан самой партией, захватившей на момент в свои руки правительственную власть, — это все равно».4 Трудно сомневаться в том, что автор в этой альтернативе реальное значение придавал именно первой «возможности».
Политический курс, намечавшийся в этих народовольческих документах 1883—1884 годов, не был, впрочем, в то время единственным. Разочарование в прежних путях вызывало идейные поиски в разных направлениях. Наряду со сдвигами вправо, с усиливавшимися надеждами на сотрудничество с либеральным обществом (которое между тем само в это время сознавало себя более бессильным, чем когда-либо) у некоторой части народовольцев росло сознание губительных последствий той оторванности от масс,
- 78 -
которая типична была для народничества и народовольчества. Поскольку при этом в народовольческой среде сохранялся прежний скептицизм относительно возможностей широкой революционной деятельности в крестьянстве, усиление работы в массах мыслилось как расширение организационной и пропагандистской деятельности в среде городских рабочих.
Таким образом, происходит оживление деятельности так называемых «рабочих групп» «Народной воли». Различия в оценке этой работы явились одной из причин того разделения, которое обнаружилось в «Народной воле» (особенно в 1884 году) и даже привело к временному отколу «Молодой партии „Народной воли“». Другие поводы к разногласиям были связаны с разоблачением «дегаевщины»,1 послужившим основанием для требования «молодыми» организационных преобразований в партии (децентрализации, выборного начала и т. д.). Для привлечения симпатии масс «молодые» выдвинули полуанархические лозунги фабричного и аграрного террора.
«Молодая партия „Народной воли“» (ее вождем был народоволец — поэт Якубович) просуществовала отдельно очень недолго и вскоре «капитулировала» перед «стариками». Но брожение умов в народовольческой среде отнюдь не было приостановлено происшедшим воссоединением. Разбренд в «Народной воле» продолжался и в идейной, и в организационной сфере. Среди тех, кого тянуло к революционной деятельности в рабочей среде, заметно росли симпатии к марксизму, из этих кругов вышел в будущем не один десяток активных социал-демократов. В другой части народовольцев (как и среди части бывших революционных народников, не связанных никогда с «Народной волей») заметно определялся уклон к сближению и даже иногда к смешению и слиянию с либерализмом.
Встречались различные попытки соединения традиционных народовольческих взглядов с социал-демократическими. Заслуживает внимания одна из таких попыток, связанная с именем Александра Ильича Ульянова, старшего брата В. И. Ленина.
Вместе с П. Шевыревым, С. Никоновым, И. Лукашевичем и другими А. И. Ульянов входил в образовавшуюся в конце 1886 года студенческую революционную группу в Петербурге, назвавшую себя «Террористической фракцией партии „Народная воля“». Непосредственной задачей группы была подготовка покушения на жизнь Александра III. Попытка покушения, предпринятая 1 марта 1887 года, не имела успеха. Группа была разгромлена. Пять человек, в том числе Ульянов и Шевырев, были повешены.
Выступая под знаменем «Народной воли», группа в то же время считала необходимым формулировать в особой программе свое понимание революционных задач. Прежняя программа «Народной воли», — писал Ульянов после ареста, — по недостатку научного обоснования «и некоторой неопределенности своих положений не вполне удовлетворяет революционные кружки, и мы думали, что, исправляя эти ее недостатки и сделав в ней некоторые изменения, можно устранить все существенные причины разногласий и послужить делу объединения революционных сил».2 В последних словах бесспорно имелось в виду в первую очередь объединение с социал-демократами.
- 79 -
А. И. Ульянов.
Фотография. 1880-е годы.
- 80 -
Группа Ульянова еще держалась так или иначе народнической веры в возможность особого пути экономического развития для России. Это с достаточной определенностью выражено в разделе программы, посвященном крестьянству: «Несмотря на значительное развитие в его среде мелкой буржуазии, крестьянство еще прочно держится общинного владения землей, а его несомненная привычка к коллективному труду дает возможность надеяться на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму, близкую к социалистической». Но, цепляясь за эту народническую утопию, группа относила особую роль крестьянства к «социальной борьбе будущего», выдвигая в настоящем на передний план пролетариат, рассматриваемый уже не как часть крестьянства, а как отдельный общественный класс, хотя и тесно связанный с крестьянством. Помимо общетеоретической, социально-экономической стороны программы, верность народовольческому знамени особенно резко сказалась во взгляде на террор, которому программа приписывала исключительно большую роль.
Ранняя социал-демократическая печать отнеслась с серьезным вниманием к выступлению ульяновской группы (причем надо, однако, иметь в виду, что программные установки этой группы в то время были еще недостаточно известны вне ее рядов). Плеханов в заграничном «литературно-политическом обозрении» «Социал-демократ» писал, что «мужество людей вроде Ульянова и его товарищей напоминает нам мужество древних стоиков». Вместе с тем Плеханов считал его «мужеством отчаяния», имея в виду их ставку на террор.
Но среди «террористов» были и такие, которые не шли дальше разговоров о терроре. Так было, например, с группой, издававшей в конце 80-х годов журнал «Самоуправление».1 Эта группа, именуя себя «социалистами-федералистами», «социалистами-революционерами» и принимая в качестве общих целей движения и представительное правление на основе всеобщего голосования, и национализацию земли, и переход фабрик в руки рабочих или государства, одновременно совсем отвергала путь как крестьянской, так и «городской» революции; она апеллировала только к буржуазному обществу, возлагала огромные надежды на организацию «легальных общественных протестов», «легального давления на правительство», что в сочетании с возведенным в «систему» террором и должно было повести к прекращению сопротивления правительства и установлению политической свободы. Такие тенденции не без основания характеризовались потом как «либерализм с бомбой».
Уже в «Самоуправлении», несмотря на провозглашенные им конечные цели в известной мере утопически-социалистического характера, раздался призыв забыть «на время», что «мы — социалисты». По пути «снятия» социалистических вывесок и максимального сближения с либерализмом еще дальше пошел издававшийся в 1889 году в Женеве журнал «Свободная Россия», который предлагал отказаться от давно устаревшего, по его мнению, деления на революционеров и либералов.2 «Свободная Россия» не верила в революционные возможности ни крестьянства, ни рабочих. «Свободная Россия», не доверяя народу, отказывалась даже от принципа всеобщих прямых выборов при избрании проектируемого парламента (Земского собора), предлагая составить такой собор из представителей
- 81 -
Иллюстрация:
«Капитал» К. Маркса. Титульный лист первого издания на русском
языке. 1872.
- 82 -
обновленных органов местного самоуправления и высших учебных заведений.
В силу своей исключительной прямолинейности «Свободная Россия» многих оттолкнула и не могла иметь широкого успеха. Но по справедливому замечанию, которое тогда же было сделано Верой Засулич в известной статье «Революционеры из буржуазной среды» (в «Социал-демократе» 1890 года), по сути дела к программе «Свободной России» вела прямым путем вся логика «пробравшихся в революционные круги антиреволюционных расчетов не на силу своих идей, не на народное восстание, а на уступчивость врага и силу общества».1
«Самоуправление», «Свободная Россия» издавались не одними выходцами из «Народной воли» (или сторонниками ее). Тем не менее они интересны прежде всего как показатель одного из тех путей, на которые сбилась ко второй половине 80-х годов именно часть народовольчески настроенной интеллигентской среды. Если одни народовольцы (преимущественно молодежь) в поисках решения революционных задач на путях расширения «рабочего дела» шли на сближение с ранними социал-демократами, то другие, напротив, отрицали значение рабочих в освободительном движении и искали возможно более тесного сближения или соединения с либералами, становясь сами в большей или меньшей степени на леволиберальные позиции. Были, конечно, и такие, кто во что бы то ни стало пытался удержаться на «ортодоксально» народовольческих позициях. Наконец, немало было и таких, которые разочаровывались во всякой борьбе, вовсе отстранились от какого-либо участия в политическом движении, растворясь в обывательском болоте.
Кризисом охвачены были в неменьшей степени те элементы интеллигенции, которые после раскола в русском революционном движении в конце 70-х годов стали на сторону не «Народной воли», а ее идейных противников, группировавшихся вокруг знамени «Черного передела». Широко известна эволюция в сторону марксизма той пятерки из числа основателей «Черного передела», которая непосредственно возглавлялась Плехановым.2 По такому же пути (хотя и сохраняя в своих взглядах довольно долго больше элементов старого мировоззрения) пошли в 80-х годах некоторые из народников-чернопередельцев в самой России, прежде всего в Петербурге, где они приняли близкое участие в создании первой петербургской социал-демократической организации (так называемой группы Благоева).
Но было бы ошибочно считать, что народничество чернопередельческого типа эволюционировало как целое к марксизму.
Авторитетный народник, издавший зимой 1883—1884 года под псевдонимом «Алексеев»3 нелегальную брошюру «Несколько слов о прошлом русского социализма и о задачах интеллигенции», с полным основанием подчеркивал господствовавший тогда в жизни революционных кружков «хаос». Этот хаос, вызванный разочарованием в прежних путях и неспособностью выйти на настоящую дорогу, чувствовался продолжительное время (многими вообще не был изжит). Через четыре года народническая группа, выпустившая в провинции сборник статей (тоже нелегальный) «Социальный вопрос»,4 в предисловии «От издателей» писала, как о широко
- 83 -
Иллюстрация:
«Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса.
Титульный лист издания на русском языке 1882 г.
- 84 -
распространенном явлении, о «сознании бессилия» ответить, пользуясь прежним «кругом идей», на вопросы, поставленные «жизнью и теориею)». Брошюра Алексеева-Бунина, сборник «Социальный вопрос» и другие нелегальные документы теоретического и программного характера, исходившие от народников, считавших себя сторонниками и продолжателями чернопередельческого народничества, свидетельствовали о разброде, идейной нерешительности, глубоких противоречиях во взглядах. В большей или меньшей степени подпольная народническая литература отразила и то «понижение тона» революционных программ, о котором писал заграничный «Социал-демократ» и которое подчас, как мы уже знаем, доходило по существу до полного отказа от революционной постановки вопросов.
Поздние народнические литературные документы (мы говорим пока о нелегальном народничестве) не могли пройти мимо работ Плеханова, изданий «благоевцев» и т. д. В них встречаются даже те или иные комплименты по адресу Плеханова (наряду с жалобами на резкость его «полемических приемов»). Но если под влиянием до некоторой степени именно Плеханова поздние нелегальные народники и шли на признание успехов капиталистического развития в России, частичного разрушения общинных форм, образования, несмотря на существование общины, безземельного слоя крестьян и так далее, то они, однако же, в большей своей части отводили капиталистической форме хозяйства значение «второго плана», отвергали социал-демократический взгляд на роль пролетариата в России, отказывались от признания несостоятельности основных принципов, «сущности» народнической идеи.
Нелегальные народники 80-х годов всё более утрачивали прежнюю веру в возможность быстрой ликвидации существующего общественного и даже государственного строя, с большим или меньшим скептицизмом отзывались о перспективах и темпах возможного «перехода» от наличных форм крестьянского общинного уклада к «высшим формам» общественности. Всё сильнее звучали ноты «культурничества», в экономической части программы центр тяжести преимущественно усматривали теперь в «охранении и развитии» так называемой экономической «самостоятельности» крестьянства.
Как уже указывалось выше, народники чернопередельческого склада не могли устоять против политических тенденций, внесенных в движение «Народной волей»; но те или иные сомнения у части из них на этот счет оставались, цели политической борьбы подчас очень суживались. Алексеев-Бунин выдвигал положение о том, что борьба за «политические гарантии» явится «лишь эпизодом на общем фоне народнической деятельности», ближайшей задачей которой объявлялось «общение» с крестьянством, «популяризация интеллигенции среди народа».
Если на общем фоне растерянности народничества 80-х годов, разброда и шатаний в его широкой среде, даже в подпольной его части проявлялись серьезные симптомы оппортунистического перерождения, то в неизмеримо более резкой и отчетливой форме процесс разложения и вырождения сказывался в значительной части легальной литературы, говорившей именем народничества.
Еще в 1888 году Короленко писал о «теперешнем жалком и захудалом народничестве».1 Непосредственно при этом он имел в виду В. В. (В. П. Воронцова), С. Н. Южакова, «Русское богатство» редакции Леонида Оболенского,
- 85 -
«каблицевскую» «Неделю», даже в известной мере и тогдашнего Златовратского, приглашавшего, как писал Короленко, «рыдать в народе». Короленко с особенным недоумением останавливался перед вышедшей в том же году книгой Виктора Пругавина «Русская земельная община в трудах ее местных исследователей», проникнутой самой неумеренной идеализацией сельской общины, а также — будто бы полностью выросшего из нее крестьянского миросозерцания, говорившей о несравненном превосходстве крестьянства над интеллигенцией, утверждавшей, что строй народной жизни «определяет собою и формы государственности», т. е. самодержавие.1
Несколько более сдержанный, но еще более опасный с точки зрения интересов освободительной борьбы вариант подобного типа народничества попрежнему представлен был плодовитым писателем-экономистом В. В. (Воронцовым), который из идеализации основанной на общине и «народном производстве» самобытной «социальной организации» России выводил заключение, что «ни под каким видом, даже под условием широкой свободы, не должна Россия расставаться со своей экономической организацией», «обеспечивающей», якобы, трудящемуся «самостоятельное положение в производстве».2 Это было напечатано в книге В. В. «Наши направления», изданной в 1893 году, т. е. уже после страшного голода 1891—1892 годов, вскрывшего с неслыханной силой разорение трудящихся масс деревни и содействовавшего повороту от реакции к новому подъему (вначале, правда, постепенному) революционной борьбы. Мечтая о появлении реформатора, готового «на существенные изменения в общественном быту», В. В. высказывался в том смысле, что «нужны никак не политические реформы» (ибо «привлечение общества к участию в управлении равносильно передаче последнего в руки буржуазии»), а «систематические, планомерно проведенные экономические мероприятия».3
Политическая позиция В. В. ставила его во главе тех «отвратительнейших реакционеров народничества», о которых писал В. И. Ленин в «Задачах русских социал-демократов».4 В то же время сама «планомерная» система экономических мероприятий, о которой хлопотали В. В. и родственные ему круги легального народничества, на деле сводилась преимущественно к содействию развитию благосостояния «крепкого» крестьянства. Еще в 1884 году Плеханов в «Наших разногласиях» высказал положение, что народники-легалисты, столь плодовитые на всякого рода рецепты для поддержания и упрочения «вековых устоев русского народного быта», фактически «всё более и более становятся выразителями интересов той части крестьянства, которая является представительницей индивидуалистического принципа и кулацкой наживы».5
По мере углубления дифференциации, разложения крестьянства, выделявшего на одном полюсе кулацкую верхушку, а на другом — пролетариат и полупролетарские слои, процесс превращения на деле определенных, влиятельных в печати элементов народничества в идеологов и защитников интересов зажиточного крестьянства усиливался и становился более явным. В 90-е годы (в работе «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» и в последующих трудах) В. И. Ленин блестяще вскрыл этот процесс и показал его тесную связь с развитием социально-экономических
- 86 -
отношений в деревне. Напомним известные ленинские слова: «...деревня давно уже совершенно раскололась. Вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм, уступив место, с одной стороны, рабочему социализму; с другой — выродившись в пошлый мещанский радикализм».1
Установки В. В. и всего близкого ему круга встречали отпор со стороны некоторых других элементов народничества. Народников, готовых предпочесть самодержавный режим свободным (т. е. буржуазно-демократическим) учреждениям, резко критиковала, например, организация, действовавшая в 1893—1894 годах под названием «партии Народного права», состоявшая из ряда бывших землевольцев, народовольцев и т. д. (с нею, особенно с ее лидером М. А. Натансоном, имел связь Михайловский, участвовавший в редактировании программных документов «народоправцев»). Ленин несколько раз с одобрением отзывался об этой стороне пропаганды «народоправцев».2
Стремление отмежеваться от реакционных политических выводов В. В. и его единомышленников, а частью также от их националистической «мистики», от нападок на революционную интеллигенцию, от сверхоптимистической оценки положения наличной общины проявлялось и в сфере легальной публицистики. «Русское богатство» в начале 1893 года даже заявило в очередном литературно-политическом обозрении Михайловского об отказе от клички «народников». Михайловский при этом говорил за себя, за Короленко и Глеба Успенского. Из позднейшей переписки Короленко известно, что первоначальная инициатива такого выступления, направленного к тому, чтобы отказаться от ответственности за, говоря словами Короленко, «благоглупости „правого крыла“ народничества», принадлежала именно ему.3
Но частичное отмежевание Михайловского от воззрений народников типа В. В.,4 касаясь, правда, некоторых немаловажных общественных вопросов, не затрагивало ряда существеннейших основ народничества в целом, остававшихся общими, скажем, для Михайловского и того же В. В. В конце 90-х годов В. И. Ленин указывал на различия «народников в тесном смысле слова» (разумелись В. В., Юзов и др.) от народников вообще. Юзовы, В. В. и тому подобные, как отмечал Ленин, к общим «отрицательным» (т. е. ошибочным) воззрениям народников «присоединяют еще другие отрицательные черты, которых, напр., нет ни в г-не Михайловском, ни в других сотрудниках теперешнего „Русского богатства“». Но Ленин тут же подчеркивал, что «основные социально-экономические взгляды» общи народникам. При этом Ленин имел в виду наиболее существенные черты
- 87 -
народнической теоретической доктрины: признание капитализма в России регрессом и стремление «задержать» его развитие, идеализация «устоев» и признание самобытности русского экономического строя, отсутствие материалистического объяснения социальных явлений и в связи с этим игнорирование связи «интеллигенции» и политических институтов страны с материальными интересами определенных общественных классов.1
Характерно, действительно, что, полемизируя с В. В., Михайловский признавал за ним заслуги в деле экономического обоснования народничества и снова повторял многократно на протяжении десятилетий поднимавшийся им самим вопрос о возможности, «опираясь» на своеобразие условий русской жизни, избежать «изъянов европейской цивилизации», т. е. широкого развития капитализма.2 Несколько раньше (в 1892 году) Михайловский прямо утверждал, что Россия находится еще будто бы «в самом начале» процесса капиталистического развития и старание «поддержать» старые «формы труда» является в ней уместным и целесообразным.3 В силу этих обстоятельств не может показаться странным, что Михайловский, споря с В. В., не упустил случая выразить свою солидарность с ним в борьбе против общего для них противника — против русских марксистов.
В задачи этой работы не входит освещение знаменитого спора между народниками и марксистами в 90-х годах, в победоносном для марксистов исходе которого первейшее значение имело руководящее участие В. И. Ленина. Отметим лишь, что именно Михайловский (а не только В. В., Кривенко, Южаков и др.) играл со стороны народников одну из главных ролей, а в известном смысле даже ведущую роль в этой борьбе, и что в своей кампании против русских марксистов он проявил большее непонимание теоретических основ учения Маркса, давал гораздо более ложное их истолкование, нежели в 70-е годы, в чем, как показал Ленин, нашел одно из своих ярких выражений процесс идейного упадка и вырождения старого боевого народничества, сползание с революционных на народническо-либеральные и полулиберальные позиции. Надо также учитывать, что в 70-е годы Михайловский еще не допускал возможности возникновения сколько-нибудь значительного движения «русских учеников» Маркса; в 90-е годы такое движение уже было в его глазах реальной (и растущей) «опасностью». Подрыв этим движением прежде более или менее монопольного влияния народничества на умы молодой демократической молодежи, подрыв влияния учений самого Михайловского вызывал у него озлобленную реакцию.4
*
Восьмидесятые годы занимают довольно значительное место в истории массового народного движения в России.5 Это в особенности относится
- 88 -
к движению пролетариата. Но и крестьянское движение в этот период отнюдь не замирало — по числу учтенных правительственными инстанциями крестьянских волнений 80-е годы опередили, видимо, предшествующее десятилетие.
По официальным данным, которые сами власти признавали заведомо неполными, за 1883—1890 годы имело место более 500 крестьянских волнений, т. е. свыше 60 в среднем в год. Больше всего волнений было в 1888 и 1889 годах — около ста в год.1 Крестьяне обращались к помещикам с требованиями, касавшимися уступки тех или иных земельных угодий, и сплошь да рядом приступали явочным порядком, «самовольно» к реализации этих требований. Волнения возникали при исполнении судебных решений и административных распоряжений «по восстановлению нарушенного владения», при взыскании с крестьян штрафов и «убытков» в пользу помещиков за потравы, порубки, при взыскании податей, недоимок, выкупных платежей, при описи и продаже крестьянского имущества. Происходили столкновения между крестьянами и администрацией по вопросам, относившимся к общинному управлению, например, к выбору мирских властей. Неоднократно крестьяне с большим упорством отстаивали свои права и интересы, оказывали сопротивление властям, пуская в ход камни, палки, мотыги, иногда и огнестрельное оружие. За семь с половиной лет (с 1881 до середины 1888 года) было около 50 случаев командирования воинских отрядов для подавления волнений.2 Крестьянские волнения 80-х годов, разумеется, еще не принимали таких размеров и таких острых форм, чтобы ими могла быть создана непосредственная угроза существующему порядку. Но они свидетельствовали о росте недовольства в деревне, о нежелании крестьян мириться со своим нищенским, бесправным, полурабским положением.
В развитии русского рабочего движения 80-е годы играют важную роль. Тут существенны не только количественные показатели, но и дальнейший, в сравнении с 70-ми годами, рост элементов организованности и сознательности в массовом движении. Впрочем, в рамках самого обозреваемого десятилетия движение первых лет (до 1885 года, ознаменованного исторической Морозовской стачкой) было еще значительно слабее, чем в последующие годы. По опубликованным до сих пор (и, конечно, далеко не исчерпывающим) данным, на 1881—1884 годы приходится около 110 стачек, волнений и иных протестов рабочих (около 28 за год), на 1885—1890 годы — около 300 фактов рабочего движения, т. е. примерно 50 в год. На таком же уровне движение держалось и в начале 90-х годов (около 200 случаев за четыре года).
Наиболее выделяются по числу рабочих выступлений 1885, 1887, 1894 годы.3
- 89 -
Конфликты между рабочими и предпринимателями возникали в первую очередь на почве вопросов заработной платы (борьба против снижения расценок и т. д.), из-за произвольных и непомерных штрафов; стачки и волнения вспыхивали также из-за массовых увольнений рабочих, в связи с чрезмерной продолжительностью рабочего дня, в знак протеста против грубого обращения фабричного начальства и обмана рабочих в фабричных лавках и вообще против всевозможных прижимок, насилий, произвола в отношении пролетарской массы со стороны фабрикантов и их агентов.
Громадное впечатление и на рабочих, и на другие общественные слои, а вместе с тем и на правящие сферы произвела уже упомянутая Морозовская стачка (на мануфактуре Морозова в местечке Никольском Владимирской губернии) в начале 1885 года. Стачка была вызвана грабительскими штрафами и систематическим снижением заработной платы. В ходе подготовки и проведения стачки выделилась группа более передовых и активных рабочих; во главе их находились Петр Моисеенко (еще в 70-х годах игравший заметную роль среди организованных рабочих Петербурга, отбывший ссылку), Лука Иванов (тоже имевший революционный стаж), Василий Волков. Были заранее сформулированы от имени всей многотысячной рабочей массы мануфактуры требования, намечена по возможности тактика борьбы. Власти произвели многочисленные аресты и высылки; большая группа забастовщиков была предана суду. Однако правительство, испуганное масштабом движения (за Морозовской последовал ряд других крупных стачек в Центральном промышленном районе) было вынуждено издать закон о штрафах.
Морозовская стачка и вызванный ею судебный процесс (точнее — два процесса) привлекли внимание не только внутри страны, но и за ее пределами. Плеханов в статье, опубликованной в 1886 году в органе французской рабочей партии, высказал мысль, что процесс морозовских стачечников «несомненно явится исходным пунктом нового фазиса рабочего движения».1 Ленин потом на примере Морозовской стачки учил пролетариат тому, «какая громадная сила заключается в соединенном протесте рабочих».2
В 80-е годы продолжался тот рост культурного уровня и политического сознания рабочих, который наметился раньше, в 70-х годах. Уже тогда сильно проявлявшаяся среди передовиков рабочего класса жажда просвещения, большая тяга к знанию теперь, в 80-е годы, сказывалась еще сильнее и успела охватить более широкий слой пролетариата. Существенную роль играли в этом отношении нелегальные рабочие кружки, которые всегда были в той или иной мере и кружками образовательными, ставившими себе одной из целей распространение среди лучшей части пролетариата основных знаний в области естественных и общественных наук. Тайные, подпольные библиотеки имели серьезное значение в жизни и деятельности рабочих кружков и организаций. Специальные кассы создавались посредством отчислений из скудных заработков рабочих на организацию и ведение библиотек. Так было уже в тех рабочих кружках, которые в первой половине 70-х годов образовались в Петербурге и некоторых других промышленных центрах. О библиотеке «Северного Союза русских рабочих» известно, что она считалась руководителями «Союза» его самым ценным достоянием, что ею «Союз» особенно дорожил и гордился. Подобная же картина наблюдается в рабочих кружках и группах 80-х годов.
- 90 -
Среди рабочих встречались такие ревнители знания, как Иван Павлов, после смерти которого в конце 80-х годов осталась личная библиотека в тысячу названий, собиравшаяся им в течение многих лет. Этот любитель чтения научился грамоте уже взрослым (в Петербурге).
Нарождение нового типа интеллигентного рабочего неоднократно отмечалось в легальной печати 80-х и начала 90-х годов (собственно, это был уже не вполне новый тип, но существование его сделалось гораздо заметнее к этому времени, вследствие чего он попал в поле зрения даже легальных газет).
В самом начале 90-х годов Плеханов писал: «Можно сказать без преувеличения, что рабочий класс — это тот класс, который всего прилежнее учится в современной России».1
В то же время он справедливо отмечал, что жажда знания нераздельна у русского пролетариата с жаждой борьбы2 (речь шла в первую очередь об авангарде рабочего класса).
С 70-х и до начала 90-х годов имел место ряд симптоматичных выступлений отдельных групп рабочих, приобретших одновременно политическое и общекультурное значение, свидетельствовавших, в частности, о живом интересе передовых рабочих к литературе и ее лучшим деятелям. Напомним хотя бы об активном участии рабочих, связанных с петербургскими революционными кругами, в похоронах Некрасова и Тургенева, похоронах, превратившихся, как известно, во внушительные манифестации гражданских чувств прогрессивного общества. В конце 80-х годов провинциальная рабочая группа обратилась с приветствием к Глебу Успенскому по случаю его литературного юбилея (25-летия деятельности). В письме рабочие рассказывали, как «своим умом и желанием к развитию, да иногда с помощью добрых людей» они «добрались до хороших книг», открывших им глаза, как они «научились думать о своей жизни и о своих товарищах и о жизни разных людей», как «научились отличать добро от зла, правду от лжи».3 На Успенского рабочее приветствие произвело сильнейшее впечатление, он подчеркивал значение появления этого «нового, свежего любителя словесности». Менее чем через два года та же группа откликнулась на смерть Щедрина знаменательным адресом его вдове. В 1891 году петербургские передовые рабочие (на этот раз уже социал-демократы) поднесли адрес умирающему Шелгунову, а на похороны заслуженного писателя-публициста пришла организованная рабочая делегация с венком от пролетариев столицы, представлявшая эту же группу рабочих социал-демократов.
Развитие капитализма, рост пролетариата, всё более заметные успехи массового рабочего движения создавали ту почву, на которой зародилось в России социал-демократическое движение, руководимое марксистской теорией. Неудачи народников и народовольцев, начавшееся разочарование в прежних революционных путях также толкали мысль особенно пытливых и чутких, теоретически наиболее требовательных и подготовленных элементов старого революционного движения в сторону марксизма. В среде деятельных участников революционной борьбы 70-х и начала 80-х годов появились теперь (в первой половине 80-х годов) первые русские социал-демократические группы, из которых исключительно важную роль сыграла группа «Освобождение труда» во главе с Г. В. Плехановым.
- 91 -
Плеханов был одним из главных деятелей народнического тайного общества второй половины 70-х годов «Земля и воля». Принимая участие почти во всех отраслях его практической революционной деятельности, он вместе с тем был одним из теоретиков организации. Упорнее других он сначала держался за принятые взгляды, энергично сопротивляясь новшествам, которые принесли с собой народовольцы. Положительная сторона его позиции заключалась в предвидении опасных для движения последствий увлечения террористической тактикой, опасности тенденции к почти полной подмене героическими поступками изолированной от народа группы революционеров-интеллигентов массовой борьбы против существующего строя. Но сам Плеханов вначале оставался на ошибочных позициях крестьянского утопического социализма; глубоко ошибочным было тогда его отрицание политической борьбы. Раньше всего под влиянием уже самой логики революционной борьбы на родине (Плеханов с начала 1880 года находился в эмиграции) он уступил в последнем пункте. Пересмотром взгляда на «политику» дело, однако, не ограничилось. Начало 80-х годов было для Плеханова (и его ближайших друзей-единомышленников) временем внимательного и углубленного изучения научного социализма. Это изучение, несомненно, должно было по-новому осветить для Плеханова и его собственный опыт участия в петербургском рабочем движении конца 70-х годов. Вскоре он перешел на марксистские позиции. В связи с подготовкой к изданию за границей «Вестника „Народной воли“», в редакцию которого он был приглашен, Плеханов в 1882 году писал Лаврову, что он готов создать из «Капитала» Маркса прокрустово ложе для всех участников этого журнала.1
Пересмотр воззрений на политическую борьбу сделал для Плеханова и его товарищей возможными сотрудничество с «Народной волей» и помощь ей. На этой почве и состоялось приглашение Плеханова в редакцию народовольческого эмигрантского органа. Велись и прямо переговоры о вступлении в партию «Народная воля». При этом Плеханов и другие вновь самоопределившиеся социал-демократы рассчитывали использовать популярное тогда среди русской левой интеллигенции знамя «Народной воли» для пропаганды марксистских идей. Препятствия идейного и организационного характера, созданные руководителями народовольческой эмиграции, обусловили неудачу этих планов, чем было ускорено выступление Плеханова и других в качестве самостоятельной социал-демократической группы «Освобождение труда» (1883).
Молодые социал-демократы в течение нескольких лет не теряли надежды повернуть на путь марксизма более или менее широкие круги народовольцев и революционных народников. Эти расчеты оказывали влияние на некоторые моменты пропаганды группы.
Первым манифестом нового для России направления общественной мысли2 явилась работа Плеханова «Социализм и политическая борьба»,
- 92 -
изданная в 1883 году. За нею последовала еще более важная плехановская работа «Наши разногласия», написанная в 1884 и вышедшая в свет в 1885 году.
Непосредственная цель этих первых книг Плеханова заключалась в разъяснении ошибочности народнического мировоззрения. Критика народничества с точки зрения научного социализма была неразрывно связана с задачами положительной пропаганды основ марксистского учения и приложения его к русской общественной жизни. Обе эти стороны деятельности Плеханова получили дальнейшее развитие в ряде его последующих трудов; среди них особенно выделяется вышедшая легально в Петербурге к началу 1895 года книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», на которой, по словам Ленина, воспиталось целое поколение русских марксистов.1
Плеханов много и плодотворно разрабатывал различные стороны философии марксизма. Он внимательно изучал историю философии с точки зрения марксизма, прослеживая историческое подготовление последнего. Он применил метод Маркса к изучению широкой области явлений литературы и искусства.2
При всех серьезных ошибках, встречающихся в трудах Плеханова, труды эти явились ценным вкладом в марксистскую науку и имели крупное значение не только в русском, но и во всеевропейском масштабе.
Особенно много сделал Плеханов в деле разработки вопросов исторического материализма — марксистского учения о законах исторической жизни человечества.
Следуя за Марксом, изгнавшим, по словам Плеханова, идеализм из его последнего убежища — социологии, Плеханов поставил себе задачей изгнать идеализм и субъективизм из социологических воззрений русских революционеров. Плеханов призывал их познать открытые Марксом и Энгельсом законы истории и «направить сообразно с ними свою революционную деятельность».3 Плехановская критика субъективистских и идеалистических воззрений народников вскрывала несостоятельность той, как он писал, «узкой и безнадежной философии русской истории»,4 которая приводила народников к выводу, будто экономическая отсталость России является надежным союзником революции. Не экономический застой, а экономическое движение подготовит торжество революционной партии, говорил он.5
Плеханов разъяснял, что трезвое постижение социально-экономической действительности нисколько не ведет к фатализму и квиетизму, к философии «примирения» с действительностью. Он доказывал, что, наоборот, именно отстаиваемое им марксистское мировоззрение впервые создает для русских революционеров вполне прочную основу целесообразной общественной деятельности.
Плеханов отмечал нелепость обвинений по адресу марксистов в игнорировании значения идей, в отрицании всего, лежащего за пределами «экономической стороны» исторического движения человечества.
- 93 -
Иллюстрация:
«Наши разногласия» Г. В. Плеханова. Титульный лист первого
издания. 1885.
- 94 -
Вопрос о роли личности в истории, так сильно занимавший умы русской интеллигенции, получал в свете нового учения свое правильное разрешение.
С точки зрения исторического материализма Маркса — Энгельса Плеханов отвергал и опровергал веру в возможность решающего и всеобъемлющего влияния интеллигенции на судьбы народа. Царство свободы и разума, доказывал Плеханов, перестанет быть только красивой мечтой интеллигенции и начнет быстро приближаться, когда героем исторического действия станет сама масса, когда в ней разовьется соответствующее самосознание.
Массой, на самодеятельность которой Плеханов ориентировал революционную интеллигенцию, была в первую очередь и главным образом масса пролетариата. «Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!», — такими словами заключил Плеханов свою известную речь на первом конгрессе II Интернационала (в 1889 году).1
Метод Маркса повелительно требовал глубокого и реалистического подхода к действительности, тщательного и трезвого ее изучения. Анализируя в «Наших разногласиях» накопленные русской наукой данные об экономике страны, Плеханов пришел к выводам, опрокидывавшим народнические тезисы о хилости и даже — по мнению значительной части народников — полной бесперспективности русского капитализма. «Если... мы... спросим себя — пройдет ли Россия через школу капитализма, то, не колеблясь, можем ответить новым вопросом — почему же бы ей и не окончить той школы, в которую она уже поступила?».2
Развитие капитализма и неразрывно с ним связанное развитие пролетариата создавали в глазах Плеханова необходимую почву для успешной деятельности в пользу создания в России рабочей социалистической партии. Не только будущая пролетарская революция, но и плодотворная борьба за уничтожение невыносимого гнета абсолютизма требовали, как учил Плеханов, разрешения этой важнейшей задачи.
Плеханов отказывался видеть в социалистическом перевороте ближайшую цель революционного движения в России. «Связывать в одно два таких существенно-различных дела, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти моменты общественного развития совпадут в истории нашего отечества — значит отдалять наступление и того и другого», — писал Плеханов в 1883 году в работе «Социализм и политическая борьба».3 Этот вывод группа «Освобождение труда» противопоставляла как старым народникам 70-х годов (бакунистам, лавристам и ткачевцам), так в известной мере и народовольцам. Вместе с тем Плеханов в своих ранних марксистских работах высказывал надежду на то, что существование капитализма в России окажется не очень долговечным.
Упования части народовольцев на одновременный политический и экономический переворот были связаны в значительной степени с идеей «захвата власти». Плеханов решительно отрицал эту идею. Разногласие с «Народной волей» «по вопросу о так называемом захвате власти» подчеркивалось уже в первом официальном выступлении группы «Освобождение труда», отмечаемое в качестве одной из основных причин, помешавших соединению с народовольцами. Вместе с тем Плеханов разъяснял, что он и его товарищи вовсе не принадлежат к «числу принципиальных противников такого акта, как захват власти революционной партией». Но речь
- 95 -
должна идти, указывал он, о диктатуре класса, которая «как небо от земли» далека от диктатуры группы революционеров-разночинцев.
В идейных позициях Плеханова и группы «Освобождение труда» были свои слабые стороны, ими выдвигались ошибочные положения. Частью это были временные ошибки, зависевшие иногда от готовности приспособиться к тем или иным предрассудкам окружающей революционной среды. Частью же имели место такие ошибки или колебания, которые фактически оказались зародышами более крупных и прочных уклонений от пути революционного марксизма в будущем, зародышами будущих меньшевистских ошибок Плеханова и его соратников по группе «Освобождение труда». В первой программе группы говорилось, что она (группа), посвящая все свои силы пропаганде современного социализма и подготовке рабочего класса к сознательному социально-политическому движению, «в то же время признает необходимость террористической борьбы против абсолютного правительства».1 В «Наших разногласиях» Плеханов допускал, что пропаганда в рабочей среде не устраняет необходимости террористической борьбы, создавая ей «небывалые до сих пор шансы».2 Даже еще в докладе, представленном за подписями Плеханова и Веры Засулич Международному социалистическому конгрессу 1891 года, отмечалось, что социал-демократы, от имени которых они выступали, никогда не были «в принципе» против террористической борьбы; правда, тут же оговаривалось, что террор свидетельствовал о слабости революционной партии, что он был опасен лишь для «личностей» и не подрывал «системы», что революционеры больше тратили сил, чем приобретали.3
Слабые стороны группы «Освобождение труда» связаны больше всего с трактовкой аграрно-крестьянского вопроса. Выйдя из кругов активных народников, переоценивавших роль крестьянства, видевших в нем главную и решающую массовую революционную силу, деятели группы «Освобождение труда» теперь не могли найти действительно устойчивой и вполне последовательной марксистской линии в крестьянском вопросе. И в программах группы, и не раз в книгах и статьях Плеханова отмечалось, что русская социал-демократия не должна игнорировать крестьянства, что она обязана в меру своих сил заботиться о внесении в крестьянство революционного сознания. В первом варианте программы Плеханов считался с тем, что в крестьянстве может возникнуть «самостоятельное революционное движение».4 Во второй половине 80-х годов он обращал внимание на увеличение недовольства в деревне и предсказывал неизбежность возрастания столкновений крестьян с властями.5 Через несколько лет в предисловии к «Четырем речам рабочих» Плеханов упоминал об усиливающемся среди крестьян недовольстве как об «очень много» обещающем.6 В обеих программах группы «Освобождение труда» содержалось утверждение относительно необходимости «радикального пересмотра» русских аграрных отношений. Плеханову случалось в 80-х и начале 90-х годов писать и о целесообразности требования полной экспроприации крупных землевладельцев и о сочувствии, с которым, как он ожидал тогда, встретило бы крестьянство лозунг национализации земли.7 Всё же Плеханову уже и
- 96 -
в ту пору очень не хватало ясности и отчетливости в постановке крестьянской проблемы. Он настойчиво подчеркивал мысль, что именно «в политическом безразличии и умственной отсталости» крестьян заключается будто бы «главнейшая опора абсолютизма».1 Он выдвинул глубоко ошибочное положение о пролетарии и «мужичке» как «политических антиподах».2
В 1890 году в статье «Еще раз о принципах и тактике русских социалистов», напечатанной в немецком социал-демократическом органе, Плеханов выразил мнение, перекликающееся с позднейшими меньшевистскими установками, будто в России не видно, «кроме буржуазии и пролетариата», других общественных сил, на которые могли бы «опираться оппозиционные или революционные комбинации».3 Следует, в конечном итоге, признать, что Плеханову не удалось четко сформулировать и обосновать положения о союзе пролетариата и крестьянства в русской буржуазно-демократической революции, он не ставил (или почти не ставил) вопроса об этом союзе, о руководстве со стороны пролетариата крестьянской борьбой как о необходимых и обязательных условиях полной победы над царизмом. Ему чуждо было выдвинутое позднее В. И. Лениным громадной теоретической и политической важности положение об особом характере буржуазной революции в России как крестьянской буржуазной революции.
Высоко оценивая, несмотря на ошибки, заслуги группы «Освобождение труда», В. И. Ленин в то же время указывал, что она «лишь теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению».4 Годы возникновения и развертывания деятельности группы «Освобождение труда» Ленин относил к периоду, когда русская социал-демократия «существовала без рабочего движения, переживая, как политическая партия, процесс утробного развития».5 Ленин имел в виду тот факт, что от начала 80-х до середины 90-х годов не было еще связи между социал-демократией и массовым рабочим движением. Это относится и к заграничной представительнице русского марксизма, какой была плехановская группа, и к тем социал-демократическим группам и кружкам, которые существовали параллельно с группой «Освобождение труда» в России.
История этих кружков представляет большой самостоятельный интерес. Но мы должны здесь ограничиться самыми беглыми о них данными.
Во главе начинавшегося в пределах самой России социал-демократического движения шел Петербург. Здесь первая социал-демократическая группа (известная по имени одного из своих руководителей как «группа Благоева») возникла почти одновременно с заграничной плехановской группой. «Благоевцы» вели значительную практическую революционную работу (пропаганда в рабочих кружках, организация тайного печатания и выпуск двух номеров первого русского социал-демократического периодического органа «Рабочий» и т. д.). Они разрабатывали свой проект программы, потом, установив связь с группой «Освобождение труда», вели с нею переговоры относительно общей программы. На первых порах во взглядах «благоевцев» были серьезные пережитки народничества (в частности лавризма), сказывалось и влияние лассальянства. Воздействие
- 97 -
Дм. Благоев.
группы «Освобождение труда» способствовало выпрямлению теоретической линии «благоевцев», частичному освобождению их от остатков влияния домарксистских идей. Имеются, с другой стороны, основания предполагать и некоторое влияние самих «благоевцев» на деятельность плехановской группы. Группа Благоева просуществовала несколько лет. Еще до ее окончательного разгрома возникла в Петербурге другая социал-демократическая группа во главе с Павлом Точиским, объединившая вокруг себя несколько десятков передовых рабочих. Некоторые из них потом примкнули к наиболее крупной из ранних социал-демократических групп столицы — так называемой группе Бруснева, действовавшей на рубеже 80-х и 90-х годов, составленной из значительного числа рабочих кружков,
- 98 -
имевшей и довольно сильную интеллигентскую (студенческую в основном) часть. В «брусневской» группе были предприняты первые попытки вмешательства социал-демократов в стачечную борьбу рабочих. С этой группой связано участие рабочих в так называемой Шелгуновской демонстрации. Группой Бруснева была организована историческая маевка петербургских рабочих 1891 года.
В Москве до конца 80-х годов нам неизвестно существование оформленных и выдержанных марксистских кружков; но еще в первой половине 80-х годов здесь действовала организация переходного от народничества к марксизму типа («Общество переводчиков и издателей»), наладившая широкую по тому времени работу издания и распространения (в литографированном виде) марксистской литературы. С конца 80-х и начала 90-х годов Москве принадлежит одно из ведущих мест в раннем русском социал-демократическом движении.
В конце 80-х годов в Казани работают марксистские кружки, в центре которых находится небольшая группа во главе с Н. Е. Федосеевым. Тогда же начинается формирование марксистских кружков на Украине (Киев, Одесса и т. д.). Заметное место в раннем социал-демократическом движении принадлежало и промышленным городам западных губерний (литовско-белорусских и др.). К началу и первой половине 90-х годов сфера деятельности марксистских кружков значительно расширяется (Самара, Нижний Новгород, Иваново-Вознесенск, Владимир и т. д.).
В марте 1894 года находившийся в вологодской ссылке Федосеев писал Михайловскому: «Я не встречал такой страстной жажды знаний, такой энергии критической мысли и такой отзывчивости к злобам дня, какие господствуют в марксистских кружках. Идеалы этих кружков горят ярко; стремление к практической деятельности очень велико».1
В марксистских кружках Поволжья (Казань, Самара) на рубеже 80-х и 90-х годов начиналась славная революционная деятельность великого В. И. Ленина. В 1893 году Ленин свою теоретическую и практическую работу перенес в Петербург — главнейший центр русского революционного движения. В течение 1894—1895 годов под руководством Ленина сплачиваются силы петербургских социал-демократов, возникает знаменитый ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Это были годы перелома в русском освободительном движении, когда оно вступало в свой завершающий фазис — пролетарского революционного движения, неразрывно связанный с именем гениального вождя революции Владимира Ильича Ленина.
3
В области просвещения, как и во всех других сферах жизни, период 70-х — первой половины 90-х годов характеризуется в целом наступлением правительственной реакции. Самодержавие стремилось и здесь отнять или урезать те крайне половинчатые и непоследовательные реформы, которые были вырваны у него общественным подъемом 60-х годов. Назначенный в 1866 году, после выстрела Каракозова, министром народного просвещения реакционер Д. А. Толстой (занимавший одновременно с 1865 года пост обер-прокурора Синода), а впоследствии его преемник с 1882 года И. Д. Делянов всеми силами пытались восстановить сословный характер средней и высшей школы, затруднить в них доступ демократическим слоям населения, превратить их в орудие борьбы с революционным движением. Лишь в конце 1870-х — начале 1880-х годов, в период второй революционной
- 99 -
ситуации, волна общественного подъема заставляет правительство пойти на ряд уступок, но после 1881 года реакция в области просвещения снова усиливается.
Политика самодержавия в области просвещения заключалась во всемерном ограничении распространения подлинной науки в стране. В. И. Ленин писал: «... наше министерство народного просвещения есть министерство полицейского сыска, глумления над молодежью, надругательства над народным стремлением к знанию».1
Устав гимназий, утвержденный в 1864 году, предусматривал существование гимназий двух типов: классических (с преподаванием древних языков) и реальных. В последних математика и естествознание преподавались по расширенной сравнительно с классическими программе. Русская средняя школа из сословной становилась классовой; формально доступ в гимназию был открыт для детей всех сословий, без различия звания и вероисповедания, хотя высокая плата за обучение практически закрывала доступ в гимназию детям трудящихся.
Вступив на пост министра народного просвещения, Д. А. Толстой немедленно приступил к пересмотру гимназического устава 1864 года. При этом правительство ставило своей задачей направить преподавание «в духе истин религии», уважения к правам частной собственности и соблюдения «коренных начал» существующего порядка.2
В 1871 году министерством был утвержден новый гимназический устав, получивший в обществе название «толстовского». Вдохновителями этого устава были редакторы «Московских ведомостей» реакционеры М. Н. Катков и П. М. Леонтьев.
Устав 1871 года признавал только один тип гимназий — классические гимназии, в которых изучение древних языков, рассматривавшееся правительством как средство борьбы с влиянием революционных идей, составляло основу всего обучения. Кроме часов, посвященных преподаванию древних языков (задачей которого была признана «гимнастика ума» — развитие формального мышления учащихся, а не сообщение новых знаний), было значительно увеличено число часов, отведенных для преподавания закона божьего. Гимназии превращались в схоластические учебные заведения с казарменной дисциплиной, предназначенные для воспитания верноподданных чиновников. Рядом с гимназиями признавалось существование шестиклассных реальных училищ, но лишь в качестве учебных заведений для детей «среднего промышленного класса», дающих узко практическое образование, без достаточной общей подготовки. Только для окончивших гимназический курс были открыты двери университетов. Таким образом, толстовский устав в замаскированном виде воскрешал сословный принцип, лежавший в основе средней школы времен Николая I.
В гимназиях по уставу 1871 года были учреждены должности классных наставников и их помощников, в обязанность которых входило наблюдение за учениками не только в гимназии, но и вне ее. В мае 1874 года министром были изданы правила о надзоре за учениками, строго регламентировавшие каждый их шаг. Эти меры возлагали на учителей полицейские функции. В 1877 году попечителям было предписано назначать учителей лишь после проверки их политической благонадежности.
Обскурантскую политику Толстого в области народного образования продолжал Делянов, при котором были приняты еще более откровенные
- 100 -
меры, направленные к возрождению сословности средней и высшей школы. Чтобы отвлечь от гимназии таких учеников, «которым по условиям быта их родителей совершенно не следовало стремиться к среднему гимназическому, а затем и к высшему университетскому образованию»,1 в 1887 году по распоряжению Делянова были закрыты приготовительные классы при гимназиях, увеличена плата за обучение и опубликован знаменитый позорный циркуляр о «кухаркиных детях», закрывший детям из малосостоятельных семей двери гимназий. Если в 1880 году дети дворян и чиновников составляли 47. 6 процента общего числа учащихся в гимназиях, то в 1892 году их стало — 56. 2. Приводя эти цифры, В. И. Ленин писал в 1897 году: «...сословность и теперь преобладает в наших средних школах».2
Реакционная толстовско-деляновская классическая гимназия получила широкое критическое отражение в русской литературе 80—90-х годов, особенно в многочисленных рассказах Чехова («Учитель словесности», «Человек в футляре» и др.).
Толстой стремился подвергнуть пересмотру и университетский устав 1863 года, но из-за сопротивления передовой университетской общественности успел осуществить лишь ряд частичных мероприятий по усилению надзора за студентами и их «политической благонадежностью». Подготовленный при нем новый реакционный университетский устав был принят в августе 1884 года. Устав этот полностью уничтожил автономию, которой университеты пользовались по уставу 1863 года. Высшая школа была отдана во власть попечителя и министра. В 1887 году была значительно повышена плата за обучение с целью не допустить в университеты лиц «низших и неимущих классов». Прием студентов запрещался, если средняя школа не давала положительной характеристики их «образа мыслей и направления».3
Одним из вопросов, поднятых передовой русской общественностью в 60-е годы, был вопрос о высшем женском образовании. Начавшаяся в 60-е годы упорная борьба женщин за открытие им доступа к высшему образованию продолжалась в 70-е годы. Правительство крайне отрицательно относилось к требованиям женщин. Когда в 1867—1868 годах I съезд русских естествоиспытателей и группа передовых ученых Петербургского университета, в которую входили А. Н. Бекетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и другие, поддержали ходатайство об открытии высшего учебного заведения для женщин, министр Д. А. Толстой встретил явившуюся к нему по этому поводу делегацию оскорбительными и пренебрежительными замечаниями.4
Однако самодержавие вынуждено было всё же пойти на некоторые уступки. Отчаявшись добиться разрешения на высшее образование в России, молодые женщины уезжали за границу, в особенности в Швейцарию, которая была главным центром русской политической эмиграции. Многие из студенток завязывали здесь связи с эмигрантскими кружками, становились участницами революционного движения. Это заставило Толстого разрешить в 1869 году в Москве открытие женских курсов, а в Петербурге
- 101 -
чтение при университете с 1870 года публичных курсов, предназначавшихся для совместного посещения мужчин и женщин. Вскоре эти публичные курсы были преобразованы в высшие женские курсы.1 В 1872 году в Москве были открыты вторые высшие курсы для женщин — курсы профессора В. И. Герье. Еще через четыре года женские курсы были открыты в Казани, а в 1878 году — в Киеве. Все эти курсы были частными. Хотя правительство стремилось ограничить их программу, а высокая плата за обучение делала их доступными преимущественно для женщин из материально обеспеченных семей, женские курсы все же сыграли важную роль в истории русской общественной жизни 70—80-х годов. Тип демократически настроенной «курсистки» стал одним из популярных типов в реалистической литературе и живописи этой эпохи (картина Н. А. Ярошенко «Курсистка», 1883, и др.).
В 1886 году правительство, вступившее в первые годы царствования Александра III на путь прямой и открытой реакции и напуганное участием «курсисток» в революционном движении, закрыло все существовавшие тогда женские курсы, кроме Петербургских, которым удалось добиться возобновления приема, но в сокращенном объеме. Еще раньше, в 1882 году, были закрыты начавшие свою работу в 1872 году в Петербурге при Николаевском военном госпитале женские врачебные курсы.
Огромная жажда знаний, охватившая широкие массы народа, пробивала себе дорогу, несмотря на препятствия, которые создавали на ее пути реакционные царские чиновники. В течение 70—90-х годов продолжался подъем передовой русской национальной культуры, увеличивалось стремление масс к знанию и науке, росли революционные настроения среди учащейся молодежи.
Результатом инициативы крестьянских обществ и демократической интеллигенции было появление и развитие с конца 60-х годов земской начальной школы в деревне. Разночинная интеллигенция дала для этой школы сотни и тысячи самоотверженных сельских учителей, тяжелая жизнь и подвижнический труд которых нашли яркое отражение в очерках Г. И. Успенского и других писателей-демократов 70—90-х годов.
Победоносцев питал намерение ликвидировать земскую школу и подчинить всё дело начального образования церкви. Однако ему не удалось добиться осуществления этого реакционного мероприятия (хотя под давлением правящих сфер в 1884 году церковно-приходские школы, а в 1891 году и школы грамотности были переданы в ведение Синода).
Со второй половины 80-х годов и особенно в 90-х годах в связи с ростом промышленного пролетариата и усилением крестьянского движения началась новая волна просветительного движения. В деревнях в это время растет число вольных крестьянских школ, созданных по почину крестьян. В городах вновь оживляется деятельность воскресных школ, способствовавших распространению грамотности среди рабочих и явившихся важными каналами революционной пропаганды. В библиотеках и читальнях с каждым годом увеличивается выдача книг, растет число читателей из рабочих.
К началу 60-х годов, по подсчетам Чернышевского, грамотные составляли лишь 6 процентов населения, а в 1897 году — уже 20. Число учащихся в университетах за это время увеличилось в четыре раза, а число
- 102 -
учащихся в гимназиях (мужских и женских) — в три с половиной раза. Несмотря на противодействие правительства, удельный вес демократических элементов в средней и высшей школе возрастал. Многочисленные гимназические и студенческие кружки помогали учащимся восполнять пробелы казенного образования и приобщали их к передовой науке. Значительную роль в просвещении молодежи играли революционные кружки. Никакие циркуляры и экстренные меры министерства по борьбе с «революционной заразой» не могли помешать влиянию революционной пропаганды на учащуюся молодежь. По данным официальной статистики, воспитанники высших и средних учебных заведений составляли в 1873—1877 годах 50 процентов общего числа лиц, «прикосновенных к противогосударственной пропаганде».1 В 80-е годы в обстановке глубокой реакции, идейного кризиса народничества и буржуазной интеллигенции часть студенчества отошла от освободительного движения, однако наиболее передовой его отряд не прекращал революционной борьбы. С конца 60-х до 90-х годов в университетах и других высших учебных заведениях неоднократно возникали студенческие «беспорядки», происходили столкновения студентов с бюрократическим начальством и реакционной профессурой.
В упорной борьбе с правительственной реакцией, опиравшейся на реакционную часть академической и университетской профессуры, продолжала развиваться в 70—90-е годы передовая русская наука. Начавшийся в 60-е годы подъем естествознания продолжался в последующие годы. 70—80-е годы были временем расцвета деятельности Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, И. М. Сеченова и К. А. Тимирязева, А. Г. Столетова и П. Л. Чебышева, И. И. Мечникова, А. О. Ковалевского и других замечательных русских ученых. Большинство из них продолжало свою работу и в следующее десятилетие. В 80—90-е годы начало свою научную деятельность более молодое поколение великих русских ученых-естествоиспытателей конца XIX — начала XX века, взгляды которых, как и взгляды их учителей — ученых 60—80-х годов, — были проникнуты страстным патриотизмом и глубоким материалистическим духом. К 80-м и 90-м годам относятся классические работы И. П. Павлова в области физиологии кровообращения и пищеварения, завершением которых явилось его учение о высшей нервной деятельности, создавшее прочную материалистическую основу для развития физиологической науки. Великий русский физик П. Н. Лебедев начал в 90-е годы ряд своих исследований, которые привели его к открытию давления света на твердые тела и газы и к разработке методики измерения этого давления. В 1889 году А. С. Попов впервые указал на возможность применения электромагнитных волн для беспроволочной передачи сигналов на расстояние, а 25 апреля (7 мая) 1895 года продемонстрировал на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Петербурге «грозоотметчик», явившийся первой приемной радиостанцией. В 1885—1893 годах появились работы Е. С. Федорова, посвященные теории строения кристаллов. Значительного подъема достигают и другие области естествознания, математики, астрономии, медицины. Возникающие новые научные общества — не только столичные, но и провинциальные, — всероссийские съезды естествоиспытателей, натуралистов, врачей (периодически созываемые с 60-х годов) способствуют обмену мнений и делают передовые научные открытия достоянием более широких кругов специалистов и практиков науки. Созданный в 1882 году Геологический комитет,
- 103 -
К. А. Тимирязев.
Фотография.
Русское географическое общество, председателем которого с 1873 года стал П. П. Семенов-Тян-Шанский, с его многочисленными отделениями организуют широкую сеть экспедиций, способствующих всестороннему изучению недр, природы, климата, условий жизни, населения различных краев и областей России, а также исследованию сопредельных с нею стран — Монголии, Китая и других. Ряд замечательных трудов по геологии России создают А. А. Иностранцев, А. П. Карпинский, И. В. Мушкетов. В 1867—1888 годах развертывается деятельность Н. М. Пржевальского, исследования которого в области изучения Центральной Азии продолжают после
- 104 -
его смерти Г. Н. Потанин (Монголия, Северный Китай), В. И. Роборовский и П. К. Козлов (Тибет, Монголия), В. А. Обручев и другие. С 1871 по 1883 год продолжаются замечательные исследования Н. Н. Миклухо-Маклаем Новой Гвинени и островов Тихого океана. В 1872—1876 годах А. И. Воейков совершил большое путешествие по Азии, Северной и Южной Америке и собрал много ценнейших климатологических наблюдений, положенных в основу его классического труда «Климаты земного шара, в особенности России» (СПб., 1884), ставшего исходной точкой научной климатологии.
Труды В. В. Докучаева и П. А. Костычева положили в 80-е годы начало научного почвоведения, изучения русских почв. Вместе с трудами русских ботаников они заложили основы сельскохозяйственной науки, практическое применение которой, тормозившееся при царизме из-за отсталости страны и условий мелкого крестьянского хозяйства, получило широкое развитие после Великой Октябрьской социалистической революции. В конце 1880-х годов начал свои первые селекционные опыты И. В. Мичурин.
Ряд блестящих открытий и изобретений делает в 70—80-е годы и русская техническая мысль в лице создателя первого в мире самолета А. Ф. Можайского, электротехников А. Н. Лодыгина и П. Н. Яблочкова, Д. К. Чернова, осуществившего в 1868—1878 годах переворот в области металлургии, создателя теории автоматического регулирования И. А. Вышнеградского.
Если в области естествознания в русской науке 70—80-х годов продолжали господствовать материалистические традиции 60-х годов, опиравшиеся на стихийное тяготение естествоиспытателей к материализму, то в области общественных наук дело обстояло иначе. Здесь господствующее место принадлежало позитивизму и различным откровенно идеалистическим взглядам. Особенно заметное усиление идеалистических течений в области философской мысли и общественных наук произошло в 80-е и 90-е годы в условиях усиливавшейся политической реакции.
Позитивизм в сочетании с влиянием неокантианства составлял в 70—90-е годы наиболее влиятельное течение философской мысли русского либерализма. Рядом с позитивизмом в 80-е годы активизируется и приобретает более широкое влияние реакционно-идеалистическое течение дворянско-буржуазной философской мысли, главными представителями которого были поздние славянофилы — Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов и другие, боровшиеся против материализма, против дарвинизма в области естествознания, отвергавшие теорию исторического прогресса, которой Данилевский в своей книге «Россия и Европа» (1869) противопоставил теорию замкнутого и отъединенного развития различных культур. Тяготение философской реакции к иррационализму и возрождению религиозной веры получило свое наиболее яркое выражение в сочинениях Владимира Соловьева, проповедника всемирной теократии на основе монархического принципа, осуществляемого русским самодержавием. Соловьев, критиковавший в своих сочинениях научное познание и требовавший «пополнения» его мистической верой в трансцендентальный мир, в существование сверхъестественных сил, стал одним из духовных отцов идеалистической реакции в русской буржуазной философии начала XX века и оказал сильное влияние на русское декадентство и символизм.
С 1889 года идеалистически настроенная профессура группируется вокруг журнала «Вопросы философии и психологии», издававшегося Московским психологическим обществом. Одним из оплотов идеалистической реакции в области философии и эстетики с 1891 года становится и журнал «Северный вестник», в котором критик-декадент А. Л. Волынский
- 105 -
начинает поход против наследия русских революционных демократов, продолженный впоследствии, после революции 1905 года, авторами известного кадетского сборника «Вехи». Реакционно-идеалистические взгляды пропагандируют также В. В. Розанов, Д. С. Мережковский и другие представители русского декадентства, начинающие свою литературную и публицистическую деятельность в 90-е годы.
70—90-е годы были временем усиленной разработки русской истории. Работа С. М. Соловьева, собравшего и систематизировавшего громадный фактический материал на страницах «Истории России» (1851—1879), нашла свое продолжение в исследованиях целого поколения буржуазных историков, много сделавших для разработки частных проблем русской истории, хотя и не способных в силу своего либерально-буржуазного мировоззрения подняться до понимания ее основных движущих сил. Наиболее выдающимся из учеников Соловьева был В. О. Ключевский. Последний не смог создать единой цельной концепции русского исторического процесса, который он освещал в либеральном духе, как мирное сотрудничество различных сословий в едином государственном строительстве. Однако его многолетние курсы лекций в Московском университете, в которых он проявил выдающуюся способность художественной характеристики отдельных эпох и исторических деятелей, и специальные исследования (по истории боярской думы, крестьянства, истории крепостного права и т. д.) имели большую ценность. Господство позитивизма и других идеалистических течений, либерально-дворянская и буржуазная идеология ограничивали горизонт большей части даже выдающихся представителей русской общественной науки конца XIX века. Однако, несмотря на это, русская историческая, юридическая, филологическая наука дала в 70—90-е годы в лице лучших ученых ряд значительных специальных исследований в различных областях. Некоторые из русских ученых — историки и экономисты, статистики 70—90-х годов — были высоко оценены Марксом и Энгельсом, внимательно следившими за русской наукой и изучавшими труды русских ученых, особенно в области аграрных отношений. Основоположники марксизма положительно отметили исследование историка Н. И. Кареева, посвященное положению крестьян во Франции перед буржуазной революцией 1789 года, труды либерального социолога и правоведа М. М. Ковалевского о первобытном праве и развитии форм семьи. Исследования Кареева и Ковалевского, работы П. Г. Виноградова по истории английского феодализма, И. В. Лучицкого по истории реформации и религиозных войн во Франции и по истории ее аграрных отношений, В. Г. Васильевского и Ф. И. Успенского по истории Византии, работы русских ученых-славистов и востоковедов обогащали существенными сведениями ряд разделов исторической науки, несмотря на сказавшуюся в них классовую ограниченность авторов этих работ. Либеральную сущность политических взглядов буржуазных ученых-историков (Кареева, Виноградова, Ковалевского) вскрыли В. И. Ленин, Г. В. Плеханов и другие русские марксисты.
Огромный материал для изучения русской пореформенной действительности, аграрных отношений, экономического развития России накопили труды русских земских статистиков, принадлежавших в своей подавляющей части к демократически настроенной интеллигенции и нередко связанных с освободительным движением. Эти труды ценили и внимательно изучали Маркс и Ленин, беспощадно критиковавшие в то же время земских статистиков за либеральные и народнические иллюзии, за стремление затушевать разложение общины и классовую борьбу в деревне, за непонимание буржуазной природы мелкого крестьянского хозяйства.
- 106 -
Значительный подъем в 70—90-е годы XIX века переживала не только русская буржуазная историческая наука, но и языкознание, этнография и фольклористика, историко-литературная наука. Труды Ф. И. Буслаева по истории древней русской литературы, народной словесности и искусства дали толчок самостоятельному развитию каждой из этих областей. Большой новый фактический материал из рукописной литературы древней Руси и русской литературы XVIII века был извлечен и опубликован Н. С. Тихонравовым, продемонстрировавшим в своих работах высокую технику научного издания текстов и подготовившим многочисленную плеяду учеников. Важное значение для изучения истории русской общественной мысли XVIII—XIX веков имели работы А. Н. Пыпина, одновременно выдающегося популяризатора, создавшего — хотя и на основе методов либеральной «культурно-исторической» школы — обширные сводные обзоры истории русской литературы и этнографии, а также литератур славянских народов. Крупным представителем русской либерально-буржуазной историко-литературной науки XIX века был Александр Веселовский, специалист по истории литературы западноевропейского средневековья и Возрождения, пытавшийся построить на основе идей буржуазного эволюционизма и сравнительно-исторического изучения широкого литературного материала «историческую поэтику», задуманную в духе позитивизма и противопоставленную, по мысли ее создателя, как идеалистической эстетике начала XIX века, так и материалистическим идеям Белинского и Чернышевского. Труды этих буржуазных ученых носили на себе печать исторической и классовой ограниченности. Особенно серьезным недостатком их было характерное для многих буржуазных ученых одностороннее увлечение теорией заимствования, которое привело Александра Веселовского к стиранию национального своеобразия отдельных литератур, к ложной попытке свести всё многообразие литературного развития к истории «бродячих сюжетов» и абстрактных поэтических формул, имеющих будто бы вненациональный, международный характер. Однако при всех своих теоретических недостатках лучшие историко-литературные исследования представителей русской университетской и академической науки 70—90-х годов сыграли для своего времени всё же прогрессивную роль. Они не только впервые ввели в научный оборот большое количество ценного фактического материала, но и в противовес реакционно-славянофильским взглядам утвердили идею о внецерковном, светском характере многих жанров древней русской литературы, осветили ряд этапов идейной борьбы в русской литературе XVIII и XIX веков (хотя и не могли вскрыть ее классовых истоков), показали внутреннее единство между тенденциями развития русской литературы и литератур других народов, их историческое взаимодействие на протяжении веков. Большое значение имели труды крупнейших русских лингвистов второй половины XIX века — Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. Е. Корша, А. А. Потебни (который был одновременно выдающимся исследователем народной поэзии и создателем психологически-лингвистической теории поэзии) и других, — а также плеяды этнографов и фольклористов 70—90-х годов (начиная с А. Ф. Гильфердинга, сборник которого «Онежские былины» вышел посмертно в 1873 году, до В. Ф. Миллера).
4
Прогрессивное движение в искусстве, ярко определившееся в 50—60-х годах XIX века, продолжалось и углублялось в 70-х и в значительной мере в 80-х годах.
- 107 -
Главной социально-политической основой роста передового искусства оставались освободительные стремления угнетенных народных масс и революционная борьба многочисленного демократического отряда интеллигенции, выражавшего интересы и чаяния этих масс. Громадный толчок, который был дан культурному и художественному развитию страны революционной ситуацией конца 50-х и начала 60-х годов, деятельностью демократов-шестидесятников во главе с Герценом, Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, продолжал оказывать свое действие после спада первой общественной волны. Оживление демократического движения на рубеже 60-х и 70-х годов и последовавшее затем широкое возрождение революционного движения на протяжении 70-х годов, завершившееся новой революционной ситуацией в исходе этого десятилетия, не могли не оказать благотворного влияния на жизнь русского искусства. Связь освободительной борьбы 70-х годов с идеологией революционного народничества не дает оснований для преуменьшения и недооценки этого влияния. Движение 70-х годов оказывало глубокое воздействие на искусство прежде всего такими своими сторонами, как интерес к жизни и настроениям крестьянства, преданность народным интересам, самоотверженная борьба против царизма и господствующих социальных сил, ненависть к угнетателям и притеснителям масс.
Центральным фактом эпохи в области изобразительного искусства было возникновение и деятельность «Товарищества передвижных художественных выставок». Основанное в 1870 году (первая выставка открылась в 1871 году), «Товарищество» просуществовало до первых лет советской власти, являясь в течение десятилетий главным представителем реалистического прогрессивного искусства в России. Пора наибольшего расцвета и влияния передвижников относится к 70—80-м годам XIX века.
Деятельность передвижников была закономерным продолжением практической и теоретической работы художников-реалистов и передовых искусствоведов 60-х годов. Вожди художественного движения 60-х годов — Крамской, Стасов — были также крупнейшими идеологами передвижничества. Вместе с тем появление «Товарищества», творчество его членов (как и ряда художественных деятелей, не входивших в его состав, но фактически разделявших его принципы) были в целом значительным шагом вперед после 60-х годов.
Сами организационные формы движения на его новом этапе знаменовали большой прогресс. Важное значение имело создание прочного, сравнительно широкого, вполне независимого по отношению к официальным кругам, преследующего самые серьезные общественно-эстетические цели художественного объединения. Задачи планомерной и систематической организации выставок и «передвижения» их из столиц в крупные провинциальные центры (причем масштабы «передвижения» всё расширялись: 1-я выставка побывала в четырех городах, а 15-я — в четырнадцати) свидетельствовали о сознательном и действенном стремлении художников к всемерной популяризации искусства, установлению возможно более тесных и близких отношений между искусством и обществом.
Идейно-эстетическим знаменем передвижничества являлись те принципы народности и патриотизма искусства, критического реализма, которые были обоснованы Белинским, Чернышевским, Добролюбовым и поддерживались в меру ее теоретического понимания демократической эстетической и критической мыслью 70-х годов.
Передвижники широко развили народный социальный и бытовой жанр, к которому уже привлечено было в сильной степени внимание художников
- 108 -
60-х годов. Тематические рамки жанровой живописи теперь значительно раздвинулись, существенные черты общественного быта, народной жизни получили в искусстве еще более углубленное выражение, чем прежде. В передвижничестве с замечательной силой расцвели портретная живопись, реалистический, подлинно национальный пейзаж и глубоко национальная историческая живопись. Ценной отличительной чертой передвижничества явилось стремление к прямому и непосредственному отражению в искусстве освободительной борьбы передовых сил народа. С этим в большой мере были связаны плодотворные поиски решения проблемы положительного героя в изобразительном искусстве.1
Передвижничество находилось в ближайшем духовном родстве с передовой литературой. Своими особыми средствами в живописи, скульптуре и графике художники-передвижники шли к разрешению тех же задач, что и лучшие представители литературы. Недаром так часто искусствоведческая и педагогическая мысль обращается к теме «Некрасов и передвижники», в частности в связи с изучением творчества художников Перова, Репина, Савицкого и других. Но не одни некрасовские мотивы близки передвижникам, их волновали те же проблемы, какие ставились Тургеневым, Л. Толстым, Успенским, Гаршиным, Чеховым. Идейная связь с передовой литературой всегда была одним из главных пунктов «обвинений» по адресу передвижничества со стороны противников народно-демократического, проникнутого живыми общественными интересами искусства; эти противники (например, П. Д. Боборыкин) даже именовали его «литературным направлением» в живописи. Напротив, друзья и защитники передвижников законно гордились этой связью, видели в ней проявление и один из источников силы и могущества демократической и реалистической живописи.
В числе лучших друзей передвижничества находился Салтыков-Щедрин. В статье о первой передвижной выставке, помещенной в конце 1871 года в «Отечественных записках», Щедрин называл образование «Товарищества» замечательным для русского искусства явлением. «Искусство, — писал Щедрин, — перестает быть секретом, перестает отличать званных от незванных, всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах». С огромным сочувствием писатель анализировал и оценивал картины основоположников «Товарищества» передвижников — Ге, Перова, Крамского, Мясоедова, Прянишникова, Саврасова. Щедрин одобрял «Товарищество» за то, что оно отстаивает в искусстве «идею трезвости, простоты и естественности». Проявляя заботу о жизнеспособности «Товарищества» как выдержанного идейно-творческого объединения, он предостерегал против проникновения в его среду чуждых элементов, доказывал необходимость «полного единодушия» вступающих в «Товарищество» художников.2 «Салтыков — первый из крупных русских писателей с истинной симпатией отнесся к новой русской художественной школе», — отметил впоследствии Стасов (1888).3
Особенности передвижнического этапа в развитии русского искусства (даже больше — искусства народов России, ибо под влиянием русских
- 109 -
«Бурлаки». Картина И. Е. Репина. 1870—1873.
художников-передвижников развилось аналогичное направление в искусстве Закавказья, Украины, Прибалтики) наиболее всеобъемлющим образом выразились в творчестве И. Е. Репина. Гений Репина проявился и в жанровой, и в портретной, и в исторической, и — по-своему — в пейзажной живописи. В его многочисленных картинах, этюдах, рисунках полно и с редкой глубиной отразились важнейшие черты русской действительности с ее сложными противоречиями, противостоящими друг другу классами, с подавленностью низов и их порывом к свободе и правде. Появление знаменитых репинских произведений («Бурлаки на Волге», 1873; «Крестный ход в Курской губернии», 1883; «Иван Грозный», 1885; «Запорожцы», 1891) каждый раз воспринималось как выдающееся событие в художественной и общественной жизни. Весьма существенное место в творчестве Репина заняла серия картин на темы революционного движения («Под конвоем», 1876; «Сходка нигилистов», 1883; «Арест пропагандиста», 1880—1892; «Отказ от исповеди», 1880—1885; «Не ждали», 1884). В этих произведениях, представляющих — одни в большей, другие в меньшей степени — революционно-героическое начало в русской жизни и русском искусстве, вызывали особую признательность к Репину со стороны активных демократических кругов общества, в наиболее передовой части народа. Это был прямой вклад художника-патриота в освободительную борьбу разночинной демократии. Выходец из народа, испытавший большое влияние революционно-демократической литературы и публицистики, называвший себя по праву «человеком 60-х годов»,1 всегда сохранявший благодарную память о Чернышевском, Репин знал и любил массу, крестьянство и с большим сочувствием следил, особенно в 70-х и первой половине 80-х годов, за развитием революционной борьбы. В современной литературе можно встретить справедливые оценки Репина как самого талантливого «выразителя и толкователя» в искусстве своего революционного поколения.2
- 110 -
Будучи величайшим русским портретистом XIX века, Репин оставил ряд портретов выдающихся русских писателей — Льва Толстого (целая серия портретов), Писемского, Тургенева, Гаршина, Горького, Короленко, Фета, А. К. Толстого. Репин принадлежит к тем деятелям русской художественной культуры, которые поддерживали особенно тесные отношения с литературным миром. В свои молодые годы Репин был близко знаком с Тургеневым. 80-е годы ознаменованы большой дружбой Репина с Всеволодом Гаршиным, оказавшим известное влияние на репинское творчество периода создания «Ивана Грозного», «Не ждали» — произведений, в которых Гаршин видел вершины русской живописи.1
В течение тридцати лет Репин был связан с Л. Толстым, которым он неизменно восхищался как гениальнейшим художником слова, но с которым он расходился в ряде общественно-этических воззрений. (Другой характер имели взаимоотношения Л. Толстого с Н. Н. Ге, являвшимся в конце своей жизни, в 80—90-х годах, последователем толстовской общественной и моральной философии и творившим тогда в немалой мере в духе идей толстовства). Последний (в рамках дореволюционного времени) период жизни и деятельности Репина характерен близостью с А. М. Горьким, для которого Репин (вместе с В. А. Серовым) был любимейшим художником.
Жанровая живопись передвижников выдвинула наряду с Репиным имена Г. Г. Мясоедова, В. Е. Маковского, И. М. Прянишникова, К. А. Савицкого, В. М. Максимова и других. Большое место в передвижническом «жанре» заняла крестьянская тема. Некоторые художники, например, Мясоедов и Максимов, почти целиком отдали свой талант изображению жизни крестьянства. Владимир Маяковский стал художественным бытописателем мелкого городского люда. Эта же среда привлекала внимание раннего Виктора Васнецова, потом оставившего «жанр» и посвятившего себя темам русского народного эпоса. Константин Савицкий, автор известных картин «Встреча иконы», «На войну», связанных с крестьянской темой, одним из первых обратился к теме рабочей («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Пионером в художественной разработке рабочей темы выступил и Николай Ярошенко («Кочегар», 1878).
В портретной живописи, кроме Репина, прославили себя Перов, Крамской, Ге, Ярошенко. О Перове-жанристе была речь в предыдущем томе данного издания. В творчестве Перова 70-х годов именно портреты составляют особенно ценную часть. При этом самое значительное место принадлежит группе портретов деятелей русской литературы. Лучшим из них является знаменитый портрет Ф. М. Достоевского (1872), в котором правдивость и выразительность перовского творчества, способность художника к проникновенной и углубленной психологической характеристике сказались с наибольшей силой. Выдающимися являются написанные В. Г. Перовым портреты А. Н. Островского, А. Н. Майкова, В. И. Даля. Замечательным портретистом-психологом (преимущественно, но не исключительно портретистом) был И. Н. Крамской — боевой вождь передовой художественной
- 111 -
молодежи 60-х годов, идеолог передвижников.1 И он крепко связал свое имя с историей русской литературной жизни, запечатлев образы Некрасова (на двух известных портретах — погрудном и портрете-картине «Некрасов в период последних песен»), Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, Гончарова, Григоровича, Аполлона Майкова. Николай Ге, в конце 60-х годов уже давший превосходный портрет Герцена, в 70-х годах обогатил русскую живопись портретами Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Потехина. К 1884 году относится весьма известный и ценный портрет Льва Толстого за работой (по словам Ге, над рукописью «В чем моя вера?»).
Глубиной характеристик, строгой правдивостью, живым общественным чувством были проникнуты портреты Н. А. Ярошенко, среди которых наряду с известными изображениями Стрепетовой, Менделеева видное и почетное место заняли портреты литераторов — Глеба Успенского, Салтыкова-Щедрина, Михайловского, Плещеева, Л. Толстого, Короленко. Ярошенко был ярким выразителем лучших тенденций передвижничества. Он был в «Товариществе» одним из главных идеологов-мыслителей, твердо и последовательно отстаивавшим принципы идейного, воинствующего искусства. После смерти Ярошенко (1898) Михайловский отмечал, что художник «вел неустанную борьбу сначала с академической эстетикой, а затем и с нахлынувшей в последнее время декадентской волной».2 Непоколебимым в своих общественно-эстетических убеждениях оставался Ярошенко и в то время, когда среди самих передвижников стали обнаруживаться признаки некоторого кризиса, когда стала слабеть боевая гражданская направленность творчества ряда из них. Ярошенко вместе с Репиным стоял особенно близко к идейно-политическим стремлениям демократической интеллигенции. Картины его «Заключенный», «У Литовского замка», «Студент», «Курсистка» и другие отразили период подъема революционной борьбы разночинной молодежи, запечатлели типы молодой интеллигенции. Художник поддерживал тесную связь со средой демократических литераторов, в том числе с Успенским,3 Гаршиным. С уже упомянутым «Кочегаром» Ярошенко прямо перекликается рассказ Гаршина «Художники», созданный вскоре же после этой картины.
В общем русле передвижнических начал развивалось творчество передвижников-пейзажистов во главе с И. И. Шишкиным, А. К. Саврасовым, В. Д. Поленовым, А. И. Куинджи. К поколению передвижников, выступившему на рубеже 70—80-х годов, принадлежал гениальный пейзажист-лирик, вдохновенный певец русской природы И. И. Левитан, художественная индивидуальность которого столь во многом близка была идейно-творческому облику его друга Чехова.
Историческая живопись передвижников достигла вершины в творениях В. И. Сурикова. Три шедевра Сурикова — «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова» — появились на передвижных выставках последовательно в 1881, 1883 и 1887 годах. Беспочвенны были бы попытки истолкования суриковских полотен как непосредственных откликов на события революционной жизни его времени. Но внутренняя связь с общим течением передовой мысли эпохи заключена уже в смелом и суровом реализме Сурикова, в страстном интересе художника к народу,
- 112 -
в стремлении постигнуть его исторические судьбы. Было много поучительного для современности в творениях великого исторического живописца. Недаром два чутких писателя-демократа — Гаршин и Короленко — посвятили статьи «Боярыне Морозовой» Сурикова (и выставленной одновременно картине Поленова «Христос и грешница»). Короленко писал: «Могучая фигура строптивой боярыни в одно и то же время приковывает внимание и возбуждает смутную тревогу... Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно на гибель за то, что он считает истиной. Такие примеры пробуждают веру в человеческую природу, подымают душу». Однако «убогая, бедная мысль» вдохновила Морозову на подвиг. Суриков, по словам Короленко, «показал нам нашу действительность. Можно ли сказать, что мы уже вышли из этого мрака?». Писатель призывал к гармонии чувства и мысли, к борьбе, к подвигу во имя светлых, прогрессивных, человеческих идеалов.1
Обозреваемый период двинул далеко вперед батальную живопись. В. В. Верещагин, не принадлежавший к членам Товарищества передвижников, но делавший с ними общее дело, сказал тут новое, замечательное слово. Творчество Верещагина означало полный разрыв с казенщиной и парадностью в батальной живописи, переход к народности, к трезвому реализму. Верещагин выступил как мужественный патриот-обличитель, протестовавший и негодовавший, по словам Стасова, «против безобразий и варварства, на каждом шагу кишащих в истории и жизни».2 Верещагин своею кистью боролся против насильнических, захватнических войн — он хотел «бить» войну «с размаха и без пощады».3 Презрение и недоверие к верхам сочеталось у художника с интересом и вниманием к рядовой массе. Творчество Верещагина приобрело широкую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Заботу о популяризации Верещагина за рубежом — именно в Париже — проявлял Тургенев, высоко ценивший художника, признававший его картины поразительными по правдивости и точности воспроизведения типов. «Верещагин бесспорно самая интересная артистическая личность, какая имеется сейчас в России», — писал в начале 80-х годов Тургенев.4
Имя Тургенева связано и с популяризацией творчества другого большого мастера русского изобразительного искусства — скульптора М. М. Антокольского. В лице Антокольского русская скульптура вполне примкнула к тому реалистическому и демократическому движению, которое в живописи представлено было Репиным, Перовым, Крамским. В течение 70—90-х годов Антокольский создал ряд скульптурных произведений, посвященных прошлому России: «Иван Грозный», «Петр I», «Ярослав Мудрый», «Нестор-летописец», «Ермак». «Не я ли воспевал и воспеваю русских героев?» — писал в 1892 году Антокольский. Но, обращаясь к деятелям прошлого, скульптор думал и о будущем, даже прежде всего о будущем. Он сам подчеркивал, что в лице Петра, Ярослава, Нестора, Ермака «воспевал будущность России».5 Другую группу произведений Антокольского
- 113 -
М. П. Мусоргский.
Фотография А. Лоренса. 1873.
составляют «Сократ», «Христос», «Спиноза», «Мефистофель». В первых трех он воспевал «мучеников за идею». Скульптор глубоко верил в Россию, верил в русское искусство, в то, что оно старается понять дух, настроения, стремления народа, хочет понять человеческую душу, «ищет творчества души». Он придавал огромное значение воплощению в искусстве «положительных типов», призывая искать их в народе, показать в «мужичках» их «особенную стихийную силу», поэзию, могущество, ширину и глубину, «как это, — добавлял он, — понял Кольцов».1 В 90-х годах в связи с ростом декадентских тенденций Антокольский выражал скорбь по поводу того, что художники (конечно, часть художников) пошли назад, погнались за «искусством для искусства», достигая, однако, лишь «искусства без искусства».2
- 114 -
Крупную художественную величину представлял скульптор А. М. Опекушин. Он создал знаменитый московский памятник Пушкину (1880), памятник Лермонтову в Пятигорске.
В конце XIX века, как уже отмечено, начинает обозначаться некоторый кризис в изобразительном искусстве. Он захватывает в известной мере часть передвижников, сказываясь в изменении тематики, мельчании тем, частичном вытеснении жанра, в том или ином сближении с академическим искусством. Однако прогрессивные тенденции не глохнут; у ряда представителей младшего поколения передвижников заметно даже, наоборот, обогащение тематики, рост интереса к пролетарской теме (Касаткин, Архипов и др.). К концу столетия относятся творчество Левитана и первый период деятельности Валентина Серова.
Не менее чем для истории русского изобразительного искусства, важна обозреваемая эпоха для судеб русской музыки. Деятельность русских музыкантов 70—80-х годов необычайно обогатила музыкальную культуру России и всего человечества.
Музыкальная жизнь 70-х годов неотделима от тех процессов в области композиторского творчества, музыкального исполнительства и музыкально-эстетической мысли, которые наметились в предшествующем десятилетии и охарактеризованы были в предыдущем томе настоящего издания. Там были кратко освещены идейно-творческие основы деятельности «могучей кучки». Следует добавить, что реализация многих идей и планов «кучки» приходится преимущественно именно на 70-е годы. Правда, как нечто организованное и сплоченное «могучая кучка» существовала только примерно до середины 70-х годов (да и то уже без Балакирева, отошедшего от своих товарищей в самом начале 70-х годов). В конце 1874 года Стасов в статье «Современные русские композиторы» писал о прекращении «совместной деятельности» прежних членов Балакиревского кружка — «могучей кучки». Люди, входившие в состав кружка, по словам Стасова, шли «нераздельной группой, пока совершался процесс их роста и развития, пока необходимы были сплоченные их усилия, чтобы стоять за общее дело и проводить новые взгляды в массу, чуждую или даже враждебную». Отмечая, что теперь и сами члены кружка «возмужали и выросли» и, благодаря им, публика тоже выросла, противодействие ретроградов ослабло, Стасов подчеркивал, что для них («бывших членов кружка») пришла пора «деятельности в одиночку, совершенно самостоятельно», у каждого выработалась «своя музыкальная физиономия, свой особенный взгляд и направление».1 Но самые главные, наиболее значимые принципы «кучкизма» сохранились в деятельности Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, да и личные отношения, та или иная степень взаимной помощи и поддержки отнюдь не прекратились.
У Мусоргского на конец 60-х и 70-е годы приходятся крупнейшие достижения. В 1868—1869 годах он работал над оперой «Борис Годунов». В первой редакции опера была отвергнута императорскими театрами. В 1872 году композитором была закончена новая редакция «Бориса Годунова». В начале следующего года удалось в Мариинском театре показать несколько картин из «Бориса», а в 1874 году опера впервые была поставлена на той же сцене уже целиком. Вдохновленный гениальным творением Пушкина, Мусоргский создал произведение, явившееся великим вкладом в русскую и мировую оперную драматургию. По справедливому
- 115 -
Н. А. Римский-Корсаков.
Фотография К. А. Шапиро. С дарственной надписью В. В. Стасову
2 января 1892 года.
- 116 -
замечанию советского композитора-музыковеда Б. Асафьева, сущность всех воззрений Мусоргского составляло его «глубокое убеждение в том, что жизнь народа — единственная опора подлинного искусства».1 Это убеждение определило характер «Бориса Годунова», первой «народной музыкальной драмы» Мусоргского, яркой, смелой и самобытной по музыкальным формам, соответствующим основным стремлениям Мусоргского — показать народ как могучую, хотя еще угнетаемую и страдающую силу, показать со всей правдивостью и психологической глубиной героев исторической драмы, разыгрывавшейся в один из переломных моментов прошлого России. Мысль о судьбах народа, былых и настоящих, определила также замысел и содержание второй народной музыкальной драмы Мусоргского — «Хованщина», над которой композитор работал в течение всех 70-х годов, до своей смерти (1881). Именно тогда, когда Мусоргский приступал к сочинению «Хованщины», он выразил (в переписке с Репиным) свою страстную мечту — «народ сделать», сделать таким, каким он представлялся композитору, «цельный, большой, неподкрашенный и без сусального».2
Музыкальные драмы (или даже трагедии) Мусоргского были знаменательными явлениями эпохи, когда дума о народе, о его освобождении проникала собой всю передовую литературу и публицистику, поднимала на борьбу немалую часть интеллигенции. В журнальной полемике, возбужденной творчеством Мусоргского, поставлены были вопросы о задачах искусства, об отношении искусства к народу. «Московские ведомости» недовольны были тем, что в «Борисе Годунове» «нам показывают бедствия и страдания народа, пред громадностью которых мельчают и исчезают отдельные исторические фигуры с их судьбой и характерами». Газета Каткова констатировала «вторжение» в музыку «гражданского плача», «столь обыкновенного в русской литературе». Выступлению «Московских ведомостей» был дан отпор в «Отечественных записках» Михайловским. Весною 1874 года в одном из своих наиболее содержательных обзоров «Литературные и журнальные заметки» (кстати, посвященном в основном выяснению роли разночинца в русской литературе) Михайловский писал: «... музыканты наши до сих пор так много получали от народа, он дал им столько чудных мотивов, что пора бы уж и расплатиться с ним... Пора, наконец, вывести его в опере не только в стереотипной форме: „воины, девы, народ“. Г. Мусоргский сделал этот шаг... Честь и слава г. Мусоргскому...».3
Мусоргский работал не только в области музыкальной трагедии, но и бытовой комической оперы. Два его крупных замысла в этой сфере не были завершены. Оба они связаны с именем Гоголя. В конце 60-х годов Мусоргский создавал по комедии Гоголя «Женитьбу». В 70-х годах композитор писал «Сорочинскую ярмарку». Великого музыкального реалиста особенно влекло к основоположнику и главе реалистической «натуральной школы». В 1872 году Мусоргский писал Стасову с гордостью о таких колоссах русской литературы и музыки, как «Глинка и Даргомыжский, Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Гоголь и опять-таки Гоголь», которые «вели свои художественные армии к завоеванию хороших стран».4
Созданиями Пушкина, Гоголя, Островского, Лермонтова, наконец Мея и других вдохновлялось оперное творчество видных композиторов эпохи.
- 117 -
П. И. Чайковский.
Фотография К. А. Шапиро. 1880-е годы.В 1873 году выступил с первой из своих опер Н. А. Римский-Корсаков — это была «Псковитянка» (по драме поэта Л. А. Мея). Опера была задумана в 1868 году, и работа над нею велась в течение четырех лет; впоследствии композитор еще дважды перерабатывал свое первое оперное детище. «Псковитянка» явилась одним из особенно характерных образцов оперного творчества кучкистов и по музыкальному языку, и по содержанию. Она ставила на материале сложной и драматичной исторической эпохи проблемы народа и государства, показывала народ как действенную силу исторического процесса. Оттолкнув, подобно «Борису Годунову», ретроградную публику и критику, «Псковитянка» — опять-таки подобно тому же «Борису» — привлекла симпатии прогрессивных элементов.
- 118 -
В автобиографической книге «Летопись моей музыкальной жизни» Римский-Корсаков особо отмечает, что «элемент псковской вольницы» по сердцу пришелся студенчеству.
Еще во время первой переработки «Псковитянки», в середине 70-х годов, Римского-Корсакова всё сильнее стала увлекать мысль о сочинении оперы на сюжет гоголевской «Майской ночи». «Я с детства своего обожал „Вечера на хуторе“ и „Майская ночь“ нравилась мне чуть ли не преимущественно перед всеми повестями этого цикла», — писал впоследствии Римский-Корсаков.1 Основная работа над «Майской ночью» была выполнена в 1878 году, в 1879 году уже вышло из печати либретто этой «волшебно-комической» оперы «из повести Гоголя», оперы, положившей начало всему большому сказочно-фантастическому циклу музыкально-драматургических произведений композитора. В первые дни 1880 года «Майская ночь» была дана в Мариинском театре.2 Непосредственно за «Майской ночью» в 1880—1881 годах Римским-Корсаковым была создана по пьесе Островского «весенняя сказка» — «Снегурочка» — этот, по проникновенной характеристике Асафьева, нежный цвет русской оперы.3 Уже в раннем оперном творчестве Римского-Корсакова определились некоторые важнейшие его черты как оперного композитора — глубокая народность, искренность чувств и правда характеров, гуманистическая направленность, оптимистичность, богатство музыкальных мыслей и их исключительно яркое, красочное оформление.
На протяжении 70-х и 80-х годов создавалась единственная опера А. П. Бородина «Князь Игорь», замысел которой относится к 1869 году. Заветной мечтой Бородина, как он сам писал в 70-х годах, было «написать эпическую русскую оперу». Бородин сознавал близость своих творческих планов к традициям, идущим от глинкинского «Руслана». Он писал оперу «крупными штрихами, ясно, ярко», тяготея к формам «законченным», «круглым», «широким».4 Опера с неповторимой силой и глубиной запечатлела богатырский образ русского народа, отстаивающего независимость и свободу Родины. Проникнутая духом русской народной песенности, она в то же время гениально воплотила музыкальную стихию Востока. Внезапная смерть А. П. Бородина в 1887 году оборвала его работу над «Князем Игорем», который, однако, был завершен Римским-Корсаковым и Глазуновым и в 1890 году появился на сцене.
Крупный вклад в развитие русской оперы был внесен также композиторами, стоявшими вне «могучей кучки».
В первой половине 70-х годов была написана и поставлена опера Антона Рубинштейна «Демон» (либретто П. А. Висковатого по поэме Лермонтова), ставшая навсегда одним из любимых произведений русского лирического оперного репертуара. Рубинштейн создал и другую «лермонтовскую» оперу — «Купец Калашников», впервые поставленную в 1880 году, но снятую тогда (как и при повторной попытке ее постановки в 1889 году) по требованию властей.
Громадное значение имело и имеет оперное творчество П. И. Чайковского. Уже отмечалось при характеристике музыкальной культуры 60-х
- 119 -
годов, что Чайковский вырос из той же эпохи, которая породила и «могучую кучку», и что при тех или иных разногласиях Чайковский сходился с «кучкой» в ряде очень существенных черт своего мировоззрения и творчества. Чайковский был подлинно народным композитором, непримиримым противником «бесцельной игры в звуки», поборником высокого общественно-культурного призвания музыкальных деятелей, сторонником идейности в искусстве, беспредельно правдивым и искренним художником-реалистом. Оперному творчеству Чайковский отдал значительную долю своих сил: им было создано одиннадцать опер (две из них — «Кузнец Вакула» и «Черевички» — являются различными вариантами одного в основе своей произведения, написанного на либретто Я. П. Полонского по «Ночи перед Рождеством» Гоголя). Литературными источниками для опер Чайковского, кроме названного творения Гоголя, послужили произведения Островского («Воевода»), де-ла-Мот-Фуке — Жуковского («Ундина»), Лажечникова («Опричник»), Пушкина («Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама»), Шиллера — Жуковского («Орлеанская дева»), Шпажинского («Чародейка»), Герца («Иоланта»). Чайковский высоко ценил оперу как средство «сообщаться с массами публики», сделать музыку достоянием «всего народа».1 Тонкий психолог, чуткий знаток человеческой души, нежный и страстный лирик, тяготевший в то же время к изображению глубоких и сильных драматических положений, Чайковский, особенно в свои наиболее зрелые годы, искал таких сюжетов, которые способны были бы задеть его за живое, «согреть» его, в которых действовали бы «настоящие живые люди», где проявилось бы «живое, теплое» чувство.2 Реалистический лирико-драматический стиль Чайковского с наибольшей силой сказался в двух его гениальных «пушкинских» операх — «Евгений Онегин» (сочинена в 1877—1878 годах, впервые исполнена в 1879 году, на большой сцене — в 1881 году) и «Пиковая дама» (сочинена и впервые поставлена в 1890 году).
Не только в историю оперы, но и в развитие русского и мирового симфонизма в России были вписаны блистательные страницы в 70-е и 80-е годы.
Исключительно велико значение лирико-драматического и философского симфонизма Чайковского. Из всех композиторов эпохи Чайковский работал в области симфонической музыки наиболее интенсивно. Во второй половине 60-х годов Чайковский создал свою первую симфонию. В 70-х годах появились следующие три его симфонии, в 80-е годы — пятая симфония и симфония «Манфред», в 1893 году, накануне смерти композитора, — шестая («Патетическая») симфония. Параллельно Чайковский создал ряд симфонических поэм и увертюр — «Ромео и Джульетта», «Буря», «Гамлет» (по Шекспиру), «Франческа да Римини» (по Данте), «Воевода» (баллада по Мицкевичу — Пушкину), а также четыре сюиты и другие симфонические произведения.3 Многие из симфонических сочинений Чайковского принадлежат к высшим достижениям музыкальной культуры. Это место им обеспечено идейной глубиной и эмоциональной содержательностью, стройностью формы, неиссякаемым мелодическим богатством, совершенством инструментовки. Замечательным свойством симфонизма Чайковского
- 120 -
является сочетание высокой серьезности, философского пафоса с крайней доходчивостью, доступностью самым широким массам слушателей. Благодаря этому симфонические произведения Чайковского сравнительно быстро завоевали популярность, что сыграло важную роль в деле приобщения широких кругов общества к симфонической культуре.
Сочинения Чайковского проникнуты трагическими нотами; это особенно относится к произведениям второй половины его творческой жизни, примерно с конца 70-х годов. Трагизм, продиктованный скорбью о судьбе человеческой личности в современном композитору мире, давал не раз повод к оценке мироощущения композитора как пессимистического. Однако творчество Чайковского отнюдь не отличалось пассивностью, примирением со злом. Оно пропитано мотивами борьбы, неустанно зовет к преодолению препятствий, стоящих на пути человеческого счастья. А. В. Луначарский в статье о Чехове, проводя параллель между Чайковским и Чеховым,1 отмечал с полным основанием, что в музыке Чайковского «есть очень много прославления жизни», хотя прославляет он жизнь (не всегда, но часто — добавили бы мы) через «какой-то грустный флер».
Творчество Чайковского представляло не единственное направление, по которому развивалась симфоническая музыка в России. Еще в 60-е годы формировался лирико-эпический симфонизм А. П. Бородина. В 1869—1876 годах Бородин написал вторую симфонию, известную под названием «Богатырской» (Мусоргский называл ее еще «героической славянской симфонией»). Симфония является родной сестрой оперы «Князь Игорь». Она проникнута тем же народно-патриотическим духом, так же претворяет в прекрасной музыкальной форме, яркой и величественной, народнопоэтические образы. Бородин приступил в 1886—1887 годах к сочинению третьей симфонии, но не окончил ее.
Рядом с творчеством Бородина развивалось симфоническое творчество Н. А. Римского-Корсакова, светлое, живописное, опиравшееся на народную музыку русской и других славянских и неславянских наций. Две симфонии Римского-Корсакова появились еще в 60-е годы. В 1873 году была написана, а в 1884 году значительно переработана третья симфония Римского-Корсакова. Представляющая вершину симфонического творчества композитора сюита (по «1001 ночи») «Шехеразада», пленительная по своим темам и их блестящему развитию, по мастерству оркестровки, появилась в 1888 году. За год до этого Римский-Корсаков ошеломил любителей музыки своим «Испанским каприччио», по поводу которого критика удостоила композитора звания первого «инструментатора» в Европе. Как и другие великие современники, Римский-Корсаков в своем симфоническом творчестве проявил себя гуманистом, влюбленным в человека, в природу, в народ, в народную культуру.
Музыкально-общественная деятельность Н. А. Римского-Корсакова в 80-х годах во многом связана с жизнью так называемого Беляевского кружка — довольно большой группы музыкантов, собиравшейся вокруг известного мецената М. П. Беляева в Петербурге. Душою кружка был сам Римский-Корсаков, рядом с которым всё более выдвигались А. К. Лядов и совсем еще юный А. К. Глазунов. Беляевский кружок, взятый в целом (т. е. не только Корсаков, Глазунов, Лядов, но и ряд более второстепенных
- 121 -
деятелей), отразил некоторые сдвиги, которые стали намечаться в русской музыкальной жизни с 80-х годов. С одной стороны, «беляевцы» были преемственно связаны с «могучей кучкой» и так или иначе продолжали ее традиции, причем Римский-Корсаков являлся среди них наиболее верным хранителем этих традиций. Но вместе с тем среди части «беляевцев» (как, надо заметить, вообще среди части композиторов 80-х и 90-х годов) начинает проявляться оскудение боевых общественных интересов, сужение идейно-эстетических задач музыкального искусства, отражавшееся и в изменении удельного веса отдельных музыкальных жанров, в частности в сокращении оперного творчества и особом тяготении к камерной музыке. Впоследствии Римский-Корсаков, сравнивая кружки Балакирева («могучую кучку») и Беляева, писал: «...кружок Балакирева соответствовал периоду бури и натиска в развитии русской музыки, кружок Беляева — периоду спокойного шествия вперед, балакиревский был революционный, беляевский же — прогрессивный».1
При всем том обогащение русской музыкальной культуры продолжалось в 80-х годах. Не считая Чайковского и Римского-Корсакова, Бородина и возвратившегося к музыкальному творчеству Балакирева, Антона Рубинштейна, развивалось творчество Лядова, начиналась и всё шире развертывалась деятельность таких крупнейших русских композиторов, как Глазунов и С. И. Танеев, как А. С. Аренский, С. М. Ляпунов, М. М. Ипполитов-Иванов и другие.
Если учесть, кроме отмеченного выше, широкое развитие в 70—80-х годах вокальной лирики и различных форм камерного инструментального творчества, то нельзя не признать огромных завоеваний русского музыкального мира во всех сферах творчества.
*
Подъем передовой русской культуры, достижения русской науки, литературы, искусства во второй половине XIX века обусловили их всемирное значение и глубокое влияние на культуру других народов. Это всемирное значение русской национальной культуры, как показал В. И. Ленин, было неразрывно связано с мировым значением русского освободительного движения и русской революции. Деятельность лучших представителей русской культуры XIX века создала великие исторические традиции, ставшие неотъемлемым достоянием социалистического периода русской культуры.
СноскиСноски к стр. 7
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиздат, 1953, стр. 418.
2 Там же, стр. 395.
Сноски к стр. 9
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 436.
2 По данным, принимаемым Лениным, в Европейской России было в 1863 году 6. 1 миллиона городского населения, в 1897 году (когда была проведена всероссийская перепись населения) — 12 миллионов.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 527.
Сноски к стр. 10
1 Скалдин. В захолустье и в столице. СПб., 1870, стр. 96.
2 Ленин говорит о периоде примерно с 40-х годов, имея явным образом в виду оценку роли общины и Герценом с Огаревым, и Чернышевским, и народниками 70—80-х годов.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 527.
Сноски к стр. 11
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 90.
2 Там же, т. 1, стр. 280.
3 Ср. там же, т. 2, стр. 481.
4 Н. К. Михайловский, Сочинения, т. IV, СПб., 1897, стб. 452.
Сноски к стр. 12
1 «Отечественные записки», 1880, № 9, отд. 2-й, стр. 12, 31, 37.
2 См. анонимную рецензию (Н. К. Михайловского) на два выпуска «Бытовых очерков» Н. Н. Златовратского: «Отечественные записки», 1878, № 8, отд. 2-й, стр. 224.
3 М. Ольминский. Из прошлого. Изд. 2-е, М., 1922, стр. 53.
Сноски к стр. 13
1 Например, полемизируя с Достоевским по поводу его «пушкинской» речи, Михайловский осенью 1880 года писал, что «водружение» «европейских экономических порядков» в России «происходит уже давно» и «подвинулось весьма далеко» («Отечественные записки», 1880, № 9, отд. 2-й, стр. 132). Еще раньше, в конце 1879 года, в нелегальном органе народовольцев он утверждал, что «ненавистное иго буржуазии... лежит над Россией», хотя «вполне готовая деятельная» буржуазия пока «прячется в складках царской порфиры» (Литература партии «Народная воля». М., 1930, стр. 28).
2 Из неизданного литературного наследства Н. Е. Федосеева. «Литературное наследство», кн. 7—8, 1933, стр. 194.
3 См., например: «Былое», 1918, № 4—5 (10—11), стр. 258.
Сноски к стр. 14
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. II, изд. 2-е, М. — Пгр., 1924, стр. 150.
2 Употребляем выражение Бельтова-Плеханова (К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. СПб., 1895, стр. 120).
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 100—101.
4 Н. К. Михайловский, Сочинения, т. IV, стб. 99.
Сноски к стр. 15
1 Л. Э. Шишко. Общественное движение в шестидесятых и первой половине семидесятых годов. М., 1921, стр. 77.
2 Н. К. Михайловский. Идеализм, идолопоклонство и реализм (1873). Сочинения, т. IV, стб. 69.
3 Эта вредная поэзия Бакунина, которую, как известно, он настойчиво пытался навязать I Интернационалу, неустанно разоблачалась Марксом и Энгельсом.
Сноски к стр. 16
1 Литература партии «Народная воля», стр. 50.
Сноски к стр. 18
1 Между Лавровым и большинством «лавристов» во второй половине и особенно в конце 70-х годов обнаружились довольно значительные расхождения; но мы здесь имеем в виду «лавризм», как он первоначально сложился.
2 См. воззвание Бакунина «Постановка революционного вопроса», относящееся еще к 1869 году (перепечатано в России в 1906 году в издании Балашова); аналогичные мысли развивались в «Государственности и анархии» Бакунина, изданной в 1873 году и перепечатанной тем же издателем.
3 Цитируются работа Лаврова «Народники-пропагандисты» (изданная за границей в 90-х годах и дважды перепечатанная в России) и более ранняя статья «Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма», опубликованная впервые в эмиграции в «Календаре „Народной воли“» (1883).
Сноски к стр. 20
1 П. Н. Ткачев, Избранные сочинения, т. III (1873—1879), М., 1933, стр. 71.
2 Там же, стр. 96.
3 Там же, стр. 266, 268.
Сноски к стр. 21
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 99—102.
2 Литература партии «Народная воля», стр. 28—29, 52—53.
Сноски к стр. 22
1 В этом отделе журнала в разное время появлялись статьи И. М. Сеченова, И. И. Мечникова, В. В. Докучаева, П. А. Костычева, А. С. Фаминцына, Ф. Ф. Эрисмана, И. В. Лучицкого, Н. И. Зибера и других. В самом начале существования «Отечественных записок» Некрасова — Салтыкова-Щедрина в них стал сотрудничать Д. И. Писарев, но преждевременная гибель оборвала его работу.
Сноски к стр. 23
1 Н. В. Шелгунов. Воспоминания. Редакция, вступительная статья и примечания А. А. Шилова, М. — Пгр., 1923, стр. 144.
2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XVI, М., 1937, стр. 441.
3 «Литературное наследство», кн. 13—14, 1934, стр. 432.
Сноски к стр. 24
1 В силу известной исторической случайности за нею упрочилось наименование кружка «чайковцев».
2 Крупный политический процесс «нечаевцев» (на самом деле судились вовсе не одни сторонники Нечаева), происходивший летом 1871 года в Петербурге при открытых дверях, имел немалое значение для движения 70-х годов, так как он привлек внимание очень широких кругов левой интеллигенции к проблемам революционной борьбы. Как известно, на этот процесс большой статьей в «Отечественных записках» откликнулся Салтыков-Щедрин. С воинствующе антиреволюционных позиций материалы нечаевского дела попытался использовать Достоевский в «Бесах».
Сноски к стр. 25
1 Одним из ее представителей являлся Н. В. Чайковский, именем которого сначала окружающая молодежь, а потом и сами участники назвали группу (через полстолетия Чайковский опозорил себя участием в борьбе интервентов против молодой советской власти).
Сноски к стр. 26
1 Добролюбова и Писарева можно было распространять в виде легально изданных томов их «Сочинений». Чернышевский расходился (не считая вырезок из «Современника») преимущественно в зарубежных изданиях. Особенно популярны были среди семидесятников «Что делать?», «Очерки из политической экономии (по Миллю)», «Статьи об общинном владении землею» (сборник, изданный в 1872 году в Женеве при ближайшем участии Петербургской революционной группы).
2 Уничтоженный властями второй том Лассаля ходил по рукам в корректурных оттисках.
3 Издателем «Капитала», как и ряда других книг революционного и прогрессивного значения, был Н. Поляков, за которым, несомненно, стояла группа передовой интеллигенции (Даниельсон, Н. Любавин и др.). Тесные отношения сложились у Полякова с той Петербургской революционной группой, о которой идет речь.
4 Сравнительно редко встречался в обращении перевод «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, изданный малым тиражом в Женеве в 1869 году.
5 Под «рабочим классом», как известно, Флеровский разумел всю массу трудящихся. Книга Флеровского, своею правдивостью, искренностью, обличительным пафосом, раскрытием страшной нищеты народа, привлекшая сочувственное внимание Маркса, вышла в 1869 году. Отпечатанное по инициативе Петербургской революционной группы в 1872 году второе издание было задержано правительством и уничтожено. Выпущенная (фактически той же группой) в 1871 году «Азбука социальных наук» Флеровского, тоже запрещенная и подлежавшая уничтожению, была, однако, с успехом припрятана революционерами и широко разошлась.
Сноски к стр. 29
1 В «Сборнике» были также опубликованы стихи-песни Синегуба, Клеменца и других.
2 Обеспокоенное широким распространением рассказов Наумова и Нефедова, Главное управление по делам печати в начале 1875 года предписало губернаторам изымать из продажи и уничтожать эти рассказы-брошюры (см. циркуляр Главного управления от 15 февраля 1875 года, за № 821).
Сноски к стр. 30
1 «Утес Стеньки Разина» того же Навроцкого (впервые напечатан в «Вестнике Европы» за 1870 год) приобрел исключительную популярность и был положен на музыку А. Г. Рашевской.
2 В перечнях художественных произведений, распространявшихся в начале 70-х годов, фигурируют сочинения Генриха Гейне, романы Шпильгагена, Швейцера («Эмма»; его роман «Люцинда», выпущенный в 1872 году, был уничтожен правительством), «народная повесть» Цшокке «Делатели золота». В 1875 году был запрещен «Клод Ге» Виктора Гюго (еще в издании 1867 года), довольно широко использовавшийся в пропаганде. Однако, пожалуй, наибольшим успехом пользовалась «История крестьянина» Эркмана и Шатриана как в полном переводе, так и в сокращенной революционной переделке, напечатанной в 1873 году в Женеве.
3 По имени А. В. Долгушина, являвшегося в кружке руководящей фигурой.
Сноски к стр. 32
1 «Вперед», двухнедельное обозрение, 1875, № 15, стб. 462.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 259.
Сноски к стр. 33
1 Намек на тургеневский роман «Новь», незадолго до того опубликованный в «Вестнике Европы» [Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XIX, 1939, стр. 91]. Тургенев, находившийся в Париже, сам очень интересовался процессом, просил сообщить ему из России подробности относительно суда. Некрасов прислал в тюрьму подсудимым стихотворение «Смолкли честные, доблестно павшие», написанное за несколько лет до того в связи с Парижской Коммуной и теперь как бы «переадресованное» героям процесса 50-ти. Из других поэтических отзвуков процесса особенно известны стихи Я. П. Полонского «Узница».
Сноски к стр. 34
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 346.
Сноски к стр. 35
1 Рабочее движение в России в XIX веке, т. II, 1861—1884, ч. II, 1875—1884. Сборник документов и материалов, под редакцией А. М. Панкратовой, Госполитиздат, 1950, стр. 104—105.
Сноски к стр. 36
1 Революционная журналистика семидесятых годов. Второе приложение к сборникам «Государственные преступления в России», изд. под редакцией Б. Базилевского (В. Богучарского), Ростов-на-Дону, б. г., стр. 72.
2 Из переписки С. М. Кравчинского. «Красный архив», 1926, т. VI (19), стр. 196.
3 Основателями «Земли и воли» и ее главными деятелями были Марк Натансон (уже в 1877 году снова арестованный), Александр Михайлов, Г. В. Плеханов, А. А. Квятковский, М. Р. Попов, О. В. Аптекман и т. д. Позднее примкнули к «Земле и воле» С. М. Кравчинский, Д. А. Клеменц, Вера Фигнер, Н. А. Морозов и другие.
4 А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. Народоволец Александр Дмитриевич Михайлов. Л., 1925, стр. 107.
Сноски к стр. 38
1 А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер, ук. соч., стр. 102.
2 Архив «Земли и воли» и «Народной воли», М., 1932, стр. 58.
3 Там же, стр. 53.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 442.
Сноски к стр. 39
1 Большое впечатление, в частности, произвела вышедшая в 1877 году в Петербурге книга известного статистика Ю. Янсона «Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах».
Сноски к стр. 40
1 Литература партии «Народная воля», стр. 14.
2 А. Н. Энгельгардт. Из деревни. 11 писем (1872—1882). СПб., 1882, стр. 443.
3 С. Пр<иклонский>. Внутреннее обозрение. «Русская мысль», 1881, кн. V, отд. 2-й, стр. 97.
Сноски к стр. 41
1 Рабочее движение в России в XIX веке, т. II, ч. II, стр. 240—241.
2 В программе даже говорилось, что «Союз» по своим задачам тесно примыкает к социал-демократии, но на деле в конкретном раскрытии своих позиции «Союз» от последней еще значительно отличался.
Сноски к стр. 42
1 Кровавые зверства господствующих сил Турции над мирным болгарским населением и позиция покровительствовавшего Турции английского правительства, как известно, побудили И. С. Тургенева написать (летом 1876 года) страстный стихотворный памфлет «Крокет в Виндзоре». В конце 1876 года Тургенев писал Я. П. Полонскому (активно участвовавшему в движении помощи славянам), что он «очень многое» готов был бы дать «за торжество, за победу Сербии», «сам бы туда поехал», будь он молод. Но в том же письме Тургенева звучали уже и ноты сомнения: «...с чего мы все в такой раж пришли? То, что у нас теперь совершается, — тоже крестовый поход. Вещь огромная, историческая, но всё-таки мои симпатии как сына XIX века направлены не туда, а к гораздо позднейшим явлениям — хоть бы к революции 89 года. — Восторгаться и бить себя в грудь нечего: разумная, действительная свобода ничего у нас от этого не выигрывает, каков бы ни был исход войны» (И. С. Тургенев. Переписка с Я. П. Полонским. «Звенья», сб. VIII, М., 1950, стр. 198—199).
2 Из дневника А. А. Половцева (1877—1878 годы). «Красный архив», 1929, т. II (33), стр. 175.
3 «Литературное наследство», кн. 37—38, 1939, стр. 179.
Сноски к стр. 43
1 Акт мести за поругание чести революционера-землевольца Боголюбова (Емельянова), сидевшего в петербургской тюрьме.
Сноски к стр. 44
1 Описание событий, связанных с делом Засулич, сохранилось в переписке писателя Эртеля, в «Истории моего современника» Короленко. Среди участников событий был также Каронин.
2 Революционная журналистика семидесятых годов, стр. 66—67.
3 Внутреннее обозрение. «Вестник Европы», 1881, № 3, стр. 339. (Подчеркнуто нами, — Ред.).
Сноски к стр. 45
1 «Освобождение», 1903, № 10 (34), стр. 171.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 33.
3 Землевольцы опубликовали документы тверских и черниговских земцев в особом прибавлении к № 4 своего нелегального органа (от 8 марта 1879 года). Им предпослано было введение, написанное одним из редакторов «Земли и воли» Дмитрием Клеменцом. В нем отмечались непоследовательность либералов, а также их трусость и бессилие. Клеменц несколько наивно призывал либеральных земцев «честно перейти на сторону народной массы»: «Только она одна даст вам свободу, если вы избавите ее от своего сословного и имущественного гнета».
Сноски к стр. 46
1 «Отечественные записки», 1879, № 4, отд. 2-й, стр. 231.
2 И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, Л. — М., 1933, стр. 555.
3 Ив. Петрункевич. Памяти В. А. Гольцева. (Странички из личных воспоминаний). Сборник «Памяти Виктора Александровича Гольцева», М., 1910, стр. 109.
4 Следует заметить, что, как и в 60-е годы, в либеральной среде даже конца 70-х годов конституционная идея далеко не встречала еще всеобщего признания; например, противником конституции выступал такой влиятельный представитель либерализма, как К. Д. Кавелин.
5 «Юбилейный земский сборник. 1864—1914». СПб., 1914, стр. 251.
Сноски к стр. 47
1 См., например, мнение Н. И. Кибальчича. «Былое», 1918, № 4—5 (10—11), стр. 297.
Сноски к стр. 48
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIV, 1927, стр. 306.
2 Революционная журналистика семидесятых годов, стр. 282—283.
3 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIV, стр. 307.
4 Там же, стр. 310.
Сноски к стр. 50
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XII, 1924, стр. 282.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 99.
3 Там же, т. 4, стр. 342.
4 Литература партии «Народная воля», стр. 4.
5 Видный военный деятель описываемого времени, участник русско-турецкой войны, уже использованный до своего «диктаторства» и на административных постах (в частности харьковского генерал-губернатора).
6 Литература партии «Народная воля», стр. 71.
Сноски к стр. 52
1 Сергей Муромцев, Статьи и речи, вып. V, М., 1910, стр. 11—38.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 36.
3 Там же.
4 В. Ю. Скалон. По земским вопросам, 1880—1882. СПб., 1905, стр. 77.
5 Заявление Лорис-Меликова от 6 сентября 1880 года опубликовано в «Отечественных записках», № 9 за тот же год.
Сноски к стр. 53
1 Призыв к «смирению», как известно, громко прозвучал в июне 1880 года в нашумевшей речи Ф. М. Достоевского во время «Пушкинского праздника» в Москве. Обстановка этого праздника была связана с переживавшимся общественным подъемом; праздник нельзя по существу не оценивать как проявление этого подъема. Однако Достоевский решился выступить наперекор преобладавшим тогда даже в умеренных кругах настроениям, приглашая к решению «проклятых вопросов» жизни якобы по народной правде, путем смирения, отказа от стремлений к общественным преобразованиям (таков был смысл призыва искать «правду» не вне себя, не «в вещах» и не «за морем»), путем исключительно внутреннего самосовершенствования («собственного труда над собою»). См.: Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в шести томах, т. V, СПб., 1886, стр. 770.
2 Литература партии «Народная воля», стр. 76—77.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 39.
Сноски к стр. 54
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 366.
Сноски к стр. 55
1 Там же, т. 10, стр. 230.
2 Там же. Ленин, несомненно, имел в виду конкретные исследования преимущественно по экономике деревни, изучение крестьянского хозяйства; эта заслуга принадлежала земской статистике, находившейся в большой мере в руках народников (нередко в прошлом активных участников революционного движения).
3 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XX, 1937, стр. 136.
4 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 23, Гослитиздат, М., 1953, стр. 353.
Сноски к стр. 56
1 «Былое», 1907, № 9, стр. 195.
2 Так говорил К. П. Победоносцев на известном заседании, созванном Александром III 8 марта 1881 года для обсуждения проектов Лорис-Меликова. См.: Дневник Е. А. Перетца, государственного секретаря (1880—1883). М. — Л., 1927, стр. 38.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 41.
4 Там же, стр. 42.
Сноски к стр. 58
1 Гр. Л. Н. Толстой. Письмо к СПб. комитету грамотности. «Наше время. Сборник свободной печати», изд. Общества народного права, 1897, стр. 79.
2 Письма Победоносцева к Александру III, т. I. М., 1925, стр. 329.
3 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 660.
Сноски к стр. 59
1 В «Письмах к тетеньке» Щедрин, между прочим, разоблачил общество контрреволюционных «добровольцев» — «Священную дружину», созданную после убийства Александра II по инициативе придворных сфер (с согласия самого царя) и соревновавшуюся с полицией и жандармерией в организации всевозможных провокаций для подрыва освободительного движения. Прямо направленное против «Священной дружины» третье «Письмо к тетеньке» было вырезано цензурой из сентябрьской книги «Отечественных записок» за 1881 год, но в конце того же года напечатано в зарубежном «Общем деле», а в самой России неоднократно воспроизводилось в начале 80-х годов в гекто- и литографированном виде.
2 Предлогом для их ареста послужил факт сотрудничества в «Деле» ряда видных эмигрантов (Льва Тихомирова, Сергея Кравчинского и др.).
3 «Правительственный вестник», 1884, № 87.
4 Ник. Михайловский. Материалы для литературного портрета М. Е. Салтыкова. «Русская мысль», 1890, кн. IV, стр. 165. Настроения Щедрина, вызванные закрытием «Отечественных записок», ярко отразились во многих его письмах того времени [Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XX, 1937].
5 Передовая «Реакционный террор». «Общее дело», Женева, 1884, № 61, стр. 1.
Сноски к стр. 60
1 Вас. Гиппиус. Салтыков и русская нелегальная печать в 1884 г. «Литературное наследство», кн. 13—14, 1934, стр. 538.
2 В 1885 году решением совещания «четырех» была уничтожена даже «История новейшей русской литературы» С. А. Венгерова. Нагло курьезная мотивировка гласила, что книга лишена «малейших достоинств в научном отношении» и принадлежит «к разряду весьма вредных по своим тенденциям памфлетов» (Материалы по новейшей истории русской цензуры. «Освобождение», книга I, Штуттгарт, 1903, стр. 200).
3 «Московские ведомости», 1885, № 80.
4 Там же, 1881, № 114.
5 Там же, 1884, № 278.
Сноски к стр. 61
1 В. Г. Короленко, Полное собрание сочинений, посмертное издание, Письма, т. I, 1879—1887, Госиздат Украины, 1923, стр. 180—181.
2 Е. М. Феоктистов. Воспоминания. За кулисами политики и литературы, 1848—1896. Л., 1929, стр. 245, 248.
Сноски к стр. 62
1 К. Леонтьев. Восток, Россия и славянство. Сборник статей, т. II, М., 1886, стр. 152. В год открытия памятника Пушкину в Москве Леонтьев серьезно предлагал воздвигнуть «тут же близко от Пушкина» памятник Каткову.
2 Цитируется из «Гражданина» по: К. К. Арсеньев. За четверть века. Пгр., 1915, стр. 495.
3 К. Леонтьев. Восток, Россия и славянство, т. II, стр. 86.
4 «Московский сборник», изд. К. П. Победоносцева, 1896.
Сноски к стр. 63
1 И. С. Аксаков, Сочинения, т. V, М., 1887, стр. 621—622. Под требованиями «европейского» либерализма Аксаков здесь разумеет стремления русских либералов.
2 И. С. Аксаков, Сочинения, т. V, стр. 141.
3 Там же, стр. 152.
4 Там же, стр. 569
5 П. П. Червинский, в дальнейшем видный деятель земской статистики.
Сноски к стр. 64
1 Н. К. Михайловский, Сочинения, т. III, 1897, стб. 701, 707.
2 И. Кольцов (псевдоним Л. Тихомирова). Шатанье политической мысли. «Дело», 1883, № 3, отд. 2-й, стр. 2.
3 Н. К. Михайловский, Сочинения, т. V, 1897, стб. 860.
4 Курьезно, что Юзов даже Михайловского обвинял в стремлении «убедить русскую интеллигенцию в „исторической необходимости“ капитализма в России» и называл его «одним из вреднейших марксистов» [И. Каблиц (И. Юзов). Основы народничества, ч. 1. 2-е изд., СПб., 1888, стр. 54, 361].
5 Передовая «Недели», 1882, № 35, 29 августа, стб. 1105.
Сноски к стр. 65
1 Н. К. Михайловский, Полное собрание сочинений, т. VII, СПб., 1909, стб. 632.
2 «Неделя», 1882, № 41, 10 октября, стб. 1300.
3 См. особенно передовую (Якова Абрамова) «Мрачные и светлые явления». «Неделя», 1888, № 29, 17 июля.
4 Цитируется по «Дневнику писателя» Михайловского за ноябрь 1886 года (в «Северном вестнике»), Полное собрание сочинений, т. VI, изд. 2-е, 1909, стр. 469.
Сноски к стр. 66
1 «Неделя», 1888, № 15, стб. 483—484.
2 Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. III, изд. 3-е, стб. 565.
3 Н. Михайловский. Литература и жизнь. «Русская мысль», 1891, кн. VII, стр. 196.
4 Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. III, стб. 637.
5 Там же, стб. 1045—1046.
Сноски к стр. 67
1 Переход Толстого на позиции патриархального крестьянства приходится на период второй революционной ситуации (рубеж 70-х и 80-х годов) и объективно в той или иной степени связан с нею. Различными составными элементами своего учения Толстой примыкал к некоторым предшествующим течениям или теченьицам русской общественной мысли. Н. В. Шелгунов в августовском 1890 года очерке русской жизни указывал: «...два главные основные догмата учения не принадлежат Толстому. Непротивление злу было провозглашено больше двадцати лет назад (на самом деле лет за 17—18, — Ред.) Маликовым, и в то же время раздался голос, призывающий интеллигенцию отдать свой долг народу» (Сочинения, т. III, стб. 979). С А. К. Маликовым, основателем маленькой интеллигентской секты «богочеловеков», привлекшей к себе в середине 70-х годов ряд участников народнического революционного движения, Толстой был лично знаком. Толстой был особенно близок с В. И. Алексеевым, одним из сподвижников Маликова. Заметим также, что имеющий ближайшее отношение к толстовскому учению вопрос о сравнительном значении личного нравственного самоусовершенствования и общественных учреждений и условий довольно оживленно дебатировался в русской печати (отчасти не без влияния споров вокруг «пушкинской» речи Достоевского) в 1880—1881 годах. Тогда же в прессе раздаются призывы к опрощению, к жизни «своим трудом». Напомним, наконец, о «предтолстовских» типах в «Устоях» Н. Н. Златовратского («Отечественные записки», 1880, № 11. Мы имеем в виду размышления и речи Пугаева).
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.
Сноски к стр. 68
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.
2 Письма Л. Н. Толстого 1848—1910 гг., собранные и редактированные П. А. Сергеенко. М., 1910, стр. 279. (Письмо от 27 апреля 1903 года).
3 Письмо 1882—1883 гг. к М. А. Энгельгардту, печатавшееся под названием «О непротивлении злу злом». Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 63, М. — Л., 1934, стр. 112—124.
Сноски к стр. 69
1 Там же, стр. 421. (Письмо к А. Г. Штанге).
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 32.
3 П. Л. Лавров. Социальная революция и задачи нравственности. Старые вопросы. Пгр., 1921.
Сноски к стр. 70
1 В июле 1886 г. Н. В. Шелгунов писал С. Н. Кривенко: «...общество ждет, как манны небесной, живого слова. Посмотрите, как читают Михайловского, хоть бы о Толстом». («Вестник Европы», 1911, кн. 4, стр. 229).
2 Н. К. Михайловский, Полное собрание сочинений, т. VI, стб. 398, 406.
3 «Литературное наследство», кн. 7—8, 1933, стр. 207.
4 Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. III, стб. 516—517.
5 Там же, стб. 774.
Сноски к стр. 71
1 Там же, стб. 501—520.
2 В. Г. Короленко, Полное собрание сочинений, посмертное издание, т. XXIV, Госиздат Украины, 1927, стр. 130—131.
3 Мы пользуемся для освещения либеральных позиций выступлением «Вестника Европы» в кн. 4-й за 1881 год («Внутреннее обозрение», программного значения, — стр. 774, 775; автором был К. К. Арсеньев).
4 Там же, стр. 778, 782.
Сноски к стр. 72
1 Арс. Введенский. Литературные мечтания и действительность. «Вестник Европы», 1882, кн. 2, стр. 732.
2 «Вестник Европы», 1882, кн. 4, стр. 805, 807.
3 К. Арсеньев. Пятидесятилетие «Вестника Европы» (1866—1915). «Вестник Европы», 1915, кн. 12, стр. V.
4 «Внутреннее обозрение» книги 2-й «Социал-демократа» (август 1890 года): Г. В. Плеханов, Сочинения, т. III, 1923, стр. 242.
5 И. Добровольский. Совместимо ли самодержавие с местным самоуправлением? (По поводу одного «Внутреннего обозрения»). «Свободная Россия», Женева, 1889, № 1, февраль, стр. 31.
Сноски к стр. 73
1 Редакция и сотрудники «Русской мысли». «Былое», 1917, № 4 (26), стр. 101.
2 Здесь появились его «Сон Макара» (1885), «Лес шумит» (1886), «Прохор и студенты» (1887), «Павловские очерки» (1890) и т. д.
3 Вл. Короленко. Несколько слов памяти В. А. Гольцева. Сборник «Памяти Виктора Александровича Гольцева», стр. 116.
Сноски к стр. 74
1 Письма Н. В. Шелгунова к С. Н. Кривенко. «Вестник Европы», 1911, кн. 4, стр. 228.
2 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XV, М., 1950, стр. 739.
Сноски к стр. 75
1 В воспоминаниях тогдашнего близкого знакомого Чернышевского А. А. Токарского утверждается, что перед смертью Чернышевский мечтал «переехать на жительство в Москву, взять в свои руки „Русскую мысль“». («Русская мысль», 1909, кн. II, стр. 53).
2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XX, 1937, стр. 146.
Сноски к стр. 76
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XIX, 1927, стр. 240.
2 Из неизданной переписки Лаврова и Елисеева. «Литературное наследство», кн. 19—21, 1935, стр. 267.
Сноски к стр. 77
1 См. отчет о процессе 17-ти. «Былое», 1906, № 12.
2 «Вестник „Народной воли“», 1883, № 1, стр. 135.
3 Литература партии «Народная воля», стр. 205.
4 Там же, стр. 226.
Сноски к стр. 78
1 Сергей Дегаев, привлеченный к руководящей работе в «Народной воле», стал после ареста злостным предателем-провокатором и нанес страшный удар организации партии и ее престижу.
2 Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. Сборник, составленный А. И. Ульяновой-Елизаровой. М. — Л., 1927, стр. 375.
Сноски к стр. 80
1 Журнал печатался за границей, хотя группа, руководившая его изданием, находилась в России.
2 Программа «Свободной России» (1889, № 1, февраль, стр. 1—2) провозглашала: «Теперь мы все либералы, теперь мы все революционеры, и никто не имеет права отказываться от долга и чести быть либералом и революционером».
Сноски к стр. 82
1 В. И. Засулич, Сборник статей, т. II, СПб., 1907, стр. 43.
2 См. следующий раздел настоящего обзора.
3 Это был, судя по всем данным, Юлий Бунин, брат известного писателя, литератор и педагогический деятель, игравший впоследствии заметную роль в московских литературных кружках.
4 В числе авторов сборника находился В. Г. Короленко.
Сноски к стр. 84
1 Владимир Короленко. Дневник (1881—1893 гг.), т. I. Госиздат Украины, 1925, стр. 172.
Сноски к стр. 85
1 Виктор Пругавин. Русская земельная община в трудах ее местных исследователей. М., 1888.
2 В. В. Наши направления. СПб., 1893, стр. 143.
3 Там же, стр. 104—105.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 320.
5 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. II, стр. 255.
Сноски к стр. 86
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 246.
2 В брошюре «Насущный вопрос», изданной «партией Народного права» (автор — литературный критик А. И. Богданович), например, говорилось: «Пора стряхнуть с себя гнет обветшалых идей народничества, культурничества, проповеди малых дел. Пора также отрешиться от благоговейного преклонения пред мифическим „богоносительным“ народом, с его какой-то никому неведомой особливой правдой, якобы отличной от общечеловеческой. Пора стать, наконец, на почву действительности. Ведь это абсурд — ожидать, что разные архаические формы народной жизни, навеявшие нам это мифическое представление о народе, скорее процветут под охраною чиновников самодержавия, чем под щитом свободных учреждений». Цитируется по заграничной перепечатке брошюры: Насущный вопрос. Лондон, 1895, стр. 30 (вып. 17-й изданий «Фонда вольной русской прессы»).
3 Г. А. Бялый. В. Г. Короленко. М — Л., 1949, стр. 249. Ср.: Н. К. Михайловский, Полное собрание сочинений, т. VII, 1909, стб. 541.
4 В октябрьской книге «Русского богатства» за 1893 год появилась даже обстоятельная статья Михайловского, специально посвященная полемике с В. В.
Сноски к стр. 87
1 См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 481—482.
2 Н. К. Михайловский, Полное собрание сочинений, т. VII, стб. 668.
3 Там же, стб. 326—327.
4 Поскольку упоминалось о «Русском богатстве» и о той или иной степени солидарности между Михайловским и Короленко, следует здесь оговорить, что по вопросу об отношении к русскому марксизму Короленко внутри редакции этого журнала занимал во многих отношениях особую позицию. Во второй половине 90-х годов Короленко прямо указывал, что он составляет (вместе с Н. Ф. Анненским) «некоторый оттенок» в редакции; Короленко тогда оценивал русский марксизм как явление «живое и интересное», заставляющее «многое пересмотреть заново» (Г. А. Бялый. В. Г. Короленко, стр. 250).
5 В течение 80-х годов не прекращалось и то своеобразно «массовое» движение интеллигентской молодежи, каким являлись так называемые студенческие беспорядки. На фоне упадка открытых проявлений общественного движения в целом студенческие волнения привлекали даже иногда большее внимание, чем в 70-х годах. Интересной чертой студенческих волнений являлось быстрое распространение их из одной местности на другие. Таким образом, приобрели общерусский характер известные волнения 1887 года, начавшиеся в Москве. Широкий размах получило движение 1890 года. Студенческие волнения были формой борьбы с реакцией в области культурной и прежде всего академической жизни, а в известной мере и в общеполитической сфере.
Сноски к стр. 88
1 Н. С. Юферев. Крестьянское движение в России в конце 70-х и в 80-е годы XIX века. «Ученые записки Свердловского Государственного педагогического института», вып. II, 1939, стр. 115—116.
2 Крестьянское движение в конце XIX века. «Красный архив», 1938, № 4—5 (89—90), стр. 215—222.
3 Рабочее движение в России в XIX веке, т. II, ч. II, стр. 56; т. III, ч. I, 1952, стр. 72, 79.
Сноски к стр. 89
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. II, стр. 391.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 25.
Сноски к стр. 90
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. IV, 1923, стр. 118.
2 Там же, т. III, 1923, стр. 383.
3 Глеб Успенский, Материалы и исследования, т. I. М. — Л., 1938, стр. 367.
Сноски к стр. 91
1 «Дела и дни», кн. 2, Пгр., 1921, стр. 91.
2 Не в том смысл нового, что в России о марксизме не знали: напротив, произведения Маркса и Энгельса известны были давно (первое с ними знакомство в России восходит еще к 40-м годам). Но до 1883 года не было в стране направления или группы, которые бы сколько-нибудь последовательно руководились учением Маркса — Энгельса и успешно стремились приложить его к условиям русской действительности. Фактов распространения и издания марксистской литературы в России до 80-х годов мы уже касались в VIII томе настоящего издания и в первой части настоящего обзора. Для характеристики взглядов Маркса и Энгельса на положение России и задачи русского революционного движения, а вместе с тем для освещения отношения к основоположникам научного социализма со стороны русской общественности большое значение имеет двукратно (1947 и 1951) изданная ИМЭЛ «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями».
Сноски к стр. 92
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 243.
2 Плеханову как теоретику искусства, критику и литературоведу посвящена специальная глава в X томе настоящего издания.
3 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. II, стр. 103.
4 Там же, стр. 37.
5 Там же, т. IX, 1925, стр. 22.
Сноски к стр. 94
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. IV, стр. 54.
2 Там же, т. II, стр. 270.
3 Там же, стр. 86.
Сноски к стр. 95
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. II, стр. 361.
2 Там же, стр. 350.
3 Там же, т. IX, стр. 344, 345.
4 Там же, т. II, стр. 362.
5 Там же, т. III, стр. 29.
6 Там же, стр. 207.
7 Там же, т. II, стр. 87; т. III, стр. 411.
Сноски к стр. 96
1 Вторая программа группы «Освобождения труда» (Г. В. Плеханов, Сочинения, т. II, стр. 402).
2 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. III, стр. 382.
3 Там же, стр. 119.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 255.
5 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 483.
Сноски к стр. 98
1 «Литературное наследство», кн. 7—8, 1933, стр. 189.
Сноски к стр. 99
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 122.
2 С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. СПб., 1901, стр. 483.
Сноски к стр. 100
1 С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, стр. 640.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 435.
3 С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, стр. 619.
4 Владимир Стасов. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки, СПб., 1899, стр. 169—187.
Сноски к стр. 101
1 Закрытые в 1875 году Петербургские высшие женские курсы были вновь открыты в преобразованном виде в 1878 году. С этого времени во главе их стал проф. К. Н. Бестужев-Рюмин и в обществе они получили наименование «Бестужевских».
Сноски к стр. 102
1 С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, стр. 501.
Сноски к стр. 108
1 Д. Сарабьянов. Положительный образ в русской живописи второй половины XIX века. «Искусство», 1953, № 5. Подробнее тема трактована в только что вышедшей книге того же автора: Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века. М., 1955.
2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII, 1937, стр. 272—280.
3 В. В. Стасов. Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним. «Северный вестник», 1888, № 10.
Сноски к стр. 109
1 В 80-е годы, в пору борьбы определенных кругов против «наследия» 60—70-х годов, Репин писал: «Нет, я человек 60-х годов, отсталый человек, для меня еще не умерли идеалы Гоголя, Белинского, Тургенева, Толстого и других идеалистов». (И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям. М., 1952, стр. 53).
2 Так писал, например, о Репине Н. Минский, ушедший с 80—90-х годов в мистику и символизм, но в свое время принадлежавший к представителям левой гражданской поэзии и вдохновивший отчасти Репина на создание картины «Отказ от исповеди» своей поэтической драматической сценой «Последняя исповедь», опубликованной в подпольном органе «Народная воля» в 1879 году. (И. С. Зильберштейн. Работа Репина над картиной «Отказ от исповеди перед казнью». Сборник докладов и материалов «И. Е. Репин», М., 1952, стр. 47—90).
Сноски к стр. 110
1 Как известно, Репин писал с Гаршина царевича в картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». В феврале 1885 года в частном письме, давая восторженную оценку этой картине, Гаршин писал: «Я рад, что живу, когда живет Илья. Ефимович Репин». (В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений, т. III, М. — Л., 1934, стр. 353).
Сноски к стр. 111
1 См. т. VIII, настоящего издания.
2 Н. К. Михайловский, Полное собрание сочинений, т. VIII, 1914, стб. 882.
3 С Глеба Успенского Ярошенко, согласно некоторым данным, писал «Заключенного». Известен горячий отклик Успенского на «Курсистку» Ярошенко («Отечественные записки», 1883, № 2).
Сноски к стр. 112
1 В. Г. Короленко, Полное собрание сочинений, т. V, СПб., 1914, стр. 324, 328 (статья «Две картины. Размышления литератора»).
2 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. I, СПб., 1894, отд. 2-й, стб. 485.
3 Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова, т. II, 1879—1883. М., 1951, стр. 4.
4 «Тургенев и его время». Первый сборник под редакцией Н. Л. Бродского, М. — Пгр., 1923, стр. 308.
5 Марк Матвеевич Антокольский, его жизнь, творения, письма и статьи, под ред. В. В. Стасова, СПб., М., 1905. стр. 712, 715.
Сноски к стр. 113
1 Там же, стр. 487, 488.
2 М. Антокольский. Заметки об искусстве «Вестник Европы», 1897, кн. 2, стр. 563.
Сноски к стр. 114
1 «Русская музыкальная газета», 1906, № 51—52, стб. 1222.
Сноски к стр. 116
1 Б. В. Асафьев, Избранные труды, т. III, М., 1954, стр. 22.
2 М. П. Мусоргский. Письма и документы. Собрал и приготовил к печати А. Н. Римский-Корсаков, М. — Л., 1932, стр. 23.
3 Н. К. Михайловский, Сочинения, т. II, 1896, стб. 613.
4 М. П. Мусоргский. Письма и документы, стр. 233
Сноски к стр. 118
1 Н. А. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955, стр. 109.
2 В 1894 году Римский-Корсаков написал свою вторую «гоголевскую» оперу — «Ночь перед Рождеством».
3 Игорь Глебов. Симфонические этюды. П., 1922, стр. 6. В начале 1882 года «Снегурочка» была поставлена в Мариинском театре.
4 Письма А. П. Бородина. Редакция, комментарии и примечания С. Дианина вып. II (1872—1877), М., 1936, стр. 108—109.
Сноски к стр. 119
1 П. И. Чайковский. Переписка с Н. Ф. фон Мекк, т. II. М. — Л., 1936, стр. 381.
2 П. И. Чайковский, С. И. Танеев. Письма. Составитель и редактор В. А. Жданов. М., 1951, стр. 24, 169.
3 Своеобразный раздел симфонического творчества Чайковского составляет музыка его гениальных балетов — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».
Сноски к стр. 120
1 Отметим, что Чайковский говорил о себе как о «пламенном почитателе» Чехова. С своей стороны Чехов писал, что он отдает Чайковскому второе место в современном русском искусстве — после Льва Толстого. Чайковскому Чехов посвятил сборник своих рассказов «Хмурые люди» (1890). См.: И. Эйгес. Музыка в жизни и творчестве Чехова. М., 1953.
Сноски к стр. 121
1 Н. А. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни, стр. 163.