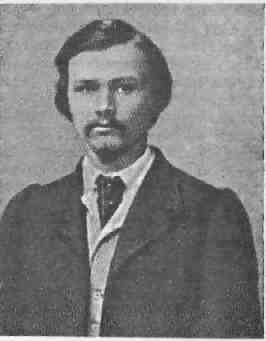- 562 -
Н. Успенский
1
Николай Васильевич Успенский родился в мае 1837 года в селе Ступине Ефремовского уезда Тульской губернии. Детство писателя протекало в бедной, многодетной семье сельского священника.
Уже в юности Н. Успенский столкнулся с нуждой; он видел, что вся «верхушка» деревни — кулаки, попы, лавочники — существует за счет эксплуатации и ограбления мужика. В рассказе «При своем деле» Н. Успенский изобразил сына деревенского причетника Прохора Бирюкова, который с детских лет проникся отвращением к «духовному званию». Он не хочет быть священником, живущим за счет крестьян. Подобно своему герою, Н. Успенский стремился к сближению с мужиками и, в отличие от своих братьев, которые, несмотря на ограниченность средств родителей, хотели казаться «баричами», работал в поле, как крестьянин, и охотно проводил с крестьянами свой досуг.
Годы пребывания будущего писателя в Тульской духовной семинарии (1848—1856) способствовали углублению его конфликта со средой, из которой он вышел.
Взяточничество, пьянство, низкопоклонство, ханжество учителей, распущенность, дикие нравы, насаждавшиеся в среде бурсаков, никчемность схоластической семинарской науки оттолкнули его от семинарии. Унизительная система физических наказаний, особенно широко применявшихся в отношении бедных бурсаков, не могущих «задобрить» учителей, озлобляла молодого человека. Дойдя до высшего отделения семинарии, он совсем забросил ученье. Наблюдение социальных контрастов города, жизни состоятельных и знатных горожан, с одной стороны, и быта голодающего рабочего люда Тулы, с другой, пробуждало в бурсаке, который «глодал сухую корку хлеба»,1 ненависть к сытым и богатым. Стихийный протест его выражался подчас в злом озорстве, казавшемся окружающим бессмысленным. Отвращение, которое питал Н. Успенский к семинарской науке и которое побудило его уйти из высшего отделения Тульской духовной семинарии, вовсе не означало отсутствия желания учиться вообще.
Н. Успенский, как и некоторые другие семинаристы, делал попытки пополнить свое образование за счет чтения. Очевидно, в семинарии он познакомился с современной литературой, стал читать журналы. В рассказе Н. Успенского «Книжный магазин» содержится характерный эпизод. Узнав о том, что в городе открылся книжный магазин, инспектор семинарии,
- 563 -
с разрешения хозяина, располагается в задней комнате магазина, чтобы «вести наблюдение» за настроениями семинаристов. В магазин входят, «стуча сапогами», семинаристы. Один спрашивает «Очерки бурсы» Помяловского, другой — «Что делать?» Чернышевского. Эпизод, описанный здесь Н. Успенским, относится, несомненно, к более позднему времени, однако и во время пребывания Н. Успенского в духовной семинарии учащиеся нередко много читали, интересовались современной литературой, критикой и даже политикой. Не случайно в 50—60-х годах многие общественные деятели-демократы, писатели, критики и ученые были выходцами из семинарий. В семинарии Н. Успенский сделал первые попытки писать, опыты его носили характер очерков — жанра, наиболее распространенного в передовой литературе середины 40-х годов. В этих произведениях изображался бурсацкий быт.
Н. В. Успенский.
Фотография (деталь). 1860-е годы.Н. Успенский мечтал о Петербурге как о центре культуры и просвещения. Об этом он писал в своем дневнике. Позже дневниковая запись повторилась в рассказе «Брусилов».
«Петербург! Петербург! Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, святых надежд!.. Ты кажешься мне великим сокровищем... Без тебя здесь глушат молодость. В доказательство, как я тяготею к тебе, я иду к тебе пешком... Да я ли один? Мысль о тебе озаряет много сердец...», — пишет герой Успенского, повторяющий юношеские восторги автора (Ac., I, 302).1
Такое представление о Петербурге могло возникнуть вследствие чтения петербургских передовых журналов и произведений реалистической литературы, выходящих в Петербурге.
Решение Н. Успенского уйти из семинарии и определиться в Медико-хирургическую академию связано с влиянием на него материалистической публицистики, провозглашавшей огромное значение естественных наук. В повести Решетникова «Ставленник», рисующей быт семинарии, показано, что уход семинаристов из духовного звания, с целью поступить в университет или Медико-хирургическую академию, воспринимался как вольнодумство и что решались на подобный шаг наиболее «развитые» семинаристы.
Однако уровень теоретической подготовки Н. Успенского был всё же невысок. Попав в Петербург и поступив в 1856 году в Медико-хирургическую академию, Н. Успенский не сумел найти среди студентов товарищей, общение с которыми способствовало бы его идейному росту. Не увлекла его и медицина.
- 564 -
Темные стороны петербургской жизни особенно резко бросились в глаза материально необеспеченному юноше, восторженно идеализировавшему Петербург в своих мечтах. Разочаровали его и порядки в академии. Характеризуя положение студентов академии в рассказе «Сельская аптека», Н. Успенский писал: «Им <студентам> нет возможности следить самим за медициной: они ощупью и неохотно бредут за профессорами... Между тем, эти же студенты, благоприятно поставленные к науке, могли бы подвигаться вперед... Им не дают возможности самим делать наблюдения, не дают на это никаких средств (вы верите, что студенты могут делать открытия); на половину из них не видали, да и не увидят азотной кислоты на факте, химической соли какой-нибудь... Всё в шкапах и для показу...» (Ac., I, 541).
В 1858 году Н. Успенский оставил Медико-хирургическую академию. В том же году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который был им оставлен менее чем через год.
В мае — июне 1857 года в журнале «Сын отечества» появляются первые очерки Н. Успенского «Старуха» и «Крестины». Эти очерки, чрезвычайно характерные для литературной манеры писателя, прошли незамеченными. Напечатанные в конце журнала мелким шрифтом, никак не связанные с остальным печатавшимся здесь материалом и всем направлением журнала, они затерялись в нем.
Очерк «Хорошее житье» Н. Успенский пытался напечатать в «Отечественных записках», однако произведение Н. Успенского, реалистическими красками рисующее быт современной деревни, не могло импонировать теоретикам «чистого искусства» и либеральным критикам, возглавлявшим редакцию и критический отдел «Отечественных записок». Редактор «Отечественных записок» Дудышкин нашел рассказ «слишком» народным и отказался напечатать его.
Только в некрасовском журнале «Современник», объединявшем демократические силы русской литературы, беллетристика Н. Успенского впервые обрела свое подлинное звучание. Некрасов и Чернышевский оценили особенности дарования Н. Успенского и создали ему все условия для творчества. Очерки Н. Успенского печатались на видном месте в журнале. Некрасов материально обеспечил молодого писателя. В 1858—1861 годах в «Современнике» печатаются рассказы и очерки: «Хорошее житье», «Поросенок», «Грушка», «Змей», «Ночь под светлый день», «Сельская аптека», «Деревенская газета», «Вечер», «Обоз», «На пути», «Проезжий».
Рассказы Н. Успенского появились в «Современнике» за несколько лет до того, как в литературу вошли русские писатели-демократы шестидесятники: Помяловский, Решетников, Слепцов, Левитов, Г. Успенский.
В 1861 году Некрасов предоставляет Н. Успенскому возможность совершить поездку за границу. Н. Успенский посещает Париж, Рим, Неаполь, Флоренцию, Женеву, Дьепп. Писателя поражает нищета народных масс. Критерием при оценке культурного состояния стран Европы для него является положение народа. О «вечном городе» Риме, вызывавшем восторги путешественников-эстетов, Н. Успенский писал:
«Рим неприятно поражает путешественника своею грязью, мрачными старыми домами и бедностию; на каждом шагу раздается заунывный голос: „pover uomo, poverin’uomo“ (бедный человек). Народ римский большею частию ходит в замасленных куртках, грязных заштопанных панталонах и в дырявых сапогах; трудно встретить где-нибудь краснощекое свежее лицо...» (III, 288).
- 565 -
В духе положений эстетики Чернышевского, оказывавшей огромное влияние на молодого писателя, Н. Успенский смеется над эстетами, приехавшими «искать прекрасного» в Италию. Он осуждает русских художников, которые «убеждены, что из русской жизни писать совершенно нечего, и, как истинные художники, любят и грязь, и бедность, и невежество римского народа...» (III, 289).
Глядя на римскую капеллу, он обращает внимание не на архитектуру и живопись, а на следы политической борьбы итальянского народа, нашедшие свое отражение на стенах здания: «... стена церкви вся испачкана и на ней разные надписи: „Viva Garibaldi... republica!“, а выше всех этих надписей огромное печатное объявление: „Se voi portate il nome del cristiano il tempio del Signore respettate“. (Если вы носите имя христианина, то должны уважать храм божий)» (III, 294).
За границей Н. Успенский встречался с Тургеневым и Боткиным. Обоих он поразил своим «нигилизмом». С Боткиным Н. Успенский вступил в горячий спор по поводу оценки реформы 1861 года. Либеральным восторгам Боткина он противопоставил резкую критику реформы, полное неверие в то, что правительство проведет реформу действительно в интересах крестьян, и презрение к угнетателям народа с царем во главе.
Следуя за Чернышевским в оценке реформы 1861 года, Н. Успенский тем не менее не понимал расстановки сил в политической борьбе, происходившей в России, не определил четко своего места в этой борьбе. Объективно своим творчеством служа делу революционной демократии, ненавидя всеми силами души мир угнетения и социальной несправедливости, Н. Успенский не был революционером, не принимал участия в революционной борьбе, не понимал ее значения.
Даже после того, как в 1861 году при помощи Некрасова Н. Успенский выпустил свой первый сборник рассказов, а в «Современнике» появилась гениальная статья Чернышевского «Не начало ли перемены?», в которой определялись задачи литературы на новом этапе освободительной борьбы и значение творчества Н. Успенского, последний не сумел разобраться в политической ситуации и понять, что его творчество неразрывными нитями связано с освободительным движением и черпает свои силы в идеях революционной демократии.
Безразлично относясь к интересам освободительной борьбы, к нуждам революционного движения, он пытался использовать «спрос» на свои произведения, интерес к ним демократического читателя в корыстных целях, требовал огромных гонораров, предъявлял всё большие и большие денежные претензии к Некрасову. Добиваясь удовлетворения своих непомерных требований, Н. Успенский осыпал оскорблениями не только Некрасова, но и Чернышевского. Следствием подобного поведения был его разрыв с «Современником». Таким образом, в период наступления реакции на передовые силы русского общества, в период жестокого подавления революционного движения в стране, подготовки арестов вождей этого движения Н. Успенский порвал с революционной демократией.
С этого момента начинается скитальческая жизнь писателя. Ненависть к миру «сытых» не покидала его, угнетенное положение крестьянства продолжало его волновать. Однако своего места в литературе Н. Успенский уже не мог найти. Получив диплом на звание учителя русского языка, он переезжает с места на место, преподает в Ясной Поляне у Толстого, в ряде провинциальных гимназий и училищ (Чернь, Балхов, Оренбург) и в первой Московской военной гимназии (1873), которую он внезапно оставил. Н. Успенскому были чужды карьеристские интересы. И когда
- 566 -
министр народного просвещения А. В. Головнин поручил ему изучить на месте состояние школьного образования в Московской, Тульской и Орловской губерниях, он, отлично зная состояние школ в уездах, доложил министру, что при современном положении народа, при повсеместном голоде и обнищании «освобожденных» крестьян невозможна «более или менее нормальная постановка школьного дела».
Ведя скитальческую жизнь, Н. Успенский не прекращал своей литературной деятельности. Его рассказы и очерки появлялись в самых различных изданиях — в «Искре», «Русском вестнике», «Отечественных записках», «Детской библиотеке», «Гражданине», «Сиянии», «Ремесленной газете» и т. д. Одно перечисление периодических изданий, в которых печатался Н. Успенский, свидетельствует о его политической ограниченности.
Отход Н. Успенского от передовой журналистики отрицательно повлиял на отношение к нему демократического читателя, популярность его быстро падала. Издания его сочинений в 1871, 1872 и 1876 годах проходят незамеченными. Откликаясь на издание сочинений Н. Успенского, «Отечественные записки» именуют его «забытым автором» (1877, № 2). Участие в реакционных журналах, занимавшихся травлей лучших представителей передовой литературы, — в «Русском вестнике» и «Гражданине», — утвердило за Н. Успенским репутацию реакционера и мракобеса. В статье «Разбитые иллюзии» П. Н. Ткачев квалифицировал Н. Успенского как «умышленного обскуранта», сознательно служащего интересам крепостников. Писатель опускался всё ниже, и в самом конце его жизни характеристика, данная Ткачевым, была применима к нему. Н. Успенский сблизился со средой реакционных писак и стал сотрудничать в черносотенном журнале «Развлечение». Здесь он печатал свои антихудожественные, бессодержательные очерки, как бы пародирующие его творчество прежнего времени. Рассчитанные на «развлечение» обывателя, они были проникнуты реакционной тенденцией; в них идеализировались представители высших классов, противопоставлявшиеся нарисованным темными красками карикатурным образам крестьян. В этом же журнале с мая 1888 года Н. Успенский начал печатать свои воспоминания «Из прошлого», вышедшие в 1889 году отдельной книгой. Н. Успенский наполнил свои воспоминания клеветой, грязными выпадами против лучших представителей русской литературы: Некрасова, Слепцова, Помяловского, Тургенева, Гл. Успенского, Л. Н. Толстого.
Глубина собственного падения ощущалась Н. Успенским: он тяжело переживал свое положение ренегата, отверженного всем лучшим, что было в литературе и обществе. 21 октября 1889 года он покончил жизнь самоубийством.
2
Быт русского общества пореформенной эпохи — главная тема творчества Н. Успенского. Лишь в немногих рассказах писателя изображен предреформенный период. Произведения Н. Успенского пронизаны настроениями эпохи, когда рост крестьянских восстаний заставил помещиков почувствовать непрочность своей власти и пойти на частичные уступки. Развитие капитализма в России приводило к расслоению деревни, обогащению кулака-мироеда и усилению его влияния, разрушению патриархальных форм жизни.
Н. Успенский писал в 1867 году: «цепь, которая связывала прежде помещиков с крестьянами, навсегда разорвана» («Записки сельского хозяина»;
- 567 -
II, 197). Писатель видел, что землевладельцы «проникнуты унынием» перед лицом новых событий и ломки представлявшихся им вечными «устоев» жизни: «... наступили „новые времена“..., всё пошло вверх дном: один порядок сменяется другим, что ни день, то новое событие. Ничего нет верного, арочного! Рушились прежние вековые формы!..» («Новое время»; IV, 3).
Патриархальным помещикам «новые времена» представляются концом света, они мечтают о том, чтобы по возможности сохранить остатки крепостнических отношений в деревне. Либеральные, «передовые» дворяне стремятся перестроить свое хозяйство так, чтобы извлечь по возможности больше выгод из проведенной в интересах помещиков реформы. Но все ощущают непрочность своего положения. Эту черту эпохи заметил и отразил в своем творчестве Н. Успенский. Помещики в его произведениях остро воспринимают происходящие вокруг них исторические изменения, испытывают чувство тревоги, неуверенности и мечутся в поисках выхода. Тупой барин Вукол Андроныч «инстинктивно понял, что вся жизнь его есть страшный промах... Ум его рвался куда-то, искал выхода... но его окружала строгая, непроницаемая тьма...» («Производительные силы»; II, 355). Проницательный помещик Капитон Игнатьич мучается сознанием «неустроенности», бессмысленности своей жизни и принимает решение жениться на крестьянке — решение, удивляющее крестьян, но закономерно вытекающее из того чувства «падения всех устоев» жизни, которым проникнут герой Успенского («Капитон Игнатыч»).
Н. Успенский рисует «кающегося дворянина» Новоселова, проповедующего «опрощение» дворян и передачу помещичьей земли крестьянам («Издалека и вблизи»), и сторонников старых крепостнических порядков, которые пребывают в вечном страхе, что крестьяне «заберутся в... дом, ограбят и даже убьют» («Деревенский театр»; II, 394).
О помещиках Н. Успенский устами своего героя, сельского хозяина, восклицает: «Не воскреснуть и этому классу!». О патриархальных отношениях в деревне он заявляет: «Больной умрет, это ясно... И мы должны пожелать даже его скорейшей кончины, так как он связывает своим гнилостным существованием нашу собственную жизнь...» («Записки сельского хозяина»; II, 202, 203).
Н. Успенский показывает, что пережитки крепостнических отношений гнетут народ, формально освобожденный крестьянин остается в кабале благодаря нищете и безземелью. «Придет время платить подати, мужик начнет метаться, как угорелый; нанимается на заработки — за какую угодно плату... Что говорить... положение безвыходное... Вот вам и воля...» («Издалека и вблизи»; II, 292).
Крестьяне разоряются, в деревнях только и слышно: «некуда податься!» (II, 204). Народ создает легенды о жизни на окраинах страны, где, «как говорят», «первая жизнь», земли сколько угодно, а тут «куренка некуда выпустить». «Освобожденные» крестьяне сплошь и рядом покидают свои нищенские наделы и становятся «бобылями», батраками, сельскохозяйственными рабочими, нещадно эксплуатируемыми помещиками и кулаками. В рассказе «Федор Петрович» писатель рисует типичную для послереформенной деревни картину: помещик загнал забредшую на его землю лошадь мужика и требует с бедняка-хозяина штраф. На все мольбы мужика он отвечает:
«Не могу, друг мой! Ты очень хорошо знаешь, что теперь эмансипация, воля! другими словами, общая равноправность! ты со мной можешь поступить точно так же, как и я... Зайдет моя скотина к тебе на огород, бери ее, назначай и с меня штраф; в этом-то и заключается гарантия
- 568 -
неприкосновенности имущества каждого из нас, в этом-то и весь прогресс!».
Когда измученный крестьянин, теряющий рабочее время, необходимое для хозяйства, падает на колени, помещик восклицает: «Я вижу, что в вас нет капли сознания своего достоинства». «Что делать, Захар Ильич, — возражает мужик, — дома есть нечего» (II, 72, 73). Таковы «права» крестьян, замученных нищетой, безземельем, чересполосицей.
Н. Успенский давал понять читателям, что темные стороны народного быта коренятся в вековом угнетении народа, в его нищете и бесправии. Так, в повести «Издалека и вблизи» Н. Успенский нарисовал бесправное положение крестьянина, которого эксплуатируют и грабят помещики, приказчики, чиновники, торговцы, кабатчики, кулаки, попы под покровительством властей, всецело охраняющих интересы господствующих классов. «Кающемуся дворянину» Новоселову старый помещик Карпов объясняет, что «опроститься», стать крестьянином, барину невозможно, ибо крестьянин — человек совершенно бесправный, стоящий по сути дела вне закона.
Один из лучших рассказов Н. Успенского «Обоз», высоко оцененный Чернышевским, яркими красками рисует темноту крестьян, их неспособность разгадать маневры обманывающего их хозяина постоялого двора. Однако тут же писатель дает понять, что несообразительность крестьян объясняется тем, что их обманывают постоянно все, с кем они имеют дело, и что они, даже если бы и могли разобраться, в чем состоит обман, не могли бы ему противостоять. В рассказ включается короткий, но чрезвычайно выразительный эпизод, на первый взгляд с сюжетом не связанный, но освещающий весь его внутренний смысл: ночью один из мужиков рассказывает другим историю крестьянина-извозчика, у которого проезжий барин-самодур застрелил лошадь. Мужик разорился, а барин, конечно, не понес никакой ответственности. Н. Успенский видит «долготерпение» народа, но не восхищается им подобно славянофилам. Оно ужасает его. Выразителен конец рассказа:
«Недели через три тот же обоз порожний ехал обратно... Мужики все изменились за дорогу; у одного был подбит глаз, у другого висела огромная шишка на щеке. В обозе везлись сломанные сани, за обозом бежало несколько незапряженных хромых лошадей в одних хомутах; одна лошадь лежала в санях, накрытая веретьем» (Ac., I, 300).
«Бестолковость» в жизнь крестьянства вносят и помещики, и новый эксплуататор — «чумазый». В рассказах «Хорошее житье», «Федор Петрович» и др. Н. Успенский показывает, как разоряют и притесняют народ кулаки, кабатчики, торговцы, как они усиливают бессмыслицу жизни, гнетущую крестьян, закрывают перед народом все пути к просвещению, самосознанию.
Н. Успенский видел рост капитализма, расслоение деревни и понял, какие бедствия несет капитализм народу. В ряде рассказов он изобразил жизнь фабричных рабочих, голодающих, эксплуатируемых и совершенно бесправных («Странницы» и, др.).
Устами своего героя-купца Н. Успенский характеризует особенности исторического момента:
«Воля всем понаделала хлопот..., теперь больше платежей, а денег нет..., крестьяне разорены, помещики ничего не поделают...А купцы пользуются ото всех» («Производительные силы»; II, 364).
Писатель наблюдает процесс обогащения кулака, торговца. Он показывает, как кулаки скупают помещичьи земли и делаются хозяевами в деревне.
- 569 -
Кулак-кабатчик распоряжается крестьянской общиной, спаивает и развращает всю деревню, разоряет крестьян («Хорошее житье»); ростовщик-целовальник — главное лицо в деревне: «... вся Ямовка запуталась в долгах у Федора Петровича, как муха в сетях паука, так что стоило только целовальнику появиться на дворе должника, чтобы обратать любую скотину» («Федор Петрович»; II, 67). Целовальник в селе «считается выше всякого помещика. Мужики без его совета ничего не предпринимают..., а между тем он их всех до нитки обобрал: скупил хлеб, скотину, лес, луга...» («Книжный магазин»; IV, 335).
В рассказе «Федор Петрович» содержится знаменательный эпизод. Помещики-либералы собрались на банкет. «Предлагаю тост за освобождение крестьян из крепостной зависимости! Да здравствует свобода, озарившая радостью не только чертоги вельмож, но и бедную хижину земледельца!» — восклицает либеральный помещик (II, 91). «В то время, когда в доме Захара Ильича провозглашались тосты..., два закадычных друга: яблоновский приказчик и целовальник» осматривают помещичий лес, собираясь его купить по дешевке (II, 91). «Друзья поехали межкой в гору, и вскоре пред ними выглянул густой ямовский лес. Сидевший на дубу против заходившего солнца ворон поднялся вверх и закричал, как бы предвещая что-то недоброе» (II, 93).
Вместе с тем Н. Успенский не преуменьшал значения помещиков как господствующего в стране класса. Он показывал, что помещики усваивают капиталистические способы эксплуатации крестьянства, перенимают приемы буржуазных дельцов. Крупные землевладельцы заправляют делами целых губерний не хуже, чем при крепостном праве, и прилагают усилия к тому, чтобы по возможности дольше сохранить пережитки крепостнических отношений в деревне (см., например, цикл Н. Успенского «Старое по старому»).
Острый наблюдатель действительности, страстно ненавидевший ее темные стороны, Н. Успенский упорно и непреклонно боролся со всякого рода иллюзиями, со всякого рода попытками замазать противоречия, реально существующие в обществе. Он критически относился к правительственным реформам и едко высмеивал либеральных апологетов этих реформ. Целый ряд рассказов Н. Успенского посвящен разоблачению реформ, показу того, в каком положении оказалось крестьянство после реформы. В рассказах «Федор Петрович», «Старое по старому», «Егорка пастух» и др. писатель показывает, что новые установления и законы проведены в интересах господствующих классов, в первую голову — помещиков и буржуазии.
Помещиков, и либеральных и консервативных, Н. Успенский постоянно изображает как сознательных и последовательных врагов крестьянства, материально заинтересованных в закабалении народа (см., например, «Старое по старому», «Федор Петрович» и другие рассказы).
Н. Успенский показывает, что возникшие после реформы учреждения — земство и суд — служат орудием угнетения и подавления крестьян. Деятельность мировых посредников метко охарактеризована в рассказе «Федор Петрович». Помещики устраивают для них обеды со спичами; они понимают, что мировые посредники «верный оплот, охраняющий законами... выгоды» дворянства (II, 90).
В ряде рассказов писатель высмеивает типичные либеральные начинания, показывая их классово-своекорыстный характер. Так, в «Деревенской газете» Н. Успенский дает понять читателю, что деревенская газета, издаваемая помещиками, призвана защищать интересы землевладельцев и «украшать их досуг», крестьянам же, ищущим решения насущных вопросов
- 570 -
о земле, о действительном освобождении, она чужда и непонятна. Все внутренние дрязги, интриги и борьба личных интересов между помещиками утихают, когда они обнаруживают интерес крестьян к газете и приходят к выводу, что газета может, помимо их воли, содействовать «потрясению устоев». Эта мысль заставляет либеральных помещиков прекратить выпуск газеты. Писатель подметил здесь типические черты либеральных начинаний и, в частности, либеральной журналистики.
В рассказе «Деревенский театр» дана сатира на барское «просвещение» народа, на искусство, создаваемое господами для крестьян. Н. Успенский путем сатирического изображения театральных затей барина, пытающегося внушить мысль о святости и неприкосновенности помещичьей собственности, изобличает классовый характер либерально-дворянского просветительства.
Трезво оценивая всю сложность «трудного времени», Н. Успенский разбивал буржуазные легенды о благополучии европейской жизни (очерки «Заграничные письма»).
Вместе с тем изображение расслоения крестьянства, обогащения кулаков, которые превращают общину в орудие закабаления деревни, разбивало иллюзии народников, утверждавших, что благодаря крестьянской общине русский народ исторически минует стадию капитализма. Естественно, что такие рассказы Н. Успенского, как «Хорошее житье», «Записки сельского хозяина», «Книжный магазин» и др., не могли не вызывать крайне отрицательного отношения к себе народников.
Н. Успенский видел и отразил в своем творчестве то напряжение, с которым крестьяне ждут своего освобождения и ищут выхода из состояния угнетенности и нищеты (см., например, «Деревенскую газету» или «Сельскую аптеку», где показано, как малейшая общественная новость порождает в среде крестьян слухи и надежду на волю). Он ярко охарактеризовал ужасное положение значительной части сельской интеллигенции, близость ее к народу, общность их страданий (рассказы «Сельский учитель», «Экзамен», «Ночлег» и др.). Но он не сумел, как это сделал Чернышевский, увидеть революционные возможности народа, рост революционных настроений в среде демократической интеллигенции, сближение интеллигенции с народом в борьбе за освобождение.
Характеризуя творчество Н. Успенского, Чернышевский дал оценку общественного значения его произведений и анализ особенностей их художественного стиля. Критик отметил, что подавляющее большинство произведений Н. Успенского — «крошечные рассказы, в которых не могло поместиться ни одно из качеств, обыкновенно составляющих репутацию хороших беллетристов».1 Произведения его не отличаются разработанностью сюжета; если они и передают какую-нибудь житейскую историю, то «самую незамысловатую и почти всегда недосказанную» (VII, 855). «Это всё только маленькие отрывочки, как будто листки, вырванные из чего-нибудь, а из чего — и догадаться нельзя» (VII, 856). Вместе с тем эти «отрывочки» подводят к большим обобщениям. В статье «Не начало ли перемены?» Чернышевский показал, как велики и значительны обобщения, которые можно сделать на основании творчества Н. Успенского. Несмотря на полное отсутствие прямо выраженной тенденции в произведениях Успенского, писатель касается самых значительных проблем общественной жизни, через внешние детали умеет подвести к мысли о существенных чертах социального быта.
- 571 -
Эта особенность стиля Н. Успенского связана была отчасти с цензурными условиями, в которых находилась постоянно преследуемая и притесняемая демократическая литература. Добролюбов в письме к С. Т. Славутинскому в апреле 1860 года писал: «... чтобы ваши труды не пропадали в цензуре, необходимо говорить фактами и цифрами, не только не называя вещей по именам, но даже иногда называя их именами, противоположными их существенному характеру».1 Вместе с тем эти особенности художественного стиля Успенского носили ярко выраженный индивидуальный характер и были неразрывно связаны с его мировоззрением.
Салтыков-Щедрин характеризовал рассказы Н. Успенского, как «изображение организованной бессмыслицы, без начала и без конца».2 Н. Успенский как бы выхватывал из жизни отдельные картины и сцены, делая их предметом изображения. Однако за каждым из таких эпизодов стояли серьезные общественные явления, которые выразились в данном частном факте, и изображенный в рассказе незначительный случай нес на себе все признаки общественных явлений, которые его породили. Писатель наталкивает на мысль о больших социальных коллизиях, вводя, на первый взгляд, несущественные, но чрезвычайно многозначительные детали, бросающие свет на всю нарисованную им картину. Так, например, в рассказе «Обоз» вставной эпизод о самодуре-барине, застрелившем лошадь ямщика, и концовка, рисующая возвращение обоза и фигуры оборванных, измученных и избитых крестьян, освещают всю картину «бестолковости» мужиков на постоялом дворе, заставляют читателя задуматься над тем, почему народ так темен, и подсказывают решение этого вопроса. В рассказе «Обед у приказчика» постепенное исчезновение одного за другим прислуживающих у стола крестьян и намеки автора, поясняющие, что приказчик остался недоволен и перепорол всю свою «дворню», раскрывают внутренний смысл всего эпизода, заставляют воспринимать описание сытого обеда и тупых разговоров гостей, как типичную картину быта эксплуататоров. В рассказе «Крестины» смысл описания обеда, данного пономарем в честь рождения сына, раскрывается не сразу. Картина тупости, духовной нищеты дополняется тонкими, но выразительными намеками на то, что ребенок был умерщвлен с ведома попа, взяткой которому было «угощение». Заключение рассказа звучит, как осуждение всего быта, изображенного в нем.
«На другой день Носовик пришел в дом священника и объявил, что его новорожденный сын умер.
«Священник велел ему рыть могилу и сказал: „недаром он у тебя в сорочке родился...“.
«— Благодарение богу... — ответил пономарь» (Ac., I, 108).
В рассказе «Студент» краткая характеристика жизни студента в нищей квартире и скупое изображение его внезапной смерти, обрывающее нить повествования в самом ее начале, комментируется мелкой на первый взгляд, но значительной по существу деталью: в бумагах покойного находят его переписку с родными по поводу трех рублей, присылки которых студент так и не мог дождаться.
Такие «ударные» детали, указывающие читателю, в ряду каких явлений нужно воспринимать изображенный в рассказе факт, проясняют идею произведения. В принципе в произведениях Н. Успенского каждая деталь
- 572 -
равнозначна. Каждая бытовая мелочь представляется ему неотделимой от других мелочей и от целого, которым она порождена. Каждая деталь из жизни людей, каждый атом общественного бытия несет в себе черту общества в целом. Вот почему ряд произведений Успенского состоит из кратчайших сцен-эпизодов, каждый из которых будто бы незначителен и ничем не «перевешивает» других, но вместе с другими образует типичную, широкую картину общественного быта. Таковы рассказы «Сцены из сельского праздника», «Из дневника неизвестного» и целый ряд других.
В рассказе «Брусилов» Н. Успенский показал, как мелкие и повседневные столкновения с провинциально-мещанскими нравами сделали для молодого человека невозможным дальнейшее пребывание в родном городе и заставили его пешком отправиться в Петербург.
Рассказ «Ночь под светлый день» состоит из чрезвычайно кратких, отрывочных сцен, картин, диалогов, рисующих времяпрепровождение обывателей в пасхальную ночь. Незначительные на первый взгляд, эти отдельные эпизоды создают широкую картину мрачного социального быта, который особенно ярко выступает на фоне церковного обряда «всепрощения». Лакей порет крестьянских ребятишек, репетируя с ними церковные хоры; приказчик отказывается «помиловать» многодетного мужика, которого он отдал в солдаты, и говорит: «Вас, грубиянов, не давить, толку не видать» (Ac., I, 203). Окружающие доносят приказчику на крестьянина, непочтительно о нем отозвавшегося, и т. д. Церковный обряд — лицемерная форма, церковь и ее служители поддерживают строй жизни, при котором истинная любовь людей друг к другу, равенство и товарищество невозможны. Н. Успенский выразил эту мысль в юмористической форме через «пророчества» странствующей монахини в конце рассказа: «Ну, а что вы говорили насчет равенства, то оно будет при конце мира, не ранее... Тогда, по писанию, сын не будет знать отца, раб — господина и запустеют церкви...» (Ac., I, 207).
Умение Н. Успенского в кратком и как бы случайном разговоре передать характер среды оценил Л. Н. Толстой, который, говоря о правдивости и художественности народных рассказов Н. Успенского, приводил в пример диалог из «Ночи под светлый день».1
В рассказе «Уездные нравы», рисуя несколько небольших эпизодов — неудачную попытку учителя найти квартиру в городе, знакомство его со смотрителем и его женой, с местным помещиком и его другом-купцом и учителями, — Н. Успенский создает убедительную и ужасающую картину уездных нравов. Мещане пьют, дерутся, наговаривают друг на друга, смотритель и его жена всю жизнь ничего не делают и ничем не интересуются, помещик и купец все дни проводят в пьянстве и разговорах о собаках, в доме купца «чадно, душно», учителя — неучи-тупицы. Читатель вместе с героем приходит к выводу: «так жить нельзя!» (Ac., 453). В рассказе нет ни одного драматического положения, ни одной трагической ситуации, напротив, он проникнут юмором, а между тем к концу его читатель вполне подготовлен к восприятию заключительных строк:
«Боже мой! Что ж это такое? — в ужасе шептал учитель, неподвижно стоя среди улицы...» (Ac., I, 455).
Очень часто тот или, иной рассказ Н. Успенского представляет собой как бы один отрывок, один эпизод из «серии», в которую могли бы войти
- 573 -
и другие рассказы. Такие рассказы большей частью чрезвычайно невелики и более определенны по сюжету: ужин крестьянской семьи («Ужин»), уход работницы от приказчика («Работница»), обед работника на постоялом дворе за счет хозяина-дьякона («Работник»), посещение крестьянки соседкой, прослывшей колдуньей («Колдунья»), покража лошади и поимка воров («Пропажа»), женитьба «философа»-семинариста на дочери пономаря («Заочный жених»), свадьба престарелого регента-пьяницы («Свадьба регента»), бешенство собаки помещика, перекусавшей крестьян («Княжеская собака»), визит бедных студентов-провинциалов в Москве к богатому чиновному брату, который «вышел в люди» («Родственное свидание») и т. д.
Небольшие рассказы Н. Успенского очень емки по своему содержанию. Писатель рассказывает о том, как принадлежавшая князю собака, взбесившись, бегает по деревням и кусает крестьян, а крестьяне не решаются ее убить, так как она стоит больших денег. В этом частном факте как бы олицетворяется бесконтрольность власти самодуров-помещиков над крестьянами. Такое же почти символическое звучание приобретает изображение частного факта в «Деревенской газете» и других рассказах Успенского.
Методом лаконичных («закрытых», но легко раскрываемых читателем) характеристик и эпизодов дается в произведениях Н. Успенского и обрисовка портретов героев, и психологический анализ.
Портреты действующих лиц в рассказах Н. Успенского создаются при помощи кратких описаний, подчеркивающих внешние черты и уточняющих социальную характеристику персонажа. «Держа в руке каску, потрясая густыми эполетами, с нафабренными усами, с винтообразным хохлом на лбу, губернатор появляется в зале собрания», — зарисовывает Н. Успенский губернатора («Старое по старому»; III, 52). Не задерживаясь на описании персонажей, писатель несколькими штрихами набрасывает их облик, который дополняется воображением читателя на основании социальной характеристики героя, данной в рассказе (так возникает, например, у читателя представление о внешности героя в рассказе «Заочный жених» и т. д.).
Раскрытию внутреннего мира героев Н. Успенский также не отводит специального места в своих произведениях. Вместе с тем во многих его рассказах моменты психологического анализа играют значительную роль. В небольшом рассказе «Родственное свидание» писатель рисует картинку быта, житейский эпизод, но основное задание рассказа — показать душевную черствость, грубость, чванство «вышедшего в люди» чиновника и переживания его братьев-студентов, которые вынуждены терпеть наглые выходки «богатого родственника» в надежде на денежную помощь, которую в конце концов он всё же им не оказывает.
В рассказе «Катерина», рисуя помешательство крестьянской женщины, Н. Успенский отмечает скупыми чертами внешние признаки ее безумия и в то же время передает ее переживания, ее внутренний мир и ее психологическое состояние короткими репликами. Эти мимоходом поданные реплики приоткрывают завесу над духовной жизнью героини и помогают читателю проникнуть в ее психологию. После появления этих реплик читатель уже не может отвлечься от мысли о внутреннем мире героини.
Подобным методом пользуется Н. Успенский и в рассказе «Саша». Краткими репликами главных героев, некоторыми замечаниями о них других персонажей, своеобразно подаваемой характеристикой обстановки их жизни и их поступков Н. Успенский помогает читателю разобраться в психологии и жениха, старого провинциального бухгалтера, и в характере брата Саши, столичного чиновника-формалиста. Последние штрихи в характеристику героев вносит заключающая рассказ сцена «образования» —
- 574 -
церковного обручения Саши с бухгалтером и появление сумасшедшей Катерины, принимающей этот обряд за похороны. Глубина страданий Саши, ограниченность ее родных и их мещанский эгоизм характеризуются здесь через скупые, но выразительные внешние детали. Недаром, полемизируя со Скабичевским, утверждавшим, что Н. Успенский является натуралистом, лишенным черт гуманизма, Г. В. Плеханов указывал ему на образы Катерины и Саши.
Не многословно, но выразительно передает Н. Успенский душевную драму загубленной девушки также в рассказе «Письмоводитель», повествующем о том, как отец невесты, кулак-поп, и поддавшийся влиянию материальных расчетов жених «разошлись» из-за приданого и погубили молодую жизнь.
Через внешние детали, выражающие существо характера героев, Н. Успенский открывает путь к пониманию психологии, внутреннего мира изображаемых им лиц и в рассказе «Тихая пристань». Писатель передает здесь впечатления старушки, приехавшей после длительной разлуки к чиновному сыну и наблюдающей его быт, описывает столкновения молодого чиновника с сестрой и, ограничиваясь этими средствами, не давая развернутой характеристики героя, не прибегая к специальным авторским отступлениям, создает яркий образ своеобразного «человека в футляре». При помощи небольших диалогов брата и сестры автор дает читателю почувствовать чиновничью сухость, предрассудки и педантизм брата, раздражающую его вульгарность сестры и вместе с тем ясно показывает, что и брат, и сестра, и старушка их мать не удовлетворены своей жизнью, томятся, как в тюрьме.
Ненависть к привычному и на первый взгляд незначительному, тому, из чего складывается повседневная жизнь человека в современном обществе, определила принцип изображения Н. Успенским фактов действительности и внутреннего мира героев. Отсюда же проистекали в его творчестве тенденции к юмористическому и сатирическому изображению действительности, повышавшие обшественную значимость его произведений. Вместе с тем юмор и сатира Н. Успенского не достигали уровня революционно-демократической сатиры, которая не ограничивалась изображением обыденного, ежедневно зримого, но умела проникнуть в самое существо общественных явлений, найти то, что составляет основу современного общества, отбросить всё случайное и единичное и в резко заостренной форме показать самое существенное.
Слабые стороны Н. Успенского, свойственное ему «дробное» восприятие общественного бытия сказались на композиции его произведений, на их жанре. Начав с мелкого рассказа, зачастую рассыпающегося на отдельные, мало связанные между собой сценки, Н. Успенский обнаружил затем стремление к овладению более крупной формой, большим рассказом и повестью. Однако и крупные произведения у него неизменно распадаются на отдельные очерки, небольшие рассказы, композиционно непрочно скрепленные против воли автора, явно стремившегося к их слиянию (см., например, «Декалов», «Сельский портной», «Издалека и вблизи», «Старое по старому» и др.). Большей распространенности и композиционной целостности Н. Успенский сумел достигнуть в рассказах, основной интерес в которых сосредоточен на психологии героев («Саша», «Тихая пристань», «Егорка-пастух» и др.), но и здесь обнаруживается типичная для автора «дробность», которую он не может преодолеть до конца. Характерно, что Н. Успенскому так и не удалось написать роман, мечту о котором он долго лелеял.
- 575 -
В стиле произведений Н. Успенского отразились сильные и слабые стороны писателя: с одной стороны, его наблюдательность, знание народной жизни и народной психологии, его стихийный демократизм; с другой — отсутствие прочных демократических убеждений, цельного демократического миропонимания, не позволившее ему создать произведения большого масштаба и широкого обобщения, хотя он и стремился к этому.
Сильные и слабые стороны творчества Н. Успенского выразились и в языке его произведений. Н. Успенский является замечательным знатоком народной разговорной речи; он широко пользовался ее богатствами и вводил их в литературу. В лучших своих произведениях Н. Успенский не отходит от норм литературного языка и в то же время обогащает его за счет устной народной речи. Он не увлекается эстетизацией народного разговорного языка, не впадает в этнографизм, подобно многим бытописателям, и в языке своих произведений, так же как и в их стиле, умеет соблюсти суровую правдивость, обыденность и вместе с тем характерность. Ограниченность творчества Н. Успенского сказалась в языковых особенностях его поздних «эстрадных» произведений, где писатель проявляет склонность к натурализму, словесному штукарству, перегрузке речи героев провинциализмами.
3
Сборник рассказов Н. Успенского, вышедший в Петербурге в 1861 году, привлек к себе серьезное внимание критиков, литераторов и читателей. Одним из первых на этот сборник откликнулся Чернышевский знаменитой статьей «Не начало ли перемены?». Своей статье Чернышевский придал программный характер, и значение ее ни в коем случае нельзя ограничивать оценкой рассказов Н. Успенского. Успенский для Чернышевского — талантливый писатель, заметное явление в русской литературе. В то же время Чернышевский очень сдержанно говорит о нем. Стоит сравнить статьи Чернышевского о Щедрине и Толстом со статьей об Н. Успенском, чтобы это стало ясно. Щедрину и Толстому Чернышевский отводит выдающееся место в развитии русской литературы, считает их великой надеждой ее. Об Успенском он этого не говорит. Вместе с тем критик отмечает своеобразие литературной манеры писателя и указывает, что Н. Успенский «пишет о народе правду без всяких прикрас», сохраняя при этом глубокое уважение к нему (VII, 856).
Н. Успенский правдиво изображал социальный быт России, и прежде всего положение крестьянства. Рассказы его не оставляли никаких возможностей для идеализации деревенской жизни. Они разбивали остатки славянофильских иллюзий.
Своими объективными, сурово-правдивыми и беспощадно-обличительными очерками писатель опровергал реакционные, охранительные теории о народе как опоре существующего социального порядка.
Чернышевский высоко оценил суровую правдивость творчества Н. Успенского. Неуклонное разоблачение забитости, политической отсталости крестьянства, по мысли Чернышевского, должно было сыграть значительную роль в обращении литературы к воспитанию народных масс в революционном духе. В дифференцированном подходе Н. Успенского к народной массе, в его непримиримости к слабостям и темноте забитого крестьянства Чернышевский видел один из признаков начинавшейся перемены в русской литературе в период, когда крестьянская революция представлялась вполне возможной. Вот почему Чернышевский счел целесообразным в статье,
- 576 -
посвященной оценке творчества молодого писателя, развернуть боевую программу для всей передовой русской литературы.
Вопрос о необходимых переменах в русской литературе Чернышевский поставил задолго до написания статьи «Не начало ли перемены?». Об этом он писал и в «Очерках гоголевского периода русской литературы», и в статьях об Огареве, и в статье «Русский человек на rendez-vous», и др. Чернышевский усматривал черты нового отношения к действительности в творчестве Салтыкова и Толстого и заявлял, что литература стоит на пороге сдвигов и изменений.
Каких же перемен в литературе требовал Чернышевский?
Он требовал дальнейшего сближения литературы с освободительным движением. В этом плане и следует рассматривать его статью «Не начало ли перемены?».
Глубоко уважая народ и раскрывая в первую очередь темные стороны его жизни, Н. Успенский давал читателю основание сделать два вывода: первый вывод о том, что условия, в которых живут крестьяне, должны быть коренным образом изменены; второй — что нужно осознание сложности этой задачи и трудностей, с которыми придется столкнуться при ее осуществлении, ввиду того, что громадное большинство крестьян не понимает еще, отчего жизнь «идет дурно и чем можно поправить ее» (VII, 875).
Чернышевский не раз говорил о трудностях освободительной борьбы, о том, что в народных массах его времени была еще очень слабо развита революционная сознательность, и стремился разбудить революционную активность народа. Он подчеркивал, что важнейшая задача литературы — показать рост революционной энергии масс. Чернышевский указывал, что наступила пора, когда народу «выгодно поумнеть». В условиях революционной ситуации, когда борьба за освобождение может увенчаться успехом, масса народа способна «проникнуться наклонностью к какому-нибудь другому порядку жизни, хотя бы он и не был хорошенько известен ей, и даже энергически устремиться к приобретению этого лучшего неведомого ей состояния» (VII, 886—887).
В условиях революционной борьбы народ выделяет из своей среды передовых, инициативных людей — руководителей освободительного движения. Жизнь ставит вопрос о них перед литературой. Люди эти имеют всё большее и большее влияние на народ: «... каждый человек занимается любимым делом или действует сообразно своей натуре только тогда, когда это возможно, когда обстоятельства располагаются вызывающим к деятельности образом или, по крайней мере, начинают допускать эту деятельность. Не забудем, о каких людях мы теперь говорим, о людях умных и сильного характера. Умный человек не ввязывается в дела, пока не стоит в них ввязываться... Нельзя найти в истории ни одного случая, в котором не явились бы на первый план люди, соответствующие характеру обстоятельств» (VII, 888).
Историческое развитие ставит перед писателем проблему нового героя — революционного деятеля, требует отображения революционных настроений и дела народа.
Чернышевский говорит о близости революционной демократии к народу и об открывшейся возможности революционного просвещения народа интеллигенцией, стоящей на позициях действительной защиты крестьянских интересов. «Если вы одеты не бог знает как богато, если вы человек простой по характеру и если вы действительно любите народ, мужик не отличает вас ни по разговору, ни по языку от своей братьи, отпущенников; это свидетельствует о том, что в числе людей, принадлежащих по своим интересам
- 577 -
к народу, есть уже такие, которые довольно похожи на нас с вами, читатель. Свидетельствует также, что образованные люди уже могут, когда хотят, становиться понятны и близки народу. Вот вам жизнь уже и приготовила решение задачи, которая своею мнимою трудностью так обескураживает славянофилов... Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — любит не на словах, а в душе» (VII, 889).
Ничто так не сближает человека с народом, как революционная идеология, действенное стремление к улучшению положения народа и готовность совместно с народом бороться за его счастье. Чернышевский прямо не говорил об ограниченности Н. Успенского, но, подчеркивая исторические явления, не нашедшие своего отражения в творчестве писателя, указывал возможный путь для его идейного роста.
Н. Успенский не сумел сделать должных выводов из статьи Чернышевского и пойти по указанному ему критиком пути, и это губительно отразилось на его творчестве. Он не показал революционного народа, хотя покорность и консерватизм были им разоблачены как идеология, возникшая на основе темноты и разлагающего влияния господствующих классов на отсталые слои крестьянства.
Через месяц после появления статьи Чернышевского Ф. М. Достоевский выступил в журнале «Время» (1861, № XII) со статьей о творчестве Н. Успенского. Статья эта была направлена против Чернышевского. Рассматривая Н. Успенского как литератора, подпавшего под влияние Чернышевского, Достоевский отказывался видеть то новое, что было внесено писателем в литературу, объявлял его эпигоном реалистов 40-х годов, обвинял в натурализме, в том, что тот, «где попало, устанавливает свою фотографическую машину».1 Достоевский не мог не заметить, что Н. Успенский умеет, как никто, ввести в свои произведения «необходимую многознаменательную ненужность»;2 однако, подчеркивая якобы безразличное включение Успенским фактов, выхваченных из действительности, в литературу, Достоевский полемизировал с положениями эстетики Чернышевского, утверждавшего, что всё, что существует в действительности и представляет интерес для человека, может являться предметом искусства. Достоевский пытался дать реакционное истолкование смысла рассказов Успенского, он усматривал в них «объективный» показ покорности, незлобивости, духа непротивления, свойственных якобы русскому народу. Конечно, обосновать такое понимание рассказов Успенского сколько-нибудь убедительно Достоевский не смог. Выраженная в его критической статье мысль о том, что простому русскому народу якобы чужд дух государственности, и стоящее за этим утверждением представление о неспособности народа к самоуправлению прямо противостояли положениям Чернышевского о революционном народе как носителе новых государственных начал.
Критика и истолкование произведений Н. Успенского, содержащиеся в статье Достоевского, были подхвачены последующей реакционной и либеральной публицистикой.
С защитой положений, развитых в статье Чернышевского «Не начало ли перемены?», выступил через несколько десятилетий Плеханов.
Нуждается в разъяснении позиция Салтыкова-Щедрина в отношении Н. Успенского. Замечания Щедрина об Успенском относятся к 1863—
- 578 -
1864 годам. Замечания эти весьма суровы. Они были высказаны в период спада революционной волны, когда рассказы Н. Успенского могли быть использованы для доказательств «неспособности» русского народа к революционным действиям. Помимо того, Щедрин, конечно, учитывал и тот факт, что Н. Успенский к этому времени уже не склонен был следовать советам Чернышевского и совершенствовать свое художественное творчество.
Несмотря на ограниченность мировоззрения писателя, чрезвычайно отрицательно сказавшуюся на его творчестве, Н. Успенский представляет собой безусловно крупное явление в демократической литературе 60-х годов. Сильные стороны его творчества, отразившие революционный подъем народных масс в 60-х годах и получившие свое развитие под влиянием революционно-демократической идеологии, прежде всего могучей проповеди Чернышевского, оказали значительное воздействие на дальнейшее развитие демократической литературы.
Традиции, идущие от демократической литературы 60-х годов, и в том числе от Н. Успенского, были в 80—90-х годах подхвачены Чеховым, Короленко и Горьким. Особенно явственно ощущается творческое освоение художественных достижений Н. Успенского в произведениях А. П. Чехова.
СноскиСноски к стр. 562
1 Слова самого Успенского. См.: П. К. Мартьянов. Дела и люди века. I, СПб., 1893, стр. 238.
Сноски к стр. 563
1 Произведения Успенского цитируются по следующим изданиям: Н. Успенский, Сочинения. Редакция К. И. Чуковского, т. I, изд. «Academia», М. — Л., 1933 (в тексте обозначается сокращенно Ac. и указываются том и страница); Н. В. Успенский, Сочинения, тт. I—IV, М., 1883 (в тексте указываются том и страница).
Сноски к стр. 570
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, М., 1950, стр. 855. В дальнейшем цитируется по этому изданию.
Сноски к стр. 571
1 Сб. «Огни», кн. 1, Пгр., 1916, стр. 77.
2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII, 1937, стр. 66.
Сноски к стр. 572
1 См.: И. Н. Захарьин (Якунин). Встречи и воспоминания. СПб., 1903, стр. 214.
Сноски к стр. 577
1 Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений, т. XXII, изд. «Просвещение», Пгр., б. г. стр. 149.
2 Там же, стр. 155.