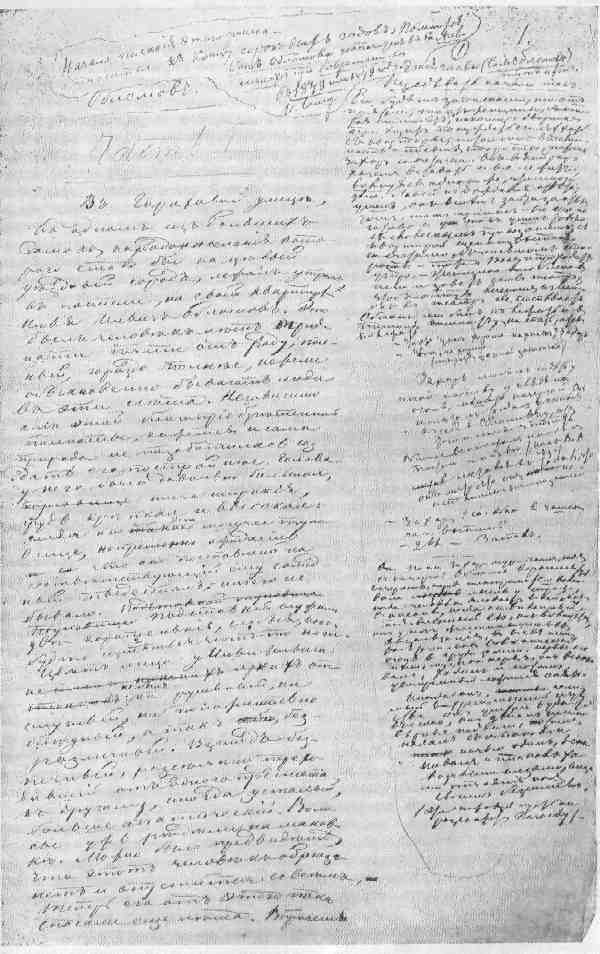- 400 -
Гончаров
1
Иван Александрович Гончаров родился 6 (18) июня 1812 года в провинциальной купеческой семье. Отец писателя, Александр Иванович Гончаров, был видным представителем богатого торгового купечества в Симбирске начала XIX века. Его много раз выбирали городским головой. Он вел хлебную торговлю, имел на берегу Волги амбары для ссыпки хлеба, а в городе еще свечной завод. По смерти мужа в 1819 году мать Гончарова, Авдотья Матвеевна, продолжала вести крупную торговлю хлебом; она умерла, когда сыну-писателю было 39 лет. Купеческая жизнь и торговля были Гончарову знакомы хорошо и запомнились на всю жизнь, но ни в одном из своих произведений — ни в романах, ни в очерках — он не изображает провинциального торгового купечества.
Дворянство окружало Гончарова с раннего детства. Первоначальное воспитание мальчик получил дома под руководством отставного моряка, симбирского помещика, высококультурного человека Н. Н. Трегубова (в «Воспоминаниях» Гончарова — Якубов). Сблизившись с матерью Гончарова после смерти ее мужа, Трегубов передал ей ведение своего хозяйства, и дом Гончаровых в Симбирске наполнился крепостной прислугой и стал пригородной помещичьей усадьбой. К Трегубову в гости постоянно наезжали соседние помещики. Один из них, Ф. Н. Козырев, читал с мальчиком Расина, Корнеля, Вольтера.
Затем Гончарова отдали в дворянский пансион в имении княгини Хованской, где обучались дети соседних помещиков. Здесь было положено основание изучению иностранных языков, немецкому и французскому, а также знакомству с русской литературой XVIII и начала XIX века. И вновь продолжалось чтение французских классиков: Расина, Вольтера, Руссо, также Тассо, Стерна, Радклиф.
Десяти лет мальчика отвезли (со старшим братом) учиться в Московское коммерческое училище. Выбор этого питомника молодой русской буржуазии определился, наверно, не без тенденции со стороны матери — закрепить сына в купеческой среде. В коммерческом училище Гончаров пробыл восемь лет (1822—1830). Ученье свое он потом «поминал лихом», так как учили плохо. Впрочем, в училище было положено основание изучению Гончаровым английского языка, там пробудилась у него страсть к писательству и там же впервые он прочел Пушкина.
По окончании коммерческого училища Гончаров не отдался коммерческой деятельности. В 1831 году он поступил в Московский университет, на словесное отделение. Состав студенчества был необычный. Одновременно с Гончаровым учились Белинский, Лермонтов, Константин Аксаков,
- 401 -
Герцен, Огарев, Станкевич, Тургенев, историк Строев, славист Бодянский. Не со всеми Гончаров был знаком: например, с Герценом, Белинским, Лермонтовым знакомство не состоялось. Но общий уровень студенчества был высок; «больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория... столкновением, обменом мыслей, чтений».1 На втором году пребывания в университете, когда в словесном отделении одни и те же лекции слушали совместно второй и третий курсы, в аудитории собиралось, по воспоминаниям Гончарова, человек восемьдесят. Из них большинство студентов были разночинцы, «казеннокоштные» бедняки. Встречи и беседы в этой среде (о бедных московских студентах Гончаров вспоминает потом не раз) были для молодого Гончарова целым этапом в его общественной биографии — выходом из замкнутой дворянско-купеческой среды.
Но сближение с разночинным студенчеством не было тесным и глубоким. Ликвидация политических конспиративных кружков братьев Критских и Сунгурова совершилась до его вступления в студенческую среду. Гончаров не соприкасался с «казеннокоштными» студентами, среди которых находился Белинский и где велись горячие споры о литературе и крепостном праве. Его сознание миновала трагическая история Полежаева, как и исключение из университета Белинского. Не затронула его и деятельность, а потом и ликвидация кружка Герцена и Огарева, с их увлечением сен-симонизмом. Гончаров-студент остался вне влияния политического радикализма, социалистических увлечений, как и философских влияний, характерных для кружка Станкевича.
В университете Гончаров слушал лекции выдающихся профессоров. Его учителями были Каченовский, Надеждин, молодые Погодин и Шевырев. Изучались древние языки, и впоследствии Гончаров с успехом преподавал латинский язык молодому Аполлону Майкову. Увлечение произведениями французской литературы в университете сменилось чтением образцов английской и немецкой литератур и знакомством с древними историками и поэтами. Изучались Гомер, Виргилий, Тацит, Данте, Сервантес, Шекспир. Долго пленял Гончарова Тассо, потом он перешел — от Клопштока, Оссиана — «к новейшей эпопее Вальтера-Скотта и изучил его пристально» («Автобиография», 1858).2 Для роста позитивистских воззрений, отличавших впоследствии Гончарова, существенно, что в студенческие годы «все доступно изложенные (без строгих научных форм) сочинения по части естественной истории занимали его внимание» (VIII, 241).
С студенческими годами Гончарова связано его первое выступление в печати. Популярный среди студентов Н. И. Надеждин охотно привлекал в «Телескоп» и «Молву» даровитую студенческую молодежь. Он печатал стихи Станкевича, К. Аксакова, Красова, переводы Белинского, Огарева, Бодянского, исторические работы Строева и т. д. В 1832 году двадцатилетний студент Гончаров поместил в «Телескопе» отрывки из романа Евгения Сю «Аттар-Гюль» — в своем переводе и с немногими реальными комментариями. Этим была отдана дань увлечению современной французской литературой.
В 1834 году Гончаров окончил университет «действительным студентом» словесных наук. Он не вынес из университета определенных планов деятельности. Он не стремился стать ученым, как его товарищи Бодянский и Строев, не стал боевым журналистом, как Белинский, не давал клятв
- 402 -
борьбы с самодержавием, как Герцен и Огарев. Он не сознавал еще себя как писателя. По окончании курса Гончаров вернулся в Симбирск.
Здесь Гончаров сближается снова с дворянским обществом и знакомится с чиновничьим миром. Приняв приглашение губернатора заведовать его канцелярией, Гончаров вошел в круг губернского дворянства, оказавшего влияние на его социально-политические воззрения и доставившего богатый материал для картин провинциальной дворянской жизни в «Обрыве» и в художественных мемуарах «На родине». Служба в канцелярии губернатора раскрыла механику административной машины, целую систему взяточничества.
*
Через год Гончаров переехал в Петербург и поступил на службу в министерство финансов по департаменту внешней торговли на должность переводчика иностранной переписки. Служба ввела Гончарова в особый мир, не знакомый русским беллетристам того времени — Тургеневу, Григоровичу, Достоевскому, Толстому: мир коммерческий и бюрократический. Департамент внешней торговли сосредоточивал в себе руководство международной торговлей России; здесь встречались иностранные негоцианты с крупными русскими экспортерами. Движение хозяйственной жизни страны, рост капитализма и русской буржуазии здесь ощущались весьма явственно. Вырабатывался особый тип бюрократа: бюрократа-финансиста, стоящего на уровне международной экономической политики. Через руки Гончарова, как переводчика иностранной переписки, проходили документы большого значения. В департаменте внешней торговли Гончаров впервые отчетливо осознал значение и рост русской буржуазии — не архаического провинциального торгового купечества, а буржуазии столичной, имевшей дело с операциями крупного международного масштаба. Здесь возникало понимание типа Адуева-старшего, здесь созревали у Гончарова мысли об Андрее Штольце.
В департаменте внешней торговли Гончаров служил под начальством В. А. Солоницына, дворянина по происхождению, финансиста-бюрократа по роду деятельности и вместе с тем писателя. Являясь помощником Сенковского по редакции «Библиотеки для чтения», Солоницын помещал там свои переводы и переделки иностранных романов и компилятивные статьи, писал и стихи. Солоницын был дружески связан с семьей художника Н. А. Майкова и был одним из деятельнейших членов литературно-художественного кружка Майковых. В 1835 году, вскоре по приезде в Петербург, в этот кружок был введен и Гончаров. Во второй половине 30-х годов и в 40-х годах кружок Майковых играл значительную роль в литературной жизни Петербурга. Среди его старших членов участвовали: сам Н. А. Майков, даровитый и плодовитый художник, поэт В. Г. Бенедиктов, соредактор «Библиотеки для чтения» В. А. Солоницын, публицист А. П. Заблоцкий-Десятовский, журналист П. П. Свиньин, И. П. Бороздна. Хозяйка салона, Евгения Петровна Майкова, была писательницей и в 40-х годах печатала свои стихотворения, повести и рассказы. Четыре сына Майковых: Валериан, Аполлон, Владимир и Леонид — стали литераторами, возглавляя второе поколение членов кружка. Жена Владимира, Екатерина Павловна Майкова, писательница-беллетристка и педагог, выступила в печати и 60-е годы. В 40-е годы в кружке бывали иногда Достоевский, Тургенев, Григорович, Некрасов, позже А. М. Скабичевский.
- 403 -
В кружке издавались рукописные альманахи — «Подснежник» и «Лунные ночи». Они были не хуже многих печатавшихся тогда альманахов, в них участвовали и Бенедиктов, и Солоницын, и Майковы, и Гончаров.
Гончарову кружок помог стать писателем. Он сам об этом говорит определенно в автобиографии 1858 года:
«Всё свободное от службы время посвящал литературе. Гончаров много переводил из Шиллера, Гёте (прозаические сочинения), также из Винкельмана, отрывки некоторых английских романистов, и потом уничтожал... Он писал в этом домашнем кругу и повести, также домашнего содержания, т. е. такие, которые относились к частным случаям или лицам, больше шуточного содержания и ничем не замечательные» (VIII, 242).
Гончаров умалчивает, какие именно статьи и в каких журналах помещал он анонимно в те годы. Не называет он и «повестей домашнего содержания». Эти повести теперь уже раскрыты и опубликованы: «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка».
Совсем замалчивает Гончаров, что он писал в майковских альманахах еще и стихи. Эти стихи хронологически предшествовали повестям. Из всех дошедших до нас литературных произведений Гончарова самые ранние — это стихи. Они знаменуют романтический этап его творчества, примыкающий к традиционной элегической лирике времен Жуковского и Батюшкова. «Душевное ненастье», «чувств возвышенных чета» (любовь и дружба), «кумир блаженства», «волшебный миг любви», которая потом «в груди могильным сном уснула», — вот ходовые романтические формулы, использованные молодым поэтом. В стихотворении «Утраченный покой» читаем такие строки:
Так! я страданьям обречен,
Я в бездну муки погружен.
Злодея казнь не так страшна,
Темницы тьма не так душна,
Как то, что грозною судьбой
Дано изведать мне собой!Явная и шаблонная романтика этих стихотворений вскоре стала очевидной и самому поэту. Знаменательно, что Гончаров иронически использует отрывки из своих стихов в «Обыкновенной истории», приписывая их Александру Адуеву («Отколь порой тоска и горе» и «Весны пора прекрасная минула»).
Более ранняя из повестей, «Лихая болесть» (1838), хорошо подходит под определение в автобиографии: «повесть домашнего, шуточного содержания». В ней шутливо изображается страсть семьи Майковых к загородным прогулкам. Попутно — и в этом историко-литературный интерес повести — вышучиваются сентиментальность, ультраромантические декламации, словом, та же внешняя романтика, какая потом подвергалась развенчанию в «Обыкновенной истории». Любопытен образ Никона Устиновича Тяжеленко, чревоугодника и лентяя.
Вторая повесть, «Счастливая ошибка» (1839), сложнее по сюжету и содержательнее психологически. По жанру она принадлежит к «светским повестям» 20—30-х годов, типа повестей Марлинского, с анекдотически замысловатой интригой, с описанием великосветского бала, с романтически приподнятыми диалогами и пр. Но в разработке материалов вторая повесть заметно глубже первой. Подробно раскрывается психология влюбленных. Дана реалистическая, хотя и беглая зарисовка старого, преданного крепостного слуги (типа пушкинского Савельича), который «много господ видел на своем веку, а этакой диковины не слыхивал, чтобы барин у холопа
- 404 -
Прощенья просил!», который отказывается от предлагаемой ему молодым барином вольной и заявляет: «Пока силы есть, пока ноги таскают, не перестану служить вам» (VII, 432, 433). Еще реалистичнее диалог Егора Адуева и старика-управляющего:
«Староста ярославской вотчины пишет, — с трепетом начал Яков, — не будет ли вашей милости помочь как-нибудь двум парням: им пришел черед в рекрутчину; у одного-то осенью отец ногу порубил; сидит на печи, поклавши руки, а он с сыном только и работали на всю семью; остались бабы да малолетки, — хоть по миру идти; — другой сосватал было невесту, сироту — девка работящая, клад для семьи. Такие горемыки, пишет староста, что сердце ноет, глядя на них.
«Адуев нахмурился. — Что?.. невесту?.. Я ему дам невесту! Сумасшедший, вздумал жениться! Вздор! обоих в солдаты, а девку на фабрику; если староста еще будет писать, так и его туда же! Я не люблю шутить! Слышишь ты?
«— Слышу, батюшка Егор Петрович; завтра приготовлю ответ.
«— Дальше!
«— Из курской деревни мужички челобитье прислали, крепко жалуются на неурожай, просят, не отсрочите ли недоимки еще на годик: больно худо пришло.
«— Вздор! чтобы нынешний же год всё до копейки было взыскано, а не то... понимаешь?
«— Ваша барская воля, сударь. Завтра напишу, — отвечал старик и низко поклонился» (VII, 423).
Молодой барин, раздраженный своей любовной неудачей, приказывает сдать в солдаты двух парней, а невесту одного из них — на фабрику.
В таком резком очерке крепостничество не подавалось и в «Обломове». Вообще, романтическая по общему типу, повесть вся пронизывается реалистическими черточками и подготовляет бытовой и психологический реализм «Обыкновенной истории». С этим романом повесть генетически связана образом героя, не случайно носящего то же имя Адуева. Егор и Александр Адуевы близки друг другу по многим психологическим чертам. Любовный эпизод (в «Счастливой ошибке» — с Еленой, в «Обыкновенной истории» — с Надинькой) разработан почти одинаково. Есть связи и с «Обломовым». Мечты Егора Адуева о семейном счастье в деревне очень близки к таким же мечтам Обломова. Сцена с управляющим, где молодой барин внезапно проявляет решимость с завтрашнего дня заниматься хозяйством, а потом об этом совершенно забывает, напоминает Обломова.
Неуклонное движение Гончарова-художника в направлении от романтизма к реализму на протяжении четырех-пяти лет свидетельствует о большой внутренней работе писателя, а с другой стороны, обусловливалось и внешними влияниями. Если сразу заметны связи его стихов и повестей с русской романтической традицией, с элегиками, с Лермонтовым, даже с Батюшковым и одновременно с Марлинским, то без труда можно обнаружить и иные воздействия. Влияние Пушкина, которого Гончаров продолжал с увлечением изучать и в Петербурге, чувствуется в простоте и ясности прозаического языка двух повестей Гончарова. В ведении повествования, в обрисовке настроения молодого героя «Счастливой ошибки» кое-что напоминает молодого Берестова в «Барышне-крестьянке».
Одновременно ощущается и влияние Гоголя. Ненасытный аппетит Тяжеленко, описание его наружности и непомерной лени в «Лихой болести» живо напоминают гротескные эпизоды в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В «Счастливой ошибке» шаржированное
- 405 -
описание наружности барона Нейлейна, лирическое отступление о сумерках, самый эпиграф из «Сорочинской ярмарки» — отзываются гоголевской манерой. Годы, когда подготовлялись и писались стихи и проза для майковских альманахов, были годами печатания «Повестей Белкина», «Капитанской дочки», полного «Онегина», «Вечеров на хуторе», «Миргорода», «Ревизора», годами расцвета пушкинского и гоголевского реализма. Реализм Гончарова созревал под этим благотворным влиянием.
Гончаров сам указывает, как в те же годы он тщательно изучал английскую литературу, в частности, романы Вальтера Скотта. Гончаров внимательно следил также за первыми «очерками» и романами Диккенса, за французской литературой. Нравоописательные очерки, очерки «физиологические» тогда выдвигались в литературе. С этим новым жанром связано третье из известных нам прозаических произведений Гончарова — «Иван Савич Поджабрин. Очерки». Напечатан он был только в 1848 году, после «Обыкновенной истории», но написан, по удостоверению автора, еще в 1842 году, т. е. вскоре после «Счастливой ошибки». Это — «физиологический» очерк, посвященный описанию жизни большого столичного дома, с его жильцами, слугами, дворниками, лестницами, дворами. Несомненно, Гончаров испытал здесь влияние петербургских повестей Гоголя, в частности, «Невского проспекта». Гончаров навсегда сохранил интерес к таким темам и возвращался к ним и в «Обломове», и в газетных фельетонах, и в позднейшем очерке «Май месяц и Петербурге». «Поджабрин» написан раньше многих других известных русских «физиологических» очерков.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что содержание и значение «Поджабрина» не сводится к бытовому описанию жизни большого петербургского дома. До последнего времени критика как-то недооценивала, что в это «физиологическое» описание молодой Гончаров включил печальную историю горничной Маши. Старый слуга Авдей, также хорошо обрисованный, мужественно заступается за соблазненную и отвергнутую барином Поджабриным, Машу: «Что вы обижаете девчонку-то?.. Ведь и она человек: любит тоже» (VII, 45). Здесь явственно ощутима связь Гончарова с гуманистическими традициями натуральной школы.
Недавно стало известно, что в 1843—1844 годах Гончаров работал над более крупным произведением — романом «Старики». Ценное упоминание об этом имеется в письме В. А. Солоницына к Гончарову от 1 декабря 1843 года: «Вам, почтеннейший Иван Александрович, грех перед богом и родом человеческим, что Вы только по лености и неуместному сомнению в своих силах не оканчиваете романа, который начали так блистательно. То, что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант. Я имел честь неоднократно докладывать это Вам лично, и теперь повторяю письменно. Помните же! ради Мадонны, пишите! Мы найдем доброе место всему, что Вы ни сделаете». В другом письме, убеждая Гончарова продолжать роман, Солоницын возражает на колебания требовательного к себе автора: «... Вы напрасно говорите, будто Вы мало еще видели и наблюдали в жизни: напротив, я всегда замечал, что Вы имеете дар наблюдательности и видите много таких вещей, которых другие не умеют подметить...».1
Взыскательный художник, Гончаров не внял мольбам Солоницына, прекратил работу над романом и, повидимому, уничтожил рукописи. Можно только догадываться, что замыслы и зарисовки «Стариков» долго спустя откликнулись в «Обрыве», в идиллии о стариках Молочковых.
- 406 -
*
Годы 1832—1844, от переводов из Евгения Сю и до «Поджабрина» и «Стариков», были для Гончарова годами литературного ученичества. Он не торопился печататься, две ранние повести и роман так и оставил в рукописях, а «Поджабрина» продержал в бумагах шесть лет. За протекшие десять лет Гончаров многому учился как у русских, так и у западных мастеров слова.
Многим обязан Гончаров в литературном своем развитии кружку Майковых. Общение с видными членами этого кружка, Валерианом Майковым и А. П. Заблоцким-Десятовским, было для него самым существенным. Роль молодой, растущей русской торгово-промышленной и финансовой буржуазии в социально-экономической жизни страны Гончаров осязательно чувствовал во время своей службы в департаменте внешней торговли. К этому ряду наблюдений прибавился еще другой — над столичной крупной бюрократией типа тех же Солоницына и Заблоцкого-Десятовского. Это были люди высокого культурного уровня, широкого политического кругозора, не просто ходившие на службу, а делавшие «политику», причастные к публицистике и литературе. Среди них бывали нередко дворяне, близкие к буржуазии; на глазах у Гончарова они слагались в особый социально-психологический и бытовой тип столичных буржуазных бюрократов. Автор «Обыкновенной истории» видел, как в широкой столичной дворянско-буржуазной и бюрократической среде складывался тип и идеал «положительного человека», стоящего на уровне европейской культуры, дельца, собственными силами создающего свою «фортуну». Для такого «положительного человека» были ненавистны лень и «бездейственность», «привилегированная праздность» усадебного дворянства. Хозяйственная и государственная убыточность крепостного права становилась в этой деловой среде очевидной.1 Кружок способствовал осмыслению этих непосредственных жизненных наблюдений, формированию социальных и экономических воззрений писателя.
*
К половине 40-х годов воззрения Гончарова достаточно определились. Назревала потребность выступить в печати. Майковский кружок не располагал своим собственным органом. Правда, кое-кто из членов кружка печатался в «Библиотеке для чтения». Но Гончаров предпочел обратиться в «Современник», к Белинскому, и этот выбор показателен.
Гончаров пришел в «Современник» не один, а вместе с Вал. и Ап. Майковыми, В. Солоницыным и А. Заблоцким. Белинский, как видно из его писем 1847 года, очень огорчался, что в «Отечественных записках» сотрудничают такие талантливые люди, как Вал. Майков и Заблоцкий-Десятовский. Не поладив с Краевским, Вал. Майков сам обратился в «Современник» с предложением сотрудничать и начал там печататься. В 1848 году и Заблоцкий стал усердно (анонимно) печататься в «Современнике».
Роман «Обыкновенная история», очерк «Иван Савич Поджабрин» и некрологическая статья о Валериане Майкове были напечатаны один за другим в «Современнике» 1847 и 1848 годов, при Белинском. Общение с Белинским и его группой в 1846—1848 годах составило новый, крупный этап в литературно-общественной биографии Гончарова.
- 407 -
Кружок Белинского встретил Гончарова не очень приветливо, как человека инородных взглядов и настроений и лично не обаятельного. Сам Гончаров в позднейших высказываниях оттенял свои расхождения с кружком в вопросах философских, политических и социальных. В «Необыкновенной истории» он писал: «... я литературно сливался с кружком, но во многом, и именно в некоторых крайностях отрицания, не сходился и не мог сойтись с членами его. Разность в религиозных убеждениях и некоторых других понятиях и взглядах мешала мне сблизиться с ними вполне... Мне было уже 35 или 36 лет — и потому я, развившись много в эстетическом отношении в этом кругу, остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания». И еще там же: «Я разделял во многом образ мыслей, относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничений для развития и т. д. Но никогда не увлекался юношескими утопиями в социальном духе идеального равенства, братства и т. д., чем волновались молодые умы. Я не давал веры ни материализму — и всему тому, что из него любили выводить — будто бы прекрасного в будущем для человечества. К власти я относился всегда так, как относится большинство русского общества...» (VIII, 256, 260).
Гончаров здесь преуменьшает влияние кружка и в особенности Белинского. Несомненно, он вступил в кружок зрелым человеком, несомненно, он сберег свои «религиозные убеждения», «не давал веры материализму», политическому и социальному радикализму. Но неверно, будто Гончаров «остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания». В том столкновении буржуазного умеренного либерализма и разночинского демократизма, какое составило сущность общения Гончарова с кружком, воззрения Гончарова обогатились новыми элементами общественной критики, гуманизма, социальной прогрессивности. В «Предисловии к роману „Обрыв“», написанном в 1869 году, Гончаров горячо говорит о Белинском и его сторонниках, подготовлявших своей пропагандой освобождение крестьян и другие реформы:
«Эти люди, рассеянные всюду, сеяли свои семена, борясь с лишениями, принося жертвы, живя трудно, и проповедывали потребность новых перемен взамен изветшавших пружин старого механизма. Там история, вообще наука, опыт, таланты, зрелость мысли и труда призваны были на помощь делу...
«Крепостное право, телесное наказание, гнет начальства, ложь предрассудков общественной и семейной жизни, грубость, дикость нравов в массе — вот что стояло на очереди в борьбе и на что были устремлены главные силы русской интеллигенции тридцатых и сороковых годов» (VIII, 107).
Но Гончарову приходилось слышать от Белинского не только о крепостном праве и телесных наказаниях: он слышал и об идеях социализма, коммунизма. Гончаров неоднократно говорит, как смело и резко высказывался Белинский по политическим и социальным вопросам и событиям. «Это был не критик, не публицист, не литератор только — а трибун» («Заметки о личности Белинского»; VIII, 85). Эту превосходную формулу Гончаров повторяет не раз.
Личность и воззрения Белинского произвели на Гончарова огромное впечатление. В своих мемуарных высказываниях Гончаров постоянно возвращается к Белинскому. Кроме превосходных «Заметок о личности Белинского», Гончаров много говорит о Белинском в «Необыкновенной истории». В воспоминаниях о симбирской жизни («На родине») он вдруг тепло вспоминает
- 408 -
о Белинском. Хорошо говорит он о великом критике в «Мильоне тарзаний» и в других статьях. Гончаров учился у Белинского не только «с голоса», но и по журнальным статьям, и это ученичество началось задолго до первой личной встречи в 1846 году. В своих разновременных и разнохарактерных высказываниях Гончаров нередко ссылается на ту или иную статью Белинского. На примере отношения Гончарова к Гоголю, гоголевскому реализму можно видеть, как влияли статьи Белинского на Гончарова. Гончаров писал: «... от Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа пушкино-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разрабатываем завещанный ими материал» («Лучше поздно, чем никогда», 1879; VIII, 145). О Гоголе как главе школы Гончаров говорит в своих статьях, воспоминаниях и письмах очень часто, чаще, чем о Пушкине. После того как эстетствующая дворянская критика, в лице Дружинина, пыталась в борьбе с Белинским опорочить гоголевское «сатирическое направление», Гончаров твердо высказался за гоголевское направление.
Влияние Белинского на Гончарова сказывалось и во многих других случаях. В «Заметках о личности Белинского» Гончаров пишет: «... Белинский боролся, чтобы добывать какую-нибудь новую или расширить старую свободу... Приведу пример, в котором Белинский является ревнителем женской эмансипации...» (VIII, 93). И дальше рассказано, как Белинский настаивал, чтобы Гончаров читал романы Жорж Санд, например, «Лукрецию Флориани», и как Гончаров, прочтя «Лукрецию», будто бы взял оттуда не «тенденцию» женской эмансипации, а «художественность исполнения». Однако и в «Обыкновенной истории» образ жены Адуева-старшего, Лизаветы Александровны, и в «Обломове» образ Ольги Ильинской, и в «Обрыве» образ Веры изображены и осмыслены именно в тесной связи с проблемой «женской эмансипации».
Письмо Белинского к Гоголю о «Выбранных местах из переписки с друзьями», конечно, было известно Гончарову: письмо было распространено в копиях, его читали в кружках; из непосредственных бесед с Белинским ему также были известны мысли Белинского о крепостническом дворянстве, о росте крестьянских восстаний, о неотложности отмены крепостного права.
2
Пройдя школу двух литературных групп — Майковых и Белинского, Гончаров выступил в печати в качестве романиста. О своем первом романе он писал: «Роман задуман был в 1844 году, писался в 1845, и в 1846 мне оставалось дописать несколько глав» («Необыкновенная история»; VIII, 249).
Гончаров читал рукопись у Белинского. Белинский «осыпал... горячими похвалами» автора (Гончаров, VIII, 249). Накануне первых встреч с Гончаровым, в январе 1846 года Белинский напечатал в «Отечественных записках» свой обзор «Русская литература в 1845 году» и словно предсказал появление «Обыкновенной истории». Вскользь сказав о людях, «которые ждут своего счастия от денег, от материальных выгод», которые «крепко держатся пословицы: „на бога надейся, сам не плошай“», Белинский противопоставляет этим дельцам «романтических ленивцев», «вечно бездеятельных или глупо деятельных мечтателей» и дает развернутую характеристику мечтателей-романтиков: «Недовольство судьбою, брань на толпу, вечное страдание, почти всегда кропание стишков и идеальное обожание неземной девы — вот родные признаки этих „романтиков“ жизни... Им непременно нужна душа, которая поняла бы их, но они решительно не знают, что̀ им
- 409 -
делать с такою душою, когда им удастся найти ее, потому что их страсти в голове, а не в сердце, и счастливая любовь становит их в тупик. Поэтому они предпочитают любовь непонятую, неразделенную любви счастливой и желают встречи или с жестокою девою, или с изменницей...».1 Белинский считает, что «такие романтики — не случайное явление. Они были необходимым результатом прививного образования нашего общества; их история тесно соединена с историею нашей литературы, с которою также тесно слита и история образования нашего общества» (X, 101; разумелось общество дворянское). Белинский утверждает, что отношение к ним должно быть только критическое, ироническое: «Нельзя не подивиться, что юмор современной русской литературы до сих пор не воспользовался этими интересными типами, которых так много теперь в действительности, что ему было бы где разгуляться!» (X, 98).
И вот, словно в ответ на статью Белинского, Гончаров прочел в его кружке «Обыкновенную историю». Естественно, что Белинский, а вслед за ним Панаев и другие участники кружка расхвалили роман Гончарова.
Читатели приняли роман горячо. Он оказался весьма созвучен современности. Три образа привлекли наибольшее внимание: Адуев-младший, Адуев-старший и Лизавета Александровна Адуева. Центральным образом явился Александр Адуев; ему и Белинский посвятил наибольшее внимание в критическом разборе романа. Гончаровым дана сложная психологическая биография героя — усадебное воспитание, характеристика юности, история духовных исканий, опытов самоопределения в поэтическом творчестве, в журнальной деятельности, в службе, и сердечных увлечениях. Описаны кризисы, приводившие к разочарованиям, к бегству из светского круга, к попытке самоубийства.
Насыщенность психологизмом, сосредоточенность на анализе сложной индивидуальности героя ставили «Обыкновенную историю» в линию психологических романов европейской литературы. Но еще ближе, по художественной преемственности, образ Александра Адуева стоял к образам Онегина и Печорина. Аналогия с Пушкиным и Лермонтовым усиливалась еще тем, что Гончаров, как и они, отнесся к своему герою критически. Критицизм был явственным. Белинский писал В. П. Боткину (17 марта 1847 года): «Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сантиментальности, провинциализму!».2 Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский пишет об Адуеве: «Он был трижды романтик — по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем как и одной из этих причин достаточно, чтоб сбить с толку порядочного человека и заставить его наделать тьму глупостей» (XI, 124). И дальше, опираясь на художественный материал «Обыкновенной истории» и дополняя его другими данными — из чтений, из личных наблюдений, наконец, из итогов своей собственной духовной эволюции, куда входила особым этапом «премухинская гармония», Белинский создает синтетическую — и сатирическую — характеристику русского романтика, питомца усадебной барской культуры. Эта характеристика совпадала со взглядами самого Гончарова и в психологических элементах, и в оценочно-критической тенденции. Прогрессивность романа Гончарова и заключалась как в богатой художественной разработке психологии Адуева, так и в критическом осмыслении образа.
- 410 -
Ни сам Гончаров, ни Белинский еще не пользуются для определения Адуева той формулой, которая здесь подходит не меньше, чем формула «романтик», именно: «лишний человек». В той же статье, где Белинский характеризовал Адуева-младшего, он анализирует и роман Герцена «Кто виноват?», а в нем — образ Бельтова. Белинский понимает Бельтова именно как «лишнего человека». Он определяет его как «человека, жаждавшего полезной деятельности и ни в чем не находившего ее, по причине ложного воспитания», как «натуру..., нисколько не практическую», притом не имеющую «особенного призвания», «чтобы не праздно жить на свете и не скучать от бездействия». Но Белинский считает, что «в последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшею, генияльною натурою...; это уже не Бельтов, а что-то вроде Печорина... Не понимаем, зачем автору нужно было с своей дороги сойти на чужую!» (XI, 114, 115). Белинский уже осознает инородность «лишнего человека» романтику. Белинский зачисляет Адуева в группу «дряблых, бессильных, недоконченных натур» (XI, 133), т. е. определяет героя чертами, которые привычны в характеристике «лишних людей». Но в 1847 году формула «лишний человек» еще не существовала, она дана Тургеневым в печати только в 1850 году. С тех пор русская критика не раз применяла эту формулу к Александру Адуеву.
Включая Адуева-младшего в категорию «лишних людей», мы тем самым связываем «Обыкновенную историю» с животрепещущей, очередной темой русской литературы конца 40-х годов. В 1845—1846 годах в «Современнике» печатался, а в 1847 году вышел отдельным изданием роман А. Герцена «Кто виноват?». В том же 1847 году в «Отечественных записках» появилась повесть М. Салтыкова «Противоречия», а в 1848 году — «Запутанное дело»; в 1849 году в «Современнике» — «Гамлет Щигровского уезда», а в 1850 году — «Дневник лишнего человека» И. С. Тургенева; в 1852 году начата поэма Некрасова «Саша». Не перечисляем других, менее известных, произведений, где воссоздаются образы «лишнего человека». Время около 1847—1852 годов было в русской литературе периодом особого внимания к теме о «лишнем человеке». Русская литература быстро осуществила ту задачу, какую Белинский намечал в статье 1846 года. А Гончаров одним из первых включился в круг писателей, изображавших «лишних людей». Гончаров отрицательно отнесся к типу «лишнего человека». Он и впоследствии воссоздавал этот образ, и так же отрицательно. Негативному образу Гончаров противопоставил образ позитивный — Адуеву-младшему Адуева-старшего.
Из наблюдений юности, из общения с такими характерными представителями русской бюрократии, сливавшейся с буржуазией, как Заблоцкий-Десятовский и Солоницын, из богатого житейского опыта у Гончарова сложился образ делового, «положительного» человека, просвещенного бюрократа и негоцианта. Этот образ он и воссоздал в романе как противовес мятущемуся, не находящему дела «лишнему человеку». Впервые в русской литературе был выведен герой-чиновник, герой-бюрократ. Он изображен совсем иначе, чем это было в традициях русской литературы. У Гончарова чиновник — не «крапивное семя», «приказный» из сатир и комедий XVIII века или взяточник из «Ревизора», каких надо высмеивать и обличать, и не «униженные и оскорбленные» Симеон Вырин, Акакий Акакиевич или Макар Девушкин, каких надо пожалеть. У Гончарова Адуев-старший — действительный статский советник, накануне представления в тайные, он правая рука сановника, директор канцелярии. Он просвещен и культурен: «знает наизусть не одного Пушкина», «читает на двух языках всё, что выходит
- 411 -
замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы — это его вкус, — часто бывает в театре...». Это — человек труда и твердых правил, «любит заниматься делом» и убежден: «мы принадлежим к обществу..., которое нуждается в нас» (I, 45). Ни Пушкин, ни Гоголь, ни молодые Тургенев, Достоевский и Некрасов так не подходили к изображению чиновника.
Видный столичный чиновник, Адуев-старший вместе с тем негоциант, пайщик стеклянного и фарфорового завода. В эпилог романа Адуев сообщает жене: «... я расчелся с своими компаньонами и завод принадлежит мне одному. Он приносит мне до сорока тысяч чистого барыша...» (I, 258). В качестве заводчика Адуев связан с деловым миром столицы (впрочем, автор не дает читателям широких картин жизни петербургской буржуазии). Он, например, в приятельских отношениях с крупным журналистом, которому отдает на отзыв литературные опыты племянника. Характерны его суждения о писательской профессии: талант — «это капитал — стоит твоих ста душ»; «чем больше тебя читают, тем больше платят денег»; «нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голода на чердаке» (I, 49). Характерно и высокое мнение Петра Ивановича о значении таланта в торговле и промышленности. Когда племянник ораторствует, что в поэте «таится присутствие высшей силы», дядя прерывает:
«Как иногда в других — и в математике, и в часовщике, и в нашем брате, заводчике. Ньютон, Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и проч. Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор лучше саксонского или севрского, так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы?» (I, 49—50).
Встречу мечтателя-племянника с практическим дядей Гончаров осмысливает как «сознание необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела, в борьбе с всероссийским застоем» (VIII, 142).
Смелой новизной было такое изображение чиновника-заводчика в романе. В контрасте с образом «лишнего человека» образ этот не был разработан в тогдашней русской беллетристике и критике. Но Белинский чутко откликнулся и на это нововведение. Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский пишет, что «Петр Иваныч — не абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь рост кистью смелою, широкою и верною» (XI, 133). «Петр Иваныч выдержан от начала до конца с удивительною верностию... Петр Иваныч эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям; но вместе с этим он не только не зол, но положительно добр. Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, и что̀ обещает, то непременно сделает. Словом, это в полном смысле порядочный человек, каких, дай бог, чтоб было больше» (XI, 134). Такая характеристика не лишена тенденциозности. Она близко соответствовала тому, что думал и писал Белинский в те месяцы о «романтиках» и буржуазии в жизни. В декабре 1847 года он писал Боткину. «Пока буржуази есть и пока она сильна, я знаю, что она должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества».1 Здесь сказалась глубокая способность Белинского к диалектическому пониманию социального прогресса. Тех, кто читал тогда статьи Белинского, положительная оценка образа Петра Ивановича Адуева не могла смущать: они помнили, как Белинский
- 412 -
оценивал буржуазию, например, в статье о «Парижских тайнах» Евгения Сю (1844). Сочувствие «деловым», «положительным» образам буржуазных героев у Белинского могло быть только условным, ограниченным. В письме к Боткину от 8 марта 1847 года Белинский пишет: «Уважаю практические натуры, les hommes d’action, но если вкушение сладости их роли непременно должно быть основано на условии безвыходной ограниченности, душной узкости — слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человеком просто, но лишь бы всё чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко».1 В положительную оценку Петра Ивановича Адуева Белинский внес существенное ограничение. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» он пишет об Адуеве-старшем: «... мантия его практической философии была сшита из прочной и крепкой материи, которая хорошо могла защищать его от невзгод жизни. Каковы же были его изумление и ужас, когда, дожив до боли в пояснице и до седых волос, он вдруг заметил в своей мантии прореху — правда, одну только, но зато какую широкую. Он не хлопотал о семейственном счастии, но был уверен, что утвердил свое семейственное положение на прочном основании, — и вдруг увидел, что бедная жена его была жертвою его мудрости, что он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере. Какой урок для людей положительных, представителей здравого смысла! Видно, человеку нужно и еще чего-нибудь немножко, кроме здравого смысла!» (XI, 134).
Здесь понимание вещей у критика и романиста совпало. Сам Гончаров так изображает историю Адуева-старшего, чтобы в ее финале, в зените житейского преуспеяния героя, подвергнуть его суровым испытаниям. Рядом с двумя Адуевыми Гончаров ставит образ жены Петра Ивановича, Лизаветы Александровны. Образ этот принадлежит к лучшим женским образам у Гончарова, он очень обогащает первый его роман, он с честью выдерживает сопоставление и со многими образами Тургенева. И если история душевных скитаний Адуева-младшего разработана психологически полно и правдиво, поднимаясь в некоторых моментах до прямого драматизма, то и психологическая история Лизаветы Александровны ценна тем же драматизмом. Через весь роман, настойчиво и планомерно, Гончаров проводит душевную историю этой женщины, умной, чуткой, сердечной, с духовными интересами, с готовностью к труду, но поставленной мужем в условия сытой, праздной буржуазной жизни. В эпилоге Гончаров раскрывает печальные результаты: апатию, равнодушие, потерю интереса к жизни. Когда спохватившийся муж предлагает ей предоставить полную свободу, жена отвечает:
«Боже мой! зачем мне свобода?.. что я стану с ней делать? Ты до сих пор так хорошо, так умно распоряжался и мной, и собой, что я отвыкла от своей воли; продолжай и вперед; а мне свобода не нужна». И дальше: «Что за странная моя судьба! — прибавила она почти с отчаянием. — Если человеку не хочется, не нужно жить... неужели бог не сжалится, не возьмет меня?» (I, 255, 259). И чтобы у читателя не осталось сомнения, что думает сам автор об изображаемой сердечной драме, как он понимает тут роль своего делового героя, Адуева-старшего, Гончаров разъясняет:
«Методичность и сухость его отношений к ней простерлись, без его ведома и воли, до холодной и тонкой тирании, и над чем? над сердцем женщины! За эту тиранию он платил ей богатством, роскошью, всеми наружными и, сообразными с его образом мыслей, условиями счастья, — ошибка ужасная, тем более ужасная, что она сделана была не от незнания, не от
- 413 -
грубого понятия его о сердце — он знал его — а от небрежности, от эгоизма!» (I, 257).
Здесь Гончаров сближается с Белинским и с Жорж Санд, с той постановкой проблемы о «женской эмансипации», какая выдвигалась в жизни и литературе конца 40-х годов. Такой постановке проблемы женского вопроса Гончаров остался верен и позже, в двух следующих романах.
Знаменательной чертой, характерной для трех романов Гончарова, является то, что сильная, душевно богатая героиня оказывается мерилом духовной и общественной ценности героя. Требовательностью женщины определяется ценность и обоих Адуевых, и Обломова со Штольцем, и Райского с Волоховым. Здесь Гончаров аналогичен Тургеневу с его Наташей, Еленой, Асей, Марианной.
В раскрытии краха буржуазных идеалов семейного благополучия, в постановке проблемы «женской эмансипации», в разоблачении дворянского романтизма и прекраснодушия, т. е. во всем лучшем и наиболее прогрессивном, что дано в «Обыкновенной истории», сказались как рост собственной творческой мысли молодого Гончарова, так и прямое влияние Белинского, отразившееся и на последующем творчестве Гончарова.
Возникновение замыслов и начальная работа над «Обрывом» почти совпадают с печатанием «Обыкновенной истории». В феврале 1848 года цензура разрешила отдельное издание «Обыкновенной истории». А в марте 1849 года уже разрешено печатание «Литературного сборника», издававшегося редакцией «Современника», где появляется «Сон Обломова». И в том же 1849 году, во время поездки в Симбирск, был задуман «Обрыв». Дело здесь не только в хронологической близости этих романов, но и в тесной связи их идейных замыслов. Сам Гончаров настаивал на единстве этих замыслов и огорчался, если этого не понимали. В предисловии к «Обрыву» (1869) Гончаров пишет: «... никто не потрудился взглянуть попристальнее и поглубже, никто не увидел теснейшей органической связи между всеми тремя книгами: „Обыкновенной историей“, „Обломовым“ и „Обрывом“! Белинский, Добролюбов — конечно, увидели бы, что в сущности это одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отразились три эпохи — старой жизни...» (VIII, 118). Десять лет спустя, в 1879 году, Гончаров вновь заявляет о своей трилогии: «... вижу не три романа, а один. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею...» («Лучше поздно, чем никогда»; VIII, 141). Гончаров связывал три романа воедино как общей идеей, так и родственными героями: Александром Адуевым, Обломовым и Райским. Романы писателя росли из одного корня, из целостной художественной и идеологической концепции — реалистической и обличительной. Впоследствии эта целостность была нарушена. В 60-е годы Гончаров подпал под влияние реакционных сил: либерализм его выродился в консервативность, критический реализм потерял свою былую силу и остроту, и это, как увидим, нарушило во многом органическую связь «Обрыва» с «Обломовым» и «Обыкновенной историей».
Но важно установить, что второй и третий романы задумывались еще при Белинском и в сфере его влияния. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», говоря о метаниях молодых дворян-романтиков от любви к мечтам о славе, от этих мечтаний — к науке, от науки — к искусствам, Белинский пишет: «Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому гению не даются без тяжкого и продолжительного труда, и, что̀ всего хуже и обиднее для романтиков, сначала труда чисто материяльного и механического. Остается поэзия — и вот они бросаются к ней со всего размаху, и еще ничего не сделавши,
- 414 -
в мечтах своих украшают себя огненным ореолом поэтической славы». Одно из их заблуждений состоит «в нелепом убеждении, что в поэзии нужен только талант и вдохновение, что кто родился поэтом, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать...» (XI, 126). Здесь предсказана вся история Райского. Мысль о необходимости для художника (первоначальное заглавие «Обрыва» было «Художник») «труда чисто материального и механического» разработана Гончаровым чрезвычайно тщательно и разносторонне — в эпизодах с музыкантом-профессионалом виолончелистом, с художником-профессионалом Кирилловым и, наконец, с опытами самого Райского в области живописи, скульптуры, литературы.
Творческие неудачи Райского Гончаров связывает с его социальным бытием:
«Райский талантлив — но приготовительная школа для таланта трудная, требующая всего человека, и для него, выросшего еще в период обломовского сна, неодолима...» (VIII, 152).
«Период обломовского сна» Гончаров задумывал изобразить в новых двух романах, связывая их с «Обыкновенной историей». Получался остро критический замысел воссоздать дворянскую обломовщину, начиная с усадебного романтизма Адуева-младшего, продолжая синтетической картиной вырождающейся Обломовки, беспощадным анализом дворянина-упадочника Обломова и заканчивая разоблачением барина-дилетанта Райского, застойной жизни и крепостничества в Малиновке, а также захватывая своеобразные модификации обломовщины столичной, великосветской («София Николаевна Беловодова») и провинциальной городской.
Одновременно предполагалось противопоставить образам обломовщины образы приобретателей, дельцов, заводчиков. «Положительные герои» шли от той жизни, в какой вращался сам Гончаров, от того круга буржуазных литераторов, с какими Гончаров встречался у Майковых. Образы подобных «положительных героев» могли быть поддержаны Белинским лишь в малой мере и с такими оговорками, которые обнажали исконное расхождение революционного демократизма и буржуазного либерализма.
Белинский умер в 1848 году. В следующие за этим годы литературные замыслы Гончарова, возникшие еще при жизни критика, дозревали и потом осуществлялись, но уже без благотворного, авторитетного вмешательства Белинского.
После «Обыкновенной истории» Гончаров напечатал в «Современнике» в 1848 году пространные «Письма столичного друга к провинциальному жениху»; здесь, в духе фельетонов И. И. Панаева и А. В. Дружинина-Чернокнижникова, Гончаров рассуждает о том, что такое светский «франт», «лев», «человек хорошего тона», «порядочный человек», где лучше покупать модное платье, карету и т. д. Эти фельетоны свидетельствуют о снижении писательского уровня.
Наступившая реакция, как и смерть Белинского, приостановили осуществление плана романической трилогии. Кроме того, писатель принял приглашение совершить кругосветное путешествие, из которого родились новые творческие замыслы.
3
Книга путевых очерков под заглавием «Фрегат Паллада» не входила и те планы, какие намечались Гончаровым в 1848—1849 годах. Само участие в путешествии вокруг света было для Гончарова неожиданностью, но оно не было случайностью. Еще в отрочестве, от Н. Н. Трегубова, Гончаров заразился любовью к морским путешествиям. Он прошел под руководством
- 415 -
старого моряка необычный для тогдашнего среднего образования курс морских наук (с изучением морских инструментов). По указаниям Трегубова, а потом и самостоятельно он перечел целую библиотеку морских путешествий, начиная с Кука. В кружке Майковых бывал известный путешественник-естествоиспытатель Г. С. Карелин, и возможно, что рассказы о его путешествиях влияли на Гончарова. Другой член майковского кружка, А. П. Заблоцкий-Десятовский, путешествовал по Франции и Великобритании; его обширные «Воспоминания об Англии» были напечатаны в «Отечественных записках» в 1849 году. Интерес к Японии обострился после того, как в 1851 году были вновь напечатаны известные «Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах», а в следующем 1852 году в «Современнике» появились статьи Е. Ф. Корша «Япония и японцы».
Впрочем, литературный интерес к Японии был отражением экономического и политического интереса к этой стране. В те годы укреплялись международные связи Японии. В 1852 году русское правительство направило в Японию экспедицию под руководством опытного адмирала Путятина. Должность секретаря адмирала, которому надлежало литературно описать путешествие, согласился принять на себя Гончаров. Путешествие заняло полных два года, а возвращение через Сибирь — еще полгода: это составило целый период в жизни Гончарова. Результатом явилось обширное двухтомное произведение «Фрегат Паллада», ценное само по себе и тесно связанное идейно с романом «Обломов».
Само начальство, приглашая Гончарова на службу в секретари начальника экспедиции, прямо рассчитывало, что Гончаров опишет в печати кругосветное путешествие. Кандидатуру Гончарова как секретаря-писателя поддерживали морской министр и министр народного просвещения А. С. Норов. Позже, в 1853 году, адмирал Путятин писал Норову уже из Нагасаки: «... много я обязан вам за рекомендацию и содействие в назначении г. Гончарова в состав нашей экспедиции. Он чрезвычайно полезен мне как для теперешних наших сношений с японцами, так и для описания всех происшествий, которые со временем должны сделаться известными публике... Имея дарование живо представлять предметы, г. Гончаров в состоянии будет придать им занимательный и яркий колорит...».1
И сам Гончаров ставил перед собой ту же задачу. Он вел свой путевой дневник и особо подробно записывал выдающиеся эпизоды. Из путешествия Гончаров пишет Майковым: «... я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова, всё это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас...» (VIII, 287). Он посылал с дороги своим друзьям в Россию обширные письма, литературно разработанные. Собрав их потом обратно от адресатов, Гончаров положил их, вместе с записями дневника, в основу своих путевых очерков. В написании «Фрегата Паллада» ему помог и «Судовой журнал», который он вел как секретарь адмирала Путятина.
Перед отъездом и во время плавания Гончаров перечитал огромное количество «путешествий»; список упоминаемых им во «Фрегате Паллада» книг о путешествиях содержит свыше тридцати названий. Иногда, опираясь на изученную литературу путешествий, Гончаров давал целые историко-географические экскурсы — о Капштадте и Капской колонии, о Филиппинских островах, о Корее.
- 416 -
Гончаров не ставил своей задачей вести работу научного, исследовательского порядка. Адресатам своих путевых писем и читателям он постоянно об этом твердит. В письме об Англии он говорит: «Удовольствуйтесь беглыми заметками не о стране, не о силах и богатстве ее, не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах» (V, 29).
Одно из основных заданий, поставленных Гончаровым во «Фрегате Паллада», — литературно-художественное: дать в свободно развернутых очерках подробные описания и характеристики непривычных для русских читателей экзотических стран, их природы, людей, быта.
Пейзажи изобильны во «Фрегате Паллада»: описание вечера и ночи в атлантических тропиках, вечер на Анжерском рейде, ночь на Сингапурском рейде, буря в Тихом океане, картина Ликейских островов, описание природы Маниллы. Пейзажные малые вставки разбросаны всюду в путевых очерках Гончарова, их подчас трудно выделить, так как они тесно связаны с другими элементами повествования. Но в своей совокупности они создают для читателя непрерывную панораму — от Англии до Японии. При скудности прежней русской литературы о путешествиях, при малой известности стран и морей, где путешествовал Гончаров, при большом даровании его в описательском роде, — пейзажи «Фрегата Паллада» должны были вызывать большой интерес у читателей. Пейзажи у Гончарова являются точными зарисовками виденного, но вместе с тем они эмоциональны. Живо чувствуется их связь с пейзажами у Гоголя: то же изобилие фигур восклицания и вопрошения, тот же авторский лиризм. Иногда Гончаров возвышается до пафоса. Описание природы становится динамичным, олицетворения подымаются до символичности, некоторые из пейзажей Гончарова стали классическими; их, как образцовые, разбирают в школе.
Своеобразную черту их составляют нередкие у Гончарова сопоставления экзотического с привычным и милым писателю русским пейзажем. Перед читателем словно происходит тяжба между природой тропической и северной. Автор не скрывает своего тяготения, даже пристрастия, к русскому пейзажу. О картине дня под тропиками Гончаров даже пишет: «Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день» (V, 89). Общеизвестен его ответ на приглашение старого моряка полюбоваться величественной картиной урагана в Индийском океане: «Безобразие, беспорядок!» (V, 210).
В этих противопоставлениях ярких картин тропической природы скромному русскому пейзажу, излагаемых чаще всего в шутливой форме, сказалось отталкивание Гончарова от традиционных романтических морских пейзажей в повестях типа Марлинского. Он пишет об океане: «Я уже от поэтов знал, что он „безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим“». А сам Гончаров готов его назвать: «Соленый, скучный, безобразный и однообразный!» (V, 60, 71).
С такими же припоминаниями своего, русского, и с той же тенденцией избежать романтического гиперболизма, обеспечить простоту, правдивость, реализм описания — создает Гончаров во «Фрегате Паллада» и жанровые зарисовки. В двух томах путешествия они изобильны и разнообразны. Таковы картины лондонской жизни, описание населения Капштадта, быт капштадтского фермера-голландца, характеристика разноплеменных арестантов в тюрьме в Беллингтоне, с отдельной зарисовкой арестанта-бушмена, «недосозданного, жалкого существа», описание табачной фабрики в Манилле, канатной фабрики там же. Тепло и образно описаны быт и труд туземцев Ликейских островов. Целую галерею картин быта и нравов японцев дает Гончаров в главах «Русские в Японии». Зарисовки так обильны, точны,
- 417 -
характерны, что и поныне не утратили высокой познавательной ценности. Так же обильны жанровые описания в обширной главе «Шанхай».
Гончаров охотно создает широкие, свободные характеристики жизни и быта посещаемых стран и местностей. Но его зоркая наблюдательность дает ему материал и для индивидуальных портретов и силуэтов. Таков очерк девушки Каролины в Капштадте, богатого китайца, инженера Бека, веселого кучера Вандика и многие другие.
И в жанровых этюдах, так же как и в пейзажах, Гончаров избегает исключительных явлений, кричащих своеобразий. Он интересуется жизнью простой, обыденной, типичной. Попав в Лондон в день торжественных похорон героя Ватерлоо, знаменитого герцога Веллингтона, Гончаров нетерпеливо ждал, когда город успокоится. «Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай: праздничную сторону народа и столицы..., — пишет Гончаров, — мне улыбался завтрашний, будничный день» (V, 34). Он даже к Британскому музею отнесся довольно холодно: «... меня тянуло всё на улицу; хотелось побродить не между мумиями, а среди живых людей. Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во всё, заходил в магазины, заглядывал в домы, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно» (V, 34). В результате и обобщающем художественном сознании писателя отслоились черты, которые помогли ему создать живую типизированную характеристику лондонского дельца-англичанина.
Гончаров постоянно сопоставляет, сближает явления чужого, экзотического быта с русским бытом, с бытом русском провинции, русской деревни. По методу параллели Гончаров в первой же главе путешествия создал замечательный «силуэт англичанина и русского» лондонского дельца и делового помещика. А затем в обоих томах проводятся сопоставления «своей жизни» и жизни чужой. Гончаров стремится получить «общечеловеческий урок», осмыслить чужую психологию, воссоздать живую человеческую душу.
Это сближает «Фрегат Паллада» с романами Гончарова, подготовляет и самого автора, и читателя к «Обломову» и «Обрыву». Близость эту не следует преувеличивать. Нельзя говорить о «тетралогии» Гончарова: «Фрегат Паллада» слишком своеобразен по своему экзотическому содержанию, по своей композиции, по отсутствию сюжета. Но бесспорно, что художественная мысль Гончарова-путешественника постоянно возвращалась к проблемам русского бытового и психологического романа. Писатель готовил этюды к нему.
Путешествие дало Гончарову такую идеологическую параллель, какая повлияла не только на замысел «Обломова», но и на всё миросозерцание писателя.
Во «Фрегате Паллада» Гончаров завуалировал подлинную цель плавания эскадры адмирала Путятина, как и свою подлинную службу во время этого путешествия. И само русское правительство маскировало задание эскадры: официальная цель путешествия определялась как «экспедиция к русским владениям в Америке». На самом же деле эскадра имела целью завязать торговые сношения с Японией. Одновременно с эскадрой Путятина в 1853 году американское правительство снарядило экспедицию Перри. Перри добился заключения договора и открытия американцам двух портов. Но и настойчивый Путятин в начале 1855 года тоже добился подписания торгового договора с Японией, причем для русских открывались две гавани и Россия причислялась к державам, наиболее благоприятствуемым в Японии. Это был важный момент в истории русских международных отношений.
В продолжительном путешествии перед Гончаровым раскрылась та сторона международной жизни, какая была недоступна наблюдениям многих
- 418 -
русских писателей: экзотические картины тропической природы, картины Колониального угнетения и мировой торговли. Последнюю Гончаров наблюдал в ее величайшем многообразии и в огромной перспективе — от Англии до Японии (отчасти и в Сибири). Если прежде долгие годы Гончаров работал в департаменте внешней торговли переводчиком иностранной переписки, то теперь он многое увидел собственными глазами.
Наблюдения и размышления привели Гончарова к важному заключению. Он понял, что «хозяин исторической сцены» — капиталист. Из путешествия он вывез яркий и властный образ — образ английского купца. В новом для Гончарова историко-экономическом понимании коронованный европейский феодал-воин сменяется купцом во фраке и шляпе. Гончаров готов признать, что и сама традиционная поэзия сменяется какой-то иной.
«И поэзия изменила свою священную красоту..., музы... не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии — на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Всё изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах». И далее: «Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!» (V, 12, 13).
Объехав полсвета, Гончаров не мог не видеть, какой ценой добывается и обеспечивается «комфорт». Наблюдая в Англии показную филантропию и лицемерную добродетельность, Гончаров тут же констатирует: «... от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением» (V, 43). Гончарова возмущает повелительное, грубое или холодное презрительное отношение англичан к китайцам и другим народам Востока. «Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот». В «неутомимой жадности» «бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд!» (разумеется торговля опиумом; VI, 106, 108). От зоркого Гончарова не укрылось, как англичанин-плантатор «холодным и строгим взглядом следил, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь по́том, драгоценный сок своей почвы..., получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли». «Призадумаешься над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа!» — добавляет Гончаров (V, 12—13, 44). Рассказывая историю подчинения европейцами туземцев Капской колонии, Гончаров пишет: «Каждый шаг выжженной солнцем почвы омывается кровью... Природных... жителей нет в колонии, как граждан своей страны. Они тут слуги, рабочие, кучера, словом, наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы» (V, 135, 136). И Гончаров ставит вопрос о судьбе Капской колонии: «... останется ли она только колониею европейцев..., или черные, как законные дети одного отца, наравне с белыми, будут разделять завещанное и им наследие свободы, религии, цивилизации?» (V, 134).
- 419 -
Во всех этих и подобных суждениях Гончарова сказалась его зоркость и правдивость. Сказывается здесь и тот гуманизм, какой свойствен натуре Гончарова и какой воспитывался в нем русской передовой литературой 40-х годов и непосредственно Белинским.
Но после смерти Белинского и до времени написания «Фрегата Паллада» протекло немало времени. Пролегло здесь мрачное семилетие николаевской реакции после 1848 года, несомненно повлиявшей на настроения Гончарова. На фрегате, в течение двух лет, Гончаров находился в непрерывном общении с адмиралом Путятиным, человеком по-своему сильным, одаренным, многоопытным и вместе тем глубоко реакционным. Путятин, несомненно, влиял на воззрения своего секретаря: взгляды последнего развивались в сторону буржуазной умеренности.
Иной раз на страницах «Фрегата Паллада» воззрения Гончарова проявляются в кричащих противоречиях. С теплотой описав трудолюбие туземцев Ликейских островов, раскрыв, как их «жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния», Гончаров, однако, недоволен, что у ликейских туземцев «область ума и духа цепенеет еще в сладком, младенческом сне». Как же быть? Чем преодолеть оцепенение? Гончаров продолжает: «Но всё готово: у одних дверей стоит религия, с крестом и лучами света, и кротко ждет пробуждения младенцев; у других — „люди Соединенных Штатов“, с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации» (VI, 169). Читатель готов счесть эту тираду иронической, даже сатирической: ведь он только что читал у Гончарова, как на Ликейских островах миссионеры работают под защитой военного судна английского правительства как ружья и пушки кровавят «каждый шаг» капштадтской земли. Но Гончаров пишет совершенно серьезно. Он и о Капштадте ставит важный вопрос: «... принесет ли европейцам победа над дикими и природой то вознаграждение, которого они в праве ожидать за положенные громадные труды и капиталы?..» (V, 134).
У Гончарова мы встречаем правдивые, укоризненные суждения о жестокости колониальной политики. Но следует сказать, что Гончаров считал деятельность капиталистов прогрессивной в области культурно-экономической. Он полагал, что их энергия и инициатива поднимают уровень культуры первобытных и отсталых народов. Там, где раньше водились лишь дикие звери, он наблюдал проложенные дороги, построенные фабрики, выросшие города. Он считал, что и Россия как европейская страна, вступившая на путь нового, капиталистического развития, должна следовать Западу. Во «Фрегате» Гончаров отводит много страниц ироническим рассказам о косности тогдашней феодально-чиновничьей системы Японии, о «безжизненности» ее быта. «Скоро ли же это всё заселится, оживится?» — спрашивает он (VI, 12). И Гончаров считает исторической миссией России на Востоке «оживить истощенную почву», влить «свежую и молодую кровь».
Для Гончарова как писателя путешествие было важно в том отношении, что способствовало созреванию образа Штольца в «Обломове» и углублению его значения в концепции романа. Несомненно, и образ Тушина в «Обрыве» связан с идеологическими итогами путешествия.
Особенности слагавшегося мировоззрения отобразились не только в романах, но и во «Фрегате Паллада». В книге много эпизодических зарисовок жизни офицерства и матросов на корабле. Например, образ денщика Гончарова, Фадеева, очерчен очень характерно и по праву должен включиться в галерею образов гончаровских «старых слуг». Но условия службы на фрегате воссозданы в книге односторонне. Старое парусное судно
- 420 -
«Фрегат Паллада», в сущности, не годилось для трудного кругосветного плавания — по своей признанной «дряхлости и ненадежности». Со стороны высшего морского начальства было преступной небрежностью в отношении к сотням жизней экипажа посылать в плавание это судно; в пути фрегат неоднократно чинился. Палубы текли, в жилых помещениях постоянно было сыро. Во время жары появлялась вредная для здоровья плесень, просочившаяся вода загнивала, заражая воздух. Матросы выбивались из сил на работе. Лазарет постоянно наполнялся больными вередом, лишаями, гнилой лихорадкой, наконец, чахоткой. Гончаров в книге обходит стороной такие явления, хотя и знает о них отлично как секретарь адмирала. Когда кронштадтские моряки, хорошо знавшие подробности плавания, прочли «Фрегат Паллада», они были недовольны идилличностью описаний жизни на корабле.
Но и в других отношениях «Фрегат Паллада» оказался односторонним. Гончаров побывал в Англии, когда там жил Энгельс, когда уже была напечатана его книга «Положение рабочего класса в Англии». Как мы знаем, Гончарова интересовал быт населения Лондона. Но он совершенно обошел молчанием жизнь рабочих, жизнь лондонской бедноты.
Всё это сильно ограничивало реализм «Фрегата Паллада». Но большие литературные достоинства произведения, разнообразные описания мало известных стран и народов создали книге Гончарова и у читателей, и у критики большой успех: в 1862 году «Фрегат Паллада» уже вышел вторым изданием. В русской литературе еще не было такого монументального произведения в жанре морских путешествий. Успехи «Фрегата» вызвали в русской литературе особое движение, появилась группа последователей и подражателей Гончарова («Корабль Ретвизан» Д. В. Григоровича, «Из кругосветного плавания» К. М. Станюковича, «Доброволец Петербург» С. Н. Южакова и др.).
В середине плавания на фрегат стали доходить сведения о важных событиях: о начавшейся войне с Англией и Францией, о Крымской кампании. Для «Фрегата Паллада» это грозило нападением и захватом или потоплением со стороны английского военного флота. В конце концов, по приказу военно-морского начальства, фрегат был потоплен в Татарском проливе, в бухте Константиновской (ныне — Советской).
Из кругосветного плавания Гончаров возвращался через Сибирь. Возвращение заняло целых полгода, но вознаградило писателя богатыми наблюдениями. От Охотского моря Гончаров ехал через Якутию. Якуты, тунгусы, чукчи, русские поселенцы, Лена, горы, леса и болота, исключительное своеобразие бытовой и хозяйственной жизни — со всем этим близко познакомился писатель-путешественник. Знакомство с Сибирью, с ее свободным от крепостной зависимости русским населением, с ее бойкой хозяйственной жизнью, разнообразной торговлей, дало Гончарову много нового и ценного для познания родины. Проезжая в тех местах, где незадолго до него живали декабристы, Гончаров осведомлялся об их быте и лично встречался с некоторыми из них: Волконским, Трубецким, Поджио, Якушкиным и другими (об этом он потом вспоминал в очерке «По Восточной Сибири»).
4
В Петербург Гончаров вернулся еще во время Севастопольской кампании.
В обстановке всё возрастающего общественного движения Гончаров вновь начал работу над романом «Обломов». С тех пор как «Сон Обломова»
- 421 -
был напечатан в сборнике «Современника» (1849), он долго ничего не печатал из романа, но работать над рукописью продолжал. Сам Гончаров сообщает: «У меня накоплялись кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две, — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть» (VIII, 251). «Я продолжал обработывать в голове „Обломова“ и также „Обрыв“... В Петербурге я и служил, и писал очень лениво и редко, пока всё еще материалы обоих романов до 1852 года» («Необыкновенная история»; VIII, 252). В путешествие Гончаров захватил материалы по обоим романам. «Обе программы романов были со мной, и я кое-что вносил в них, но писать было некогда» (VIII, 252). Вернувшись в Петербург, он иногда пересматривал написанное и даже читал (например, в 1855 году) знакомым некоторые главы, но в 1855—1856 годах он усердно писал и печатал главы «Фрегата», и это отвлекало от работы над «Обломовым». Только в 1857 году летом, в Мариенбаде, Гончаров вновь принялся за роман. «В 1857 году я поехал за границу, в Мариенбад, и там взял курс вод и написал в течение семи недель почти все три последние тома „Обломова“, кроме трех или четырех глав. (Первая часть были у меня написана прежде.) В голове у меня был уже обработан весь роман окончательно — и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку. Я писал больше печатного листа в день, что противоречило правилам лечения, но я этим не стеснялся» (VIII, 255).
Подъем творческого напряжения был необычаен. В результате гениальное произведение было закончено.
«Обломов» принадлежит к числу крупнейших произведений русской и мировой литературы. Роман примечателен стройностью и целостностью своей композиции. Но в нем есть глава — «Сон Обломова», которая рано обособилась в творческой истории романа и которую высоко оценил Салтыков-Щедрин как самостоятельное целое. Можно утверждать, что, если бы остальной текст никогда не был опубликован, «Сон» остался бы в истории русской литературы самостоятельным и крупным произведением, так как исчерпывающе изображает особый, замкнутый в себе мир: упадающее деревенское дворянство. Гончаров в «Сне» создает типическую картину жизни в Обломовке, имя которой стало нарицательным.
В Обломовке — «родительский дом, с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом»; «висячая галерея... чуть-чуть держится»; «запущенный сад». В низеньких комнатах «угар случался частенько», «один или два раза в месяц, потому, что тепла даром в трубу пускать не любили» и рано закрывали печи. В гостиной — «огромный, неуклюжий и жесткий диван, обитый полинялым голубым бархатом, в пятнах». «Кожаное кресло Ильи Ивановича только называется кожаным, а на самом-то деле оно — не то мочальное, не то веревочное...». «В комнате тускло горит одна сальная свечка» — и то «только в зимние и осенние вечера»; летом, ради экономии, «старались ложиться и вставать без свечей, при дневном свете». «Огарки бережно считались и прятались» (II, 93, 116, 109, 110).
В соседнем Верхлеве — крепостная фабрика, руководимая агрономом и технологом, учившимся в Германии; в княжеском именье «добывают поташ, деготь, топят сало». В Обломовке — натуральное хозяйство. Здесь «крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге..., да раз в год ездили некоторые на ярмарку, и более никаких сношений ни с кем не имели». Помещики Обломовы «на всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, ... были
- 422 -
до крайности скупы». Сам барин ходит в сапогах домашней работы. «Там денег тратить не любили». Знали «единственное употребление капиталов — держать их в сундуке» (II, 90, 109, 110).
«Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, всё беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами» (II, 9). В культурном отношении Обломовка тоже стояла невысоко. Сношения с внешним миром были редки. Чтение книг «считалось роскошью», «вели счет времени по праздникам... и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа» (II, 118, 111).
Обломовы снижались до уровня Простаковых и Скотининых. Владеющие землей и крепостными, обеспеченные подневольным чужим трудом, огражденные законом в своих сословных привилегиях, Обломовы создали свой собственный быт и жили своеобразной психической жизнью. Жизнь представляется им «не иначе, как идеалом покоя и бездействия», труд сносится как наказание, как «неприятная случайность». Жизнь стихийно регулируется тремя главными актами: «роди́ны, свадьба, похороны» — с добавочной «пестрой процессией»: «крестин, именин, семейных праздников, заговенья, розговенья, шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений» и т. д. (II, 105, 106). Питание и размножение — вот оголенные первоосновы обломовского быта.
В Обломовке нет проявлений жестокого крепостничества. Дворня не подвергается телесным наказаниям, труд мужиков не эксплуатируется безжалостно, до последних возможностей: в условиях сниженного, примитивного быта хватало и того, что само плыло в руки; достаточно было «столько дохода, сколько нужно было ему, чтобы каждый день обедать и ужинать без меры, с семьей и разными гостями» (II, 56). Обломовы добродушны, незлобивы, дружелюбны. Обломовка — тихое, но глубокое, убежденное крепостничество.
Мастерски изобразив хозяйственный строй, быт и воззрения этого упадочного уездного российского барства, Гончаров показывает и губительное влияние среды на подрастающего барчука: «... детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые» (II, 105). Мальчик систематически приучается к безделью, неуважению к труду, к крепостническим замашкам. И физически он хиреет: «лелеемый, как экзотический цветок в теплице..., он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая» (II, 122).
«Сон Обломова» вместе с печатавшимися тогда «Записками охотника» был большим завоеванием критического реализма, разоблачением одной из наиболее отсталых групп крепостнического дворянства. Разоблачение осуществлялось приемами глубокой художественной типизации. Белинский был бы совершенно удовлетворен, так как «Сон Обломова» отвечал лучшим надеждам, возлагавшимся им на современную литературу.
Однако, при всей мастерской типизации жизни захолустного дворянства, «Сон Обломова» охватывал только одну сферу явлений той жизни, которая получила наименование обломовщины. И даже в пределах Обломовки «Сон» изображал главным образом быт и психологию помещиков, только бегло касаясь жизни крепостных крестьян и дворни. Из этого безымянного мужицкого мира начинал обособляться в «Сне» один образ — образ Захара, будущего камердинера Ильи Ильича, но здесь он не получил еще разработки. Однако этот образ весьма значителен, в романе он представительствует, как бы символизирует, обломовскую дворню, обломовских
- 423 -
«Обломов». Черновой автограф Гончарова. Первая страница. 1857.
- 424 -
мужиков. Гончаров посвятил ему особую главу (седьмую, в первой части) и затем на протяжении всего романа так тщательно вырисовывал его отдельные черты, что, в конце концов, создался второй яркий портрет, парный к портрету барина, — портрет крепостного слуги-дворового.
Основная мысль Гончарова здесь та же, что в общей характеристике Обломова: развращающее влияние крепостного уклада на ум, волю, деятельность человека. Как воспитывается в крепостнической среде рабья преданность барам, Гончаров мастерски раскрыл в известном диалоге между Обломовым и Захаром в восьмой главе первой части романа: правдивый бытописатель и психолог приводит читателя к выводу о величайшем разложении, падении человеческой личности. Становится ясным, что история Захара — это, в сущности, драма. Она и замыкается мрачным финалом: на старости лет, после смерти барина, Захар нищенствует на церковной паперти. Старая классическая литература создала немало «светлых» образов «преданных слуг». Гончаров же показал, что обломовщина так же губительно отозвалась и на слуге-крепостном, как и на барине.
*
О барине, Илье Ильиче Обломове, Гончаров написал целую психологическую монографию.
Было бы вполне естественно, если бы и Илюша Обломов вырос и состарился так же, как его отец и дед, в той же патриархальной Обломовке. Но «времена Простаковых и Скотининых миновались давно..., все начали выходить в люди, т. е. приобретать чины, кресты и деньги не иначе, как только путем ученья...» (II, 120). Пришлось не только довести до конца обучение Илюши у немца в соседнем Верхлеве, но и отправить его в Москву. Для Обломова-сына это был целый переворот, опасный отрыв от родной среды.
Гончаров глухо говорит о студенческих годах Обломова, не рассказывает о его учебных занятиях, о профессорах, о посещении театров и пр. Точно даже не сказано, что он учился именно в университете. Но из разговоров и припоминаний самого Обломова мы узнаем, что, если и нехотя, всё же он многому научился и много пережил в московские годы. Штольц позднее напоминает опустившемуся Обломову: «А помню я тебя тоненьким, живым мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрине..., ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, которых носил им..., хотел очистить их вкус?..» (II, 159).
Воздействие поэзии на юношу Обломова было сильным, об этом не раз говорится в романе. Но не остался он чужд и иным интересам. Тот же Штольц вспоминает, что Обломов читал и научные книги — вне учебных обязанностей; он даже делал переводы из экономиста Сея, знал, хотя и не очень бегло, несколько языков. Вся его дальнейшая жизнь сложилась при сильном воздействии впечатлений и переживаний студенческих лет.
Как жил Обломов по окончании ученья, не совсем ясно. В Обломовку он не вернулся. Это было бы трудно для юноши, вкусившего столичной культуры, пережившего увлечение Шиллером и Байроном. Обломов из Москвы переехал в другую столицу — в Петербург, и его родители этому не прекословили, надеясь, что теперь-то, в награду за «ученье», начнутся «чины и кресты».
Дворянское происхождение, материальная обеспеченность, приличное образование, французский язык, благовоспитанность и добродушие открыли Илье Ильичу многие двери Петербурга. Это, конечно, был не высший
- 425 -
свет, а среднее столичное служилое дворянство, сливавшееся с крупной и средней бюрократией. Среди знакомых Обломова были и князь Тюменев, и барон Лангваген, и солидные чиновники.
В столице предстояло на выбор два пути: или служебная карьера, подкрепляемая связями в обществе, или женитьба на богатой невесте из того же барско-бюрократического общества. Впрочем, можно было сочетать и го и другое. Обломов попытался служить. «Воспитанный в недрах провинции..., он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия...» (II, 49). Но он ошибся: непривычка к регулярному труду сказалась немедленно, ответственность испугала. «Исстрадался Илья Ильич от страха и тоски на службе..., прослужил кое-как года два... и, отправив однажды какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск», ушел в отставку (II, 50).
С женитьбой по расчету тоже не вышло, и Обломов зажил холостяком. Те главы романа, где описывается эта жизнь на Гороховой, по исчерпывающей полноте изображения, по типизации равноценны «Сну Обломова».
Обломов пытался приобщиться к деятельной жизни дважды: в Москве, в годы ученья, и в Петербурге, в первые годы своего пребывании в столице. Москва дала образование, увлечение поэзией, идеалистические настроения. В Петербурге накопился некоторый опыт в общении с разнообразными людьми, были некоторые, хотя бы мимолетные, сердечные увлечения. И здесь, и там Обломовым было воспринято кое-что ценное, обогащающее, возвышающее. Этот жизненный опыт сказался позднее, когда Ольга Ильинская пленилась его душевным изяществом.
Провинциал, молодой деревенский дворянин, выброшенный «новыми веяниями» из усадьбы в столицу, овладевал культурой большого города. Но увлечение этой культурой было поверхностным. С гениальной прозорливостью Гончаров воссоздает перед нами рецидив бескультурья у поместного дворянина. Еще в Москве, в годы юношеского подъема, Обломов сопротивлялся избытку внедряемых школой знаний. Теперь, устраивая на Гороховой вторую Обломовку, Илья Ильич выбрасывал из памяти этот ненужный балласт. Он переставал читать книги, бросил ходить в театр, не заглядывал в газеты. Всё, чего не в силах была удержать вялая душа, что не отвечало ее ограниченным потребностям, — всё улетучивалось, слезало, как плохая позолота.
И тогда всё явственнее стала обнажаться социально-бытовая первооснова: «труд и скука — это у него были синонимы» (II, 48). Как должное, как дворянская привилегия, утверждается: «и дворянин! я ничего делать не умею».
Дворянское, помещичье самосознание Обломова постоянно ему сопутствует. И сам Гончаров раскрывает до конца классовую природу Обломова, хотя роман лишен обличительной тенденциозности.
Обломов пугается грамотности для народа. Лично добродушный, Обломов в своем «плане» деревенских преобразований не забыл вставить «несколько серьезных, коренных статей об оброке..., придумал новую меру, построже, против лени и бродяжничества крестьян...» (II, 66). А когда в безвольных мечтах представлял себе самое желанное, то мыслил это как «благородную праздность», как «идеал того необозримого, как океан, и ненарушимого покоя жизни, картина которого неизгладимо легла на его душу в детстве, под отеческой кровлей».
Так смыкаются начала и концы, и у дряхлеющего в столице Обломова мы наблюдаем рецидив миросозерцания застойной степной помещичьей усадьбы, живущей в условиях натурального хозяйства.
- 426 -
Однако неумолимый художник не покинул своего героя, когда его круг стал смыкаться на глазах читателя. Гончарову захотелось подвергнуть Обломова горчайшему испытанию — испытанию любовью — и договорить о нем всё до конца. Романист заставляет героя совершить новое восхождение — и новое падение, глубочайшее и последнее. Гаков смысл третьего акта драмы Обломова — любви к Ольге Ильинской, девушке иного душевного склада, иного культурного уровня, иных запросов. В изображении любви Обломова Гончаров вскрывает многие черты своего героя и еще раз дает нам убедиться, как характерен и типичен его герой и как предопределены его душевные движения даже в такой интимной области, как любовь.
Девушка с богатыми духовными силами, воспитанная в столичной культуре, Ольга Ильинская задалась честолюбивой целью «поднять» Обломова, заставить его проявить максимальное напряжение духовных сил. Обломов горячо откликается. Он борется со своей сонливостью, он начинает читать, следит за газетами, посещает общество, бывает в театре, — словом, он совершает новое восхождение. В состязании с Ольгой Ильинской он хочет сравняться с нею в душевном горении, в богатстве переживаний любви. И на этом срывается.
В ту мечтательность, какую сохранял в себе напитанный Шиллером и романами юноша и в какую был погружен на Гороховой опускающийся Обломов, входили мечты о счастье и о женщине. В мечтах Обломов настойчиво тянулся к образу любимой женщины-жены. Деревенская усадьба, крепостные мужики и дворня, барыня-жена с детьми — так и в такой раме рисовалась женщина-идеал человеку, прожившему в столицах около двух десятков лет и всё же фатально подчиненному ассоциациям усадебного быта. Характерны те определения, в каких мыслится этот образ женщины-жены: «... с покойно сложенными на груди руками», «покойная подруга», «неизменная физиономия покоя», женщина «как идеал, как воплощение целой жизни, исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой» (II, 176, 177). Стало быть, тут воплощался тот же общий идеал покоя, в каком повелительно отображался застойный обломовский усадебный строй.
Характерны и те условия, в каких Обломов мыслил правильное разрешение своего любовного увлечения. Он боится сильного чувства, он мыслит жизнь в традиционных формах. «Страсть надо ограничить, задушить и утопить в женитьбе» (II, 177). Женитьба — это ведь средний и центральный момент в той бытовой триаде, в какую укладывается размеренная жизнь Обломовки: роди́ны, свадьба, похороны.
Увлечение Ольгой было третьим и последним подъемом Обломова. Раскрылась вся призрачность надежд на освобождение от обломовщины. И Обломов понял это раньше и глубже, чем Ольга. Об этом красноречиво говорит его знаменательное письмо к ней — лучшее, что осталось от Обломова. «Посмотрите на меня, вдумайтесь в мое существование: можно ли вам любить меня, любите ли вы меня?.. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам: „Вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь; вам будет досадно и стыдно за свою ошибку, а мне эта досада и стыд сделают боль“ — вот что следовало бы мне сказать вам, если б я от природы был попрозорливее умом и пободрее душой...» (II, 218).
Любовная драма Обломова имела свой эпилог; он же оказался и эпилогом всей жизненной драмы Обломова. Беспощадный автор не захотел завершить разрыв с Ольгой смертью Обломова от горячки. Гончаров заставляет Обломова выздороветь телесно, чтобы медленно умирать духовно.
- 427 -
На Выборгской стороне, сильно напоминавшей старую Обломовку, в маленьком домике, таком же невзрачном, как и в Обломовке, Обломов сходится со вдовой-чиновницей.
В отходной ему Штольц мысленно говорит: «Погиб ты, Илья: нечего тебе говорить, что твоя Обломовка не в глуши больше..., что года через четыре она будет станцией дороги, что мужики твои пойдут работать насыпь, а потом по чугунке покатится твой хлеб к пристани... А там... школы, грамота, а дальше...» (II, 420). В 1859 году, когда печаталась эта отходная, Штольц еще не мог договорить, что̀ дальше. Впрочем, и того обстоятельства, что Обломовка делается станцией железной дороги, было достаточно, чтобы Штольцу сказать: «Прощай, старая Обломовка!» (II, 420).
Рушилось натуральное хозяйство крепостной Обломовки, рушился и обломовский помещичий быт, рушились и обломовская психология, и обломовское миросозерцание. Рушилось и обломовское воспитание: сын Ильи Ильича, Андрюша Обломов, получит иное воспитание под руководством Штольца.
*
Монография об Обломове является, по существу, психологической драмой. Мы уже видели, как четко расчленяется ход этой драмы на три акта — с прологом и эпилогом. Своей кульминации драма достигает в том моменте, когда и Обломов и Ольга с жуткой ясностью видят, что счастье вдвоем невозможно. Ольга в тоске спрашивает: «— Отчего погибло всё?.. Кто проклял тебя, Илья?.. Что сгубило тебя? Нет имени этому злу... — Есть, — сказал он чуть слышно... — Обломовщина!» (II, 522). И на последней странице романа, в диалоге Штольца и литератора, читаем: «Погиб, пропал ни за что... — Какая причина? — Причина... какая причина! Обломовщина!» (II, 428).
Проклятие, гибель — такими формулами определяет автор ход и исход драмы своего героя. В этой психологической драме имеются особенности, свойственные данным героям, данному сочетанию сил и отношений. Но сам Обломов, с ясным социальным самосознанием, заявил Штольцу: «Да я ли один? Смотри: Михайлов, Петров, Семенов, Алексеев, Степанов... не пересчитаешь: наше имя легион!» (II, 160). Этим утверждалась величайшая типичность Обломова.
Для социально-исторического миросозерцания Гончарова приговор не был проявлением пессимизма. По меткому слову Добролюбова, Гончаров нашел «противоядие» Обломову — Штольца. Здесь выявилось опять своеобразие общественно-идеологической позиции Гончарова. Если разоблачение обломовщины шло в одном направлении со всей передовой, демократической русской литературой 50—60-х годов, то выдвижение Штольца знаменовало отход в сторону, ориентацию на буржуазный либерализм.
«Обломов» является художественной монографией: повествование централизовано вокруг одного героя, Ильи Ильича, в большей мере, чем в «Обыкновенной истории» вокруг Адуева-младшего или в «Обрыве» вокруг Райского или Веры. Однако концентрация не проведена до конца. И если Захара, Агафью Матвеевну, Тарантьева, братца и кое-кого других нельзя оторвать от Обломова, то нельзя этого сказать об Ольге Сергеевне Ильинской, тем более о Штольце. По своей общей значительности, по роли в композиции романа, наконец, по идеологическому замыслу автора они высвобождаются от притяжения Обломова и начинают обособляться в отдельную группу. Явственны две сюжетные линии: роман Обломова и роман
- 428 -
Штольца. Героиней того и другого является Ольга, и это связывает произведение в целое. Но идеологически две линии произведения противопоставлены друг другу. Суть в том, что, осудив Обломова, Гончаров хотел создать ему противовес в Штольце, «как образец энергии, знания, труда, вообще всякой силы» (VIII, 148).
Сын управляющего имением и крепостной фабрикой, технолога и агронома, Штольц получил университетское образование в Москве, а потом еще «сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене». Он «служил, вышел в отставку», «занялся своими делами», «нажил дом и деньги», сверх того от отца получил в наследство тысяч сорок; он «негоциант», участник «компании», отправляющей товары за границу, он беспрестанно в разъездах, «выучил Европу, как свое имение», «видел Россию вдоль и поперек» (II, 140, 158). Женившись на Ольге, он к купленному имению присоединяет другое, полученное в приданое за женой.
Домовладелец, капиталист, коммерсант, землевладелец, светский человек — таково социальное бытие Штольца. Гончаров любуется Штольцем. Он доволен и его деятельностью, и его успехами; он доволен и его наружностью: «весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь», и его жестами: «Движений лишних у него не было..., если... действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно». Гончаров наделяет своего любимца отличным знанием французского языка, музыки; он любуется душевной и житейской слаженностью героя:
«Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа...
«Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль...» (II, 140).
Сам Гончаров остался недоволен художественной разработкой образа Штольца: он «слаб, бледен — из него слишком голо выглядывает идея» (VIII, 148). На самом деле Штольц изображен достаточно ярко.
Другое дело, насколько тверд был Гончаров в социально-исторической оценке Штольца. Здесь чувствуется известное колебание, двойственность.
Как и в «Обыкновенной истории» и в «Обрыве», ценность героя писатель определяет героиней, подвергая его испытанию любви. В «Обломове» Гончаров создает образ Ольги Ильинской. Высокую оценку Ольги дал Добролюбов. Вспоминая вслед за Ольгой Агафью Матвеевну Пшеницыну, Анисью и Акулину, он говорит: «... женщинами Гончарова можно только восхищаться..., верность и тонкость психологического анализа у Гончарова — изумительна...».1 Но особенно высоко он ставит Ольгу: «... она необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной гармонией своего сердца и воли поражает нас,... она постоянно верна себе и своему развитию,... она представляет не сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких мы еще не встречали».2 В контрасте с Лизаветой Александровной Адуевой, Ольга вводится автором в практическую жизнь, включается в разнообразные интересы и начинания Штольца.
«Ему пришлось посвятить ее даже в свою трудовую, деловую жизнь, потому что в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха.
«Какая-нибудь постройка, дела по своему или обломовскому имению, компанейские операции — ничто не делалось без ее ведома или участия» (II, 393).
- 429 -
Штольц с Ольгой «говорил обо всем, многое читал, не обегая педантически и какой-нибудь экономической теории, социальных или философских вопросов...» (II, 394). Дворянская девушка, воспитанная в светских традициях, в эстетической культуре, даровитая певица и пианистка, Ольга на глазах читателей проходит новую школу — школу буржуазной деятельности и культуры высокого уровня. В этом характерное отличие Ольги от героинь дворянской литературы. И в этом горячо ей сочувствует автор.
И тем не менее Ольга Сергеевна Штольц начинает испытывать неудовлетворенность, наконец тоску, как и Лизавета Александровна Адуева. «„Что ж это? — с ужасом думала она. — Ужели еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нет дороги... Ужели нет, ужели ты совершила круг жизни? Ужели тут всё... всё...“ — говорила душа ее и чего-то не договаривала...» (II, 396). Штольцу удается утишить эту тревогу. Но он при этом оговаривается: «... мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы...» (II, 400—401). Это даст основание Добролюбову сказать об Ольге: «она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него».1
Чутко отметил Добролюбов и двойственность оценки Гончаровым самого Обломова — не в его социально-исторической судьбе, а в его моральных достоинствах. Добролюбов выписывает патетический монолог Штольца в память Обломова, кончающийся словами: «Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться» (II, 405—406). Критик находит, что в этом панегирике «заключена большая неправда». И дальше — меткое ироническое рассуждение на тему: в чем же на Обломова можно положиться?
*
«Обломов» печатался в первых четырех книгах «Отечественных записок» за 1859 год и в том же году вышел отдельным изданием. П. А. Кропоткин свидетельствует: «Впечатление, которое этот роман при своем появлении... произвел в России, не поддастся описанию».2 Другой современник, А. М. Скабичевский, пишет: «Нужно было жить в то время, чтобы понять, какую сенсацию возбудил этот роман в публике и какое потрясающее впечатление произвел он на всё общество. Он, как бомба, упал в интеллигентную среду как раз во время самого сильного общественного возбуждения, за три года (за два, — Н. П.) до освобождения крестьян, когда во всей литературе проповедывался крестовый поход против сна, инерции и застоя. Общество приглашалось бодро и энергично стремиться вперед по пути прогресса, и роман всеми своими образами вторил этому призыву».3 Дружинин в 1859 году свидетельствует: «Без всякого преувеличения можно сказать, что в настоящую минуту во всей России нет ни одного малейшего, безуездного, заштатнейшего города, где бы не читали „Обломова“..., не спорили бы об „Обломове“... Обломов и обломовщина — эти слова не даром облетели всю Россию и сделались словами, навсегда укоренившимися
- 430 -
в нашей речи».1 И Писарев, будущий суровый антагонист Гончарова, в своей юношеской статье об «Обломове» писал: «Слово обломовщина не умрет в нашей литературе: оно составлено так удачно, оно так осязательно характеризует один из существенных пороков нашей русской жизни, что, по всей вероятности, из литературы оно проникнет в язык и войдет во всеобщее употребление».2 Л. Н. Толстой был в восторге от «Обломова» и читал его не раз.
Высокая оценка художественных достоинств «Обломова» была единодушной. Но понимание и оценки идейной направленности романа были разнообразны до противоположности. Славянофилы возмущались тем, что автор «положительным» героем вывел немца Штольца с его «татарско-немецкими» взглядами, что автор изображает Обломовку иронически. Либерально-эстетская критика, в лице Дружинина, уже пытавшаяся причислить Гончарова к «пушкинской» школе чистого искусства, подхватила речь Штольца об Обломове и создала из декламаций о «детски ласковой русской душе» Обломова дворянскую апологию обломовщины, с выхолащиванием из нее крепостничества и с противоположением Обломова демократическому разночинству. Писарев, в резком контрасте со своими же собственными статьями в «Рассвете» 1859 года о «Фрегате Паллада» и «Обломове», где высказано немало глубоких мыслей, в статьях 1861 года заявлял об «Обломове»: «В романе Гончарова я вижу только тщательное копирование мелких подробностей и микроскопически тонкий анализ. Ни глубокой мысли, ни искреннего чувства, ни прямодушных отношений к действительности я не замечаю».3 Отрицательно отнесся Писарев и к Штольцу, и к Ольге Ильинской, которых положительно ценил в 1859 году. В отрицании достоинств «Обломова» Писарев исходил из ошибочного допущения, будто Гончаров — представитель безидейного, «чистого» искусства.
Среди этой разноголосицы, вне сравнения стояла статья Добролюбова «Что такое обломовщина?». Она появилась вслед за окончанием романа — в ближайшей, майской книжке «Современника» за 1859 год. С необычайной глубиной были поняты и точно охарактеризованы и творческий метод Гончарова, и художественные образы, и соотношение с литературной традицией. И с такой же силой было раскрыто революционно-демократическое миросозерцание критика, примененное к истолкованию художественного произведения.
Добролюбов высоко оценил силу художественного таланта автора. Особенностью Гончарова он считал «необычайно-тонкий и глубокий психический анализ». Для Гончарова прежде всего важна «художественная правда», «Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни». «Он может, кажется, — писал Добролюбов, — остановить саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг ее, чтобы мы вечно на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь».4
Гончаров не похож на тех авторов, у которых «каждая страница бьет на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять их». Гончаров «не дает, и повидимому не хочет дать, никаких выводов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе». В уменье «охватить полный
- 431 -
образ предмета, отчеканить, изваять его» Добролюбов видел сильнейшую сторону таланта Гончарова.1 Здесь Добролюбов глубоко родствен воззрениям Белинского и вместе с тем столь же глубоко чуток к особенностям художественного метода Гончарова. Когда Гончаров прочел статью Добролюбова, он был прежде всего удовлетворен этим определением своего творчества. Глубокая эстетика революционной демократии сказалась ярко в этом отвержении внешней тенденциозности — наряду с требованием от художника истинной идейности. Найденное Гончаровым слово «обломовщина», утверждал критик, «... служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести».2
<Иллюстрация:>
«Что такое обломовщина?». Статья Н. А. Добролюбова.
Первопечатный текст. 1859.Поставленный Добролюбовым вопрос о соотношении типа Обломова с «лишними людьми» и с представителями современного русского общества вызвал тогда много возражений. Добролюбов писал: «... Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова...»3 — и его обвиняли в том, что он соединяет в одну группу с Обломовым и Онегина, и Печорина, и Бельтова, и Рудина, что он осудил лучшие черты русского национального характера. Противники Добролюбова игнорировали иносказание его о путниках в лесу, а именно в этом иносказании замечательно и объективное признание исторической заслуги «лишних людей», и четкое отграничение их от Обломовых в «собственном смысле». Игнорировали и общий смысл статьи, раскрытый в иносказании:
«А бедные путники, стоящие внизу, вязнут в болоте, их жалят змеи, пугают гады, хлещут по лицу сучья... Наконец, толпа решается приняться за дело и хочет воротить тех, которые позже полезли на дерево; но Обломовы молчат и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и к прежним своим передовым людям, прося их спуститься и помочь общей работе. Но передовые люди опять повторяют прежние фразы о том, что надо высматривать дорогу, а над расчисткой трудиться нечего. — Тогда бедные путники
- 432 -
видят свою ошибку и, махнув рукой, говорят: „э, да вы все Обломовы!“ И затем начинается деятельная, неутомимая работа: рубят деревья, делают из них мост на болоте, образуют тропинку, бьют змей и гадов, попавшихся на ней, не заботясь более об этих умниках...
«А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего дела, так для нее совершенно всё равно, — Печорин ли перед ней или Обломов».1
Совершенно ясно, что сам Добролюбов на стороне «путников», «толпы», народа, от которого он ждет настоящего, т. е. революционного, дела. Здесь критическая статья превращается в памфлет, в декларацию русской революционной демократии. Ясно, что революционного народа и его идеологов Добролюбов никак не мог отождествить с обломовцами, что лучшие черты национального характера им отнюдь не осуждались. Враждебность свою к обломовцам Добролюбов резко формулировал еще в одном высказывании — в отзыве о книге Филонова «Очерки Дона», в «Современнике» того же 1859 года (№ 11): «... мы уже поняли весь вред, всю гадость, всю презренность этой обломовщины, и мы не будем иметь духа поставить ее правилом и идеалом жизни для своих детей и учеников. Они вырастут, они должны вырасти с любовью к делу, с готовностью стоять за правду и не щадить ничего для поражения зла. Они внесут в свою деятельность
Необузданную, дикую
К лютой подлости вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду...».2Критика обвиняла Добролюбова в том, что будто он объявил весь русский народ обломовцами; она опиралась при этом на слова Добролюбова: «Обломовка есть наша прямая родина... В каждом из нас сидит значительная часть Обломова». Но Добролюбов разумел здесь прежде всего общество дворянское, чиновничье, общество эксплуататорское, живущее чужим трудом. Добролюбов не отрицал, что некоторые черты такой психологии сказывались и в широких кругах общества, но он резко противополагал обломовцев трудовому народу, выступающему на борьбу за свое освобождение.
Здесь уместно напомнить, что расширению и углублению понимания обломовщины сильно содействовали многочисленные высказывания В. И. Ленина. Ленин указывал на проявления обломовщины и в душевном складе людей (спячка, халатность, бестолковщина, мечтательность), и в общественной, хозяйственной деятельности (исконная рутина производства, безделье, отсталость, патриархальщина), и в партийной тактике (барски-обломовские иллюзии, семейно-кружковая обломовщина). Эта же вражда к обломовщине и широта понимания ее типичности и живучести была высказана В. И. Лениным в 1922 году в речи «О международном и внутреннем положении Советской республики»: «... старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел». Но Ленин отнюдь не преувеличивал значения обломовщины как пережитка эксплуататорского прошлого. В той же речи он говорил: «Против этого врага и против этой бестолковщины и обломовщины вся беспартийная рабоче-крестьянская масса пойдет поголовно за передовым отрядом коммунистической
- 433 -
партии. На этот счет никаких колебаний быть не может».1 Это предвидение всецело оправдалось. В Советской стране труд стал делом чести, доблести, геройства. С трудового советского народа снято клеветническое измышление, будто вся старая Россия была нацией Обломовых. Измышление это является незаконным обобщением отошедшего в историю крепостнического строя. В своей беседе с писателем Э. Людвигом И. В. Сталин сказал: «В Европе многие представляют себе людей в СССР по-старинке, думая, что в России живут люди, во-первых, покорные, во-вторых, ленивые. Это устарелое и в корне неправильное представление. Оно создалось в Европе с тех времён, когда стали наезжать в Париж русские помещики, транжирили там награбленные деньги и бездельничали. Это были действительно безвольные и ничкёмные люди. Отсюда делались выводы о „русской лени“. Но это ни в какой мере не может касаться русских рабочих и крестьян, которые добывали и добывают средства к жизни своим собственным трудом».2
В широком использовании Добролюбовым образа Обломова отозвалась та особенность творчества Гончарова, которую так хорошо определил критик: способность единичное явление возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение. В русской литературе много образов-типов, имена коих стали нарицательными: Фамусов и фамусовщина, Молчалин и молчалинство, Хлестаков и хлестаковщина, Манилов и маниловщина. Но ни одно типическое явление в литературе не обозначается так глубоко и ярко фамилией героя, как обломовщина обозначается именем Обломова. Типизация Обломова, поднявшаяся до символизации, была величайшим творческим достижением Гончарова, как и добролюбовская интерпретация обломовщины — крупнейшее достижение русской критики. Роман и статья как-то гармонически сомкнулись в 1859 году в одно целостное литературное явление. Статья Добролюбова оказала сильнейшее воздействие и на читателей, и на критику, и на школьное преподавание.
Сам Гончаров высоко ценил статью Добролюбова «Что такое обломовщина?». Как только она появилась в «Современнике», он писал П. В. Анненкову (20 мая 1859 года): «Взгляните, пожалуйста, статью Добролюбова об „Обломове“: мне кажется, об обломовщине, т. е. о том, что она такое, уже сказать после этого ничего нельзя» (VIII, 320). И впоследствии, в 70-х годах, в статье «Лучше поздно, чем никогда» и в других высказываниях Гончаров публично солидаризировался с Добролюбовым в понимании обломовщины.
Но были между Добролюбовым и Гончаровым крупные недоразумения или недоговоренности.
Для Гончарова в его романе огромное идеологическое и композиционное значение имел образ Штольца — «противоядия» Обломову и обломовщине. Штольц был выразителем мировоззрения писателя, выражением своеобразия его в кругу современной литературы. Необходимо было оберечь демократического читателя от пропаганды Гончаровым буржуазно-либерального «положительного» героя. Всей силой своей статьи Добролюбов достиг этого. В русской тогдашней и последующей критике образ Штольца если и встречал сочувственные отклики, то очень слабые и случайные. Приговор Добролюбова: «мы не можем удовлетвориться его личностью»3 — тяготел над Штольцем.
- 434 -
Следует отметить, что в тогдашней русской литературе одновременно со Штольцем созревал другой образ, более близкий ожиданиям Добролюбова: в 1860 году в романе Тургенева «Накануне» был изображен — первым в русской литературе — образ совсем иного «положительного героя», героя-революционера Инсарова. Добролюбов написал о «Накануне» свою знаменитую статью «Когда же придет Настоящий день?», где еще прямее, чем по поводу Штольца, говорил о «русском Инсарове» — революционере. Тургеневская Елена нашла в себе силы последовать за Инсаровым.
Но Гончаров не мыслил Штольца «русским Инсаровым», а Ольга была далека от исканий Елены. Для романиста было уже большим усилием оторваться от литературной усадебной традиции и заставить Ольгу Ильинскую пройти городскую буржуазную выучку и стать помощницей Штольца в его деятельности. Верный традиции Белинского, Гончаров показал неудовлетворенность героини и ее повышенные требования, каким не в силах ответить герой. Но сама гончаровская Ольга ни одним намеком не обнаруживает своей близости к кругу идей и настроений революционной борьбы. Ее неудовлетворенность беспредметна, безымянна и носит не политический, не социальный, но моральный, психологический характер. В деятельности Штольца ее не удовлетворяет рассудочный характер, эгоцентризм, сухой расчет, отсутствие той мягкости, душевности, какие наблюдала она у Обломова. То же отталкивало и самого Гончарова от английского буржуа, о чем с полной откровенностью говорится во «Фрегате Паллада». Не удовлетворяясь тем, что мог бы дать ей Обломов, она говорила ему: «... мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего — не знаю!» (II, 321—322). Не узнала она и от Штольца того, в чем нуждалась. Сблизить же Ольгу с революционерами, которые знали новую правду, для Гончарова было невозможно.
Гениальное разоблачение обломовщины было великой заслугой Гончарова, делом огромной прогрессивности. Чернышевский и Добролюбов высоко оценили эту заслугу и постоянно поддерживали Гончарова в печати. Всякий раз, когда Чернышевский упоминал о Гончарове, он отзывался о нем сочувственно и ставил его в ряд с выдающимися деятелями литературы. Но Добролюбов и Чернышевский лично были далеки от Гончарова, вся сложность заложенных в нем противоречий тогда еще не раскрывалась. В оценках «Фрегата Паллада» или «Обломова» оба критика не могли еще учитывать будущего «Обрыва».
Впрочем, известную настороженность в отношении «Обрыва» мы угадываем в действиях Добролюбова. В 1860 году в «Современнике» Гончаров напечатал отрывок из будущего «Обрыва» — «Софья Николаевна Беловодова». В отрывке Гончаров критически изображал затхлую, мертвенную аристократическую среду, и это подходило к направлению «Современника». Но Гончаров передал в редакцию и другой фрагмент «Обрыва» — «Бабушка». Этот отрывок так и не появился в «Современнике». Сохранилось письмо Гончарова к Добролюбову от 22 апреля 1860 года, где он писал: «Что делает моя „Бабушка“, почтеннейший Николай Александрович, где она загостилась так долго? Если она уже не нужна, то не благоволите ли прислать?» (VIII, 324). «Бабушка», очевидно, оказалась «не нужна», и отрывок был напечатан в следующем году в «Отечественных записках» Краевского. Несомненно, осторожность Добролюбова и «Современника» объясняется тем, что в предложенном отрывке Гончаров изображал бабушку, помещицу Бережкову, в идеализированном виде.
- 435 -
5
Когда Гончаров в 1855 году вернулся в Петербург, ему представлялась возможность стать профессиональным литератором. Он печатал много путевых очерков в журналах, в 1858 году он выпустил отдельное двухтомное издание «Фрегата Паллада», в 1859 году в журнале печатается «Обломов» и в том же году выходит отдельным изданием, в 1860 году в «Современнике» появляется первый отрывок из «Обрыва». Однако Гончаров не захотел отдать себя целиком литературе. В нежелании стать профессиональным писателем сказалась особенность натуры Гончарова: его болезненность, а также медлительность его творчества (над «Обломовым» Гончаров работал свыше десяти лет, работа над «Обрывом» растянулась на два десятилетия). Закончив службу на корабле, Гончаров перешел на службу в 1856 году в министерство народного просвещения на должность цензора. Поступление на службу в цензуру для него не было связано с внутренней борьбой. Впрочем, в 1856 году, вскоре после севастопольской катастрофы, цензурные строгости были ослаблены, и Гончаров как цензор на первых порах проявлял либерализм. Он облегчил в 1856 году разрешение издания «Повестей и рассказов» Тургенева (в их числе «Муму»). В 1857 году он благоприятно отозвался о запрещенных цензурой романах Лажечникова «Ледяной дом» и «Последний новик». В 1858 году он энергично защищал «Записки охотника» и добился их издания. В 1859 году Гончаров получил замечание за допущение в печать статьи, осуждавшей бюрократию, потом официальный выговор от министра просвещения за допущение в «Отечественных записках» критики на книгу одного сенатора. Начальство стало косо смотреть на Гончарова-цензора, и через четыре года службы в цензуре Гончаров подает в отставку.
В 1862 году Гончаров вновь поступает на службу и назначается редактором газеты «Северная почта», при министерстве внутренних дел. В качестве редактора Гончаров оказался очень рачительным, но на свою работу смотрел как на чиновничью службу. В частном письме он сообщает (в конце 1862 года): «Никуда не хожу, ничего не читаю, кроме „Северной почты“, а там, как видишь, читать нечего, да и не нужно. Это газета не для чтения, а для узнания официальных новостей и кое-каких статистических сведений» (VIII, 340). В 1863 году Гончаров опять возвращается к цензурной работе в качестве члена Совета по делам книгопечатания. И здесь, сколько мог, Гончаров отстаивал интересы печати. Но министр Валуев уже брал курс на цензурные репрессии. Испытанный цензор Никитенко отказался от дальнейшей работы в цензуре, так как находил, что «дело печати проиграно» и что сам он «был бы лишен возможности ему честно и независимо служить». Гончаров от работы не отстранялся, но вскоре тому же Никитенко «с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати, как полицейский чиновник...».1 Реакционный курс цензурного ведомства создавал Гончарову неблагоприятную репутацию в литературно-общественной среде.
Наступившее отчуждение от общественных кругов обусловливалось не только службой Гончарова, но и начавшейся эволюцией его вправо. Нараставшее вслед за «освобождением» крестьян в 1861 году радикальное и революционное движение пугало Гончарова.
- 436 -
Гончаров мог близко следить за ростом оппозиционных и революционных настроений в русском обществе. Он не вращался среди лиц, близких к революционным организациям, как, например, Тургенев, но в качестве цензора он читал, обсуждал и оценивал статьи, которые не появлялись в печати, но знаменовали собой нарастание революционной мысли. Читал он как цензор не только беллетристику, но и критику, и публицистику, и исторические, и экономические, и философские работы — как оригинальные, так и переводные. Естественно, что Гончаров был поэтому в курсе всех крупнейших вопросов современности. Цензуровал Гончаров такие боевые журналы, как «Современник» и «Русское слово». Как цензор он написал огромное количество «мнений», «заключений», «ответов». Это была своеобразная литературная деятельность; Гончаров выступал здесь в качестве особого рода «литературного критика». Как широка была эта «критическая» работа, видно, например, из его обширного «Отчета об общем направлении периодических изданий с 1 сентября 1865 г. по 1 января 1867 г.». Здесь Гончаров подробнее всего разбирает журнал «Русское слово», тогда уже запрещенный. Суждения о журнале Писарева вскрывают социально-политические позиции бюрократического консерватизма, какие Гончаров занимал около 1867 года, в период работы над «Обрывом», и потому существенно установить, как Гончаров осмысляет то общественное движение, какое хотел отобразить в этом романе. Он писал:
«Общество метко обозначило зло именем нигилизма и после тщательного исследования убедилось, что оно кроется в незначительном круге самой юной, незрелой и неразвитой молодежи, ослепленной и сбитой с толку некоторыми дерзкими и злонамеренными доморощенными агитаторами, ныне удалившимися или удаленными мерами правительства с поприща деятельности.
«Причины порождения нигилизма можно, кажется, объяснить во 1-х, отчасти недостаточностью, ныне уже сознанною и пополненною, прежнего воспитания в некоторых низших военных, духовных и других учебных заведениях, не удовлетворявшего любознательной жажде молодых умов, которые спешили жадно пополнять скудный запас знаний и, не будучи руководимы строгим педагогическим методом, обольщались фальшивым блеском крайних, новых теорий в науках и начал в жизни, а во 2-х, пропагандой как своих доморощенных агитаторов, начиная с Герцена и его заграничных изданий, так и польских эмиссаров и ссыльных, разносивших по России, вместе с пожарами, и пропаганду гибельных начал».
Впрочем, Гончаров не смотрит на будущее пессимистически. «... Трезвое большинство и юных поколений или вовсе было чуждо пропаганде нигилизма, или, увлекшись на минуту, из духа подражания и ложного, свойственного юности, самолюбия, отрешалось от него при первом соприкосновении с опытом и жизнью. Оставались и, может быть, остаются еще под влиянием этого мрака жалкие юноши-бродяги, не нашедшие приюта в высших учебных заведениях или изгнанные оттуда, безнадежно-испорченные, без правил и убеждений, или, наконец, сознательно избравшие нигилизм знаменем, как спекуляцию, для достижения денежных выгод или популярности и влияния в кругу юного поколения». Далее Гончаров говорит еще о «семейных раздорах по поводу умственной и нравственной розни в воззрениях, о проповеди и примерах разврата в кругу скромных семейств...».1
- 437 -
Совершенно очевидно, что в изложенных суждениях назревает идеологическая схема «Обрыва», схема столкновения «нигилиста» Марка Волохова с обществом и «скромным семейством» Бережковой.
Творческая история «Обрыва» очень сложна и необычайно длительна. Роман задумывался одновременно с «Обломовым» — около 1849 года, в тесной связи с двумя другими частями трилогии об обломовщине, о дореформенной России. Сам автор настаивал на теснейшей связи «Обрыва» с «Обломовым». Райский — «прямой, ближайший сын» Обломова; «как гири на ногах, его тянет назад та же „обломовщина“» (VIII, 150, 151). Как и «Обломова», Гончаров хотел сделать «Обрыв» психологической монографией об одном герое с своеобразным складом личности. Гончаров хотел сосредоточиться на разработке особенной психологии художника. Первоначальное название романа было «Художник», а в письмах Гончаров именует роман: «Райский»; тем самым подчеркивалось исключительное значение героя в композиции романа. В соответствии с таким положением героя предполагалось — в традициях семейного романа — дать генеалогию Райского.
Об этой генеалогии сам Гончаров сообщает ценнейшие данные в «Необыкновенной истории»:
«Была у меня предположена огромная глава о предках Райского, с рассказами мрачных, трагических эпизодов из семейной хроники их рода, начиная с прадеда, деда, наконец отца Райского. Тут являлись, один за другим, фигуры Елизаветинского современника, грозного деспота и в имении и в семье, отчасти самодура, семейная жизнь которого изобиловала насилием, таинственными, кровавыми событиями в семье, безнаказанною жестокостью, с безумной азиатской роскошью. Потом фигура придворного Екатерины, тонкого, изящного, развращенного французским воспитанием эпикурейца, но образованного, поклонника энциклопедистов, доживавшего свой век в имении между французской библиотекой, тонкой кухней и гаремом из крепостных женщин.
«Наконец следовал продукт начала 19-го века — мистик, масон, потом герой — патриот 12—13—14 годов, потом декабрист и т. д. до Райского, героя „Обрыва“» (VIII, 254).
Эта генеалогия для Гончарова замечательна тем, что, в известном отборе типичных явлений, имела заданием расширить и осложнить картину социальной истории русского дворянства за целых полтора века. Наметки такой истории имелись еще в «Сне Обломова» 1849 года, где говорилось о портретной галерее аристократических владельцев Верхлева и об истории рода Обломовых. Но там был дан только самый краткий и бледный очерк. Здесь в плане целой истории крепкого дворянского рода должны были раскрыться картины дворянской жизни — не в плане своеобразной идиллии старосветских помещиков Обломовки, а в духе социальной драмы — с насилиями, кровавыми событиями, жестокостью, крепостными гаремами. Этот замечательный замысел обнаруживает, как много Гончаров размышлял о судьбах русского дворянства; Обломовка с ее скудными обитателями была только одним уголком этого мира. После этого становится понятно, почему Гончаров откликнулся так сочувственно на «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина.
В соответствии с такой антикрепостнической установкой генеалогии Райского строилась и характеристика современной крепостной усадьбы. В описании Малиновки выдвигались черты тяжелого положения крестьян. В образе бабушки явственнее проступали черты барыни-крепостницы. Всё это сильнее и глубже, чем в «Обломове».
- 438 -
И Райского Гончаров задумывал как прямое порождение крепостной усадьбы: «Что такое Райский? Да всё Обломов, т. е. прямой, ближайший его сын», порождение праздности, барства, жизни без содержания и без цели, отсутствия нужды и необходимости труда. Он живет под игом еще неотмененного крепостного права и сложившихся при нем нравов, и оттого воюет только на словах, а не на деле...» («Лучше поздно, чем никогда»; VIII, 150, 155). Сонное обломовское царство воссоздавалось в новом романе, как и в «Обломове», только еще шире. И основной конфликт, как он мыслился Гончаровым в первоначальной концепции, должен был состоять в том, что старая, отсталая, косная жизнь бессильна удержать в своей власти жизнь молодую, рвущуюся вперед. В этом бессилии и косности — «грех» бабушки Татьяны Марковны и ее мира. Этот мир не может выдвинуть положительного героя. Необходимо отметить, что в ранней композиции романа отсутствует Тушин, представитель «партии действия» в окончательном тексте.
Молодое поколение — Вера и Волохов — мыслились Гончаровым в сочувственном духе. Про Волохова он пишет:
«В первоначальном плане романа на месте Волохова у меня предполагалась другая личность — также сильная, почти дерзкая волей, не ужившаяся, по своим новым и либеральным идеям, в службе и в петербургском обществе и посланная на жительство в провинцию, но более сдержанная и воспитанная, нежели Волохов» («Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“»; VIII, 133).
Потом Волохова ссылают в Сибирь, и эту ссылку Гончаров мыслил по типу ссылки декабристов или тех ссылок старого времени, какие лишь демонстрировали административный произвол николаевских властей: «Простого выговора не стоит ... а его на поселение!» — как рассуждал уважаемый Гончаровым его воспитатель, отставной моряк Трегубов («На родине»; VII, 291). В полном соответствии с таким замыслом раннего Волохова были и те зарисовки идеологических движений прошлого, какие намечались в «генеалогии» Райского: образ поклонника энциклопедистов екатерининских времен, образ масона времен александровских с очень сложной эволюцией — мистик, масон, патриот эпохи Отечественной войны, наконец, декабрист.
Логически последовательно и Вера понималась тогда Гончаровым более радикально. В рукописи (пятнадцатая глава третьей части) рекомендованную бабушкой «нравоучительную» книгу о Кунигунде Вера называет «дичью» и удивляется, как действующие лица «терпели такую пытку над собой». Бабушка обвиняет их в непослушании родителям: «нажили беду — и терпи — делать-то нечего». «Как нечего? А бежать? — вдруг сказала Вера. Бабушка окаменела». Вера, хлопнув дверью, выбежала из комнаты. Характерно, как переработан Гончаровым текст для печати. Слов «дичь», «пытка», «бежать» Вера не произносит. Бабушка ее целует, а Вера в ответ: «Перекрестите меня! — сказала потом, и когда бабушка перекрестила ее, она поцеловала у ней руку и ушла» (IV, 103). В соответствии с ранним определением Волохова и Веры Гончаров строит и финал их романа: «У меня первоначальная мысль была та, что Вера, увлеченная героем, следует после, на его призыв, за ним, бросив всё свое гнездо, и с девушкой пробирается через всю Сибирь» (письмо к Е. П. Майковой 1869 года; VIII, 387). Этот замысел замечателен. Он, наверно, навеян Гончарову общением с декабристами в Иркутске в 1854 году и размышлениями об их судьбе. Почти за двенадцать лет до «Декабристок» Некрасова («Русские женщины» 1872) Гончаров замыкал сюжет романа так смело.
- 439 -
Если бы Гончаров разработал свой роман по изложенной концепции и напечатал его в 50-х годах или в начале 60-х, «Обрыв» оказался бы блестящим продолжением «Обломова» и занял бы место в первом ряду крупнейших произведений тех лет.
Но между «Обломовым» и «Обрывом» пролегли сложные влияния, политические и социальные, откуда выросла своеобразная публицистика Гончарова-цензора, а прогрессивная ранняя концепция «Обрыва» заменилась постепенно консервативной или прямо реакционной.
Когда, отвлеченный надолго «Фрегатом Паллада», завершением и печатанием «Обломова», пропустив целое десятилетие 1859—1868 годов, Гончаров приступил к печатанию «Обрыва», роман был уже далеко не таким, каким был задуман в составе трилогии. Творческая история романа круто повернула вправо. Смело задуманная генеалогия Райского исчезла, и картины крепостнических кровавых насилий уже не вязались с новейшей концепцией.
Мы видели, как деформировался образ Веры в эпизоде с назидательной книгой. В окончательном тексте романа Вера в Сибирь не уезжает, покоряется бабушкиной правде, по воле автора проявляет религиозность. Вообще религиозный дух усиливается в романе не только в молитвах Веры в часовне, не только в сентенциях бабушки, но и в общей направленности автора, чего нет ни в «Обыкновенной истории», ни в «Обломове». Марк Волохов от типа дворянского протестанта 40-х годов эволюционирует к нереалистическому, надуманному типу нигилиста, разночинца-материалиста, грубого в манерах, речах и поведении, циничного в делах любви, опустившегося. Время действия в окончательном тексте «Обрыва», как и в первоначальных замыслах, дореформенное. Изображаются крепостные крестьяне, крепостное хозяйство, дореформенное чиновничество. Между тем Волохову приданы черты нигилиста 60-х годов. Здесь явный анахронизм, обнажающий спайки и швы в романе. Сам Гончаров это сознавал. Е. П. Майковой он пишет (1869 или 1870): «... Марк во 2-й части — не то, что он в 3-й, 4-й и 5-й: он у меня вышел сшитым из двух половин, из которых одна относится к глубокой древности, до 50-х годов, а другая — позднее, когда стали нарождаться новые люди» (VIII, 403).
Гончаров был тенденциозен в обрисовке нового Волохова. В том же письме к Майковой, представительнице молодого поколения, Гончаров говорит: «„Это пародия на молодых новых людей, — пишете Вы, — и юное поколение их не любит“ — согласен. Отчего же и не писать пародию, если она попалась под руку? Почему я должен писать непременно то или другое, а не то, что пишется?». Здесь Гончаров вступал в глубокое противоречие с тем, во что сам так верил, чем оправдывал свой прежний «объективизм» и о чем он говорит в том же самом письме к Майковой. «Судя меня строго, не выпускайте из вида одно обстоятельство, что моя главная и почти единственная цель в романе — есть — рисовка жизни, простой, вседневной, как она есть или была, и Марк попал туда случайно. Доказывать, натягивать я ничего не хотел, а хотел прежде всего рисовать. Произведение искусства не есть ни защитительная, ни обвинительная речь, и не математическое доказательство. Оно не обвиняет, не оправдывает и не доказывает, а изображает. И если образ верен, он что-нибудь сам собою изображает, если не верен, то он — не художественное произведение и, следовательно, не годится» (VIII, 403, 404). Но Гончаров как раз и обвинял, и оправдывал, и доказывал в «Обрыве», и в результате получилось «не художественное» произведение с ложной тенденцией в отношении к образу «нигилиста». Ложно, будто Марк «попал случайно» в роман. Наоборот, вся позднейшая
- 440 -
концепция романа повернута так, чтобы разоблачить Волохова и выдвинуть против него положительные силы, положительных героев. Борьба с Волоховым и «волоховщиной» есть основное задание, идеологический стержень романа.
Ради этой борьбы многое переработано в композиции и идеологии романа — сверх того, что отмечено выше. В ранней концепции композиционным центром являлся художник-барин Райский, теперь на первое место выдвинута драма Веры, и роман получил выразительное название «Обрыв». Правда, Райскому уделяется много внимания и места, но самый угол зрения на него сильно изменился. Черты обломовщины в нем обострились, беспощадно разоблачается барский аристократический дилетантизм Райского, бесхарактерность, безволие, нетрудоспособность, поражения в любовных затеях. Райский пасует в столкновениях и с Волоховым, и с Тушиным. В изображении Райского Гончаров применяет теперь редкий у него прием прямой сатиры. Наоборот, бабушка Бережкова обогащается в своем интеллектуально-моральном значении, выдвигается как крупная сила в развертывающейся борьбе, из положения побежденной переводится в положение победительницы. Создается новый персонаж, которого не было в ранней концепции: положительный герой Иван Иванович Тушин, победитель Волохова в борьбе за Веру. Наконец, роман из обличительного, каким он был в ранней концепции, приближается к типу охранительного. В сложном и трудном диалектическом процессе мышления Гончарова раскрывается коренное противоречие между прогрессивными и консервативными началами, и последние берут верх. Начинают выдвигаться и преобладать те симпатии к дворянству, какие возникли еще в отроческие годы, укреплялись потом общением с дворянскими кругами на фрегате и в Петербурге.
Необходимо иметь в виду, что сам Гончаров, изображая Обломовку и обломовщину, не считал всё русское дворянство обреченным, а Илья Ильич Обломов вызывает сочувствие автора некоторыми своими морально-психологическими чертами.
В творчестве Гончарова есть еще один образ, раскрывающий его горячие симпатии к крепкому хозяину-помещику. Этот образ затерялся во «Фрегате Паллада» и обычно никак не учитывается для идеологической характеристики Гончарова, а если кто его и вспоминает, то придает ему неправильное толкование.
Деятельность степного помещика, припоминаемая Гончаровым в каюте фрегата, оказывается, никак не похожа на времяпровождение Обломова-отца. Помещик вызывает на доклад к себе приказчика. При первой же попытке дать неверные сведения приказчик уличается барином и удивляется: «Экая память-то мужицкая, а еще барин!» (V, 53). Барин, оказывается, помнит, сколько на прошлой неделе отпущено в город овса, он и без приказчика знает, что наведывался купец о хлебе и какие он цены давал, он помнит цены на хлеб в прошлом году и т. д. «И щелкают они на счетах с приказчиком, иногда всё утро или целый вечер, так что тоску наведут на жену и детей, а приказчик выйдет весь в поту из кабинета, как будто верст за тридцать на богомолье пешком ходил» (V, 54).
Разговоры с гостями опять деловые:
«— Какие яровые у Василья Степаныча, видели?
«— Как же, нарочно ездил. Слышали, уж он запродал хлеб. А каковы овсы у вас?
«И пошла беседа на три дня.
«Дамы пойдут в сад и оранжерею, а барин с гостем отправились по гумнам, по полям, на мельницу, на луга... Хозяин осмотрел каждый уголок;
- 441 -
нужды нет, что хлеб еще на корню, а он прикинул в уме, что̀ у него окажется в наличности по истечении года, сколько он пошлет сыну в гвардию, сколько заплатит за дочь в институт» (V, 54—55). Это совершенно не похоже на Обломова-отца, который «не вздумает никогда поверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение» (II, 104). Нет, у помещика, припомнившегося Гончарову по контрасту с англичанином, хозяйство ведется отлично, заботливо, твердо.
Так уверенными и четкими штрихами набрасывает Гончаров характеристику богатого помещика. И хотя сам Гончаров отмечает — в контрасте с быстротой и энергией англичан — медлительность и даже лень («ленивая деятельность и деятельная лень») своего любимца, но явственно противополагает его самого и весь уклад его жизни обломовцам. Это — крепкий, надежный хозяин, это — маленький феодал. Он не дает своему владению придти в упадок. Он твердо правит и своей семьей, и присными, и дворней, и крестьянами. Через предводителя дворянства, через губернатора, через сына, столичного гвардейского офицера, он крепко связан с государственным порядком, он полноценный, необходимый член общества. Так смотрит на него Гончаров, сопоставляя его с деловым энергичным англичанином.
Ход новых мыслей Гончарова раскрывается творческой историей образа бабушки Бережковой. В последующей работе над романом Гончаров полнее раскрыл социальное значение излюбленной им героини. В ранних текстах имение бабушки было меньше того, каким оно стало в окончательной редакции. «Парничок» стал «парником», вместо «повара и кухарки» появилось «несколько поваров и кухарок». Бережкова не только богатая, но вместе с тем хозяйственная, энергичная помещица. Она управляет имением Райского, но у нее была и «своя родовая деревенька», «был свой капитал» — «тысяч полтораста». Капитал этот она разумным хозяйствованием приумножила; о Вере и Марфиньке она горделиво говорит: «... у них по пятидесяти тысяч у каждой. Да после бабушки втрое, а, может быть, и побольше останется: это всё им!» (III, 141). Бережкова «любила повелевать, распоряжаться, действовать». Она управляла имениями «как маленьким царством, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодальных началах» (III, 51).
Гончаров рассказывает об этом с полным сочувствием.
Но бабушка ведет свое хозяйство по старинке и не допускает новшеств. Так можно было с успехом хозяйствовать до реформы. Ко времени освобождения крестьян хозяйствование бабушки становилось отсталым, и сама она теряла для Гончарова значение передового деятеля в новой борьбе. И вот Гончаров создает образ помещика Тушина.
Помещик Тушин «жил в самой чаще леса, в собственной усадьбе, сам занимался с любовью этим лесом, ростил, холил, берег его, с одной стороны, а с другой — рубил, продавал и сплавлял по Волге. Лесу было несколько тысяч десятин, и лесное хозяйство устроено и ведено было с редкою аккуратностью; у него одного в той стороне устроен был паровой пильный завод, и всем заведывал, над всем наблюдал сам Тушин» (IV, 87). «Пильный завод показался Райскому чем-то небывалым, по обширности, почти по роскоши строений, где удобство и изящество делали его похожим на образцовое английское заведение. Машины из блестящей стали и меди были в своем роде образцовыми произведениями» (IV, 333). Масса лесного материала отправлялась из лесной экономии Тушина по водам до Петербурга и за границу. Лес «содержался, как парк, где на каждом шагу видны следы движения, работ, ухода и науки» (IV, 333). Тушин «читал увражи по агрономической и вообще по хозяйственной
- 442 -
части, держал сведущего немца, специалиста по лесному хозяйству, но не отдавался ему в опеку, требовал его советов, а распоряжался сам, с помощью двух приказчиков и артелью своих и нанятых рабочих» (IV, 88). Тушин применял в своем лесном хозяйстве труд и крепостных, и наемных рабочих. О его крестьянах Гончаров говорит: у Тушина Райский «не заметил пока обыкновенных и повсюдных явлений: беспорядка, следов бедного крестьянского хозяйства, изб, на курьих ножках, куч навоза, грязных луж, сгнивших колодцев и мостиков, нищих, больных, пьяных, никакой распущенности..., все строения глядят, как новые, свежо, чисто, даже ни одной соломенной кровли нет...». В имении Тушина «было что-то вроде исправительной полиции для разбора мелких дел у мужиков, да заведения вроде банка, больницы, школы» (IV, 332).
Вместе с Райским Гончаров восхищается не только хозяйством Тушина, но и его личностью, его нравственными свойствами: «равновесием силы ума с суммою тех качеств, которые составляют силу души и воли,... и то, и другое, и третье слито у него тесно одно с другим и ничто не выдается, не просится вперед, не сверкает, не ослепляет, а тянет к себе медленно, но прочно...». Воля служит Тушину «послушным орудием умственной и нравственной силы. Жизнь его совершала свой гармонический ход, как будто разыгрывалось стройное музыкальное произведение, под управлением данных ему природою сил» (IV, 330).
Тушин имеет для Гончарова большое принципиальное значение. Гончаров противопоставляет Тушина нигилистам, социалистам, революционерам: «Тушины — наша истинная „партия действия“, наше прочное „будущее“, которое выступит в данный момент, особенно, когда всё это — оглядываясь кругом на поля, на дальние деревни, решал Райский — когда всё это будет свободно, когда все миражи, лень и баловство исчезнут, уступив место настоящему „делу“, множеству „дела“ у всех, — когда с миражами исчезнут и добровольные „мученики“, тогда явятся, на смену им, „работники“, „Тушины“ на всей лестнице общества...» (IV, 332). И Райский, и Гончаров обобщают образ Тушина в некий символ социального реформатора:
«В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого самого дюжего работника между своими работниками, и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния, он видел какого-то заволжского Роберта Овена!» (IV, 334).
Характерно, что Гончаров сопоставил Тушина с Оуэном. Это свидетельствует о том, что он придавал образу Тушина крупное идеологическое значение. С людьми типа Тушина Гончаров соединял горячие надежды на будущее, на разрешение социальной проблемы. Он верил, что именно такие деятели, деловые помещики, помещики-предприниматели, наряду с предпринимателями-коммерсантами типа Штольца, явятся опорой хозяйственной и общественной жизни России.
В недавнее время понимание образа Тушина подверглось искажению. По переверзевской «теории переряженных образов» Тушина объявили не помещиком, а переряженным промышленником-купцом. Только исторической неосведомленностью или слепой страстью «переряживать образы» объясняется тенденция объявить «крупного лесопромышленника» Тушина купцом. В крепостное время (как и позже) и лесоторговля, и железоделательные заводы, и суконные фабрики, и коннозаводство и пр. бывали в руках настоящих, несочиненных помещиков. Гончаров это хорошо знал. В очерке «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров упоминает о «заводчиках-барах,
- 443 -
у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений» (VIII, 142). Легко подтвердить высказывания Гончарова документальными данными. Гончаров только описал точно то, что бывало в подлинной жизни и что, к слову сказать, изображалось в художественной литературе и до Гончарова, и одновременно с ним, и после него.
Образ Тушина воинственно повернут против «нигилиста» Волохова. Волохов, как он дан в окончательном тексте романа, безоговорочно противопоставлен и консерваторам, и либералам и не уравновешен образом подлинного революционера и демократа, образом, знакомым и Гончарову — хотя бы по роману Чернышевского «Что делать?» или по идейно-психологическому облику Добролюбова, которого так ценил сам же Гончаров. Образ Волохова претендует представительствовать весь фронт воинствующей демократии. В этой своей функции он и был понят русским обществом и тотчас включен в готовую уже группу «нигилистических» образов, штамповавшихся в так называемой охранительной литературе. Ко времени появления «Обрыва» в печати (первое отдельное издание — 1870) таких охранительных романов и повестей, с обличениями нигилистов, накопилось много. Передовой критике уже приходилось бороться с злостными извращениями в реакционно-охранительной литературе образов подлинных революционно-демократических деятелей.
Поэтому, как только «Обрыв» появился в «Вестнике Европы» в 1869 году, критика начала борьбу с ним. В этом духе об «Обрыве» писал в «Отечественных записках» А. М. Скабичевский, в «Деле» — Н. В. Шелгунов. Самый обширный отзыв об «Обрыве» напечатал М. Е. Салтыков также в «Отечественных записках» — «Уличная философия». Салтыков первый включил «Обрыв» в группу охранительных романов:
«Бросать камень в людей за то только, что они ищут, за то, что они хотят стать на дороге познания, за то, что они учатся, и бросать этот камень, не дав себе даже предварительного отчёта, в чем заключается сущность стремлений этих людей — вот подвиг, которого неловкость и несвоевременность, по нашему мнению, не может подлежать спору.
«К сожалению, такого рода неловкий и несвоевременный подвиг совершил г. Гончаров своим романом „Обрыв“».1
В ожесточенной борьбе против Волохова критики, естественно, не удерживались от преувеличений и начинали терять историческую и художественную перспективу.
Это была крайность: художественные достоинства романа нельзя игнорировать. Тургенев, враждебно настроенный против «Обрыва», писал Анненкову (январь 1869 года), еще не дочитав романа до конца: «отдыхаешь, как попадешь в дом к Татьяне Марковне и в уездный город... Там есть вещи хорошие...».2 В. П. Боткин, тоже не одобрявший «Обрыва», писал Фету (июнь 1869 года): «А между тем однако ж какой талант, какая изобразительность описаний!».3
Действительно, как ни сильны консервативные тенденции в «Обрыве», роман имеет большие реалистические достоинства. В «Обрыве» мастерски даны картины русской природы. Хороши и описания бытовые, жанровые — той же усадьбы Малиновки или глухого губернского города. Рукой опытного мастера изображены дворовые бабушки (Марина и Савелий),
- 444 -
идиллическая пара — Марфинька и Викентьев, учитель Леонтий Козлов и его жена, друг бабушки Тит Никоныч Ватутин. Перерабатывая роман в окончательном тексте, Гончаров не мог, да и не хотел устранить многих элементов того критического реализма, в каком строилась первоначальная концепция романа. Черты крепостнического хозяйствования бабушки сбереглись и в окончательном тексте. Старый взяточник, ханжа и насильник Тычков зло разоблачен в публичном столкновении с Райским. Сам Райский, как уже отмечалось выше, изображен остро критически, подчас сатирически, как «лишний человек», и в трактовке этого образа Гончаров приближался к тому пониманию «лишних людей», «людей сороковых годов», какое в 70—80-х годах давал Салтыков.
Крупнейшим творческим достижением Гончарова в «Обрыве» был образ Веры. Как ни смягчал автор этот образ для окончательного текста романа, Вера всё же оставалась сильным, непокорным характером, протестанткой. Ее тип родствен Ольге Ильинской, но дан еще глубже и сильнее. Ее борьба в кругу бабушки, Райского, Волохова и Тушина полна драматизма. Это придает роману динамичность. Недаром «Обрыв» много раз инсценировался для театра и кино. Образ Веры принадлежит к лучшим женским образам в классической русской литературе — наряду с Татьяной Лариной, Наташей Ростовой, Лизой Калитиной, Еленой из «Накануне».
Сам Гончаров старался отвести вопросы о прототипе Веры, утверждал, будто такого прототипа не было. На самом же деле тот подъем и проникновенность, с какой обрисованы Вера и ее борьба, обусловлены нетолько творческой фантазией автора, но и подлинными событиями жизни, затронувшими Гончарова. Жена Вл. Н. Майкова, Екатерина Павловна, которою Гончаров был увлечен в течение нескольких лет, сама увлеклась одним «нигилистом», бросила ради него мужа и детей и уехала на Кавказ, в коммуну. Е. П. Майкова около 1859 года переписывала для Гончарова раннюю программу «Обрыва», а потом в письмах бранила его за Марка Волохова. Несомненно, под влиянием Е. П. Майковой он сдерживался в обличениях Волохова, когда в начале 1869 года последний раз перерабатывал «Обрыв» для «Вестника Европы». О Волохове он тогда писал ей: «Я его не оскорблю, он у меня честен и только верен себе до конца» (VIII, 386). Если в роман Обломова и Ольги было вложено Гончаровым лично пережитое из его романа с Е. В. Толстой, то роман Веры и Волохова, с вмешательством Райского, отобразил, — конечно, в творческой переработке, — нечто из увлечения Гончарова Е. П. Майковой. Отсюда — энергия и страстность, с какой Гончаров раскрывает драму Веры.
Белинский по поводу «Обыкновенной истории» писал о Гончарове: «К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры... Женщины Гончарова живые, верные действительности создания. Это новость в нашей литературе» (XI, 119, 120). Мы помним, что Добролюбов говорил то же по поводу «Обломова». То же сказали бы оба по поводу «Обрыва» и в особенности о Вере.1
6
В конце 1873 или в начале 1874 года Гончаров начал очерк-рассказ «Поездка по Волге», где удачно зарисованы образы столичного художника и деревенской старушки, но не докончил работу и оставил ее в рукописи.
- 445 -
В 1888 году Гончаров напечатал очерк «Слуги старого века», примыкавший по содержанию и стилю к «Обломову». Очерк был, в сущности, мемуарным и включался в целую группу новых мемуарных работ Гончарова. Сюда относятся: «Заметки о личности Белинского» (1874, 1881); «Необыкновенная история» (1875—1876, 1878); «В университете» (1870-е годы, 1887); «На родине» (1887, 1888); сюда же можно отнести «По Восточной Сибири» (1891) — осколок «Фрегата Паллада». Все эти работы являются ценными приобретениями русской мемуарной литературы. Они точны, правдивы, искренни, живы, образны, полны умных, зорких наблюдений. «Заметки» о Белинском, проникнутые любовью к нему, чутким пониманием его личности, замечательны по правдивости, по важному значению их для нашего познания самого Гончарова. Своеобразна «Необыкновенная история (Истинные события)» — целая книга, написанная еще в 70-х годах, но остававшаяся в бумагах Гончарова до 1924 года. Это история отношений Гончарова и Тургенева, бывших в давней тяжелой ссоре, искаженно и тенденциозно изложенная автором в ту пору, когда он находился в состоянии серьезного нервного заболевания, — тем не менее ценная для понимания литературной жизни 40—70-х годов.
Особую группу образуют критические статьи Гончарова. Они десятками лет оставались в рукописях и опубликованы посмертно. Таковы: «Материалы, заготовляемые для критической статьи об Островском», «Предисловие к роману „Обрыв“», «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“», статья о «Гамлете», «Отзыв о драме „Гроза“ Островского», отзыв о картине Крамского. Теперь, располагая их текстами, мы видим, сколько ценных мыслей Гончарова оставались неизвестными и как хорошо продуманы были его воззрения на искусство и литературу. Впрочем, несколько крупных критических этюдов Гончаров всё же сам напечатал: «Мильон терзаний» (1872), «Лучше поздно, чем никогда» (1879), беллетризованный «Литературный вечер», (1880), письмо о Пушкине (1880), «Заметка по поводу юбилея Карамзина» (1866), «В. Н. Майков» (1847). Первые три вместе с «Заметками о личности Белинского» были изданы и отдельной книгой в 1881 году («Четыре очерка»).
Вся эта часть литературного наследия Гончарова, обширная и ценная, обогащается еще целой вереницей частных писем Гончарова, где он, всегда осторожный и связанный в своих печатных высказываниях, говорил смелее и свободнее — нередко о самых существенных вопросах литературы, искусства и общественности. Привлекая все эти материалы, мы теперь получаем возможность воссоздать литературные воззрения Гончарова и его творческий метод с большой полнотой.
С молодости Гончаров живо интересовался классическим искусством. С искусством античным и западноевропейским Гончаров знакомился во время своих заграничных поездок. О фламандской живописи он говорит в «Обыкновенной истории» и в не напечатанной при жизни статье об Островском. В неопубликованном предисловии к «Обрыву» Гончаров пишет о Рафаэле, Корреджио. В других случаях он ссылается на Рубенса, на Гвидо Рени, Тициана, Рембрандта; в письме к С. А. Никитенко (1870) он говорит о картине Ораса Верне «Взятие Арабской Смалы» в Версальской галерее. Столь же хорошо осведомлен был Гончаров и в русской живописи. Интересны его суждения об А. А. Иванове и его картине «Явление Христа народу» (в предисловии к «Обрыву») и о картине Н. Ге («Что есть истина?) и др. Передвижничество зародилось и развилось на глазах Гончарова и нашло в нем сильного сторонника.
- 446 -
О картине Крамского «Христос в пустыне» Гончаров написал замечательное рассуждение. В этой статье писатель берется обсуждать чрезвычайно щекотливый для того времени вопрос: о пределах свободы художника в трактовании религиозных, евангельских сюжетов, о приемах живописного изображения Христа. И вот его общий вывод о религиозной живописи: «Современным реалистам остается придерживаться одной исторической правды и ее одну освещать своею художественною фантазиею...» (VIII, 231). И рядом с ним другой, дополнительный: «... бессильно становится искусство, когда оно вздумает из человеческих границ выступить в среду чудесного и сверхъестественного!» (VIII, 225).
Эта проповедь независимого от религиозной традиции, свободного художественного реализма была глубоко родственна всему мощному движению реализма в русском искусстве 60—70-х годов — в литературе, живописи, музыке. Она противоречит тому трафаретному представлению, которое отождествляет Гончарова-писателя с Гончаровым-цензором.
Следует отвести и еще одно, ставшее трафаретным, суждение о Гончарове: будто он «фламандец» в своем художественном методе. С прямой тенденцией обезвредить Гончарова убеждал в этом читателей Дружинин. Гончаров высоко ценил фламандскую школу живописи. В своем творчестве он создал немало бытовых картин в духе фламандской школы. Но бытовыми зарисовками отнюдь не исчерпывается его художественное наследие. Под фламандство, под «поэзию обыденности», «хозяйственной прозы» никак не подойдут душевные метания молодого Александра Адуева, сложная жизнь Райского, образы гончаровских героинь, душевная драма Веры, глубокий психологический анализ Обломова, гениальное раскрытие обломовщины как социально-исторического явления.
И теоретические построения Гончарова были несравненно глубже и шире «фламандства». Не бытовизм, не натурализм, а реализм стал его боевым лозунгом и методом. «Реализм есть одна из капитальных основ искусства», — утверждал Гончаров (VIII, 170). К реализму он шел, как мы видели выше при обзоре его раннего творчества, через преодоление ультраромантизма. Теорию и методы реализма он воспринимает как уроки и выводы всей мировой истории искусства.
Если Гончаров был знатоком пластических искусств античности, Запада и России, то еще в большей степени он является знатоком мировой литературы.
В связи с характеристикой университетских лет и ранней жизни в Петербурге отмечалось, как широко изучал Гончаров античные и западные литературы — не только Данте, Шекспира, Гете, Сервантеса, Байрона, но и Тасса, Клопштока и Оссиана.
Гончаров прошел через увлечение французской литературой, через увлечение французским «физиологическим очерком», Бальзаком. Правдивость творчества Бальзака, сообщавшая его произведениям огромную познавательную ценность, роднилась с такой же правдивостью у Гончарова. Подобно тому, как Маркс и Энгельс благодаря этой правдивости могли делать из художественных произведений Бальзака выводы более глубокие и далекие, чем сам автор, так и революционный демократ Добролюбов смог углубить и расширить понимание обломовщины, как этого и не предугадывал сам Гончаров.
Гончаров уже сложился как писатель, когда во французской литературе стали выступать Флобер, Золя, Додэ, братья Гонкуры. Гончаров признавал их как талантливых писателей, и характерно, как он их понимал: «... истинно талантливые французы, как Эмиль Золя, А. Додэ и другие —
- 447 -
поняли и значение нашей натуральной школы и стали самостоятельно на этот новый для них путь. Собственно, Тургенев был их учителем, т. е. молодых начинающих писателей там..., близость сходства с натуральной школой заключается более в психологических характерах, отчасти в фабуле, а не во внешних приемах» («Необыкновенная история»).1
Гончаров высоко ценил Шекспира, Байрона. Но ближе всего ему была не драма, не лирика или поэма английская, но английский роман. Гончаров внимательно следил за новейшей английской беллетристикой. Он отлично знал Вальтера Скотта. Близки к кругу его творческих задач были романы Теккерея и творчество Диккенса. В оценке Диккенса Гончаров сближался с Белинским.
Но в центре интересов Гончарова всегда была русская литература. Гончаров интересовался развитием русской литературы в XVIII веке. Огромное место в его творческом сознании занял Грибоедов. Первое издание «Горя от ума» вышло в Москве в 1833 году, когда Гончаров был московским студентом. Ранняя постановка комедии, с участием Щепкина, Мочалова, Львовой-Синецкой, Ленского и др., относится к тем же годам, и Гончаров навсегда сохранил «впечатления о той игре». В художественных своих произведениях, в статьях, мемуарах он постоянно вспоминает и цитирует «Горе от ума». Пьеса Грибоедова положительно стала «вечным спутником» его литературного мышления. Блестящим итогом таких размышлений явилась статья Гончарова «Мильон терзаний» (1872), в которой превосходный анализ постановки «Горя от ума» в 1871 году в Александринском театре сочетался с тонкими замечаниями об игре отдельных актеров, анализ самой пьесы как «сценического действия» — с гениальным раскрытием ее драматургической композиции и общей эстетической и литературно-исторической оценкой произведения. В истолковании образа Чацкого и «борьбы, важной и серьезной, целой битвы», какую он ведет с косным обществом, сказалась присущая Гончарову прогрессивная тенденция, а в горячей защите Софьи Фамусовой и раскрытии моральных сил и достоинств девушки, изуродованной — окружающей средой, проявился вновь гуманизм Гончарова, его «осердеченный ум».
Горячо возражая старой критике на утверждение, будто в «Горе от ума» нет движения, нет действия, Гончаров мастерски раскрывает «тонкую, умную, изящную и страстную комедию в тесном, техническом смысле», «комедию-интригу», комедию интимную (VIII, 56), но гениально связанную с общественной борьбой Чацкого. В своем истолковании героя Гончаров подчеркивает, что в образе Чацкого органически сочетается с ролью влюбленного юноши другая роль — «роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия» (VIII, 58). Это роль общественного борца. Чацкий — воин «и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва» (VIII, 72). Замечательно, что Гончаров высоко ставит Чацкого-борца в сравнении с Онегиным и Печориным, считая, что Чацкий как личность «несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина» (VIII, 56).
Статья Гончарова является превосходным комментарием к «Горю от ума». Она не менее важна и для понимания Гончарова и его творчества. Выше не раз приходилось отмечать, что «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» в общей ранней концепции, да и в завершенном своем
- 448 -
виде являются трилогией об обломовщине, о старом, умирающем барстве крепостнической эпохи. Трилогия захватывает и усадебное, и городское, и столичное (петербургское) барство. Нехватало только московского барства, как своеобразного варианта. «Мильон терзаний» восполнил этот пробел в картинной галерее Гончарова. Следует подчеркнуть, что эта знаменитая статья Гончарова написана художественно: с элементами яркой образности, с характеристическими эпитетами, меткими сравнениями, с метафоричностью, сильной эмоциональностью, с таким проникновением в психологию персонажей, какое доступно только писателю-художнику. Фамусовщина, конечно, не обломовщина, но в общей критике «отжившего века» Гончаров сумел сблизить их (вспомним «снотворный застой», в котором вырастала Софья Фамусова).
Тяга Гончарова к «положительному герою», какая проявляется во всех трех романах Гончарова, нашла свое удовлетворение в образе Чацкого. Несомненно, что о Чацком Гончаров говорит с бо̀льшим увлечением, чем о собственных «положительных» героях: Адуеве-старшем, Штольце, Тушине. Гончаров пишет:
«Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого — и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела, — будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне, — ни группировались люди — им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета „учиться, на старших глядя“, с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к „свободной жизни“ вперед и вперед, с другой».
И далее: «В честных, горячих речах этих позднейших Чацких будут вечно слышаться грибоедовские мотивы и слова, — и если не слова, то смысл и тон раздражительных монологов его Чацкого. От этой музыки здоровые герои в борьбе со старым не уйдут никогда» (VIII, 73).
Гончаров ищет и находит Чацких не только в литературе, но и в подлинной жизни. Гончаров называет только двух таких Чацких в русской жизни — и выбор примеров замечателен. «Вспомним не повесть, не комедию, не художественное явление, а возьмем одного из позднейших бойцов с старым веком, например, Белинского. Многие из нас знали его лично, а теперь знают его все. Прислушайтесь к его горячим импровизациям — и в них звучат те же мотивы и тот же тон, как у грибоедовского Чацкого. И так же он умер, уничтоженный „мильоном терзаний“, убитый лихорадкой ожидания и недождавшийся исполнения своих грез, которые теперь — уже не грезы больше» (VIII, 73). Другой пример — Герцен с его «Колоколом»: «... вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России, где они находили виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого» (VIII, 73). Эти строки писались через два года после «Обрыва» и вскоре после смерти Герцена — писателем, который сам был беспощадно высмеян Герценом в «Колоколе».
Несомненно, что «Мильон терзаний» является самым прогрессивным документом в литературно-теоретическом наследии Гончарова. Сам Гончаров связывает «Мильон терзаний» с «Обрывом» в одном пункте. Указывая, что Фамусов, «от страха за себя, за свое безмятежно-праздное существование», клевещет на Чацкого: «Да он властей не признает!», Гончаров продолжает: он лжет, «потому что ему нечего сказать, и лжет всё то, что жило ложью в прошлом. Старая правда никогда не смутится перед новой — она возьмет это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи» (VIII, 72).
Но в «Обрыве», как «больное и ненужное», отвергнуто новое Марка Волохова и благосклонно принято новое Тушина. И в «Мильоне терзаний»
- 449 -
мы наблюдаем осторожный отбор, своеобразную селекцию семян будущего, нового. «Живучесть роли Чацкого, — пишет Гончаров, — состоит не в новизне неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий..., у него нет отвлеченностей» (VIII, 71). А в дальнейших рассуждениях — прямые намеки на «новых людей», на «нигилистов», на Волоховых. «Провозвестники новой зари, или фанатики, или просто вестовщики — все эти передовые курьеры неизвестного будущего являются — и по естественному ходу общественного развития — должны являться...» (VIII, 71), но они, к их невыгоде, противопоставляются Чацкому. «Он не теряет земли из-под ног и не верит в призрак... Перед увлечением неизвестным идеалом, перед обольщением мечты, он трезво остановится, как остановился перед бессмысленным отрицанием „законов, совести и веры“ в болтовне Репетилова, и скажет ему свое: „Послушай, ври, да знай же меру!“. Он очень положителен в своих требованиях и заявляет их в готовой программе...» (VIII, 71). Чацкий, уверяет Гончаров, примиряет новую правду со старой правдой: «Он не гонит с юношескою запальчивостью со сцены всего, что уцелело, что, по законам разума и справедливости, как по естественным законам в природе физической, осталось доживать свой срок, что может и должно быть терпимо. Он требует места и свободы своему веку: просит дела, но не хочет прислуживаться, и клеймит позором низкопоклонство и шутовство. Он требует „службы делу, а не лицам“, не смешивает „веселья или дурачества с делом“, как Молчалин, — он тяготится среди пустой, праздной толпы „мучителей, предателей, зловещих старух, вздорных стариков“, отказываясь преклоняться перед их авторитетом дряхлости, чинолюбия и проч. Его возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы „разливанья в пирах и мотовстве“ — явления умственной и нравственной слепоты и растления» (VIII, 71). Чтобы не было недоразумений о «готовой программе», Гончаров еще раз педантически перечисляет свободы, каких добивается Чацкий: «... это — свобода от всех этих исчисленных цепей рабства, которыми оковано общество, а потом свобода — „вперить в науки ум, алчущий познаний“ или беспрепятственно предаваться „искусствам творческим, высоким и прекрасным“, — свобода „служить или не служить“, „жить в деревне или путешествовать“, не слывя за то ни разбойником, ни зажигателем, — и ряд дальнейших очередных подобных шагов к свободе — от несвободы» (VIII, 71—72). Какие дальнейшие очередные шаги к свободе, не указано, но они должны быть «подобными» перечисленными и не давать оснований к наименованию «разбойником или зажигателем».
В этой характеристике Чацкий заметно снижен в своей идейности. То, что для нас очевидно, то, о чем говорили в печати до Гончарова не только Герцен, но и Аполлон Григорьев, то, что Чацкий представляет декабризм, об этом ни одним словом не упоминает Гончаров. Между тем в революционную программу декабризма входила борьба не только с крепостным правом, но и с самодержавием. Гончаров не мог сочувствовать такой борьбе декабристов-Чацких, и она замолчана в «Мильоне терзаний». «Блестящие гипотезы», «дерзкие утопии», т. е. социалистические теории, прямо отвергнуты в статье.
Но, подобно тому как образы «Обломова» даны в такой типизации, что могут быть истолкованы смелее и шире, чем хотел бы автор, так и формулы «Мильона терзаний» даны в такой обобщенности, что также могут пониматься шире. Многое в статье продумано так глубоко и сформулировано так сильно, что сохраняет свою жизненность и по сей день.
- 450 -
*
Близок Гончаров к нашей современности и в своих общих определениях Пушкина. Накануне пушкинского юбилея 1880 года Гончаров сказал то, что в дни юбилея 1937 года стало нашей крылатой формулой. В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров писал: «... Пушкин — отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов — отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках...» (VIII, 145).
Глубина литературно-исторической мысли Гончарова сказалась в том, что он, как отмечалось выше, вопреки агитации литературной группы Дружинина, утверждал единство направления Пушкина и Гоголя. Не менее замечательный взгляд высказывает Гончаров на гоголевское отрицание.
«Русская беллетристика со времени Гоголя, — писал Гончаров, — всё еще следует по пути отрицания в своих приемах изображения жизни, — и неизвестно, когда сойдет с него, сойдет ли когда-нибудь и нужно ли сходить?» (VIII, 101—102).
Словно откликаясь на «Очерки гоголевского периода» Чернышевского, Гончаров пишет о Гоголе, что его именем «назван период, продолжающийся поныне до гг. Слепцова, Успенского, Решетникова и других — в беллетристике, с Белинского до Добролюбова — в критике и публицистике» (VIII, 108). О Гоголе Гончаров постоянно упоминает в своих критических статьях и литературных письмах. Совершенно ясно, что Гоголь, как и Пушкин, был вечным спутником творческой и литературно-теоретической мысли Гончарова. Правда, в том же очерке, где Гончаров говорит о Пушкине как о своем учителе, он заявлял: «Гоголь на меня повлиял гораздо позже и меньше; я уже писал сам, когда Гоголь еще не закончил своего поприща» (VIII, 146). Однако еще в «Счастливой ошибке» (1839) мы отмечали влияние Гоголя. Картина тропической ночи в Атлантическом океане во «Фрегате Паллада» (т. I, гл. 3) по своему лирическому стилю близка к описаниям природы в украинских повестях Гоголя. Сопоставляя «Обломова» и «Женитьбу» Гоголя, мы выносим неотразимое впечатление родства этих двух произведений, столь различных между собой по жанру, по объему и пр. Родствен язык двух слуг — Захара и Степана. Родственны друг другу и по сюжетной функции, и типажу, и по фразеологии Тарантьев и Кочкарев. Есть психологическое сходство — именно в нерешительности — между Обломовым и Подколесиным. Рассуждения Обломова о себе самом в восьмой главе первой части романа живо напоминают гоголевскую характеристику Плюшкина и заглохших в нем хороших чувств. Еще Добролюбов указывал на сходство между Обломовым и Тентетниковым. Утро Обломова поразительно напоминает утро Тентетникова. Походят друг на друга оба героя и в сочинении проектов. Отметим, что второй том «Мертвых душ» появился в печати около того времени, когда писался «Обломов». Старички Молочковы в «Обрыве» очень родственны «старосветским помещикам» Гоголя. Тот дар типизации, какой присущ создателю Хлестакова, Манилова, Плюшкина, в высокой мере присущ и создателю Обломова. Несомненно, Гончаров учился у Гоголя приемам типизации и характеристики. Наконец, духом «отрицания» наполнены и трилогия об обломовщине, и «Мильон терзаний».
В раннем творчестве Гончарова имеются следы хорошего знакомства с Лермонтовым. Мотивы романтизма, которые явственны в стихах Гончарова,
- 451 -
в монологах (и тоже в стихах) Адуева-младшего, идут в значительной степени от лирики и поэм раннего Лермонтова. Но романтизм был скоро изжит Гончаровым и даже стал предметом осмеяния в «Обыкновенной истории». Глубже было влияние реализма Лермонтова, особенно в разработке психологии героя. Здесь несомненна связь романов Гончарова с «Героем нашего времени». Как высоко ставил Гончаров Лермонтова, видно из его высказываний в «Лучше поздно, чем никогда»: «... Лермонтов, фигура колоссальная, весь, как старший сын в отца, вылился в Пушкина... Вся разница в моменте времени. Лермонтов ушел дальше времени, вступил в новый период развития мысли, нового движения европейской и русской жизни и опередил Пушкина глубиною мысли, смелостью и новизною идей и полета» (VIII, 145, 146).
Гончаров был на шесть лет старше Тургенева, но в печати появился позже. Впрочем, оба обратили на себя общее внимание одновременно: один — «Обыкновенной историей», другой — «Записками охотника». В общественно-литературном развитии Гончарова «Записки охотника» сыграли большую и своеобразную роль. Гончаров не знал крестьянской жизни, как не раз об этом сам говорил и писал. Между тем в системе его воззрений и в самом творчестве, как мы видели, борьба с крепостничеством занимала огромное место. С этой стороны «Записки охотника» оказали на него сильное воздействие. Во все периоды жизни Гончаров с искренней любовью относился к этому произведению. В 1858 году в качестве цензора он боролся за разрешение второго издания «Записок»; в 1859 году, в письме к самому Тургеневу, он называет «Записки» его «Илиадой» (VIII, 311). В 1879 году в «Лучше поздно, чем никогда» он объяснял высокие достоинства «Записок» тем, что Тургенев «с детства... пропитался любовью к родной почве своих полей, лесов и ... сохранил в душе образ страданий населяющего их люда» (VIII, 173). Одно время, до романов Тургенева, Гончаров склонен был недооценивать творческие силы Тургенева. Позднее он изменил свое мнение. В 1860 году он писал Тургеневу: «... не читая „Накануне“, я считал Вас слабее и всего того значения не придавал Вам, какое Вы приобретаете этой повестью...» (VIII, 323). А через два года, после напечатания «Отцов и детей» эти оценки еще больше повысились. В «Необыкновенной истории» Гончаров писал о романисте-сопернике: «... надо отдать полную справедливость его тонкому и наблюдательному уму: его заслуга — это очерк Базарова в „Отцах и детях“. Когда писал он эту повесть, нигилизм обнаружился только, можно сказать, в теории, нарезался, как молодой месяц — но тонкое чутье автора угадало это явление и — по его силам, насколько их было, изобразило в законченном и полном очерке нового героя. Мне после, в 60-х годах, легче было писать фигуру Волохова с появившихся массой типов нигилизма — и в Петербурге и в провинции».1 Когда Гончаров для «Обрыва» продумывал проблему «новых людей», он не мог не изучать опыт Тургенева. Когда в статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“» Гончаров вновь и вновь характеризует своего Волохова, он перечисляет его черты: «крайние, совершенно новые и дерзкие взгляды и понятия», «его доктрина о какой-то новой жизни, которая должна возникнуть на развалинах старой», «его смелый ум и отвагу», «задатки блестящих дарований» (VIII, 132), — эти черты родственны Базарову.
Близко подошли друг к другу Гончаров и Тургенев и в оценке «людей сороковых годов» и «лишних людей». Гончаров сам сделал крупный вклад в литературу о «лишних людях». Своим романом «Обломов» он дал Добролюбову
- 452 -
отличный материал для разработки темы о людях 40-х годов. В связи со статьей Добролюбова об «обломовщине» и статьей Чернышевского об «Асе», а также художественными произведениями, как «Дневник лишнего человека», «Гамлет Щигровского уезда» и вереница иных произведений, в конце 50-х годов вспыхнула дискуссия о «лишних людях», где против Чернышевского и Добролюбова выступили идеологи дворянского либерализма, а также Герцен, в период либеральных своих заблуждений. Тургенев был в этой последней группе; он реабилитировал «лишнего человека» в конце романа «Рудин»; он благодарил Герцена за его статью «Лишние люди и желчевики» («сугубо тебе благодарен» — «и за нас, лишних, заступился»).1 Всем своим идейным воспитанием обязанный 40-м годам, вынесший из общения с Белинским свой гуманизм, Гончаров болезненно относился к резкой критике людей 40-х годов, какую читал в статьях Чернышевского, Добролюбова, Писарева, в сатирах Салтыкова. В ненапечатанном, как и многие другие статьи Гончарова, предисловии к «Обрыву» (1869) Гончаров горячо вступился за «людей сороковых годов» и сумел сказать много верного и убедительного. Он напоминал: «Белинскому, Грановскому и прочим вокруг них приходилось рассеивать мрак не одного эстетического неведения, а бороться еще с непробудной помещичьей, общественной, народной тьмой, будить умы от непробудного сна» (VIII, 107). Гончаров адресовал свои возражения «молодым, современным людям» и среди них, конечно, разумел и Писарева. Но Гончаров знал и помнил, что вожди революционной демократии Чернышевский и Добролюбов, а вслед за ними Салтыков, сурово борясь с «лишними людьми» и «людьми сороковых годов» в новом общественном движении, умели сказать справедливое слово о заслугах этих людей в прошлом.
Полемизируя с Писаревым и Евг. Утиным, Гончаров писал:
«Молодое поколение не застало и не видало прежнего быта, старой жизни, следовательно, не знает старой скорби, того „недовольства“, как оно называет безнадежную тоску, из которой не предвиделось выхода» (VIII, 108). «Старая скорбь», «безнадежная тоска», несомненно, были пережиты Гончаровым в николаевское время. Но когда дальше Гончаров пишет (в 1869 году!): «... на нашем веку настал новый век, осуществилось то, за что боролись, чего добивались, за что терпели», и еще: «правительство стало во главе прогресса, твердо пошло и идет по новому пути» (VIII, 108), — перед нами раскрывается ограниченность мировоззрения Гончарова, чуждость его революционному мировоззрению Добролюбова.
В круге художественных образов и тем Гончаров и Тургенев сближались многократно. При своей мнительности, принявшей в поздние годы жизни болезненные формы, Гончаров даже был убежден, что Тургенев похищал у него литературные замыслы, образы, мотивы. Третейский суд констатировал наличие отдельных совпадений в творчестве Тургенева и Гончарова и правильно объяснил это единством объекта художественных изображений писателей-реалистов в самой русской жизни. В письме к Тургеневу в 1860 году Гончаров прямо указывал на «общее» между художником Шубиным в «Накануне» и Райским. И действительно, этого сходства нельзя отрицать ни в психологии обоих героев, ни в их отношении к героиням. Образы Веры в «Обрыве» и Елены в «Накануне» тоже психологически родственны; уход Веры за Волоховым в Сибирь (по ранней редакции) и уход Елены с Инсаровым сходны между собой. Идиллия супругов Молочковых в «Обрыве» так же похожа на идиллию Фомушки и Фимушки
- 453 -
в «Нови», как и на идиллию Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны у Гоголя.
С горячей симпатией относится Гончаров к творчеству Островского. Оно всё прошло на глазах Гончарова. В 1882 году в письме к Островскому, ко дню его юбилея, Гончаров смог подвести итоги драматургической деятельности писателя-друга: «Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь» (VIII, 473). Но и раньше, в течение десятилетий, Гончаров постоянно возвращался к оценкам Островского. Две его статьи: «Отзыв о драме „Гроза“ Островского» (1860) и «Материалы, заготовляемые для критической статьи об Островском» (1874), а также многие другие отзывы свидетельствуют о симпатии и пристальном внимании к драматургу.
В своеобразном творчестве замечательного драматурга не могло не интересовать Гончарова изображение московского купечества, близкого по нравам и быту тому провинциальному купечеству, из которого он сам вышел. Много раз Гончаров отмечал, что Островский воссоздал в своих пьесах особый мир, мало понятный «образованному большинству». Особенно ценил Гончаров «Грозу». В своем отзыве об этой пьесе, написанном по заданию Академии Наук, Гончаров говорит:
«Не опасаясь обвинения в преувеличении, могу сказать по совести, что подобного произведения, как драмы, в нашей литературе не было. Она бесспорно занимает и, вероятно, долго будет занимать первое место по высоким классическим красотам». Особенно он поражается смелостью создания образа Катерины: «... увлечение нервной, страстной женщины и борьба с долгом, падение, раскаяние и тяжкое искупление вины, — всё это исполнено живейшего драматического интереса и ведено с необычайным искусством и знанием сердца». Гончаров указывает, что «всякое лицо в драме есть типический характер, выхваченный прямо из среды народной жизни, облитый ярким колоритом поэзии и художественной отделки... Автор дал целый, разнообразный мир живых, существующих на каждом шагу личностей» (VIII, 206, 207). Из суждений о Кабанихе мы начинаем понимать, что обличения Островского в купеческом мире «слепого, завещанного преданиями деспотизма», «уродливого понимания долга» (VIII, 207) были для Гончарова особенно близки, так как сам он обличал такие же недостатки в другом своеобразном мире — в мире архаического дворянства: и в Обломовке, и в Малиновке. Гончаров высоко оценил гуманизм Островского, в творчестве которого «в этой бездне „темного царства“, как назвал его Добролюбов, отразились все человеческие стороны, начиная с ужасающих своим мраком преступности, безобразия, уродства до тонких и нежных мотивов души и сердца...» (VIII, 215). Однако Гончарову осталась чужда та идеализация купечества, какую создал вокруг пьес Островского Аполлон Григорьев.
В отношениях своих с Салтыковым-Щедриным Гончаров был противоречив; несмотря на всё различие их общественных позиций и литературных взглядов, Гончаров всё же сумел отдать должное мастерству Салтыкова-Щедрина как художника. Гончаров преклонялся пред «Господами Головлевыми». В 1876 году Гончаров написал замечательное письмо Салтыкову. Еще не имея отдельного издания «Головлевых», еще не прочтя до конца романа в журнальном тексте, Гончаров спешит послать автору свой обширный критический отзыв об Иудушке — одно из ценнейших высказываний Гончарова.
«Вы, работая над ним, сами, может быть бессознательно, чувствовали объективное величие этого типа, ибо Вы обыкновенно сами бьете по щекам
- 454 -
горячо Ваших героев, к нему обращаетесь только с язвительной, чуть не почтительной иронией. Да иначе и нельзя: что можно прибавить, какую дать пощечину — вдобавок к ужасающей детали о тарантасе!
«Поэтому он и не удавится никогда, как Вы это сами увидите, когда подойдете к концу. Он может видоизмениться во что хотите, то есть делаться всё хуже и хуже: потерять всё нажитое, перейти в курную избу, перенести все унижения и умереть на навозной куче, как выброшенная старая калоша, но внутренно восстать — нет, нет и нет! Катастрофа может его кончить, но сам он на себя руки не поднимет! Разве сопьется — это еще один возможный, чисто русский выход из петли!» (VIII, 460).
Правда, Гончаров неодобрительно высказывался о «злободневных» произведениях Салтыкова-Щедрина. Но было бы грубой ошибкой заключать, что Гончаров отвергает сатиру как художественный жанр, в частности, сатиру Салтыкова. Сочувственно упомянул Гончаров «Современную идиллию» последнего. У него имеется и обобщающая оценка Салтыкова-сатирика. В дружеском письме к А. Ф. Писемскому в 1873 году по поводу его пьесы «Ваал» читаем: «Современную, текущую жизнь и нельзя уложить в такой прочной и серьезной форме, как драма, даже трудно и в романе, чему служит доказательством Ваше же „Взбаламученное море“. Это возможно в простой хронике или, наконец, в таких блестящих, даровитых сатирах, как Салтыкова, не подчиняющихся никаким стеснениям формы и бьющих живым ключом злого, необыкновенного юмора и соответствующего ему сильного и оригинального языка» (VIII, 425). Самый горячий сторонник великого сатирика не смог бы сказать лучше.
Следует учесть, что такие отзывы о Салтыкове-Щедрине Гончаров давал после того, как прочел его суровую отповедь на «Обрыв» — «Уличную философию».
*
Болезненно мнительный, неуравновешенный в быту, Гончаров был, однако, тверд, независим, смел в идейных вопросах и спорах, не боясь расхождений с умеренными и сближений с представителями прогрессивного лагеря. Свою горячую статью о «трибуне» и «литературном Марате» Белинском Гончаров написал после нападок на Белинского в печати со стороны Достоевского. Когда близкий Гончарову в политическом либерализме Дружинин выдвигал «пушкинское направление» против «гоголевского», опорочивая критический реализм, Гончаров убежденно утверждал единство пушкинско-гоголевского направления и стал на сторону гоголевского «отрицания». Этим он солидаризировался с «Очерками гоголевского периода» Чернышевского — против того же Дружинина. От прогрессивной критики Гончаров взял многие черты своих теоретических взглядов; он твердо отрицал «чистое искусство», проповедуя искусство идейное и народное.
Особый круг отношений связывает Гончарова с вождями революционной демократии 60-х годов — Чернышевским и Добролюбовым. Только теперь, когда нам стали впервые доступны многие ценнейшие высказывания Гончарова и уяснился смысл борьбы общественных группировок в 60-е годы, становится возможным правильно понять эти отношения.
Отрицательные отзывы Гончарова о романе Чернышевского «Что делать?» не могут определить полностью отношение писателя к этому роману. Несомненно, Гончаров внимательно читал «Что делать?». Роман появился, когда Гончаров обдумывал образ Волохова, «нового человека». Для Гончарова роман Чернышевского был документом эпохи, ценнейшим
- 455 -
материалом для проверки Волохова. Выше отмечалось, что Гончаров не отказывал своему герою-нигилисту ни в уме, ни в дарованиях, ни в смелости, ни в готовности служить общему благу. Несомненно, здесь отозвались и впечатления от романа Чернышевского, где ему запомнились: «идеал людей — любовь к труду», «всеобщая любовь друг к другу», уничтожение эксплуатации, самоуважение новых людей, которое «крепче тех правил, которые отделяют старых людей от разных мерзостей». Несомненно, что создание образа Волохова, путем сопоставления с героями Чернышевского, удержало Гончарова от полного сближения своего произведения с охранительными романами.
И. А. Гончаров.
Гравюра на меди И. Пожалостина по фотографии 1873 г.Выше указывалось, что взгляды Гончарова на «пушкинское» и «гоголевское» направления в литературе родственны взглядам Чернышевского, как и высокая оценка Чернышевским творчества Пушкина; общим у них был и культ Белинского.
С Добролюбовым особенно сблизило Гончарова то сильное влияние его критических работ, которое испытал на себе автор «Обломова». Как и
- 456 -
Белинского, Гончаров часто вспоминает Добролюбова в своих литературных высказываниях. Так, в статье об Островском (1874) он сочувственно ссылается на статью Добролюбова «Темное царство». В статье об «Обрыве», сетуя, что «никто не увидел теснейшей органической связи» между его тремя романами, Гончаров пишет: «Белинский, Добролюбов — конечно, увидели бы» (VIII, 118).
В статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879) суждения Гончарова об Онегине и Печорине, как уже отмечалось выше, близки к суждениям Добролюбова в статье «Что такое обломовщина?». Вообще эстетические принципы Добролюбова, сформулированные в этой статье в применении к роману «Обломов», родственны Гончарову, как это указывалось выше. Добролюбов ставил проблему художественного обобщения дробных явлений жизни, проблему типизации; Гончаров необычайно глубоко ответил на эту проблему своим «Обломовым».
В биографической литературе о Гончарове есть тенденция объяснить резкие отзывы Гончарова о «Русском слове» и о Писареве личным раздражением против критика за его отрицательные отзывы о романах писателя. Но высказывания Гончарова только в малой степени могут быть объяснены личной обидой. С другой стороны, социально-политические и философские воззрения Писарева были не менее враждебны Гончарову, чем те же воззрения Чернышевского и Добролюбова. Решающее значение для Гончарова имели нападки Писарева и его круга на Пушкина; попытки снижения Белинского, общее отрицание искусства и многое иное в статьях Писарева признавалось Гончаровым вредным для развития художественной литературы и искусства. Гончаров много раз высказывался против Писарева и его группы. Гончаров избегал называть имена и говорил об «ультра-реалистах», о «новых реалистах», «молодых критиках», «молодых публицистах». Это могло вводить в заблуждение, и действительно кое-кто счел, будто он полемизирует против всего лагеря революционных демократов.
Из всего сказанного следует, что близость Гончарова к группе «Современника», к Чернышевскому и Добролюбову (а также и к Салтыкову) по многим взглядам на литературные явления была большей, чем это допускали до сих пор.
7
Анализ жизни и творчества Гончарова свидетельствует о том, что буржуазный либерализм, подготовленный купеческими традициями семьи, углубленный потом влияниями кружка Майковых и службой в Петербурге, составил основное содержание взглядов Гончарова, устойчивых, сбереженных до конца жизни. Философский материализм, политический революционизм, социалистические теории остались чужды Гончарову — даже в молодости, в те годы, когда Тургенев считал Фейербаха «единственным человеком» в Германии, когда Достоевский и Салтыков были петрашевцами. Даже Белинский, в пору своей наибольшей зрелости и силы, не заразил Гончарова своим социалистическим энтузиазмом.
Тем не менее на примере того же Белинского можно убедиться, как чуток бывал Гончаров к идеологическим влияниям. Влияние Белинского отразилось и в первом романе Гончарова, и в целостном замысле трилогии об обломовщине, и в гениальном этюде о «Горе от ума», и в его литературно-творческих высказываниях. Смерть Белинского была огромной потерей лично для Гончарова, для его художественного творчества. В известной
- 457 -
степени роль Белинского перешла к Добролюбову. Гончаров не был в личном общении с гениальным молодым критиком, но его статья «Что такое обломовщина?» произвела на прославленного уже писателя огромное впечатление. В «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров с глубокой искренностью удостоверяет, что в своем лучшем создании, образе Обломова, он только позже сам нашел всё то, на что указал Добролюбов. Как мы только видели, влияние Добролюбова сказалось и на теоретических высказываниях Гончарова. Поэтика монументального романа, типизирующего крупные, длительные явления жизни, была поддержана и превосходно оправдана в статье Добролюбова. Именно Добролюбов раскрыл роман Гончарова передовой русской литературе, отбросив тенденции дворянского либерализма (типа Дружинина). Смерть Добролюбова была вторым огромным лишением для Гончарова-писателя.
Выше приводились данные, рисующие фальшивое, безысходное положение Гончарова в цензурном ведомстве. В «Необыкновенной истории» Гончаров об этом пишет так:
«А потом преследовали еще за то больше всего, что я не служил прямо и непосредственно, как чиновник, своими сочинениями ультра-консервативным целям, зачем не вступал в открытую полемику с радикализмом, не писал статей в газетах или романов, карая нигилизм и поддерживая коренные основы общественного порядка, религии, семьи, правительства и т. д. И всё это вызвало на меня бурю».1 Мы видели: Гончаров погнулся под таким давлением. Как он сам пишет, в «Обрыве» «поддержано и уважение к религии, в лице Веры, и подрывается в лице Волохова радикализм...».2
Но в романе сбереглось немало черт из раннего антикрепостнического замысла. А в теоретических воззрениях романиста навсегда сохранились многие прогрессивные элементы. В письме к жене поэта А. К. Толстого, Софье Андреевне, в 1870 году, выдвинув тезис, что «литература не как роскошь, не особенное какое-то занятие, а как воздух должна питать всё общество...», Гончаров протестует против равнодушия к народному языку:
«У нас некоторые заглядывают очень далеко вперед, я знаю: говорят, что это не важно, что даже национальность есть задержка, что впереди где-то стоит идеал слияния народностей, религий, языков, следовательно, немецкий ли элемент, русский ли возьмет верх, лишь бы было общее благо и т. д.». Гончарова беспокоят такие мнения. Оговорившись: «Я не с точки зрения шовинизма или квасного патриотизма боюсь за язык», — Гончаров продолжает: «... всё же я думаю, все народы должны придти к этому общему идеалу человеческого конечного здания — через национальность, то есть каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал. А мы кладем это как-то вяло и лениво да еще упрямимся не говорить по-русски! А другие и подавно не учатся нашему языку да и не для чего: все говорят у нас на чужих языках» (VIII, 414—415).
«... Патриотизм, — пишет Гончаров, — не только высокое, священное и т. д. чувство и долг, но он есть — и практический принцип, который должен быть присущ, как религия, как честность, как руководство гражданской деятельности, — каждому члену благоустроенного общества, народа, государства!
- 458 -
«Надо прежде делать для своего народа, потом для человечества и во имя человечества!».
Гончаров делает исключение только для революционных борцов, «жаждущих свободы, искренних эмигрантов» типа Герцена и Огарева. «Герцен... действовал все-таки для России, и горячо любя ее, язвил ее недостатки, спорил с правительством...».1
Суждения свои о национальных интересах и национальном долге Гончаров связывал с мыслями о народном благе. Однако в смелости своих социальных воззрений и в близости к народу Гончаров далеко уступал многим русским писателям. Его прямо упрекали за это. В своих воспоминаниях («Слуги старого века») Гончаров говорит: «Мне нередко делали и доселе делают нечто вроде упрека или вопроса, зачем я, выводя в своих сочинениях лиц из всех сословий, никогда не касаюсь крестьян, не стараюсь изображать их в художественных типах, или не вникаю в их быт, экономические условия и т. п. Можно вывести из этого заключение, может быть, и выводят, что я умышленно устраняюсь от „народа“, не люблю, т. е. „не жалею“ его, не сочувствую его судьбе, его трудам, нуждам, горестям, словом — не болею за него. Это-де брезгливость, барство, эпикуреизм, любовь к комфорту; этим некоторые пробовали объяснить мое мнимое равнодушие к народу» (VII, 186). Гончаров оправдывался тем, что, как горожанин, он плохо знал народную, крестьянскую жизнь, хозяйственную и бытовую, и, как реалист, не брался за изображение того, чего не знал, и только крепостных дворовых Обломовки и Малиновки прекрасно описал. Образ Захара монументален и незабываем и, конечно, есть результат глубоких раздумий о судьбе той части крестьянства, какая была непосредственно связана с помещичьей усадьбой. Гончаров был правдив, когда писал: «... то с грустью, то с радостью, смотря по обстоятельствам, наблюдаю благоприятный или неблагоприятный ход народной жизни» (VII, 186—187). Эти благожелательные наблюдения отразились в позднем литературном произведении Гончарова: в 1874 году он писал путевой очерк «Поездка по Волге» (по воспоминаниям 1862 года), в котором дана яркая зарисовка старухи-крестьянки, — образ, созданный с теплым участием. И в литературе Гончаров следил внимательно за произведениями, изображающими крестьянскую жизнь. Мы видели, как любовно отзывался он о «Записках охотника» Тургенева. Гончаров сочувственно относился к крестьянским рассказам Григоровича, ценил «Плотничью артель» Писемского. В великую заслугу Островскому он ставил то, что драматург «слишком горячо любит народ и страну». Гончаров ясно видел, что «задача всех писателей — черпать в океане русской народной жизни, в котором черпал и Пушкин, и Гоголь, и все нынешние писатели, и будут черпать вперед и никогда не исчерпают неиссякающего моря, которое всё более раздвигает свои берега» (статья об Островском, 1874; VIII, 218, 216).
Образное мышление Гончарова так глубоко захватывало явления жизни, так их обобщало, типизировало и символизировало, что литературная критика и публицистика получили от Гончарова драгоценные данные для дальнейших осмыслений и выводов — в оправдание мудрой формулы Энгельса: «Реализм... проявляется даже независимо от взглядов автора».2
Теоретические взгляды Гончарова ограниченны. Он превосходно, истинно реалистически изобразил прошлое и осудил его. Он попытался
- 459 -
изобразить (и оценить) современность в ее новейших проявлениях и потерпел неудачу. Будущее представлялось ему смутно и превратно. Судьба «Обрыва» в передовом русском обществе была для Гончарова-писателя объективно катастрофой. В «Лучше поздно, чем никогда», в не изданном в свое время предисловии к «Обрыву» Гончаров еще пытался объясниться с читателями, оправдаться перед ними, не сдавая, однако, своих основных социально-политических позиций. Однако и субъективно Гончаров пережинал глубокую драму. Писемскому в 1872 году он писал: «я человек старого времени — и по новейшему течению плыть не умею, в молодой толпе роли мне нет».1 И таких заявлений можно было бы привести много.
Переживаемая драма была бы не столь тягостной, если бы Гончаров твердо был уверен, что он вполне прав, а «молодая толпа» совершенно заблуждается. Но с изумительной ясностью самосознания Гончаров понимал историческую ограниченность своего круга. Однажды он сам раскрыл эту ограниченность в некотором иносказании, совершенно, однако, прозрачном. В рукописи статьи об Островском (1874), опубликованной только в наше время, Гончаров дал прекрасную характеристику особенностей и достоинств творчества Островского и определил его огромное историко-художественное значение. Но он тут же (в противоречии с подлинной исторической ролью его творчества) отмечает, что Островский не то, что «исписался», а «исписал всю московскую жизнь, не города Москвы, а жизнь московского, то есть великороссийского государства, как оно было с Ганзы и до Петра, пожалуй, до нашествия „двунадесяти язык“» — старую русскую жизнь (VIII, 215).
«Пишет всё одну картину... Другого Островский писать не может..., почва уходит из-под ног писателя», «опускаются руки», «новая Россия — не его дело», «праздная кисть», — такова писательская драма Островского и понимании Гончарова (VIII, 215, 216, 217, 218). Совершенно очевидно, что так именно переживал и свою собственную драму сам Гончаров: он изобразил в громадной картине барскую обломовщину, усердно разрушал этот Карфаген; но новая Россия — не его дело, он остается с праздной кистью.
Значит ли это, что тем самым обесценивается творческий труд Гончарова? Отнюдь нет. В 1882 году, к юбилею Островского, Гончаров послал ему письмо, где приветствовал его «как бессмертного творца бесконечного строя поэтических созданий» (VIII, 473).
То же говорит наша современность о Гончарове. Жизнь великого писателя в потомстве никогда не приостанавливалась, а за последние годы заметно вновь расцветает: количество изданий его сочинений всё возрастает — не только в центре, но и на далекой периферии. Наследием Гончарова овладевают не только новейшие поколения русских читателей, но и читатели национальных республик. Так, еще в 1940 году туркменский писатель и переводчик Еямбердыев закончил перевод «Обломова» на туркменский язык. Гончарова переводили на украинский, казахский, башкирский языки.
Высоко чтут Гончарова в зарубежных литературах. Он переведен на все славянские языки. «Обломов» и «Обрыв» многократно переводились на французский, немецкий, английский, итальянский языки. Имеются переводы Гончарова на датский и шведский языки. В Будапеште еще в 1940 году в венгерском театре комедии с успехом прошла постановка «Обломова» в переделке для сцены. Понятен устойчивый интерес
- 460 -
к «Фрегату Паллада» в Японии. Но многим неизвестно, что выдающийся японский писатель конца XIX — начала XX века Фтабатэй находился под влиянием романов Гончарова. Гончаров, наряду с Тургеневым, Толстым, Чеховым и Горьким, вошел в число наиболее читаемых в Японии иностранных писателей.
*
В. И. Ленин писал: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками».1 Гончаров дал много нового. Он явился истинным новатором в области социально-психологического романа.
Ярко сказал Добролюбов о могуществе Гончарова как «художника, умеющего выразить полноту явлений жизни», «остановить саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг ее...».2 Гончаров был великим мастером-реалистом; он был энтузиастом художественной правды. В предисловии к «Обрыву» он говорил: «Художественная верность изображаемой действительности, т. е. „правда“ — есть основной закон искусства — и этой эстетики не переделает никто. Имея за себя „правду“, истинный художник всегда служит целям жизни, более близко или отдаленно».3
Гончаров, однако, был убежденным врагом натурализма, мертвенной правды единичного, отъединенного факта. Он требовал художественного обобщения фактов. Сам он был гением типизации, создавшим непревзойденный, монументальный тип Обломова. Именно этот дар типизации, творческого обобщения ценил в Гончарове Ленин.
Советское искусство высоко поднимает проблему типизации изображаемых в искусстве явлений жизни, и в наши дни вырастает значение Гончарова как мастера типизации. Вот почему советские писатели учатся у Гончарова, как и у других классиков русской литературы.
Типизация, обобщение фактов жизни требуют сознательности творчества. В статье «Идея искусства» Белинский писал: «... бессознательность не только не составляет необходимой принадлежности искусства, но враждебна ему и унизительна для него» (VI, 510). Гончаров осуществлял эту мысль своего учителя. Автор «Обломова» был мастером критического реализма. В письмах 1881 и 1888 годов Гончаров писал, что «художественная обработка» «никогда не прикроет собою и не выполнит отсутствия идей, серьезного и глубокого взгляда на жизнь — и вообще скудости содержания» (VIII, 504, 472).
Необходимо признать, что Гончаров мастерски создавал не только индивидуальные образы-типы, но и образы коллективные, собирательные. Таков образ помещичьей усадьбы — Обломовки. Таков образ другой барской усадьбы — Малиновки в «Обрыве». В том же романе «Обрыв» отлично воссоздан собирательный образ провинциального города.
Горький учил, что в искусстве правда и простота — родные сестры. У Гончарова правдивость и простота роднились не только в типических образах, но и в композиции романов. Композиция романов Гончарова проста, ясна, естественна, стройна. В ней отсутствуют элементы и приемы авантюрные, приключенческие, загромождающие основное построение произведения.
- 461 -
Этим Гончаров выгодно отличается от своих современников, западных романистов — Диккенса, Теккерея, Бальзака, Флобера, из русских — от Достоевского.
Простота и правдивость в романах Гончарова сочетаются с архитектурной стройностью, создающей сильное эстетическое впечатление. Такова, в особенности, композиция «Обломова» — драма трех восхождений героя и его трех срывов. Прост и правдив у Гончарова и пейзаж — даже там, где, как во «Фрегате Паллада», было легко впасть в экзотическую эффектность. Прост и художественный язык, по определению Белинского, — «чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся» (XI, 136).
Все эти достоинства завоевали романам Гончарова мировую известность.
СноскиСноски к стр. 401
1 А. И. Герцен. Былое и думы. Полное собрание сочинений и писем, т. XII, П., 1919, стр. 114.
2 И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. VIII, изд. «Правда», М., 1952, стр. 241. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—VIII, 1952).
Сноски к стр. 405
1 «Ученые записки Ленинградского Государственного педагогического института им. А. И. Герцена», т. 67, 1948, стр. 109, 110 (статья А. И. Груздева).
Сноски к стр. 406
1 О Заблоцком-Десятовском подробнее — в статье Н. К. Пиксанова «Белинский в борьбе за Гончарова» — «Ученые записки Ленинградского Государственного университета, № 76, 1941, стр. 57—87.
Сноски к стр. 409
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. X, СПб., 1914, стр. 98, 99. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XIII, 1900—1948).
2 Белинский, Письма, т. III, 1914, стр. 199.
Сноски к стр. 411
1 Белинский, Письма, т. III, 1914, стр. 331.
Сноски к стр. 412
1 Белинский, Письма, т. III, 1914, стр. 196.
Сноски к стр. 415
1 «Русский архив», 1899, № 1, стр. 198.
Сноски к стр. 428
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, 1935, стр. 33.
2 Там же.
Сноски к стр. 429
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, 1935, стр. 35.
2 П. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, стр. 173.
3 А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы, 1842—1892 гг. Изд. 3-е, СПб., 1897, стр. 139.
Сноски к стр. 430
1 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, СПб., 1865, стр. 584—585, 586.
2 Д. И. Писарев, Полное собрание сочинений, т. I, изд. 3-е, СПб., 1900, стб. 183.
3 Д. И. Писарев, Избранные сочинения, т. I, 1934, стр. 146.
4 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, 1935, стр. 5, 9.
Сноски к стр. 431
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, 1935, стр. 6, 7.
2 Там же, стр. 10.
3 Там же, стр. 31.
Сноски к стр. 432
1 Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. II, 1935, стр. 26, 27.
2 Там же, стр. 529.
Сноски к стр. 433
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 197, 199; ср.: т. 3, стр. 269; т. 5, стр. 311; т. 7, стр. 362; т. 18, стр. 268, и др.
2 И. В. Сталин, Сочинения, т. 13, стр. 110—111.
3 Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 33.
Сноски к стр. 435
1 А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. II, СПб., 1905, стр. 247, 266.
Сноски к стр. 436
1 В. Е. Евгеньев-Максимов. «Современник» и «Русское слово» пред судом И. А. Гончарова. «Ученые записки Ленинградского Государственного педагогического института имени М. Н. Покровского», вып. I, 1938, стр. 106.
Сноски к стр. 443
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М., 1937, стр. 147.
2 «Русское обозрение», 1894, № 3, стр. 20.
3 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 196.
Сноски к стр. 444
1 Подробнее об «Обрыве» см. в статье Н. К. Пиксанова в «Ученых записках Ленинградского Государственного университета», № 173, 1954, стр. 185—257.
Сноски к стр. 447
1 Сборник Российской Публичной библиотеки, т. II, 1924, стр. 116—117.
Сноски к стр. 451
1 Сборник Российской Публичной библиотеки, т. II, 1924, стр. 34.
Сноски к стр. 452
1 Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену, 1892, стр. 128.
Сноски к стр. 457
1 Сборник Российской Публичной библиотеки, т. II, 1924, стр. 143.
2 Там же.
Сноски к стр. 458
1 Сборник Российской Публичной библиотеки, т. II, 1924, стр. 120.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVIII, стр. 28.
Сноски к стр. 459
1 «Новь», 1891, № 13—14, стр. 42.
Сноски к стр. 460
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 166.
2 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, 1935, стр. 9.
3 И. А. Гончаров, Литературно-критические статьи и письма, 1938, стр. 124.