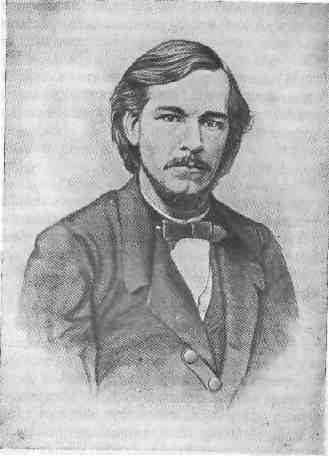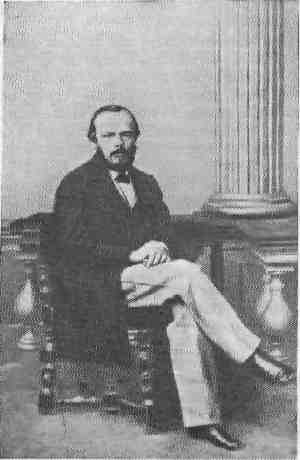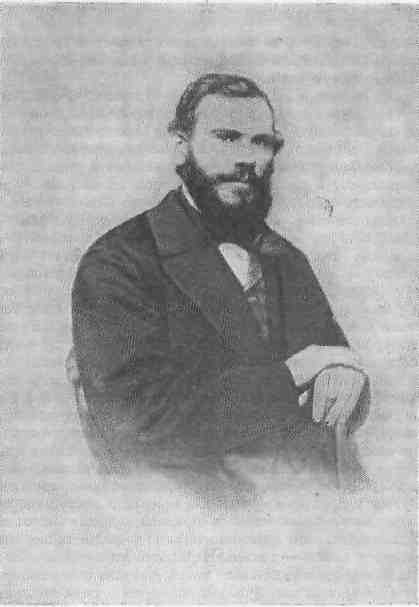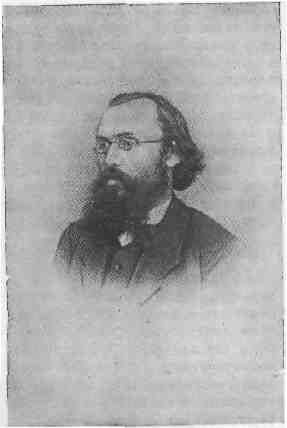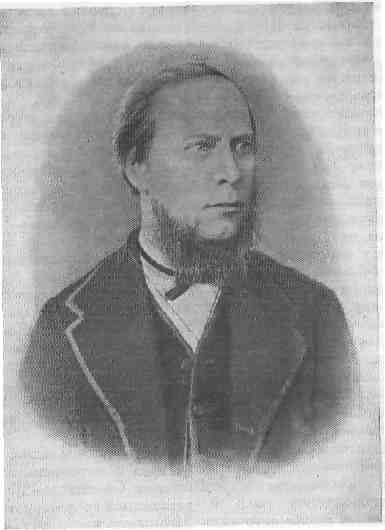- 277 -
Проза шестидесятых годов
(Общий обзор)В истории русской литературы шестидесятые годы отмечены бурным расцветом художественной прозы. Уже в 40-е годы проза решительно вышла на первое место, и Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» имел все основания сказать, что гоголевский период русской литературы — это период господства прозы. «... Гоголь, — писал Н. Г. Чернышевский в 1855 году, — дал существование этой важнейшей для нас отрасли литературы, и единственно он доставил ей тот решительный перевес, который она сохраняет до настоящего времени и, по всей вероятности, сохранит еще надолго».1
Писатели гоголевского направления, вошедшие в литературу в 40-х годах, сформировавшиеся под непосредственным влиянием идей Белинского и творческого метода Гоголя, продолжали свою деятельность во второй половине 50-х годов и на протяжении последующих десятилетий. Тургенев, Гончаров, Салтыков, Герцен продолжили дело так называемой «натуральной школы» в новых исторических условиях. Именно на этих писателей, развивавших лучшие традиции предшествующего периода, возлагал особые надежды Н. Г. Чернышевский, видя в них авторов «прекрасных произведений, замечательных самостоятельными достоинствами в художественном отношении и живым содержанием, — произведений, в которых нельзя не видеть залогов будущего развития» (III, 8).
Великие залоги будущего развития проницательно усмотрел Чернышевский в 1856 году и в творчестве молодого Толстого, недавно начавшего свою литературную деятельность. На протяжении 60-х годов Л. Толстой достиг в своем творческом развитии гигантских вершин, создав национально-героическую эпопею «Война и мир».
В 60-х годах появились и другие замечательные произведения русской прозы, отразившие типические черты эпохи, вдохновленные горячей любовью к Родине и обеспечившие русской литературе мировое значение. Романы Тургенева и Гончарова, сатиры Салтыкова, «Былое и думы» Герцена, «Что делать?» Чернышевского оказали громадное влияние на рост передовых идей в русском обществе, на развитие русского критического реализма.
В 60-х годах в литературу вошла и целая плеяда талантливых прозаиков-демократов: Н. Успенский, Помяловский, Решетников, Гл. Успенский, Слепцов и др. Эти писатели, по словам Горького, «дали огромный материал к познанию экономического быта нашей страны, психических особенностей ее народа, изобразили его нравы, обычаи, его настроения и желания...».2
- 278 -
Историческая действительность переломной эпохи обогатила творчество русских романистов и рассказчиков новыми темами и вопросами.
Приближалась отмена крепостного права. С середины 50-х годов это стало ясно всем, даже диким помещикам-крепостникам, со страхом ожидавшим «эмансипации» и стремившимся, насколько возможно, отсрочить ее неизбежное наступление. Однако «помещики-крепостники не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России».1 Всё это совпало с началом нового царствования, и смерть Николая I многими была воспринята как символ конца старой крепостнической России.
«... Я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии», — писал Герцен.2 «Николай прошел», по его выражению, и это значило, что «после его смерти нельзя продолжать его царствования», что полоса крепостнического застоя прошла как в экономической, так и в политической жизни страны.
«Россия сильно потрясена последними событиями, — писал Герцен в 1855 году в объявлении о «Полярной звезде». — Что бы ни было, она не может возвратиться к застою; мысль будет деятельнее, новые вопросы возникнут...».3
И они действительно возникли, эти новые вопросы, требовавшие безотлагательного разрешения. Самым главным среди них был вопрос о путях исторического развития России, о новых перспективах, открывающихся перед нею. Как произойдет освобождение крестьян — «сверху» или «снизу», путем реформы или путем революции; каковы будут результаты освобождения крестьян, ближайшие и более отдаленные; каковы будут формы общественного устройства России, — все эти вопросы сплетались в единый клубок, сложный и запутанный, который надлежало распутать сразу же, без всякого промедления. Это были вопросы насущной важности, и они охватывали собой всё: социальные науки и публицистику, эстетику и этику, философию и литературу, поэзию и прозу.
Ожесточенная политическая борьба разделила литературу на два непримиримых лагеря: буржуазно-дворянский с двумя его фракциями, спорившими из-за меры уступок, и крестьянский лагерь, возглавлявшийся вождями революционной демократии, которые боролись против всего дворянского лагеря в целом и в то же время деятельно стремились просветить народные массы. Одновременно революционные демократы старались воздействовать на те потенциально прогрессивные силы, которые можно было вывести из политически пассивного или колеблющегося состояния и сделать хотя бы временными союзниками в борьбе за революционное преобразование родины.
В этих условиях роль художественной прозы была исключительно велика. Прозаическая форма открывала широкий простор для разрешения больших социально-политических вопросов, выдвинутых жизнью, для всестороннего изображения социальных противоречий эпохи, для изучения народной жизни пореформенной поры.
Это художественное изучение по детальности и точности подчас приближалось к научному исследованию. Вообще грани между художественным
- 279 -
и научным подходом к жизни заметно стирались в прозе 60-х годов. В особенности ясно это сказывалось в произведениях, посвященных жизни крестьянства и мастерового люда, их хозяйственному быту, их взглядам и настроениям в переломную пору. Здесь художественная проза вступала в тесное соприкосновение отчасти с экономическими науками, отчасти с этнографией, с изучением народной поэзии, с народознанием в широком смысле слова. Традиция физиологических очерков 40-х годов развивалась и крепла. Картины народного быта, очерки народной жизни и нравов приобрели особую популярность в 50—60-х годах, накануне реформы и после нее. Такие картины и сцены, наброски и этюды назывались обычно рассказами, хотя часто и не претендовали даже на художественный вымысел. Границы рассказа и очерка стушевывались, причем очерк выдвигался как один из самых важных и значительных жанров. Демократическая литература видела в очерке новаторскую форму, разрушавшую привычные нормы и каноны, узаконенные обветшалой теорией словесности. Относительно очерков Н. Успенского, которые, кстати сказать, автор называл рассказами, Чернышевский специально отметил, что «из 24 очерков, собранных теперь в отдельном издании, не меньше как двадцать рассказов как будто бы не имеют даже никакого сюжета», что «ни в одной его статейке нет сказочного интереса», что «это всё только маленькие отрывочки, как будто листки, вырванные из чего-нибудь, а из чего — и догадаться нельзя» (VII, 855, 856). Здесь же Чернышевский отметил особую социальную значительность и злободневность «маленьких пьес» Н. Успенского, их тесную связь с народной жизнью, находящейся накануне исторических перемен («Не начало ли перемены?», 1861).
Близость решительных перемен в жизни России выдвигала также вопрос о роли и значении передовой, прогрессивной интеллигенции. Вставала проблема русского общественного деятеля в новых исторических условиях. Для разработки этого круга вопросов очерк был уже недостаточен. Русский социально-политический роман и явился той широкой и емкой формой, в рамках которой легко и свободно могли развертываться образы искомых или найденных героев нового этапа русской жизни.
*
Развитие социально-политического романа в 50—60-х годах связано прежде всего с именем И. С. Тургенева. Прошедший школу Белинского и наделенный «живым отношением к современности» (слова Добролюбова),1 Тургенев всегда живо чувствовал литературно-политические запросы текущего дня. Еще не успели смолкнуть орудия на бастионах Севастополя, как Тургенев принялся за работу над новым произведением, которому предстояло открыть блестящую серию его романов, отразивших, каждый по-своему, исторические сдвиги в общественной жизни России и в развитии русской общественной мысли.
Либеральная ориентация Тургенева достаточно ясно определилась к середине 50-х годов. Однако в романах Тургенева отразилась прежде всего объективная логика общественного развития. Стремясь запечатлеть «самый дух и давление времени», Тургенев должен был признать, что Рудин не есть тот исторический деятель, в котором тогда нуждалась Россия. При всем сердечном сочувствии к Рудину, как к одному из лучших представителей
- 280 -
культурного дворянского слоя, Тургенев сумел показать его дряблость и неустойчивость, его боязнь решительного дела и неспособность к повседневной активной борьбе. Так уже в первом романе Тургенева было констатировано, что передовая роль в общественной жизни не может принадлежать культурному дворянству. В качестве людей, некогда примыкавших к кругу Белинского, герои рудинского типа сохраняли свое относительно прогрессивное значение и в условиях 50-х годов. Этим объяснялось сочувственное восприятие Чернышевским образа Рудина сразу после появления романа. Однако всякая попытка увидеть в Рудине центрального героя нового исторического этапа была бы совершенно неправомерной; это почувствовал Тургенев, датировавший гибель своего героя 1848 годом.
О том, что историческая роль людей рудинского типа уже исчерпана, говорил и следующий роман Тургенева «Дворянское гнездо». Лаврецкий, поставленный в романе «так, что над ним неловко иронизировать» (Добролюбов, II, 211), тем не менее принадлежал к одной категории с Рудиным. Как и Рудин, он оказывается неспособным осуществить свое общественное дело; подобно своему предшественнику, он терпит крах своих личных надежд и ожиданий и признает себя побежденным. В положении Лаврецкого, как отметил Добролюбов, «есть что-то законно-трагическое, а не призрачное» (II, 212), и всё же Тургенев не скрыл от читателя, что время Лаврецкого уже в прошлом. Свою ущербность, свой крах, не только личный, но и исторический, понимает и сам Лаврецкий, обращающийся в финале романа со словами привета к новому поколению, которому он уступает место без боя, с грустным сознанием уже наступившего конца исторической роли героев «дворянских гнезд». Что России нужны «люди дела», как говорил Добролюбов, имея в виду людей революционного дела, сознание этого хотя смутно, но уже во многих выразилось при появлении «Дворянского гнезда». Внести это сознание в роман было для Тургенева задачей нелегкой, потому что он сам живо чувствовал свою социально-культурную близость к людям, подобным Рудину и Лаврецкому, и не скрывал этого чувства от своих читателей. Тем не менее «талант Тургенева, вместе с его верным тактом действительности, вынес его и на этот раз с торжеством из трудного положения» (Добролюбов, II, 211).
Так логикой самой истории определено было движение творчества Тургенева от романа о «лишних людях» к романам о «людях дела».
В одно время с «Дворянским гнездом» (1859) появился «Обломов» Гончарова, где также был поставлен вопрос о конце помещичьей России. Громадное обобщение обломовщины заключало в себе окончательный приговор крепостному строю и всем его бытовым и психологическим порождениям. В лице Обломова показано было полное вырождение дворянского героя, полная исчерпанность его культурной роли. В качестве нового деятеля, который должен был вытеснить Обломовых и положить конец обломовщине, у Гончарова выведен был предприниматель и делец Штольц. Однако для окончательной ликвидации крепостного строя люди, подобные Штольцу, пригодны не были: русская буржуазия была тесно связана с помещиками и вовсе не была заинтересована в их окончательном крахе. Только сторонники революционной ликвидации крепостничества были решительными врагами обломовщины.
Начинался разночинно-демократический период русского освободительного движения. Новое поколение жило и действовало на русской почве, громко заявляло свои права на руководящую роль в исторической жизни. Разночинная демократия вела непримиримую борьбу как с открытыми реакционерами, так и с теми, чья реакционность прикрыта была либерально-половинчатыми
- 281 -
фразами. Суровая принципиальность и резкость борьбы, которую вели Чернышевский и Добролюбов, недаром вызывала крайнее раздражение в либеральном лагере. Революционный смысл их выступлений был ясен всем. Ни для кого не оставалось сомнений в том, что в России народилась новая революционная сила.
Тургенев, который «быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание» (Добролюбов, II, 208), первым зафиксировал этот исторический перелом в «Накануне» и «Отцах и детях», где демократы-разночинцы действовали на правах главных героев произведения, больше того — на правах главных героев общественной жизни. Спокойная твердость и суровая простота натуры Инсарова гармонировала с героичностью той борьбы за освобождение родной страны, которой он посвятил свою недолгую жизнь; само название романа говорило о том, что Россия находится накануне появления людей инсаровского типа, а общий смысл повествования свидетельствовал, что такие люди нужны ей. Суровый «нигилист» Базаров был показан как человек, не знающий себе равного по силе ума и характера среди дворянских персонажей романа, которых он отрицает не только всем складом своих убеждений, но самым фактом своего появления в русской жизни. За разночинцем Инсаровым, по Тургеневу, было будущее, «нигилисту»-демократу Базарову принадлежит настоящее, причем в романе дано было ясно почувствовать, что там, где сказано «нигилист», следует читать «революционер». Так, независимо от субъективных взглядов и классовых пристрастий Тургенева, отразилось в его романе начало революционно-демократического периода русского освободительного движения.
Однако этот исторический процесс отразился лишь в меру возможностей Тургенева, который хотя и понимал историческое значение «новых людей» и видел в них живую и прогрессивную силу, но, во-первых, не мог проникнуть в их внутренний мир так тонко и с таким душевным сочувствием, как он это делал по отношению к «лишним людям» из дворянского круга, и, во-вторых, живописуя новых людей», он показывал их взгляды и убеждения, их характер и «натуру», даже их «сборы на борьбу» (слова Добролюбова), но не самую борьбу. Это отметил в связи с «Накануне» Добролюбов, увидевший главный художественный недостаток романа в том, что своего героя Тургенев не только «вывез» из Болгарии, но и «недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как человека», в то время как в прежних произведениях Тургенева «являлись характеры, до тонкости изученные и живо прочувствованные автором». Далее, Тургенев, по мысли Добролюбова, «должен был бы поставить своего героя лицом к лицу с самым делом — с партиями, с народом, с чужим правительством, с своими единомышленниками, с вражеской силой...» (II, 226, 227, 224).
Характерно, что и Герцен в отзывах своих на «Отцов и детей» указывал на то, что Тургенев не мог показать своего героя в борьбе и потому быстро убрал его со сцены; Герцен отметил также и неясность вопроса о формировании Базарова, который появляется в романе уже вполне сложившимся человеком, со всеми чертами своего характера, оставляя читателя в недоумении, что сделало его таким, каков он есть, что закалило и ожесточило его, что привело его к суровому и беспощадному отрицанию.
Речь шла о создании типического образа «нового человека», и революционные демократы указывали на недостаточность тургеневских методов типизации в этом отношении. Построение типического образа разночинца-демократа 50—60-х годов предполагало правдивое и точное изображение условий и самого процесса формирования его личности, а не только готовых
- 282 -
свойств его характера. Необходимо было также выяснение и художественное изображение типических обстоятельств, в которых протекала деятельность нового героя русской общественной жизни.
Вопрос о формировании личности разночинца-демократа и об условиях его деятельности приобретал особую важность и политическую остроту в обстановке литературной борьбы конца 50-х — начала 60-х годов. Революционным демократам важно и нужно было показать, что самый факт появления «новых людей», передовых разночинцев, не случаен, а порожден реальными условиями русской жизни, что социальный и политический гнет, с одной стороны, подавляет их, препятствует их борьбе, затрудняет формирование революционных натур, а с другой стороны, он же вызывает их к жизни и делает неизбежным их выступление в качестве активной исторической силы. «Наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову...», — писал Добролюбов, но тут же добавлял: «среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможет явлению такого человека» (II, 239).
Так изучение процесса «развития личности» разночинца-демократа в конкретных социальных условиях было выдвинуто как первоочередная задача литературы. Эту задачу разрешили представители молодой демократической литературы 60-х годов, воспитавшиеся под непосредственным влиянием идей Чернышевского и Добролюбова. Эти писатели были гораздо более тесно связаны с разночинной средой, чем Тургенев; они несравненно лучше знали жизнь этой среды. Они ясно видели, как социально-политические и экономические условия порождают у разночинцев демократические настроения и взгляды, как зарождается и растет их протест против господствующих классов и сословий. Писатели-разночинцы с большей четкостью, нежели Тургенев, видели и понимали самый процесс появления новых типических характеров в русской жизни.
*
Крупнейший среди этих писателей, Н. Г. Помяловский, в своих повестях «Мещанское счастье» и «Молотов» показал, как под влиянием уроков самой социальной жизни развивается сознание разночинца, как этот новый герой русской истории впервые осознает свою противоположность хозяевам жизни — дворянам, как в нем просыпается плебейская гордость, чувство собственного достоинства и гнев против тех, кто смеет относиться к нему с презрением, хотя и снисходительным, хотя бы даже и ласковым. При этом главная задача писателя заключается именно в том, чтобы рассмотреть внутренний мир героя в развитии, в движении, в процессе созревания тех душевных качеств и свойств, которые делают его «новым человеком». Помяловскому важно было наметить те условия, при которых этот процесс делается возможным и неизбежным.
Самая биография героя, которую рисует Помяловский, должна сразу указать читателю те необходимые и достаточные предпосылки, без которых невозможно было бы превращение человека в разночинца не только по положению и даже не только по убеждениям, но и по характеру, по темпераменту, по складу натуры. Егор Иванович Молотов, герой Помяловского, — сын мещанина-слесаря и воспитанник профессора. Положение взято, таким образом, как будто бы исключительное: разумеется, не всякий разночинец проходил школу первоначального воспитания под руководством ученого и в его семье. Однако для Помяловского дело здесь не в типичности данного частного случая, а в том, что так или иначе, в той или иной форме основательная
- 283 -
школа умственного развития является необходимым этапом в формировании разночинца. В этом типичность положения, избранного Помяловским, а не в индивидуальных частностях судьбы его героя. Сын слесаря, он всегда будет ощущать свою кровную связь с народом; воспитанник профессора, вообще человек, прошедший научную школу, он сумеет возвести непосредственное чувство близости к народным низам на степень сознательного убеждения. Остальное уже является делом самой жизни. Жизнь показывает ему, что в качестве человека, продающего свой труд, он непременно будет в глазах хозяев положения, владельцев материальных благ, существом «низшей породы», даже в том случае, если они без его услуг не могут обойтись.
Помяловский опять-таки ставит своего героя как будто в исключительные условия, враждебно сталкивая его не со средой диких помещиков, Скотининых или Негровых, а с гуманными и цивилизованными представителями дворянского сословия. Однако это не случайность, не каприз авторской фантазии, а сознательный замысел, который должен показать, что столкновение разночинцев с дворянами порождается не индивидуальными свойствами тех и других, а природой общественных отношений. Социальный антагонизм заложен в природе взаимных отношений между работающим и работодателем; для того чтобы он проявился, нужен только случай. Случай представился, и сразу же наступает конец обывательскому прекраснодушию героя, основанному на обманчивой видимости мирного сотрудничества враждебных сторон. Мирные иллюзии исчезли, существо отношений обнажилось, и в Молотове сразу же «злость заходила, драться ему хотелось. Потом в каждой черте его лица, в складке губ, в глазах, повороте головы выразилось глубокое, беспощадное презрение. В грубые и крупные слова одевалась мысль его».1
Герцен спрашивал Тургенева в 1862 году, что сделало Базарова «нигилистом» и обличителем. Помяловский ответил на этот вопрос раньше, чем он был задан. Но за этим вопросом сразу же вставал другой: каков будет жизненный путь разночинца после того, как он осознал свою противоположность людям господствующих классов, после того, как в нем «злость заходила, драться ему хотелось». Помяловский разработал ответ и на этот вопрос, причем разработал его в двух вариантах. Он показал, что «глубокое, беспощадное презренье» к власть имущим, к хозяевам положения, к людям, оскорбляющим плебейскую гордость тех, кто от них зависит, может привести разночинца к элементарному стремлению освободиться от этой зависимости, приобрести личное благосостояние, выбиться из нищеты, «выйти в люди». Это путь Молотова, начавшего «дракой» и злостью и кончившего «благонамеренной чичиковщиной», мещанским счастьем. Возможен и другой путь — полного отказа от всякой «благонамеренности» и всех видов «мещанского счастья», полного презрения и к «порядочному обществу», занятому погоней за чинами и теплыми местечками, и к «квасному либерализму» с его напускным благородством и звонкими фразами. Однако, как показал Помяловский, эта глубокая враждебность ко всем устоям современного общественного строя одновременно может сочетаться с совершенным отрицанием каких бы то ни было нравственных побуждений к социальной активности и борьбе. Тогда это будет путь Череванина, которого Горький считал нигилистом посильнее Базарова,2 путь, приводящий его к душевному
- 284 -
опустошению, «сожженной совести», нравственной «торричелиевой пустоте» и «кладбищенству».
При всей противоположности намеченных Помяловским путей, оба они родственны в том отношении, что одинаково далеко уводят человека от социальной борьбы, от стремления к переустройству общества, одинаково ведут к индивидуалистическому перерождению, к общественному «нигилизму». И Череванин, и Молотов — разночинцы, но не революционеры и, по характеру своих социально-этических взглядов, не могут ими быть. Путь Молотова — это, по выражению Горького, путь «превращения героя в лакея»,1 путь Череванина — это путь безнадежно мрачного универсального нигилистического отрицания, глубоко пассивного по своей природе. Отрицая всё, разночинец Череванин объективно отрицает и демократическую борьбу. Такова, в изображении Помяловского, трагедия разночинно-демократического сознания, не поднявшегося до уровня революционно-демократических взглядов. Наметив два пути, одинаково безысходные, Помяловский показал их ущербность и порочность и тем самым вплотную подвел демократическую литературу к революционному порогу, который сам, однако, перешагнуть не сумел. Для этого нужно было обладать стройной и ясной революционно-демократической теорией. Последователь Чернышевского и Добролюбова, воспитавшийся под их влиянием, Помяловский не поднялся, однако, до идейной высоты руководителей, теоретиков революционной демократии. С этим связана известная ограниченность и противоречивость Помяловского в разработке типического образа разночинца 60-х годов.
Чернышевский, вслед за Белинским и вместе с Добролюбовым гениально разработавший революционно-демократическую теорию в новых исторических условиях, создал и выдающийся роман о «новых людях», в котором указал правильные пути для Базаровых, Молотовых и Череваниных. В создании типических образов «новых людей» Чернышевский достиг такой обобщающей силы, как никто из его предшественников.
В своем романе «Что делать?» Чернышевский прежде всего обосновал диалектическое единство отрицания и утверждения. В его романе борьба со старым миром самодержавного насилия и дворянско-буржуазного гнета ведется во имя социалистического идеала и потому не может выродиться ни в «благонамеренную чичиковщину», ни в нигилистическое «кладбищенство».
У Помяловского в «Молотове» Михаил Михайлович Череванин с горечью философствовал: «О ком же заботиться, для кого хлопотать? Уже не для будущего ли поколения трудиться?.. Вот еще диалектический фокус, пункт помешательства, благодумная дичь! Часто от лучших людей слышим, что они работают для будущего, — вот странность-то!.. Ведь нас тогда не будет?.. Благодарно будет грядущее поколение? Но ведь мы не услышим их благодарности, потому что уши наши будут заткнуты землею...».2
В таком же духе и смысле рассуждал и Базаров: «Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне
- 285 -
даже спасиба не скажет... да и на что̀ мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; — ну, а дальше?».1
На все эти недоуменные и казавшиеся неразрешимыми вопросы был дан простой и ясный ответ в романе Чернышевского «Что делать?». Борьба для будущего, ради блага Филиппа или Сидора, была истолкована не как принудительная обязанность, не как «вериги долга» (выражение Тургенева), а как проявление внутренней потребности, нормального нравственного чувства, свойственного обыкновенному среднему человеку, как выражение его «разумного эгоизма», как естественное желание видеть вокруг себя людей, живущих в естественных условиях разумного общежития.
Так установлено было в романе Чернышевского единство долга и влечения, личного и общественного, единство этики и политики. Тем самым у Чернышевского были преодолены те препятствия, которые мешали героям Помяловского стать активными борцами, и их стихийные демократические стремления были подняты на высоту революционной социалистической теории. Кирсанов и Лопухов поднялись на высшую идейную ступень по сравнению с Базаровым и Череваниным; руководитель революционной борьбы Рахметов встал выше Лопухова и Кирсанова, как их глава и организатор. К тому же все герои Чернышевского в совокупности были поняты как исторически необходимое звено в цепи революционных поколений.
Тургенев предвидел поражение Базарова, считал его обреченным на погибель и осветил его фигуру трагическим светом. Помяловский не видел путей борьбы для своих демократических героев и с горечью восклицал: «Эх, господа, что-то скучно».2 Чернышевский раскрыл перед разночинцами-демократами пути революционной борьбы и, хотя понимал возможность их поражения, но видел в этом поражении не погибель, а исторически неизбежный этап революционной борьбы, в которой гибнут иной раз деятели революционного движения, но само движение возрождается и растет, принимая новые, высшие формы. Поэтому мысль о возможном поражении революционных демократов вела Чернышевского не к ощущению трагизма, а к гордому героизму. «... Под шумом шиканья, под громом проклятий, они сойдут со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, как были...Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди: „после них стало лучше; но все-таки осталось плохо“. И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах...» (XI, 145).
Этот новый тип, которому принадлежит настоящее и которому суждено возродиться в будущем «в лучших формах», т. е. тип революционера-демократа, был обрисован в романе Чернышевского в его обусловленности социальной средой и историческими обстоятельствами. Читатель видел, как появляются «новые люди», какие условия русской жизни делают их появление не только возможным, но и необходимым, как под влиянием уже сформировавшихся «новых людей» воспитываются и растут другие люди этого же типа, ранее задыхавшиеся в подвалах мещанского существования. Внутренний мир этих людей был раскрыт перед читателем во всей его сложности, было ясно показано, что́ они думают и как чувствуют, под влиянием каких побуждений они действуют, как они любят, как зарождается их любовь, как она протекает и какие принимает формы, как она сплетается с общественной борьбой, как личные чувства неразрывно соединяются с чувствами и стремлениями социального характера.
- 286 -
В статье «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов упрекал Тургенева в неясности внутреннего мира Инсарова: «... его внутренний мир не доступен нам; для нас закрыто, что он делает, что думает, чего надеется, какие испытывает перемены в своих отношениях, как смотрит на ход событий, на жизнь, несущуюся перед его глазами. Даже любовь его к Елене остается для нас не вполне раскрытою. Мы знаем, что он полюбил ее страстно; но как это чувство вошло в него, что в ней привлекло его, на какой степени было это чувство, когда он его заметил и решился-было удалиться, — все эти внутренние подробности и многие другие, которые так тонко, так поэтически умеет рисовать г. Тургенев, остаются темными в личности Инсарова» (II, 227).
Упрекая Тургенева в неясности изображения любви Инсарова, в неумении проникнуть в мир его интимных чувств, Добролюбов в то же самое время упрекал Тургенева и в том, что он в романе о «новом человеке» преимущественно интересуется сферой личных чувств, именно этой стороной жизни ограничивая его изображение. «Там, где любовь должна, наконец, уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть» (II, 224).
Чернышевскому эти упреки не могли бы быть адресованы. В романе «Что делать?» он осуществил те требования, которые предъявил Добролюбов к повествованию о «новом человеке». Роман Чернышевского был именно той героической эпопеей о революционных демократах, о которой мечтал Добролюбов, и новые герои русской истории были здесь показаны и в личной жизни, раскрытой во всех ее проявлениях, и в «живой гражданской деятельности», т. е. в том единстве, которого Добролюбов не видел в романе Тургенева. Это было единство действия, мысли и чувства, благодаря которому читатель знал о герое, «что он делает, что думает, чего надеется», как он любит, «как это чувство вошло в него», «на какой степени было это чувство, когда он его заметил», и т. д.
Автор романа «Что делать?» рисовал рождение новых людей революционно-демократического типа, людей, не пассивно формирующихся под влиянием общественной среды, но преодолевающих ее влияние и развивающихся вопреки этим влияниям. Это был сложный социально-психологический процесс, который надлежало изучить и показать, чтобы помочь молодому демократическому поколению воспитать себя в революционном духе. Литературу Чернышевский понимал как «учебник жизни» и свою задачу как художника видел в том, чтобы способствовать переходу возможно большего числа людей к демократическому образу мыслей, к сознательной и активной революционной деятельности. Вот почему при изображении новых людей его интересовал не готовый результат того психологического процесса, который сделал их революционными демократами, а «сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души», как сказал он в рецензии 1856 года на «Детство» и «Отрочество» и военные рассказы Льва Толстого (III, 423). Эта «диалектика души» должна была показать те специфические черты внутреннего мира новых людей, которые отличают их в самых глубоких и сокровенных основах психики от людей ветхих, живущих по принципам старой морали.
«Кирсанов и не подумал спросить, хороша ли собою девушка, Лопухов и не подумал упомянуть об этом. Кирсанов и не подумал сказать: „да ты, брат, не влюбился ли, что больно усердно хлопочешь“, Лопухов и не подумал сказать: „а я, брат, очень ею заинтересовался», или, если не хотел говорить этого, то и не подумал заметить в предотвращение такой догадки: „ты не подумай, Александр, что я влюбился“. Им, видите ли, обоим думалось,
- 287 -
что когда дело идет об избавлении человека от дурного положения, то нимало не относится к делу, красиво ли лицо у этого человека, хотя бы он даже был и молодая девушка, а о влюбленности или невлюбленности тут нет и речи. Они даже и не подумали того, что думают это; а вот это-то и есть самое лучшее, что они не заметили, что думают это», — так повествует Чернышевский о своих героях (XI, 74).
Для Чернышевского такая форма скрупулезного психологического анализа необходима, потому что дело шло не только о том, как поступают его герои, но не в меньшей степени и о том, почему они поступают так, а не иначе, под влиянием какого скрытого процесса мысли совершают они свои поступки, какой образ мыслей и чувств соответствует образу их действий. Если бы поведение людей, оказавшихся в положении Лопухова и Кирсанова, определялось другими побудительными причинами, например, стремлением к жертве, желанием наложить на себя «вериги долга», то в глазах Чернышевского их поступки, будь даже они теми же самыми, какие мы видим в романе, либо не имели бы никакого значения, либо имели бы значение отрицательное. Роман преследовал практическую цель, и Чернышевский хотел показать своим единомышленникам, какой строй мыслей и чувств им нужно выработать для того, чтобы делать революционное дело без внутреннего принуждения, без всякого насилия над собой, т. е. с наибольшей гарантией успеха.
Так был создан роман о разночинцах-демократах, раскрывавший процесс их созревания как людей революционного типа, роман, в котором было показано единство их личной жизни и общественной практики, — роман-учебник, новый и по содержанию и по форме. Роман этот возник как обобщение целого этапа в развитии русской революционной демократии, он был создан в обстановке начинающейся реакции, когда его автор сидел в крепости, когда было ясно, что его героям придется прокладывать особые пути, в условиях нового, трудного времени.
В 1867 году в письме к Тургеневу по поводу романа «Дым» Писарев спрашивал автора: «... Иван Сергеевич, куда Вы девали Базарова?.. Неужели же Вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца?».1 Говоря о Базарове, Писарев, повидимому, имел в виду не революционера, а «реалиста», легального популяризатора естественно-научных знаний и материалистического мировоззрения. Тургенев понял вопрос иначе. В его сознании «нигилист» Базаров был прежде всего революционером. В таком духе он и ответил Писареву, прямо намекая на то, что люди базаровского типа находятся сейчас в подполье: «Вы напоминаете мне о Базарове и взываете ко мне: „Каин, где брат твой Авель?“. Но Вы не сообразили того, что если Базаров и жив — в чем я не сомневаюсь — то в литературном произведении упоминать о нем нельзя: отнестись к нему с критической точки — не следует, с другой — неудобно; да и наконец — ему теперь только можно заявлять себя — на то он Базаров; пока он себя не заявил, беседовать о нем или его устами — было бы совершенною прихотью — даже фальшиво». «Мне было бы очень легко, — продолжал Тургенев, — ввести фразу вроде того — что „однако вот мол есть у нас теперь дельные и сильные работники, трудящиеся в тишине“ — но из уважения и к этим работникам и к этой тишине я предпочел обойтись без этой фразы...».2 Итак, Тургенев считал невозможным в обстановке реакционного наступления писать о людях базаровского типа, хотя и знал,
- 288 -
что они существуют и «трудятся в тишине», накапливая силы для новой борьбы.
Однако то, что было невозможно для Тургенева, оказалось возможным для последователей Чернышевского. Один из них, В. А. Слепцов, сумел показать революционера-демократа, «трудящегося в тишине», в условиях трудного времени. Роман Слепцова, вышедший в 1865 году, за два года до приведенной выше знаменательной переписки Тургенева с Писаревым, так и назывался «Трудное время». Это был роман «зашифрованный», рассчитанный на строго определенный круг читателей-единомышленников, и в центре его оказался герой побежденный, хотя и не сдавшийся, рвущийся к борьбе, но трагически переживающий время вынужденного бездействия. Рязанов, главное лицо романа, естественно, выступал перед читателями без программных монологов и прямых деклараций, с горькими недомолвками и циническими, на первый взгляд, парадоксами, с туманной по неизбежности речью, вводившей даже иной раз в заблуждение недогадливых читателей и критиков.
В качестве человека революционно-демократических убеждений Рязанов не делает никакого различия между либералами и крепостниками; высмеивая либеральную фразеологию, он самим либералам разъясняет, что их подлинные интересы такие же, как у крепостников, показывает им неизбежность для них крепостнического образа действий, заменяя по цензурным условиям формулу неизбежности формулой желательности. В этом причина того, что Рязанов казался иным недальновидным критикам проповедником крепостничества. На деле же герой Слепцова стремился вскрыть сущность социальных отношений за их видимостью; он не давал людям, с которыми сталкивался, маскировать свои действия лицемерными фразами. Противоречия интересов пусть обнажатся до конца, борьба скрытая пусть станет явной, остальное решит сама жизнь, — таков смысл намеков и афоризмов Рязанова, который выступает в данном случае как верный ученик Чернышевского.
К идеям Чернышевского, прежде всего к роману «Что делать?», восходит и напечатанная в 1864 году в «Русском слове» повесть Н. Ф. Бажина (1843—1908) «Степан Рулев», в которой через полтора года после «Что делать?» вновь разработан образ «нового человека» в духе героев романа Чернышевского.
Степан Рулев, герой Бажина, — сын крестьянина, забранного в свое время в солдаты и дослужившегося до капитанского мундира. Несмотря на то, что отец героя происходит из крестьян, не ему обязан Степан Рулев своими демократическими взглядами. Отец принадлежит к старому миру, между ним и сыном устанавливаются враждебные отношения. «Новым человеком», или «человеком дела», как сам автор называет своего героя, Рулев стал под влиянием матери, которая, в свою очередь, усвоила новые идеи от некоего учителя, рано умершего. Уже в детстве герой Бажина отличался демократическими настроениями. Когда однажды знакомый барчук в его присутствии назвал нищими рыбацких детей, с которыми вел компанию Степан Рулев, этот последний, побледнев от гнева, ответил барчонку: «Нищий ты... Ты живешь подаяньем, а они сами себе достают хлеб».1 С течением времени демократические взгляды и привычки Рулева укрепляются. Любовь к труду развивает в нем физическую силу, что облегчает ему сближение с простым рабочим людом, а чтение книг формирует «строго
- 289 -
реальный взгляд на жизнь» (300). Из книг Рулев, подобно Рахметову, умеет взять «только строго доказанные факты, отвергая всякие бредни натурфилософов» (300).
Далее читатель видит Рулева странствующим по России и заводящим разнообразные знакомства ради задуманного им дела, революционный характер которого не подлежит сомнению, хотя прямо об этом автор, разумеется, не говорит. Впрочем, дело становится ясным и без объяснения. Когда одна молодая девушка, находившаяся под влиянием Рулева, спросила его: «Что же делать?», — то Рулев дал ей такой ответ, который автор передает строкою точек, собеседница же героя «ни слова не могла произнесть после этого и молча опустилась на спину стула» (359). Странствуя по Руси, Рулев группирует вокруг себя единомышленников; в повести их двое, причем характерно, что оба они по роду своей деятельности тесно связаны с народом: один из них — конторщик на заводе, другой — деревенский книгоноша. Так герой повести готовит силы для решительной борьбы, время которой еще не наступило. «Бури и битвы были бы, впрочем, приятны Рулеву, потому что за ними была близка и цель, к которой он шел; но долго еще придется ему испытывать однообразное плавание, изведывание и ожидание» (376).
Таков герой Н. Ф. Бажина Степан Рулев, чья «спокойная, высокая фигура с честным и добрым лицом, с светлыми, умными глазами» воплощает, по мысли автора, суровую твердость и непреклонность революционных разночинцев, которых «можно растерзать, раздавить, убить, но запугать или заставить согнуться — нельзя» (378, 381).
Образы демократически настроенных разночинцев, непримиримых противников существующего социального порядка, Бажин разрабатывал и в других своих повестях: «Житейская школа», «Три семьи», «Чужие меж своими» (все они помещены в «Русском слове» в 1865 году). Как и «Степан Рулев», эти повести, популяризировавшие в условиях общественно-политической реакции идеи и образы революционной демократии 60-х годов, играли, несомненно, прогрессивную роль.
Прогрессивную роль играл также незаконченный роман Н. А. Благовещенского «Перед рассветом», напечатанный в 1865 году в «Русском слове».
В этом романе Н. А. Благовещенский (1837—1889) развернул широкую реалистическую картину, показывающую рост и формирование разночинца-демократа из духовной среды. Разрыв с средой под влиянием передовых идей, связанных прежде всего с именем Белинского, студенческие годы в столице, отмеченные влиянием Чернышевского и Добролюбова (об этом достаточно прозрачно сказано в романе), изучение мира сытых и богатых, с его показным либерализмом и эксплуататорской сущностью, — таковы в романе Благовещенского этапы духовного развития разночинца, который под влиянием жизненных уроков и передовых социальных учений проникается революционными идеями. Как будет протекать борьба героя после того, как он окончательно сформировался в качестве демократа и революционера, — этот вопрос Благовещенский оставил без ответа. Между тем демократическая молодежь прежде всего ждала ответа на него. Вот почему произведения, в центре которых стоял разночинец, активно действующий на революционном поприще, пользовались наибольшей популярностью. В этом был секрет успеха Бажина, которому демократический читатель за актуальность содержания прощал очевидные несовершенства художественной формы. Этим же объясняется необыкновенная популярность романа И. В. Федорова-Омулевского (1836—1883) «Шаг за шагом», напечатанного
- 290 -
в 1870 году в «Деле» и вышедшего в следующем году отдельным изданием.
С гораздо большей обстоятельностью, чем, например, Бажин, отвечал в этом романе Омулевский на больные вопросы эпохи. Вслед за Чернышевским Омулевский стремился создать роман-учебник, который, обходя цензурные препятствия, показал бы молодому поколению его задачи и поставил бы перед ним образы людей, достойных подражания. У Омулевского, как и у его предшественников, в центре романа — новый человек, человек дела и борьбы, человек новых взглядов, материалист и отрицатель, нимало не напоминающий, впрочем, нигилистов базаровского толка. Напротив, в обрисовке Светлова можно даже предположить полемику с романом Тургенева, с тургеневским пониманием типа нигилиста. В отличие от угловатого и резкого Базарова, Светлов чрезвычайно благовоспитан, мягок в обращении, отличается изящными манерами и даже пристрастием к изысканному туалету. Он деликатен и добр в отношениях своих к старикам-родителям, хотя и с неуклонной твердостью отстаивает свои принципы, когда они приходят в столкновение с отсталой моралью «отцов». Демократ по происхождению и по взглядам, он не подчеркивает своего демократизма внешними средствами. Он невольно внушает к себе общее уважение, сила звучит в каждом его слове, хотя говорит он тихо и мягко.
По мысли автора, Светлов — революционер. Читатель догадывается об этом по всему поведению Светлова, по тому, что он является душой кружка свободомыслящих людей, по его разговорам. Светлов, где может, разбрасывает семена новых идей; в качестве домашнего учителя он сразу же дает своим молодым питомцам понятие о социальной структуре общества, объясняя прежде всего «важное значение работника вообще, кто бы он ни был и где бы ни совершалась его полезная деятельность».1 Для этих же целей он организует бесплатную школу, где получают образование и взрослые мастеровые люди. Словом, нет никаких сомнений в том, что Светлов ведет пропагандистскую работу. Он связан также с другой аналогичной группой, во главе которой стоит бывший декабрист, ссыльно-поселенец Варгунин. Варгунин и его друзья тесно связаны с рабочими двух казенных заводов — стеклянного и суконного. С рабочими налаживает связи и Светлов. В романе Омулевского впервые в русской литературе показан бунт на заводе, кончающийся изгнанием директора, нарушившего исконные права и вольности рабочих, оскорбившего их выборных людей. Во время бунта Светлов, Варгунин и его друзья оказываются в рабочей среде.
Светлов верит в силу масс, в ту историческую роль, которую ей надлежит осуществить в будущем. «... Сознание, — говорит он, — от двух-трех человек мало-помалу проникает в массу, а масса эта постепенно растет, и когда-нибудь да придет же ее царствие...» (106). Светлов прекрасно понимает, что до этого торжества еще далеко, что предстоит долгая и трудная борьба, которая потребует жертв, но, как говорит друг и единомышленник Светлова доктор Ельников, «надо действовать, надо работать всеми силами ума и души, хотя бы на зло безнадежности, хотя бы для того только, чтоб враг не видел тебя с опущенными руками даже и в ту минуту, когда ты задыхаться будешь по его милости!..» (107—108). Несмотря на тяжесть борьбы, победа неизбежна: «... ведь и локомотив идет сперва тихо, будто шаг за шагом, а как разойдется — тогда уж никакая сила его не удержит» (385—386). Та скрытая борьба, которую ведет Светлов вместе с кружком
- 291 -
друзей-единомышленников, это только «неокрепшее начало» другой борьбы, широкой, открытой и массовой. «Только еще в далекой радужной перспективе носится перед нами такая борьба..., — говорит Омулевский в конце романа. — За неимением ее, Светлов ведет иную: это борьба пролетария в подземных каменноугольных копях, — борьба тяжелая и неблагодарная, иногда безнадежная, но чаще всего — опасная» (398).
Н. А. Благовещенский.
Гравюра на дереве.Большое место в романе Омулевского занимают вопросы новой морали, новых, свободных отношений между людьми. Омулевский не вносит в разработку этих вопросов ничего своеобразного или нового, но он настойчиво популяризирует принципы Чернышевского, выраженные им в романе «Что делать?».
За верность демократическим традициям роман Омулевского был высоко оценен передовой критикой. Щедрин встретил его сочувственной рецензией и охарактеризовал как одно из «„новых“ произведений, с полною добросовестностью относящихся к насущным вопросам современности...» (VIII, 422).1 Он отметил также и художественные недостатки романа.
«Нам скажут, быть может, — писал Щедрин, — что в романе г. Омулевского бросается в глаза очень большая доля книжности, что герои его романа, более чем нужно, походят друг на друга, что действие идет несколько вяло и т. д., — и мы, конечно, вынуждены будем принять эти замечания к сведению» (VIII, 442).
Но тут же Щедрин объясняет неизбежность этих недостатков тем, что в изображении «практических проявлений» новых идей всякий современный писатель невольным образом стеснен независящими обстоятельствами и потому не может воспроизвести их многосторонне и объективно. «Поэтому ничего нет удивительного, что недостаток объективности восполняется в этом случае лиризмом и что этот последний даже занимает первый план» (VIII, 443).
Говоря о лиризме Омулевского, Щедрин намекает, очевидно, на то, что автор на протяжении всего романа как бы любуется своим героем и настойчиво подчеркивает свою симпатию к нему, иной раз впадая при этом в несколько приторный тон. Так, например, рассказывая о том, как Светлов после возвращения в родительский дом возбудил к себе любовь своего
- 292 -
младшего брата, Омулевский заключает: «Ночью же, когда всё в доме спало крепким сном, совершилась никем не подмеченная тайна: Владимирко выложил на ладонь свою маленькую душу и отдал ее старшему брату...» (45—46).
Щедрин указал также, что в романе Омулевского, при всем его лиризме и чрезмерной книжности, видны очень серьезные усилия «освободиться от голословных разглагольствований и стать на дорогу образного воспроизведения жизни» (VIII, 443).
*
Говоря о голословных разглагольствованиях, Щедрин имел в виду произведения о «новых людях» популярного беллетриста А. К. Шеллера-Михайлова (1838—1900), выступившего в 60-х годах на страницах «Современника» со своими романами, в которых идеи Чернышевского популяризировались не только в упрощенной форме, но в либерально-искаженном виде.
В 1864 году появился первый роман Шеллера «Гнилые болота» с многозначительным подзаголовком «История без героя». Это должно было обозначать, что герой романа — обыкновенный человек, каких уже немало, хотя по мысли автора это человек, разорвавший связи со старым миром. В форме семейной хроники, истории детства рассказывается здесь о формировании личности этого нового человека, вступающего в борьбу с гнилыми болотами патриархальной старины. Герой повести Александр Васильевич Рудый, выходец из трудовой мещанской семьи, не сразу становится врагом гнилых болот и сторонником новых взглядов. Сначала он, как и все, уверен, что «счастие жизни состоит в важном чине, в барских замашках и в богатстве».1 Потом эти взгляды, привитые школой и окружающей средой, теряют для него всякое значение и становятся отвратительными. Герой освобождается от них под влиянием учителя Носовича, который в популярной форме внушает своим молодым воспитанникам теорию разумного эгоизма. «... Практически разумный, настоящий эгоизм, — учит он, — есть двигатель в жизни, эгоизм есть любовь к ближним, любовь к честной деятельности, эгоизм есть справедливость» (I, 115).
Вдохновленные этими уроками, молодые люди по окончании школы поступают в университет и живут все вместе в общей квартире на правах свободной ассоциации. «Пошла наша жизнь по-нашему. В продолжение недели кипел и поспевал наш труд, каждый член зарабатывал по-своему деньги, умножая общий капитал, и не боялся в случае болезни остаться без присмотра и без еды... По праздникам собирался у нас кружок разной молодежи, лились сужденья, кипели споры...» (I, 150).
Всё это на первый взгляд напоминает героев Чернышевского, их мораль и философию, но только на первый взгляд. Совпадения с Чернышевским носят чисто фразеологический характер, по существу же здесь всё иное. «Любовь к чистой деятельности» — это у Шеллера не больше чем либеральная фраза, не заполненная никаким серьезным смыслом.
Общая квартира и ассоциация, появляющаяся в конце повести, также вполне безобидна и в политическом смысле нейтральна; теория практического эгоизма, лежащая в основе стремлений героя и его друзей, лишена революционного содержания. «Мирный» характер их взглядов Шеллер
- 293 -
подчеркивает неоднократно и настойчиво. «Носович творил суд и расправу над отдельными личностями и пороками. Но в его речах не было ни желчности, ни раздражительности, ни предубеждения; он говорил нам: „не думайте, что так делается только у нас; в других странах делается то же, но на свой лад. Не бросать каменья, не злиться, не воевать нужно. Нужно смотреть за собою, собираться с честными людьми в тесный кружок, исполнять свои обязанности лучше подлецов, и тогда подлецы исчезнут, как пыль“» (1, 114). Радикальные фразы идеального педагога скрывали очень умеренное содержание, ученики поняли своего учителя и хорошо усвоили его уроки. «Поняли Розенкампф и я, — пишет автор, — что Носович не рекомендует с особенно хорошей стороны борьбы, в смысле ломки и переворотов, но что он не хлопочет, как Воротницын, о примирении и прощении» (I, 115). Итак, умеренность, «золотая середина», без примирения, но и без борьбы, «не поднимая головы до небес и не опуская ее до земли», — такова мораль Шеллера (I, 115).
В следующем романе Шеллера-Михайлова «Жизнь Шупова, его родных и знакомых» (1865) опять рассказывается о том, как в борьбе с «гнилыми болотами» одной дворянской семьи, в борьбе с семейным деспотизмом, с несправедливостью, с аристократическими предрассудками, лицемерием, ложью вырастает человек новых понятий, «честный деятель», молодой ученый, который ставит «вечным девизом» своей жизни «постоянное бодрствование и борьбу со злом» (II, 231). Однако, повзрослев и возмужав в этом «постоянном бодрствовании», герой Шеллера в конце концов приходит к убеждению, что в той борьбе, которую ему пришлось вести, было слишком много «пустой, бесцельной, ничем не оправдываемой вражды, нетерпимости, неуважения людей друг к другу» (II, 236). Он не оправдывает ни отцов, ни детей: «долго не поймет человек, что его личный интерес требует мира», — думает он. В частности, он упрекает себя за нетерпимость в делах со своим отцом, в котором всегда встречал либо полное равнодушие к своим стремлениям, либо активное противодействие им. «Мы могли быть деятелями на разных путях и все-таки мирно смотреть друг на друга», — говорит Шупов (II, 237) и, в конце концов, налаживает примирение с отцом.
К таким же взглядам приходит и другой герой романа, выходец из чиновничьей семьи, Николай Люлюшин. Он также сожалеет о силах, которые растратил на отражение разных враждебных нападений, «тогда как должно было пропускать их мимо ушей до тех пор, пока они были словами и не переходили в дело» (II, 244). Он даже выдвигает свое объяснение суровой принципиальности молодого поколения, объяснение, выдержанное в духе либерально-примирительных идеек всего романа. «Столичная душная жизнь, тесные квартиры, где мы были заперты и толкались, подвертываясь под тумаки и брань родителей, в течение большей части нашего детства, недостаток свежего воздуха, полей, садов и благотворного влияния природы, мелкие несправедливости учителей-чиновников, учителей-взяточников, учителей-неучей, домашняя цинически открытая перед ребенком грязь, полнейшая апатия общества в деле мысли, вечное его измерение ума и достоинств званием, чином, мундиром и летами, — всё это сделало нас нервными, раздражительными, сварливыми» (II, 244).
Так возникает на страницах романов Шеллера образ смирного «нигилиста», мечтающего наладить добрые отношения с отцами, уверенного в своих грядущих успехах и наделенного завидным спокойствием духа. Можно ли надеяться на счастье героев романа? — спрашивает рассказчик Шупов и отвечает так: «Можно, любезный читатель, если вам не вздумается
- 294 -
уморить меня чахоткою, как умер Инсаров, и заставить Аню пропасть без вести, как пропала жена этого господина, если вы не вздумаете заставить Кольку делать операцию, обрезать палец и умереть преждевременною смертию, подобно Базарову...» (II, 246). Ирония над Тургеневым и его героями должна, конечно, по замыслу Шеллера, быть в глазах читателя ручательством радикализма, которого в действительности не было вовсе. Героям Шеллера, в самом деле, можно было с полным доверием смотреть вперед: этим безобидным и скромным людям ничто не угрожало, в отличие, например, от героев «Что делать?», которым Чернышевский в 1863 году предсказал гордую гибель и последующее возрождение в новых революционных поколениях. Характерно, что безмятежно оптимистический финал романа Шеллера отнесен к 1864 году, а для Шупова и его друзей «трудное время» не наступило.
В отзывах на последующие романы Шеллера-Михайлова — «Засоренные дороги» (1868) и «В разброд» (1870) — Щедрин указал на внешний характер радикализма его героев и на бессодержательность их взглядов. Отдавая некоторое предпочтение первым романам Шеллера перед последующими, Щедрин отметил, что уже в «Гнилых болотах» «негодование» автора и его героев против того, что символизируется этим названием, было напускное, измышленное. «Участники драмы, — писал Щедрин, — повидимому, живут очень спокойно, в весьма приличных квартирах, не терпят никаких ущербов, не искалечиваются, не обезображиваются, и всё их отличие от других людей, живущих также в приличных квартирах, заключается в том, что они совершенно добродушно толкуют о том, что жизнь есть „гнилое болото“, которое может и искалечить, и обезобразить, и нанести ущерб» (VIII, 312).
Этот отзыв Салтыкова ясно показывает, что в его глазах произведения Шеллера-Михайлова знаменовали собой, несмотря на благие намерения автора, либеральное опошление романов и повестей о «новых людях». То же самое следует сказать и о Д. Л. Мордовцеве (1830—1905), популярном беллетристе, публицисте и историке. Его роман «Знамения времени» (1869) в такой же степени, как и романы Шеллера, далек от революционно-демократической традиции. От Шеллера Мордовцев отличается только большей откровенностью в отказе от революционного просветительства 60-х годов; при этом либеральные взгляды романиста приобретают легкую народническую окраску. Герои Мордовцева, которых автор драпирует в эффектный плащ гражданской скорби, прямо заявляют об отходе от «устаревших» и «узких» идей Чернышевского, они открещиваются от революционной борьбы. Эти люди идут «в народ», но не для революционной пропаганды, а ради «опрощения» и мирной либерально-культурнической работы. В этом герои Мордовцева, как и сам автор, видят чуть ли не грандиозный подвиг, равного которому не знала история.
Для выражения своих взглядов герои Мордовцева прибегают иной раз к туманным аллегориям, имитирующим эзопов язык, в котором, впрочем, не было никакой необходимости. Когда автор заставляет своих персонажей полным голосом говорить о своих целях, то перед читателем вырисовывается жалкая и мизерная программа, предвосхищающая либерально-народнические идейки 80—90-х годов.
«Мы идем в народ не с прокламациями, как делали наши юные и неопытные предшественники в шестидесятых годах... Мы идем не бунты затевать, не волновать народ и не учить его, а учиться у него терпению, молотьбе и косьбе», — вот в чем видит Мордовцев «знамение времени». О стремлении шестидесятников к революционному преобразованию общества
- 295 -
герои Мордовцева говорят: «История научила нас не верить этим пустякам, как верили наши предшественники».1 Так, маскируясь под «новых людей», выступали в романе Мордовцева заурядные либералы.
В другом романе Мордовцева «Новые русские люди» (отд. изд. 1870) под видом передовых деятелей фигурировали либо исковерканные, рефлектирующие и кающиеся гамлетики, либо молодые люди, занятые, как писал Щедрин, «беспутным гуляньем с филипповскими калачами, колбасой и бесконечным-бесконечным переливаньем из пустого в порожнее» (VIII, 400).
Щедрин писал об авторе этого романа: «Он виноват в том, что ввел читателя в заблуждение: обещал показать „новых русских людей“, и мало того, что не исполнил своего обязательства, но вместо людей, по выражению Гоголя, показал одни „свиные рыла“». Впрочем, Щедрин видел смягчающее вину Мордовцева обстоятельство в том, что он сделал это «без предумышления» (VIII, 395, 396).
*
Между тем в то время, когда появлялись романы Шеллера и Мордовцева, передовые люди России подвергались вполне предумышленным нападкам со стороны откровенных защитников реакции, выдвинувших в борьбе против революционной демократии целую серию так называемых «антинигилистических» романов явно клеветнического характера. Мораль «разумного эгоизма», материалистическая философия, идея женского равноправия, организация трудовых ассоциаций — всё подвергалось в антинигилистических романах злобному и циническому осмеянию, всё освещалось в клеветническом духе.
Польское восстание 1863 года дало удобный предлог к тому, чтобы объявить русское революционное движение порождением польской интриги. Имя Герцена, прославленное сочувствием польскому делу, стало предметом ненависти реакционных романистов. В их изображении именно к Герцену тянутся нити и от русского нигилизма, и от польского освободительного движения. И то и другое, как стремились показать авторы антинигилистических романов, одинаково будто бы чуждо русскому простому народу, который, уверяли они, вполне доволен своим положением после реформы и только явными провокациями порой вынуждается к бунтам. Вмешательство честных и благонамеренных людей (мировые посредники, предводители дворянства) легко и просто разрушает в произведениях реакционных беллетристов «козни» революционеров. Нечего и говорить, что благонамеренные дворяне в романах этого типа и по своим нравственным качествам неизменно противостояли «нигилистам»-разночинцам, которых писатели-реакционеры с нескрываемой ненавистью изображали чудищами зла.
Эти черты, с легкими вариациями переходившие от одного автора к другому, объединяли всю серию реакционных романов, которые В. И. Ленин иронически охарактеризовал как «романы с описанием благородных предводителей дворянства, благодушных и довольных мужичков, недовольных извергов, негодяев и чудовищ-революционеров».2
Авторы антинигилистических романов грубо отступали от принципов реализма. Вместо типических образов новых людей у них появлялись человекоподобные манекены. Сущность социальных явлений не только не вскрывалась в антинигилистических романах, но, напротив, грубо искажалась
- 296 -
в угоду реакционной схеме, мертвенной и плоской. При этом свои злобные карикатуры, лишенные жизни и правды, реакционные литераторы пытались выдать за подлинно типические характеры. Появление мутного потока антинигилистических произведений было предвосхищено романом В. И. Аскоченского «Асмодей нашего времени» (1858). К моменту выхода этого романа В. И. Аскоченский (1813—1879) в качестве издателя журнала «Домашняя беседа» приобрел уже широкую, хотя и анекдотическую известность исступленного реакционера и клерикала, яростного врага самых невинных новшеств и светского просвещения. В «Асмодее нашего времени» Аскоченский ополчается против молодого поколения, выведенного в образе злобного отрицателя, отъявленного циника и безбожника, носящего выразительное имя Пустовцева. «Он всё подвергал критическому обзору, требуя одного лишь знания и знания», — с комическим возмущением говорит о своем герое автор и показывает далее, что его Асмодей не щадил в своих разговорах «ни связи супружеской, ни отношений дружеских, ни привязанности родственной, ни нежности детской, ни любви родительской».1 Этот «змей-искуситель», как называет его автор, сеет в обществе разврат и зло, обольщает невинность, в конце концов запутывается сам в своем беспутстве и, наложив на себя руки, умирает нераскаявшимся грешником. В «Асмодее нашего времени», этом первенце антинигилистических романов, герой еще не разночинец, автор видит в нем нечто родственное Онегину, Печорину, даже Петру Ивановичу Адуеву Гончарова, но в обрисовке Пустовцева он предвосхищает уже те черты, которыми впоследствии стали характеризовать демократов-«нигилистов» авторы антинигилистических романов, несравненно более умелые и одаренные, чем Аскоченский.
Первым из крупных писателей, выступившим с грубой тенденциозностью против революционной демократии, был А. Ф. Писемский. После «безрыловской» истории (см. главу IV — «Писемский») его враждебность демократическому движению была уже совершенно ясна. Трезвый разоблачитель дореформенного застоя, грубого самодурства помещиков и чиновников, так ярко проявивший свое обличительное дарование в «Тысяче душ» (1858), Писемский вместе с тем был жестоко напуган перспективой революционного переворота и в романе «Взбаламученное море» (1863) с полной откровенностью выступил в защиту реакции.
Общая оценка революционного движения 60-х годов дана в самом заглавии романа. Писемский отказывается видеть в этом движении что-либо серьезное. Устами одного из своих резонеров он прямо говорит о том, что считает общественное оживление и революционные настроения конца 50-х — начала 60-х годов очередной модой. «И для меня решительно никакой нет разницы, — говорит резонер, — между Ванюшею в „Бригадире“, который, желая корчить из себя француза, беспрестанно говорит: hèlas c’est affreux! и нынешним каким-нибудь господином, болтающим о революции... „Неужели же во всем последнем движении вы не признаете никакого смысла?“» — спрашивают его, и он не задумываясь отвечает: «Никакого!.. одно только обезьянство, игра в обедню, как дети вон играют».2
При таком взгляде на революционное движение, разумеется, трудно было ожидать от Писемского сколько-нибудь серьезного анализа событий, их объективного изображения. Так и получилось. В самом деле, каков состав
- 297 -
партии «красных» в романе Писемского, кто такие «новые люди» в его обрисовке? Это цинически-наглые братья Галкины, сыновья богатого откупщика; это отпетый негодяй, развращенный до мозга костей дворянский недоросль Басардин; шелопай Петцолов, балованый сынок губернатора; это, наконец, Михайла, бывший крепостной дворовый человек, ставший уголовным преступником; в конце романа читатели видят его во время петербургских пожаров в роли поджигателя. Вот из кого составляется, по Писемскому, передовое движение 60-х годов: из отбросов дворянства, из новой буржуазии и подонков крестьянской массы. Правда, чтобы придать этой грубо тенденциозной картине хотя бы тень правдоподобия, Писемский присоединяет к движению 60-х годов одного честного человека (Собакеев), но он проходит в романе бледной тенью, не играя сколько-нибудь заметной роли.
Что касается «польской интриги», почти обязательной в антинигилистическом романе, то на нее у Писемского имеются только намеки; зато все прочие обязательные элементы антинигилистического сюжета — от сношения героев с лондонской эмиграцией до изображения петербургских пожаров — налицо в романе Писемского.
Впрочем, есть одна черта, которая все-таки выделяет роман Писемского на общем фоне антинигилистической литературы. В первых трех частях романа (всего их шесть) Писемский дает, как в прежних, лучших своих произведениях, яркие картины дореформенной России с помещичьим произволом, продажностью администрации, всевластием чиновников, бесправием крестьян. Недаром Писемский заставляет крестьянку Марью сказать после реформы бывшему своему барину, некогда сделавшему ее скуки ради своей любовницей: «Мало ли вы прежде крови нашей пили?». К тому же по всему роману проходит разоблачение дворянского либерализма, с его дряблостью, неустойчивостью, мелочностью и трусостью. Образ Бакланова, либерала 40-х годов, выписан Писемским детально и тщательно, без нажима и карикатуры. Его развенчание поэтому гораздо более убедительно, чем то грубо пасквильное ниспровержение «новых людей», которое дало Герцену основание заклеймить роман Писемского едким названием «Взболтанная помойная яма».1
Революционная ситуация конца 50-х — начала 60-х годов отбросила и Н. С. Лескова в реакционный лагерь. Роман «Некуда» (1864) стал в один ряд с «Взбаламученным морем» и по основной тенденции, и по общему типу повествования. Правда, в отличие от Писемского, Лесков не считает демократическое движение кануна реформы и первых лет после нее простой модой, легкомысленным увлечением. Напротив, появление «новых людей», отрицателей старого уклада жизни, Лесков считает делом неизбежным, естественным и потому оправданным. Эти люди должны были появиться в стране, которая, по словам Хомякова,
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!(„России“)2
Среди них, по мысли Лескова, были не только честные люди, были среди них и настоящие подвижники революционных убеждений, каков, например,
- 298 -
Райнер. Не случайно, однако, Райнер, самый честный среди «новых людей», — иностранец. Россия для него только база для социальных экспериментов. Вот почему, как хочет показать Лесков, Райнер так легко переходит на сторону польских повстанцев. Ему всё равно, где бороться за дело, которое он почитает справедливым. В России же у него почвы нет. Генерал Стрепетов, один из идеальных героев романа, «с большой расстановкой» произнеся слово «революция», вопрошает риторически: «Это какое слово? Слышится, будто что-то как нерусское, а?»1 Впрочем, иностранец Райнер у Лескова — не единственный честный представитель «новых людей». Глубокой искренностью проникнуты стремления Лизы Бахаревой. Ее приобщение к «новым людям» так же естественно и понятно. Ненависть к патриархальной старине, к семейному деспотизму заставляет ее порвать с родительским домом и вступить на путь исканий нового. Всё это так, но Лиза Бахарева, во-первых, чувствует себя белой вороной в том обществе, куда привела ее судьба, она одинока среди «нигилистов»; во-вторых, новая жизнь губит ее, сушит ее душу, делает ее черствой и жесткой, лишает радостей жизни и ведет к преждевременной смерти.
Таковы честные «нигилисты» в романе Лескова: это либо люди, не имеющие почвы в России, либо неудачники, как Лиза Бахарева. Что же касается рядовых сторонников «нового режима», то это, в изображении Лескова, либо глупцы, либо нравственные монстры, один другого уродливее, среди которых теряются люди действительно убежденные.
«Честная горсть людей, не приготовленных к честному общественному служению, но полюбивших добро и возненавидевших ложь и все лживые положения, виновата своею нерешительностью отречься от приставших к ней дурачков; она виновата недостатком самообличения».2
Признавая относительную законность появления «новых людей», Лесков считает, однако, что время их прошло очень быстро. «Был застой; потом люди проснулись, ну, поддались несбыточным увлечениям, наделали глупостей, порастеряли даром людей <намек на аресты>, но всё ведь это было человеческое, а это что же? Воевать с ветряными мельницами, воевать с обществом, злить понапрасну людей и покрывать это именем какого-то нового союза».3
Самое же главное осуждение «новых людей» заключается, по Лескову, в оторванности их от «растущих сил России». Такую действительную силу Лесков видит в русском купечестве, получившем после реформы власть и значение. Одному из таких купцов нового типа и поручает Лесков произнести в конце романа окончательный приговор над «новыми людьми»: «Мутоврят народ тот туда, тот сюда, а сами, ей право, великое слово тебе говорю, дороги никуда не знают, без нашего брата не найдут ее никогда. Всё будут кружиться и всё сесть будет некуда».4
Видя живую силу в пореформенном купечестве, сочувствуя превращению России из страны крепостнической в буржуазную, Лесков склоняется в своем романе не к крайней реакции, а к «либеральному консерватизму» (выражение самого Лескова), шедшему в фарватере правительственной политики Александра II. Любимые его герои — это те заурядные либералы, которые, по словам Лескова, «не стремились окреститься во имя какой бы то ни было теории, а просто, наивно и честно желали добра и горели нетерпением
- 299 -
всячески ему содействовать. Плана у них никакого не было, о крутых, костоломных поворотах, во имя теорий, им вовсе не думалось. Шло только дело о правде в жизни».1
Так противопоставляется в романе Лескова верноподданническая «правда» революционным учениям и теориям. Неудивительно, что роман Лескова был встречен единодушным осуждением демократического литературного лагеря.
Общественная репутация Лескова благодаря роману «Некуда» была окончательно скомпрометирована. Этому способствовало еще и то, что Лесков не погнушался прямыми пасквильными выпадами против деятелей демократического движения. Так, в Белоярцеве можно было узнать клеветнический портрет Слепцова, а в общежитии Белоярцева — слепцовскую коммуну.
Среди антинигилистических произведений 60-х годов стоит и роман В. Клюшникова (1841—1892) «Марево», появившийся в 1864 году. В этом романе дается самое вульгарное объяснение революционных событий 60-х годов. Оказывается, что всё дело в происках «польской партии», которая сознательно разжигает революционное движение, чтобы ослабить Россию и подготовить победу Польши. Для этого польские деятели не гнушаются никакими средствами: они провоцируют крестьянские волнения и толкают власти на применение воинской силы, они путем ложных доносов добиваются ареста преданных правительству людей, они прививают нигилистические идеи молодому русскому поколению, сами же презирают русских прогрессистов, смеются над ними и еще больше презирают они русский народ. Такова, по Клюшникову, главная и основная причина движения 60-х годов. Это пресловутая польская интрига, во главе которой стоит в романе граф Бронский, развратитель русских юношей и девушек, воплощенное коварство, нравственное чудовище.
Правда, рядом с ним помещена честная русская девушка, примкнувшая к движению из идейных побуждений. Своими «заблуждениями» она, как оказывается, обязана семейной традиции. Ее отец был связан с кружком Станкевича. Клюшников приводит письма, сохранившиеся в семейном архиве отца героини и подписанные инициалами. По этим инициалам и по содержанию можно в авторах этих писем узнать Станкевича, Герцена, Белинского, Бакунина. Вот, значит, откуда идут «тлетворные» влияния, питающие идейный нигилизм шестидесятников. Так, желая поразить предшественников революционных демократов 60-х годов, Клюшников намечает реальную картину преемственности революционных поколений. Однако, по мысли реакционного автора, даже человек с такими семейными традициями, как героиня романа Инна Горобец, даже такой человек должен пережить жестокое разочарование в тех идеях, которые привели ее на ложный путь. Инна разочаровывается и в польском деле, и в его вожаках, и в русских революционных эмигрантах, Герцене и Огареве, и во всем революционном движении. Ее-то автор и заставляет определить это движение пасквильным словом «Марево».
Что касается простых людей, украинских крестьян (действие происходит на Украине), то, как хочет показать автор, они враждебны и русским, и польским революционерам и не хотят слушать агитаторов, которые склоняют их к бунту.
Точно так же интеллигентные люди, воспитанные в «здравых» понятиях, любящие народ, близкие к народу, ненавидят нигилистов и их польских
- 300 -
вдохновителей и борются с ними, как это делает идеальный герой романа Владимир Русанов. Его устами автор, трепещущий перед призраком революции, призывает всех благомыслящих людей, прежде всего помещиков, стряхнуть с себя пагубное благодушие и ополчиться на борьбу с крамольниками: «... эти господа развращают молодежь, губят наши силы, наполняют наш край разлагающими реактивами, плодятся, как моль, а вы тут, сидя на хуторе, философствовать будете...».1 В этом крике испуга и раздражения весь смысл романа В. Клюшникова. Писарев метко определил его содержание двумя словами: «сердитое бессилие».
Вслед за Клюшниковым в истории антинигилистического романа должен быть поставлен Всеволод Крестовский (1840—1895). После «Петербургских трущоб» (1867), которые, несмотря на бульварный характер, не лишены были познавательной ценности, Крестовский написал свое «Панургово стадо» (1869), в котором техника бульварно-авантюрного повествования, разработанная в «Петербургских трущобах», была применена к материалу антинигилистического романа.
Как и в «Мареве» Клюшникова, в «Панурговом стаде» революционное движение в России рассматривается прежде всего как результат польских происков.
В романе Крестовского поляки густой паутиной опутывают всю Россию: на громадных просторах русской земли они раскидывают широкую сеть тайных организаций; свои представители имеются у них среди высшей администрации, в армии, в полиции, в научном мире, среди учащейся молодежи — всюду и везде. Они искусно вызывают революционное брожение в России, устраивают крестьянские бунты, всячески стараясь довести дело до расстрелов безоружных крестьян, они устраняют честных сторонников правительства, они поддерживают и разжигают студенческие волнения, тонкими средствами вызывают они у русских людей сочувствие к Польше и ненависть к правительству. Такова фантастическая «концепция» романа, его рамка, внутри которой умещаются все элементы антинигилистического романа: здесь и лохматый нигилист, негодяй и трус, погубивший доверчивую девушку; здесь и обманутый старик-отец, борющийся с оружием в руках против поляков и гибнущий во время восстания от руки польских повстанцев; здесь и стриженая нигилистка, бросающая мужа ради легких похождений, и разбрасыватели прокламаций, и т. д., и т. п. Здесь и честно заблуждающиеся молодые люди, которые попадают в ловушку, но потом благополучно из нее выбираются, сознают свои заблуждения и вступают на правильный путь. Таков студент Хвалынцев, вначале, в пору своих «заблуждений», участник революционной организации, а потом, после «отрезвления», командир карательного отряда в Польше.
Реакционная злоба, проникающая роман Крестовского, примитивно маскируется либеральными фразами, легкими выпадами против крайней реакции, против правительственного мракобесия в наиболее резкой и вопиющей форме. Крестовский вносит в свой реакционный роман оттенок легчайшей фронды, укоряя правительство то в попустительстве польской интриге, то в применении вооруженной силы для борьбы с безоружными студентами, то даже в расстрелах крестьян во время мнимых бунтов. Верноподданнические чувства Крестовского остаются при этом вне всяких сомнений. По мысли романиста, единство России рождается «из двух близких слов, из двух родных понятий: народ и царь».
- 301 -
Роман Крестовского назван хроникой, и автор показывает на его страницах подлинные события, вводит газетные известия, официальные сообщения, литературные факты, всё подчиняя реакционному замыслу. Так, в «Панурговом стаде» появляется Чернышевский, изображается в клеветническом духе его публичное выступление 2 марта 1862 года, приводится в романе полемика в связи с «Отцами и детьми», упоминается Писемский с его реакционными выступлениями и, наконец, лубочными красками размалевывается картина петербургских пожаров.
В романе «Две силы» (1874), составляющем продолжение «Панургова стада», перед читателем проходит польское восстание 1863 года, изображенное столь же фантастически реакционно, как и всё, о чем писал Крестовский. Здесь опять-таки на сцену выводятся реальные лица, как знаменитый революционер, вождь белорусских повстанцев Кастусь Калиновский, с одной стороны, и граф Муравьев-Виленский — с другой. О последнем Крестовский говорит с подчеркнутым почтением, изображая свирепого вешателя «мудрым» государственным деятелем и едва ли не добрым человеком. Во второй части дилогии Крестовского, так же как и в первой, налицо традиционные элементы бульварного романа и его грубые эффекты: неожиданные встречи, наемные убийцы, коварные красавицы, княжеские замки, трущобы большого города.
Еще до Крестовского самая низкопробная бульварщина была использована в борьбе с разночинной демократией в повестях В. П. Авенариуса (1839—1919) «Современная идиллия» и «Поветрие», изданных в 1867 году под общим названием «Бродящие силы». В этих повестях грубая клевета на революционную демократию и персонально на Чернышевского соединялась с беззастенчиво порнографическими сценами и эпизодами. Так, не гнушаясь никакими средствами, вплоть до самой грязной клеветы, бульварщины и разнузданной порнографии, боролись реакционные силы против ненавистного им демократического общественного и литературного движения.
*
Авторитет демократических идей, широко распространявшихся в обществе, их огромное влияние на молодежь не были поколеблены не только авторами антинигилистических романов, но и таким писателем, как Ф. М. Достоевский, который в 60-х годах окончательно и бесповоротно перешел в лагерь общественно-политической реакции и вступил в ожесточенную борьбу с революционной демократией.
В статье об «Униженных и оскорбленных» Добролюбов указал, что, рисуя картины унижения простого человека в современном обществе, Достоевский не всегда возводит к общественным условиям психологию унижающих и не приходит к решению социальных вопросов. Из «простой постановки фактов и отношений», заключенных в произведениях Достоевского, общественные выводы не вытекают сами собой. Поэтому, считал Добролюбов, «его рассказам нужны дополнения и комментарии» (II, 380). Давая от себя эти дополнения и комментарии, Добролюбов наметил тем самым, чего недостает произведениям Достоевского: они не согреты мыслью о том, что на помощь униженным и оскорбленным должны придти люди революционной инициативы, более того, Достоевский враждебен этой мысли.
Еще до статьи Добролюбова Достоевский выступил против эстетической и общественно-политической программы ее автора, заявив себя противником революционно-демократической теории гражданского, социально-тенденциозного
- 302 -
искусства («Г.—бов и вопрос об искусстве», 1861). Несколько лет спустя Достоевский открыто выступил против Добролюбова и Чернышевского, против всех сторонников революционно-демократической мысли.
В «Записках из подполья» он объявил химерой самую задачу построения «хрустального дворца», т. е. разумного человеческого общежития на соцалистических основах, так как человек, внушал он, зол, неразумен и стремится не к пользе, а к «своеволию».
В «Преступлении и наказании» (1866) он пошел еще дальше, провозгласив нравственную недопустимость самого стремления изменить общество ради блага угнетенных, так как это изменение предполагает насильственную и кровавую борьбу с современным социальным строем, уродливость и несправедливость которого Достоевский ясно видел. Он нарисовал в «Преступлении и наказании» потрясающие картины бедствий и унижений простых людей; он показал, что возмущение против бесчеловечного строя современной жизни естественно и даже неизбежно. Но в то же самое время Достоевский осудил людей, поднимающих знамя бунта во имя униженных и оскорбленных. Эти люди, уверял он, вступая в борьбу с обществом, тем самым ставят себя неизмеримо выше своих собратий, и потому в гордом индивидуализме своем они неизбежно кончают страшным презрением к тем, во имя кого ополчились на борьбу. Униженные и угнетенные должны поэтому осудить их за бунт, как Соня Мармеладова, воплощающая в романе «страдание человеческое», осуждает Раскольникова. Так протест и «бунт» рассмотрены были Достоевским как результат индивидуалистического презрения к народу, а пресловутое «смирение» возведено было в духе реакционного славянофильства к коренным и исконным, а не исторически обусловленным свойствам народного сознания.
Реально существовавшая связь между революционными стремлениями передовой интеллигенции и стихийным протестом, созревавшим в народе, была тем самым отвергнута Достоевским во имя реакционной тенденции.
Позднее по этому пути пошли «веховцы», объявившие идеи письма Белинского к Гоголю выражением «интеллигентского настроения».
Бунтарям и отрицателям, будто бы оторванным от народа, противопоставлен был в «Идиоте» (1868) «положительно-прекрасный человек», князь Лев Николаевич Мышкин, самый образ которого должен был, по замыслу романиста, говорить о том, что обновление мира, погрязшего в грехах и разврате, может быть достигнуто не «бунтом», а одной только силой христианского учения. «Князь-Христос» — так был назван Мышкин в одном из черновиков романа, и в этой формуле Достоевскому одинаково важны были обе ее половины.
К «нигилистам» и отрицателям Мышкин обращается со словом христианского увещевания: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!».1 А в аристократическом салоне Епанчиных Мышкин выступает в своей первой сущности, в качестве «князя»: «Вы думаете: я за тех боялся, их адвокат, демократ, равенства оратор? — засмеялся он истерически... Я боюсь за вас, за вас всех и за всех нас вместе. Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я чтобы спасти всех нас говорю, чтобы не исчезло сословие даром...».2 Для этого, по мысли Достоевского, нужно суметь «не
- 303 -
уступать другим место», революционерам и отрицателям, победив их в идейной борьбе.
Ф. М. Достоевский.
Фотография.Кричащие социальные противоречия буржуазно-дворянского строя нашли свое отражение в творчестве Достоевского, он исходил из них в своих художественных построениях. В этом была громадная сила его таланта. Но в то же время Достоевский выступал против тех, кто боролся за революционное разрешение общественных противоречий. Вот почему, по словам Щедрина, «с одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой — какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...». По этой же причине в ряде произведений Достоевского мы находим, говоря опять словами Щедрина, «дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения...» (VIII, 438). Это «дешевое глумление» над «нигилизмом», хотя, разумеется, и не столь резкое, как у Достоевского, проявилось в 60-х годах также и у Тургенева, в романе которого «Дым» (1867), наряду с блестящими сатирическими зарисовками обнаглевших героев дворянско-аристократической реакции, развернуты были карикатурные эпизоды, обращенные против революционной эмиграции. Точно так же и в «Обрыве» Гончарова (1869) рядом с проевосходными реалистическими картинами русской жизни появился тенденциозно очерченный образ «нигилиста» Марка Волохова; появились авторские рассуждения о тлетворности «новой правды», рассуждения столь же реакционные, как и примитивные, заслуженно названные Щедриным «уличной философией».
Все эти крупные и мелкие эпизоды борьбы против разночинной демократии свидетельствовали о силе ее идей. Эта сила сказывалась не только в расцвете демократического направления в литературе, но также и в том влиянии, которое борьба революционных демократов оказывала на многих писателей, не принадлежавших к направлению Чернышевского и Добролюбова и даже враждовавших с ними. Так, Тургенев, споря с революционными демократами и негодуя на них, в то же время отдавал должное их самоотверженности и мужеству, их суровой принципиальности, как ни жестка она ему казалась порой. Говоря о роли деятелей «Современника» в творческом развитии Тургенева, Салтыков-Щедрин отметил впоследствии: «Там <т. е. в «Современнике»> были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя самого» (XVIII, 343).
- 304 -
*
Нужно сказать, что и сами деятели «Современника» с глубоко сочувственным интересом следили за теми людьми, которые, принадлежа по рождению и воспитанию, по складу характера, привычек и симпатий к чуждой им и даже враждебной среде, обнаруживали способность и желание «перерабатывать себя» под влиянием ли непосредственного общения с вождями революционной демократии или под влиянием самой жизни. Среди передовых представителей дворянства, порывавших со своим классом и переходивших на сторону народа, выделяется величественная фигура А. И. Герцена. Выходец из помещичьей, барской среды, Герцен рано сумел воспринять традиции дворянской революционности. Продолжая дело декабристов, он в то же время всей своей деятельностью в 50-е и 60-е годы подготовлял полное вытеснение дворян разночинцами в освободительном движении.
«Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию.
«Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной воли“».1
Как известно, политическая агитация Герцена не была свободна от либеральных колебаний, которые порождались и его помещичьим, барским происхождением, и тем, что, покинув Россию в 1847 году, «он не видел революционного народа и не мог верить в него».2 «Однако, справедливость требует сказать, — указывает В. И. Ленин, — что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх».3 История идейного развития Герцена, восприятие декабристских идей и традиций, переход от дворянской революционности к кругу социально-политических и философских идей, характерных для революционной демократии, этапы идейно-политической биографии Герцена, — всё это нашло отражение в его «Былом и думах». Личная жизнь писателя была рассмотрена в этом произведении как явление историческое, как преломление истории в сознании и судьбе человека. Для этого героем произведения должен был стать человек, живущий исторической жизнью, погруженный в живые, злободневные и широкие интересы политической борьбы. Таким героем был автор произведения, и рассказ о его частной жизни стал отражением исторической судьбы целого поколения. Поэтому в «Былом и думах» стерлась грань между личными, интимными фактами в жизни героя и великими историческими событиями его времени. «Думы», вызванные историей и своим личным участием в ней, — это и был внутренний мир героя и автора мемуаров. Произведение Герцена утратило тем самым узко мемуарный характер, оно стало художественным обобщением целой эпохи и вобрало в себя разнообразный материал — биографический, исторический, политический и философский. Художественное творчество и публицистика участвовали на равных правах в создании «Былого и дум», произведения, не знающего себе аналогии в мировой литературе как по художественному своеобразию, так и по широте охвата действительности. Жизнь русская и зарубежная, самодержавно-крепостническая Россия в обоих ее полюсах — помещичьем и крестьянском, прогрессивная русская интеллигенция, философская
- 305 -
и политическая борьба 30—40-х годов, жизнь столиц и провинции, тюрьма и ссылка, образы передовых людей России, и среди них великий образ Белинского, революция 1848 года во Франции, гневные, сатирические характеристики западноевропейского буржуазно-мещанского строя, — весь этот разнообразный и громадный мир событий и идей с фигурой русского философа и революционного борца в центре легко и естественно уместился в свободной композиции «Былого и дум».
«Былое и думы» отразили одновременно и важнейшие события мировой истории, и процесс духовного развития автора. Этот процесс начался разрывом с помещичьей, барской средой и завершился тем, что Герцен «безбоязненно встал на сторону революционной демократии» и «поднял знамя революции».1
Через разрыв с помещичьей, барской средой к выражению «идей и... настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России»,2 шел своим особым путем и Лев Толстой. В своем творчестве он отразил самые существенные черты русской жизни пореформенной поры, с 1861 по 1904 год; он показал, «в чем состоял перевал русской истории за эти полвека».3 Великие произведения Толстого, в которых с гениальной художественной силой отразилась эпоха подготовки русской революции, «заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе».4 Лев Толстой в новых исторических условиях продолжил реалистические и обличительные традиции основоположников новой русской литературы Пушкина и Гоголя. Он придал русскому критическому реализму ту поистине сокрушающую силу, которая была необходима для художественного выражения бурного и беспощадно резкого протеста миллионных народных масс пореформенной России против остатков крепостничества, против капитализма, против всякого классового господства.
Говоря о том, как ломка устоев старой России отразилась в сознании Льва Толстого, В. И. Ленин указывает: «По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь».5
В 50-х годах Толстой еще не пришел к полному разрыву с привычными взглядами помещичьей знати, но он был уже на пути к этому.
Чистота и непосредственность нравственного чувства, которую сразу увидел в Толстом Чернышевский, привела его уже в автобиографической трилогии (1852—1857), далекой от какого бы то ни было обличительного замысла, к глубокой критике барской, помещичьей среды. В центре его внимания была, однако, вначале не сама социальная среда, а отдельная человеческая личность. Анализируя сознание людей «высшего» общества, Толстой обнаружил у них лицемерие, тщеславие, ложь, самолюбование, высокомерное пренебрежение к простому народу. Сила толстовского психологического
- 306 -
анализа проявилась особенно ярко, когда он от картин будничной жизни помещичьего круга перешел к событиям исторической важности и общегосударственного значения. В «Севастопольских рассказах» Толстой показал людей высшего круга, занятых на войне угождением своему тщеславию, погруженных в мелкие помыслы и честолюбивые заботы. Толстой не увидел у представителей помещичьей знати ни истинной воинской доблести, ни истинного патриотизма. Зато он увидел всё это у людей, близких к народу, и прежде всего у самого народа, у рядовых солдат.
«Велика моральная сила русского народа..., — писал Толстой в своем севастопольском дневнике. — Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней».1
Так под влиянием исторической эпопеи Севастополя простой народ был понят Толстым как единственный носитель истинной морали и подлинных гражданских чувств.
Наблюдения над жизнью буржуазного Запада привели Толстого в «Люцерне» (1857) к суровому осуждению буржуазной цивилизации, с ее циническим бездушием, с ее глубокой враждебностью нравственному и эстетическому чувству.
Толстой пришел к отрицанию буржуазной цивилизации и либеральных представлений об истории как постепенном шествии человечества по пути общечеловеческого прогресса. Повседневные проявления социальной несправедливости, составляющие основу буржуазной цивилизации, стали в глазах Толстого фактами исторического значения, к тому же гораздо более важными, чем официальная история царей и министров, парламентов и законодательных палат. В ненависти своей к буржуазной цивилизации, к либеральным теориям прогресса Толстой встал на путь отрицания исторического прогресса вообще, вне зависимости от конкретных социальных форм, и самую возможность прогрессивного развития стал усматривать только в нравственном прогрессе каждой человеческой личности. На место изменения общественного строя Толстой поставил изменение человеческого сознания в духе вечных и неизменных, врожденных человеку и божественных по своей сущности нравственных истин.
Так зародились у Толстого семена его догматического учения, которое составило слабую сторону его мысли и творчества, обнаружившуюся с полной ясностью много лет спустя, в иную историческую эпоху. Но и в ту пору, о которой идет речь, т. е. в конце 50-х и начале 60-х годов, антиисторический морализм Толстого, его апелляция к «Духу», к вечным и неизменным началам нравственности, единым для всех времен и народов, — всё это не могло не привести Толстого к коренным разногласиям с революционной демократией.
К тому же стихийно-демократическое тяготение Толстого к крестьянству, его стремление сблизиться с ним приняло такие формы, которые далеко отстояли от революционно-демократического взгляда на народ, его запросы, задачи и нужды. Педагогическая работа привела Толстого к убеждению, что ему самому и ему подобным нечему учить народ, задача состоит в том, чтобы учиться у народа. Одна из самых замечательных яснополянских статей Толстого называется: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?». Вопрос носит риторический характер, и ответ на него ясен для Толстого: конечно, учиться писать нужно «нам», а не крестьянским ребятам. Впрочем, дело было не
- 307 -
в писании и не в ребятах: речь шла о том, что, по мысли Толстого, интеллигенция, в том числе и революционная, не имеет права «учить» крестьян, ей самой следует учиться у них, перенимая истинный в своей простоте и наивной правде крестьянский взгляд на жизнь.
Л. Н. Толстой.
Фотография. 1862.Таким образом, в вопросе о народе взгляды Толстого не только не совпадали с идеями революционной демократии, но были во многом противоположны им. При всем том, уже в 50-е, а тем более в 60-е годы, еще до перехода на позиции патриархального крестьянства, идейные и нравственные искания Толстого определялись не только стремлением сгладить всё возрастающие противоречия между помещичьим классом и крестьянством, но и пониманием, что этого сделать нельзя, а также искренним желанием облегчить положение крестьянской массы. В этом заключалась глубокая народность творчества Толстого, в этом была его внутренняя близость к революционным демократам, при всем его несходстве с ними.
- 308 -
*
В отличие от Толстого, не замечавшего слабостей крестьянского сознания, идеологи революционной демократии и писатели-демократы прекрасно видели их и боролись с ними.
В 1861 году вышли в свет отдельным изданием «Рассказы» Н. В. Успенского, в которых яркими красками изображена была забитость и темнота крестьянства, порожденная долгими годами крепостной неволи. Картины народной жизни, нарисованные Н. Успенским, имели смысл не только обличения социальных условий русской жизни, но и упрека самому крестьянству, сохраняющему в своем сознании и поведении такие черты, от которых ему следует освободиться ради собственного благополучия. В рассказах Успенского слышался смех, но это был уже не гоголевский смех сквозь слезы. Речь шла о таких явлениях народного быта, которые могут быть народом преодолены. Было ясно, что очерки Успенского противостоят и славянофильскому «смирению» перед народом, и толстовскому призыву «учиться» у народа. Демократическая литература взяла на себя смелость учить народ революционному отношению к жизни и к собственной судьбе.
Так именно понял дело Н. Г. Чернышевский, который увидел в новом отношении литературы к народу «начало перемены» и в литературе, и в жизни. Бесстрашно указывать на недостатки можно лишь тому, кто способен с этими недостатками справиться. «Как бы ни началась ваша речь о таком человеке, незаметно для вас самих переходит она в укоризны ему. А вы, когда действительно желаете ему добра, нимало уже не конфузитесь этим: вы чувствуете, что в суровых ваших словах слышится любовь к нему и что они полезны для него, — гораздо полезнее всяких похвал», — писал Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?», посвященной Н. Успенскому (VII, 857). Характерно, что статья, горячо одобрявшая изображение «без всяких утаек и прикрас» «рутинных мыслей и поступков, чувств и обычаев простолюдинов», заканчивалась прямым предсказанием народной революции. «Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека, — писал Чернышевский, — как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа» (VII, 876, 877).
Чернышевский извлек революционный смысл, который объективно заключался не только в картинах народной жизни, нарисованных пером писателя-демократа, но и в том новом подходе к народу, в новой манере его изображения, которую усвоила демократическая литература 60-х годов.
Такой же революционный смысл имели и повести Ф. М. Решетникова, начиная с его знаменитых «Подлиповцев» и продолжая его романами «Глумовы», «Горнорабочие», «Где лучше?» и др.
«Народный реализм» Решетникова (выражение Н. В. Шелгунова) углублял ту перемену в отношении к народу, начало которой констатировал Чернышевский в связи с очерками Н. Успенского. Решетников показал такое глубокое обнищание народа, такое страшное одичание его самых забитых и угнетенных слоев, перед которым померкли все народные невзгоды и бедствия, ранее отраженные литературой. В сочинениях Решетникова открылся новый мир, неведомый прежней литературе. «В Решетникове нет ничего, что бы напоминало русскую литературу предшествовавшего периода, — писал Н. В. Шелгунов. — В сочинениях Решетникова всё иное, всё не так; не тот мир, не те люди, не тот язык, не та жизнь, не те радости, даже
- 309 -
не то горе и не те интересы. Точно путешествуешь в новой, незнакомой части света, в какой-нибудь Океании. Даже Петербург перестает быть северной Пальмирой и становится неизвестным, вновь открытым городом».1 И вместе с тем, верный духу революционно-демократической литературы, Решетников сумел показать, что стремление переменить судьбу и добиться счастья не глохнет и в таких условиях, которые, казалось бы, не оставляют места ни для каких надежд и стремлений. Даже в среде людей, почти утративших облик человеческий, находятся люди инициативы, чей пример побуждает народную массу искать, где лучше, и в этих поисках порывать с землей, уходить в бурлачество, на заработки в города, в шахты и на заводы.
Так в произведениях Решетникова демократическая литература подходила к рабочему вопросу, и в постановку его она не вносила тех настроений пессимизма и ужаса перед «язвой пролетариатства», которые свойственны были последующему поколению беллетристов-народников.
Просветители-демократы заинтересованы были прежде всего в пробуждении сознания народных масс. В их мировоззрении не было народнической догматики: демократы-шестидесятники понимали, что пролетаризация крестьянства выводит народ из крепостного застоя, будит народную мысль, наталкивает ее на такие вопросы, которые ранее и не вставали перед забитыми людьми.
«А пошто же не все богаты?» — спрашивает юный судовой рабочий в финале повести Решетникова «Подлиповцы», и сразу становится ясно, что этот простой вопрос, лежащий, однако, в основании самых сложных социальных исканий и самых бурных социальных движений, мог возникнуть у человека из народа только после того, как он вырвался из отупляющего мира нищеты, приобщился к грамоте и узнал «про людей» да «про города разные».
В таком же духе изображал в 60-х годах народную жизнь и Глеб Иванович Успенский. В «Нравах Растеряевой улицы» (1866) он показал знаменитых тульских кустарей-оружейников и прочий «обглоданный разный мастеровой люд», с великими муками приспосабливающийся к новым условиям буржуазного строя. Неустойчивость быта, неуверенность в завтрашнем дне, кабальная зависимость от скупщиков и торговцев — всё это порождает полную растерянность, нервозность, стремление забыться за трактирной стойкой, словом, «перекабыльство» и «полоумство» — столь характерные черты народных нравов и настроений той поры, когда в результате реформы перевернулись старые устои труда и быта. Характерно, что уже в следующем цикле Успенского «Разоренье» (1869—1871) рядом с «растеряевцами» становится носитель осмысленного социального протеста — рабочий Михаил Иванович, громко обличающий купеческую «прижимку». Получивший «просияние ума» от некоего «семинариста», Михаил Иванович, прогнанный с завода за «непокорство», с радостью наблюдает крушение пореформенных порядков и с надеждой ожидает открытия чугунки, чтобы отправиться в Петербург на розыски своего учителя, т. е. того самого семинариста, который открыл ему глаза на сущность социальных отношений. Рабочий ищет революционера и для этого нуждается во всестороннем оживлении жизни страны, в ликвидации пореформенной старины, — в самом этом сюжете Глеба Успенского заключалась целая идейная концепция, характерная для революционно-демократической литературы.
- 310 -
Наряду с Николаем Успенским, Решетниковым, Глебом Успенским, всестороннее изображение народного быта «без всяких утаек и прикрас» продолжали демократы-шестидесятники А. И. Левитов, М. А. Воронов, В. А. Слепцов, Н. А. Благовещенский. «Степные очерки» Левитова (1865), картины петербургской, московской и провинциальной жизни Воронова, собранные впоследствии, в 1870 году, в целую книгу под выразительным названием «Болото», «Владимирка и Клязьма» Слепцова и его же «Письма из Осташкова» (1862—1863), «Московские норы и трущобы» (1868) Левитова и Воронова, — все эти очерки и сцены давали широкую картину народной жизни и быта, народных бедствий, «горя сел, дорог и городов»,1 народной темноты и забитости, великих достоинств народа и тех его недостатков, которые были порождены веками крепостной неволи и мешали народу взять в собственные руки дело своего освобождения. Россия деревенская, крестьянская, чиновничество, низшее духовенство, семинаристы и поповичи, голодающая разночинная интеллигенция, ремесленники и мастеровые, обитатели трущоб, подвалов, ночлежных домов, петербургских и московских углов — вся голодная и забитая Россия, оседлая и бродячая, разоренная крепостническим хищничеством и разоряемая хищничеством буржуазным, пореформенным, отразилась, как в зеркале, в демократической очерковой литературе 60-х годов, проникнутой пафосом революционного просветительства. В творчестве писателей-демократов 60-х годов произошло обогащение и углубление русского реализма. В литературу хлынул целый поток новых фактов, новых наблюдений: осветились затененные стороны русской жизни; мелкие и мельчайшие черточки быта и нравов народных низов складывались в цельную картину, приобретали характер типических обобщений, отражая существенные черты пореформенной русской действительности.
Демократические очерки из народного быта по духу и смыслу, по своей идейной направленности серьезно отличались от этнографических работ С. В. Максимова, давшего в 60-х годах капитальные книги очерков «Год на Севере» (1859), «На востоке» (1864), «Тюрьма и ссыльные» (1862); противостояли они и безидейному жанризму Н. А. Лейкина, нарисовавшего в «Апраксинцах» (1867) картину нравов петербургского купечества и приказчиков знаменитого Апраксина рынка.
Нечего и говорить, что очерки писателей-демократов, знакомивших русского читателя со всеми слоями общества, в том числе и с бытом деклассированных элементов, были резко враждебны тем картинам трущобной жизни, которые рисовал в 60-х годах Всеволод Крестовский в своей нашумевшей книге «Петербургские трущобы». Изображая в манере бульварного романа разврат и пороки большого света, даже становясь в позу его обличителя, Крестовский мало интересовался простыми людьми, опустившимися под влиянием социальных условий на самое дно городской жизни. Они интересовали Крестовского не сами по себе, а как фон, на котором действовали герои из высшего общества. Извозчики, нищие, мастеровые, «пролетарии интеллигентного класса» — всё это население подвалов, за редкими исключениями, изображалось у Крестовского как сборище наглых, развратных, морально погибших людей, преступников или будущих «кандидатов на Владимирку», не достойных лучшей участи.
Особенно наглядно сказалось идейное превосходство демократических очеркистов 60-х годов в постановке рабочей темы. Не говоря уже о том, что они-то именно и утвердили прочно эту тему в литературе, самый подход
- 311 -
к рабочей теме у демократов-шестидесятников был единственно прогрессивным для своего времени. Это становится ясным при сопоставлении зарисовок рабочего быта во «Владимирке и Клязьме» Слепцова, или в рабочих очерках Благовещенского начала 70-х годов, или в повестях из рабочего быта Решетникова с известной книгой А. Голицынского «Очерки фабричной жизни», вышедшей в 1861 году и затем неоднократно переиздававшейся. В этой книге фабричные рабочие рассматривались как те же крестьяне, на свою беду оторвавшиеся от деревенского мира и погрузившиеся в тину пороков и городского разврата. Голицынский не видел в молодом русском пролетариате относительной сознательности и широты кругозора, которые ставили его выше темного и забитого крестьянства, а именно эту-то сторону, как говорилось ранее, и подчеркивали прежде всего демократические писатели, когда обращались к рабочей теме.
С. В. Максимов.
Фотография.Однако, как ни далеко отстояли от демократов-очеркистов все другие писатели, тематически соприкасавшиеся с ними, революционные демократы приветствовали всякого писателя, который делал народный быт предметом своего изучения, разумеется, если он брался за дело без явно фальсификаторских намерений. Так, Щедрин без осуждения (хотя, впрочем, и без похвал) встретил «Апраксинцев» Лейкина, а в отзыве о картинах народного быта С. Максимова подчеркнул близкое знакомство знаменитого этнографа-беллетриста «с народом и его материальною и духовною обстановкою». «В этом смысле, — писал Щедрин, — рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности...» (VIII, 464).
Недаром революционные демократы придавали такое первостепенное значение исследованию «русской народности». Жизнь народа, если только она изображена правдиво и без прикрас, сама свидетельствовала о неизбежности народного возрождения. Стихийный протест назревал даже в самых забитых, угнетенных и отсталых слоях народа, и в этих условиях задача демократической интеллигенции заключалась в том, чтобы помочь народу сознательной революционной инициативой. Уже в 1861 году этот вывод с полной ясностью сформулировал Добролюбов. Статью «Забитые люди» в сентябрьской книжке «Современника» он закончил такими программными словами: «Со времени появления Макара Алексеича <героя «Бедных людей» Достоевского> с братнею, жизнь уже сделала многое, только это многое еще не формулировано. Мы заметили, между прочим, общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и полноправности во всех и каждому. Может быть, здесь уже и открывается выход из
- 312 -
горького положения загнанных и забитых, конечно, не их собственными усилиями, но при помощи характеров, менее подвергшихся тяжести подобного положения, убивающего и гнетущего. И вот этим-то людям, имеющим в себе достаточную долю инициативы, полезно вникнуть в положение дела, полезно знать, что большая часть этих забитых, которых они считали, может быть, пропавшими и умершими нравственно, — все-таки крепко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самих, хранит в себе живую душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание своего человеческого права на жизнь и счастье» (II, 404—405).
Итоги изучения «русской народности» в революционно-демократической литературе вполне соответствовали этой программе, с такой глубиной и проницательностью сформулированной Добролюбовым в самом начале 60-х годов.
*
Социальной базой революционно-демократического направления в литературе было русское крестьянство кануна реформы и пореформенной поры, его реальные интересы, экономические и политические. Однако в русской литературе отразились не только реальные интересы крестьянства, но и его предрассудки, отразились его протест и его патриархальная беспомощность, его революционное негодование и его мягкотелость, его трезвый рассудок и его наивные мечтания. Выразителем этих кричащих противоречий в сознании и настроениях крестьянства стал, как известно, в пореформенную эпоху Л. Н. Толстой. Помимо противоречивой сложности крестьянского сознания, идейное содержание творчества Толстого осложнено было к тому же принадлежностью писателя к помещичьей, барской среде, окончательный разрыв с которой наступил у Толстого только к концу 70-х годов. Но даже и после разрыва устами Толстого говорил не только патриархальный крестьянин, но нередко и «помещик, юродствующий во Христе»; тем более это относится к 60-м годам, когда Толстой в «Войне и мире» развернул свое понимание волновавшего всех центрального вопроса эпохи, вопроса о народе, о его роли в исторической жизни.
В «Войне и мире» простой русский народ представлен был не только как носитель лучших моральных и гражданских качеств, но и как подлинный творец истории. Славная победа русского оружия была одержана потому, что народ поднял «дубину народной войны», повинуясь чувству «простоты, добра и правды». На бескрайних просторах России Наполеона встретил и изгнал из родной земли «сильнейший духом противник», т. е. простой русский народ, прежде всего русское трудовое крестьянство. В этой концепции «Войны и мира» заключен был глубокий и сильный патриотизм, превращавший роман Толстого в национально-героическую эпопею. В то же самое время в великом романе обнаружились такие тенденции, которые уже в 60-х годах составляли слабую сторону социально-философских взглядов великого писателя. Подчеркивая решающую роль народных масс в истории, Толстой в то же время объявил волю провидения конечным двигателем исторического процесса, а народ — бессознательным исполнителем высших, божественных целей. Отсюда проникающий роман фатализм, воплощенный в программном образе Платона Каратаева и исказивший исторические черты в образе Кутузова, отсюда отрицание роли личности в истории, недоверие к разуму и превознесение бессознательной, стихийной, «роевой» жизни. Толстой — и в этом сказались его помещичьи предрассудки, с которыми он не порвал еще в 60-е годы, — провозгласил в романе единство интересов крестьян и поместного дворянства; он создал
- 313 -
образ Николая Ростова, умеющего сочетать свою личную выгоду помещика с благом своих крестьян; он открыл перед Пьером Безуховым возможность сознательного нравственного сближения с крестьянином Каратаевым, а перед другими персонажами романа из дворянской среды — возможность бессознательного приближения к народной правде.
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Фотография. 1860-е годы.Вопрос об исторических судьбах России, о соотношении народа и государства, о роли народа в истории лег в основу и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина, после того как он возобновил свою деятельность, прерванную вятской ссылкой.
Уже в «Губернских очерках» (1856—1857) народ, угнетенный и забитый, представлен был как единственно живая сила, изнывающая под гнетом всяческих «живоглотов», «озорников» и прочих хищников, простодушно наглых и беззастенчиво жестоких. От хищной компании «живоглотов» отделяются и в то же время к ней примыкают так называемые «талантливые натуры», как именовал Щедрин либеральных дворян из круга «лишних людей». Носители отвлеченного и бездеятельного протеста, эти люди, как показывает Щедрин, не только не разрушают, а фактически укрепляют прогнившее здание крепостнической реакции.
- 314 -
Основные идеи «Губернских очерков» развивались на протяжении дальнейшего творчества Щедрина. Уточнялось представление о роли народа, а изображение враждебных ему сил принимало всё более резкие и суровые сатирические формы. В течение 60-х годов в статьях и сатирах Салтыкова-Щедрина созревали и подготовлялись гигантские обобщения «Истории одного города» (1869—1870).
Самодержавно-крепостнические силы, угнетающие и разоряющие народ под монотонные возгласы «разорю» и «не потерплю», показаны были Щедриным как нечто нереальное, фантастическое, призрачное, существующее лишь в силу исторической инерции, перед лицом неотвратимого возмездия, которое должно поразить чудовищный мир Угрюм-Бурчеевых и прочих фанатиков реакционного упорства и «неизреченной бесстыжести».
Что касается народа и его роли в истории, то здесь Салтыков-Щедрин, в отличие от Л. Толстого, проводил резкую грань между тем, что составляло силу народа, и его исторически обусловленными слабостями. Пассивное и бессознательное отношение к своей судьбе, покорность воле божией и властям предержащим, словом, всяческая каратаевщина, — всё это, по Щедрину, укрепляет фантастически уродливую власть Угрюм-Бурчеевых и Бородавкиных. Эти черты народного сознания, по мысли Щедрина, достойны сатирического обличения наравне с прочими враждебными народу силами. Истинным творцом истории была для Щедрина не пассивная и покорная масса, а «народ, как воплотитель идеи демократизма». Именно он представляет собой подлинную силу всякого прогрессивного развития, именно «в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности» (IX, 442).
Беспощадная борьба против реакции и либерализма, сатирическая ярость в обличении мира призраков, вера в потаенные силы народа, — эти коренные особенности мировоззрения Салтыкова-Щедрина обеспечили ему руководящую роль в революционно-демократическом литературном движении после заточения Чернышевского. Эту роль сохранил Щедрин и в трудных условиях 80-х годов, когда идеологию старой демократии пришлось отстаивать от нового натиска реакционных сил.
Так в русской литературе сохранялась и развивалась революционно-демократическая традиция, имевшая громадное национальное значение, «ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую».1
Как показывает литературно-политическая борьба 60-х годов, мера исторической прогрессивности каждого писателя, действовавшего в то время, определялась прежде всего степенью его сознательного или стихийного приближения к демократической идеологии, отражавшей интересы и надежды огромного большинства русского народа, его трудящейся массы. В пристальном изучении, в правдивом и всестороннем изображении жизни народной массы в переломный момент русской истории заключалась одна из главных заслуг прозаической литературы 60-х годов. В литературе этого периода создавался коллективный образ русского трудового народа, угнетенного, но не сломленного, полного огромных сил и возможностей. В соотношении с образом народа создавался образ передового деятеля из среды демократической интеллигенции, образ борца и просветителя, демократа и революционера, положительного героя, характерного для второго периода русского освободительного движения. Борьба, возникшая в литературе
- 315 -
в связи с трактовкой этого образа, составила один из важнейших этапов в развитии русской прозы.
Рост недовольства в крестьянской массе, в молодом, формирующемся рабочем классе, в среде демократической интеллигенции, наступление нового этапа в освободительном движении, расширение круга революционных деятелей, укрепление их связи с народом, — все эти процессы определили главные черты в развитии русской литературы 60-х годов, прежде всего литературы прозаической. В разных формах и видах, иногда прямо, иногда косвенно отразила русская литература и стихийный народный протест против крепостничества и его пережитков, и широкие идейные запросы передовой интеллигенции. Литература отразила самое существо тех важнейших процессов, которые составили историческое содержание русской жизни в 60-е годы, и этим самым подняла русский реализм на новую, высшую ступень.
СноскиСноски к стр. 277
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 17. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XVI, 1939—1953).
2 М. Горький. История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, стр. 219.
Сноски к стр. 278
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95.
2 А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. XVI, 1920, стр. 131.
3 Там же, т. VIII, 1919, стр. 167.
Сноски к стр. 279
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, 1935, стр. 208. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—VI, 1934—1941).
Сноски к стр. 283
1 Н. Г. Помяловский, Сочинения, 1951, стр. 123—124.
2 М. Горький. О литературе. Изд. 3-е, 1937, стр. 274.
Сноски к стр. 284
1 М. Горький. О литературе. Изд. 3-е, 1937, стр. 52.
2 Н. Г. Помяловский, Сочинения, 1951, стр. 207.
Сноски к стр. 285
1 И. С. Тургенев, Сочинения, т. VI, 1929, стр. 300.
2 Н. Г. Помяловский, Сочинения, 1951, стр. 307.
Сноски к стр. 287
1 «Радуга». Альманах Пушкинского Дома, 1922, стр. 218, 219.
2 Там же, стр. 221—222, 223.
Сноски к стр. 288
1 Н. Ф. Бажин, Повести и рассказы, СПб., 1874, стр. 297. В дальнейшем цитируется это издание.
Сноски к стр. 290
1 И. В. Омулевский. Шаг за шагом. Иркутск, 1950, стр. 95. В дальнейшем цитируется это издание.
Сноски к стр. 291
1 Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, тт. I—XX, Гослитиздат, 1933—1941.
Сноски к стр. 292
1 А. К. Шеллер (А. Михайлов), Полное собрание сочинений, т. I, СПб., стр. 88. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XV, 1894—1895).
Сноски к стр. 295
1 Д. Л. Мордовцев. Знамения времени. «Всемирный труд», 1869, № 7, стр. 338.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 289.
Сноски к стр. 296
1 В. Кочки-Сохрана <В. И. Аскоченский>. Асмодей нашего времени. СПб., 1858, стр. 105, 107.
2 А. Ф. Писемский. Взбаламученное море, т. III, М., 1863, стр. 283—284.
Сноски к стр. 297
1 А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. XVI, 1920, стр. 556.
2 А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1900, стр. 255.
Сноски к стр. 298
1 М. Стебницкий <Н. С. Лесков>. Некуда, т. I, СПб., 1867, стр. 185.
2 Там же, стр. 165.
3 Там же, т. II, стр. 269.
4 Там же, т. III, стр. 226.
Сноски к стр. 299
1 М. Стебницкий <Н. С. Лесков>. Некуда, т. I, 1867, стр. 165—166.
Сноски к стр. 300
1 В. Клюшников. Марево, ч. II, М., 1865, стр. 353.
Сноски к стр. 302
1 Ф. Достоевский. Идиот, т. II, СПб., 1874, стр. 244.
2 Там же, стр. 280.
Сноски к стр. 304
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14—15.
2 Там же, стр. 12.
3 Там же.
Сноски к стр. 305
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 29.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293.
5 Там же, стр. 301.
Сноски к стр. 306
1 Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 47, Гослитиздат, М., 1937, стр. 27.
Сноски к стр. 309
1 «Дело», 1871, № 5, отд. «Современное обозрение», стр. 1.
Сноски к стр. 310
1 «Горе сел, дорог и городов» — название очерков Левитова 70-х годов.
Сноски к стр. 314
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 8.