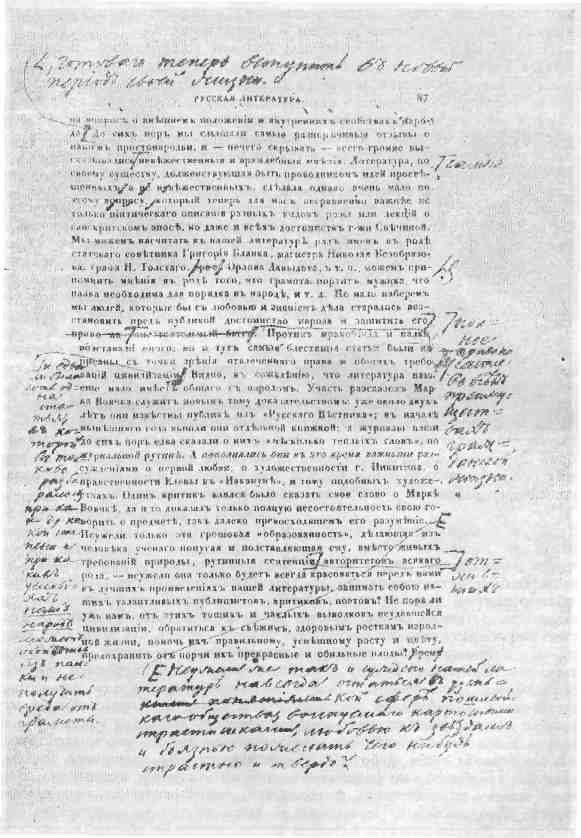- 175 -
Добролюбов
Литературное наследие Н. А. Добролюбова входит в золотой фонд русской национальной критики и публицистики. Его статьи, посвященные крупнейшим явлениям русской литературы середины XIX века, остаются непревзойденными образцами критического мастерства, эстетического анализа, умения связывать литературу с жизнью и подчинять ее политическим задачам современности. Выдающийся ученик и последователь Белинского, Добролюбов явился продолжателем его дела. Вместе с Н. Г. Чернышевским он в новых условиях возглавил передовое общественное движение в России, он выступил как руководитель и организатор новой демократической литературы, складывавшейся в эпоху подъема крестьянского движения накануне 60-х годов XIX века.
В кипучей деятельности Добролюбова и Чернышевского нашел прямое выражение стихийный протест широких масс угнетенного крестьянства, с его ненавистью к крепостничеству и неугасимым стремлением к новым формам жизни. Борьба против крепостничества и самодержавия — вот основа основ жизни и труда двух великих русских революционеров и патриотов. И именно поэтому они оставили такой глубокий след во всех областях культуры и науки: в области философии и эстетики, литературы и языка, истории и общественной мысли, естествознания и педагогики. Всюду вносили они дух борьбы, революционной непримиримости, новаторской смелости. Недаром К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что русские мыслители-демократы стоят много выше современной им западноевропейской официальной исторической науки. Недаром с таким уважением, с такой любовью говорил о них великий Ленин. Владимир Ильич называл Добролюбова писателем, страстно ненавидевшим произвол и страстно ждавшим народного восстания против угнетателей, против самодержавного правительства. Наряду с Белинским и Чернышевским, Добролюбов был одним из предшественников революционной социал-демократии в России. Он явился «властителем дум», духовным пождем многих поколений передовых русских людей, одним из руководителей отечественной литературы, одним из создателей теории реализма. Его наследие, огромное по своему идейному и общественному содержанию, сохраняет свое непреходящее живое значение для строительства новой культуры, для разработки теоретических вопросов социалистического реализма, основного творческого метода советского искусства.
1
Николай Александрович Добролюбов родился 5 февраля (24 января) 1836 года в Нижнем Новгороде (ныне — г. Горький). Его отец, священник Александр Иванович Добролюбов, человек достаточно образованный для
- 176 -
своего времени, пользовался уважением в городе. В его доме было довольно много книг, которые уже в раннем детстве прочитал старший сын Александра Ивановича. Занятый делами, отец почти не касался воспитания детей, и эта обязанность целиком лежала на матери, Зинаиде Васильевне. Именно она внушила своему сыну первые понятия о добре, честности, любви к людям, она обучила его грамоте, познакомила с русской поэзией.
В 11-летнем возрасте мальчика отдали в духовное училище; хорошо подготовленный семинаристом М. А. Костровым, он поступил сразу в четвертый класс училища и окончил его, проучившись всего год. Вслед за тем он поступил в семинарию, где пробыл почти пять лет (1848—1853). По окончании семинарии Добролюбову предстояло либо продолжать образование в столичной духовной академии, либо сразу же стать попом-законоучителем где-нибудь в нижегородском захолустье.
Однако этого не случилось. Правда, косная среда цепко держала его в своих объятиях, и он был подвержен всем предрассудкам этой среды. Его наставники и родные, вместо разумного ответа на запросы ищущего ума, преподносили ему готовые прописи в духе лживой христианской морали. В семье тщательно поддерживались традиции религиозного благочестия; в семинарии господствовала иссушающая разум схоластика. И всё же Добролюбов вырвался из этих пут, чему способствовали не только особенности его характера, его исключительная одаренность, но и обстоятельства русской жизни, вступавшей в новую историческую полосу своего развития.
Уже с юных лет Добролюбов удивлял окружающих своим ранним развитием, любознательностью, любовью к чтению. В 13—14 лет он прекрасно знал лучших русских писателей, прочел все книги, какие смог достать дома и у знакомых, и делал уже первые пробы пера в стихах, прозе и даже в драме. Он жадно впитывал в себя всё, чем славна и богата была русская литература. Громадное впечатление произвели на него статьи Белинского в «Современнике» и «Отечественных записках», сочинения Герцена. Горячая проповедь Белинского открывала новый мир перед юношей, развитие которого намного опережало его возраст. Много лет спустя, уже став известным журналистом, Добролюбов вспоминал о влиянии Белинского в таких проникновенных словах: «Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятельности и искренно надеялись встретить когда-нибудь таких людей и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности..., для нас до сих пор дороги те дни святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, бескорыстные увлечения и мечты, которым, может быть, никогда не суждено осуществиться, но с которыми расстаться до сих пор трудно и больно...».1
Удивительно восприимчивый ко всему окружающему, Добролюбов очень рано начал осознавать несовершенство того жизненного уклада, который большинству казался тогда незыблемым. Картины народного горя, нищеты, невежества, грубость нравов в среде, к которой он принадлежал, несправедливость разделения на богатых и бедных, на сытых и голодных, — эти первые жизненные впечатления оставляли глубокие следы в сознании Добролюбова даже в те годы, когда он еще не умел отнестись критически к своим наблюдениям. Они западали в его душу, постепенно разрушая внушенное церковью представление о постоянстве и неприкосновенности однажды установленных законов. «Всё, что я видел, — вспоминал позднее Добролюбов, — всё, что слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства». Уже
- 177 -
тогда он задумывался над вопросом: «да отчего же всё так страдает, и неужели нет средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело?» (II, 232).
Этот мучительный вопрос всё чаще и чаще волновал нижегородского семинариста. В его юношеских стихах, наивных и очень далеких от совершенства, запечатлелись и тревоги, и первые сомнения в истинах религиозного мировоззрения, и раздумья о себе, о своем будущем. Молодой поэт высказывает уверенность в своих силах, надеется посвятить их какому-то большому делу. Полный неясных предчувствий, он восклицает:
Нет, я буду полезен и нужен отчизне.
Нет, не сгиб я, и люди прославят меня!..
Еще я на заре моей жизни,
Еще много надежд у меня!..Весной 1853 года Добролюбов навсегда расстался с опостылевшей ему семинарией (за год до ее окончания). Он сумел вырваться из этого царства схоластики, тупости и невежества, где задавал тон инспектор — отец Паисий, бездарный и ничтожный человек с «допотопными понятиями» о науке и литературе. В общении с такими духовными наставниками, конечно, и зародились первые сомнения юноши относительно религии; эти сомнения подогревались и дома, где ему приходилось сталкиваться с оборотной стороной церковных обрядов, наблюдать непривлекательные особенности поповского быта. Его скептическое отношение к обрядности, сложившееся в ранней юности, в дальнейшем превратилось в последовательное отрицание религии. Здесь же лежат истоки и той отчужденности от домашней среды, которую Добролюбов начал испытывать в семинарские годы. Он был развит настолько, что начал чувствовать себя чужим в родном доме, среди любящих его людей. «Жить их жизнью он перестал еще до отъезда в Петербург», — свидетельствует Чернышевский.1 О том, как тяготила Добролюбова тяжелая обстановка косного семинарского и домашнего быта, свидетельствуют его записи в дневнике. «И опять осужден я, — пишет он 3 сентября 1852 года, — вращаться в этом грязном омуте, между этими немытыми, нечищенными физиогномиями, в этой душной атмосфере педантских выходок, грубых ухваток и пошлых острот... И ничего в вознаграждение в эту бедственную жизнь, ни одного светлого проблеска ума и чувства в этой тьме невежества и грубости...» (VI, 375).
Вполне естественно, что, стремясь освободиться от семинарии, Добролюбов в то же время мечтал вырваться и из Нижнего. Его манила столица, университетское образование, возможность общения с литераторами и журналистами. Отец хлопотал об устройстве сына в петербургскую духовную академию, а он уже через день после того, как соответствующие документы, в том числе ходатайство архиерея, были отосланы в столицу, записывал и дневнике: «Мысль поступить в университет не оставляет меня» (VI, 388). Позднее, уже став студентом, он признался в одном из писем к отцу: «... я поехал в Духовную академию только от крайности. Давнишняя мысль моя и желание было поступить в университет; но когда сказали мне, что это невозможно, я старался найти хоть какое-нибудь средство освободиться от влияния <отца Паисия и Еремы>,2 и это средство я нашел в Петербургской академии.3 Но и при этом у меня всегда оставалась мысль не только
- 178 -
поступить на статскую службу, но даже учиться в светском заведении. Мысль эта глубоко вкоренилась во мне и ничуть не была пустою мечтой... Я уже... давно понял, что я совсем не склонен и не способен к жизни духовной и даже к науке духовной».1
По приезде в Петербург Добролюбов сделал всё, чтобы избежать духовной академии. Обстоятельства сложились так, что он сдал экзамены не в университет, а в Главный педагогический институт и вскоре был зачислен в число его студентов. Четыре года, проведенные в стенах института, были временем бурного развития Добролюбова, формирования его передового мировоззрения и революционных убеждений. Под влиянием идей Герцена и Белинского, в частности, его знаменитого письма к Гоголю, он изжил остатки религиозных представлений. Знакомство с Чернышевским (1856) и сближение с «Современником» сыграли решающую роль в идейном самоопределении Добролюбова. Самый ход исторических событий — Крымская война, обнажившая гнилость всех устоев самодержавия, обострение классовой борьбы в стране, рост крестьянских восстаний, подъем общественной жизни — способствовал необычайно быстрому развитию Добролюбова как политического и литературного деятеля, мыслителя и патриота. Революционная ситуация, складывавшаяся в России накануне 60-х годов, помогла ему утвердиться на позициях крестьянского демократа, выразителя интересов широких масс, борца за их освобождение.
В институте вокруг Добролюбова организовался кружок передовых студентов, в котором велись смелые политические разговоры, читались запрещенные стихи и книги, в частности, заграничные издания Герцена. Добролюбов вел активную революционную пропаганду среди студенчества. Наиболее яркой формой этой пропаганды явилась выпускавшаяся им нелегальная рукописная газета «Слухи», которая отличалась исключительной политической остротой, смелыми выпадами против правительства, против самодержавия вообще. В конце 1854 года Добролюбов написал сатирические стихи «На 50-летний юбилей Н. И. Греча», которые быстро разошлись в списках и явились по существу первым общественным выступлением молодого автора. Он заклеймил в этих стихах не только реакционного литератора, но и поддержанную правительством попытку превратить его юбилей в пышное литературное торжество. Продолжая традиции вольнолюбивых стихов Пушкина и декабристов, он впервые назвал в своем стихотворении царя Николая I тираном, а Греча — его «преданным рабом».
Вслед за первой политической сатирой одно за другим появились революционные стихотворения Добролюбова: «Дума при гробе Оленина», «К Розенталю», «Ода на смерть Николая I», «Газетная Россия» и др. Тогда же, в 1855 году, он написал гневное послание к Гречу по поводу его верноподданнического отклика на смерть Николая I. Это послание, своим революционным пафосом напоминавшее письмо Белинского к Гоголю, содержало резкое и смелое обличение крепостнического государства и самодержавного строя.2
Вся деятельность Добролюбова уже на втором курсе института носила ярко выраженный революционно-политический характер. Она была одушевлена глубокой верой в будущее, в силы русского народа. Об этом говорят и прямые свидетельства самого Добролюбова, и воспоминания его товарищей по подпольному студенческому кружку, в котором, несомненно, обсуждались
- 179 -
животрепещущие общественные вопросы. В дневнике Добролюбова привлекает внимание такая запись: «Мы затрогиваем великие вопросы, и наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно и горячо... Да, теперь эта великая цель занимает меня необыкновенно сильно...» (VI, 396—397).
Вопрос о бескорыстном труде во имя будущего родины был для Добролюбова «великим вопросом». О каком труде здесь идет речь? Та же страница из дневника убеждает в том, что будущий критик имел в виду революционный труд, т. е. необходимость готовить революционное свержение существующего режима. Добролюбов прямо говорит здесь о себе: «... что касается до меня, я как будто нарочно призван судьбою к великому делу переворота!..» (VI, 397).
В своих политических стихах этого времени Добролюбов писал о бедствиях крестьянства, изнывающего в неволе, звал его к борьбе за свободу, мечтал о свободном и прекрасном будущем своей страны:
Тогда республикою стройной,
В величьи благородных чувств,
Могучий, славный и спокойный,
В красе познаний и искусств,Глазам Европы изумленной
Предстанет русский исполин.
И на Руси освобожденной
Явится русский гражданин.(„Дума при гробе Оленина“)
В этих стихах Добролюбова, обращенных к России, как бы воскресло патриотическое воодушевление Белинского, десятилетием раньше столь же пламенно мечтавшго видеть свою родину свободной, счастливой и могучей, идущей впереди прогрессивного человечества.
Добролюбов имел, благодаря своим передовым убеждениям, огромное влияние на студенческую молодежь всех курсов. «Каждый из нас в это время, — вспоминал один из друзей будущего критика, — уже смотрел на него, как на даровитейшего из всех нас, откровенно признавался в его превосходстве, обращался к нему за советом по всякому делу... Наш кружок просто-напросто гордился им». Укреплению авторитета Добролюбова немило способствовала его неутомимая борьба с администрацией института, во главе которого стоял известный мракобес И. И. Давыдов, реакционер и науке, злобный гонитель передового студенчества, пользовавшийся поддержкой в правительственных кругах. Ханжа и лицемер, Давыдов ввел и институте суровый казарменный режим, полуголодный рацион и строгое исполнение церковных обрядов. Всё это угнетало студентов, мешало им учиться, многих доводило до чахотки. И борьба, которую вел Добролюбов с директором от лица передового студенчества, была в основе своей политической борьбой против административного произвола и реакционной системы образования, опиравшейся на деятелей типа академика Давыдова.
В институтские годы окончательно сложилось мировоззрение Добролюбова. Он становился убежденным революционером, последовательным демократом. Он готовился к большой общественной деятельности. Его академические занятия шли блестяще, несмотря на тяжелую институтскую жизнь. Удивляя своих профессоров, Добролюбов представлял им работы, имевшие серьезное научное значение. В 1854 году были написаны статьи: «Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева», «О поэтических
- 180 -
особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах»; в 1855 году — статья «О русском историческом романе»; в 1856 — статья «Собеседник любителей российского слова», опубликованная в журнале «Современник» и принесшая первую известность молодому критику.
Эта статья положила начало знакомству и дружбе Добролюбова с Чернышевским. С весны 1856 года он, оставаясь студентом последнего курса, фактически становится профессиональным литератором, постоянным сотрудником «Современника». До окончания института в июне 1856 года Добролюбов выступал на его страницах; кроме статьи о «Собеседнике», печатавшейся в двух номерах, в «Современнике» (1856—1857) были помещены: рецензия Добролюбова на «Описание Главного педагогического института...», статья «Ответ на замечания г. Галахова», заметка о новых педагогических журналах, статья «О значении авторитета в воспитании». В последний год студенческой жизни, помимо участия в «Современнике», он написал также большую работу о Пушкине (для иллюстрированного альманаха), книжку о Кольцове, сотрудничал в «Известиях Академии Наук», начал печататься в «Журнале для воспитания».
Начиная с седьмой книжки «Современника» за 1857 год, где появилась его рецензия на сочинения В. А. Соллогуба, Добролюбов выступал в каждом номере почти всегда с несколькими статьями и рецензиями. С осени 1857 года он начал постоянно работать в некрасовском журнале, получив в свое ведение весь отдел литературной критики и библиографии. Вскоре «Современник» стал для него подлинной трибуной, пользуясь которой он мог осуществлять единственную цель своей жизни — служить своему народу, звать людей к борьбе, внедрять в их сознание мысли о свободе, о грядущей революции.
Вместе с ростом крестьянского движения, по мере назревания революционной ситуации в стране, голос Добролюбова звучал всё громче и громче. Он ощущал себя участником большого общественного движения, он шел рука об руку со своим учителем Чернышевским, он опирался на молодое поколение и смело говорил от его имени. За короткий срок работы в «Современнике» этот гениальный человек оставил огромное литературное наследие. Он выступал как публицист, критик, поэт-сатирик, философ, экономист, историк. Он работал вдохновенно и неутомимо. По словам Чернышевского, «иногда обещался он отдохнуть, но никогда не в силах был удержаться от страстного труда. Да и мог ли он беречь себя? Он чувствовал, что его труды могущественно ускоряют ход нашего развития, и он торопил, торопил время...».1
Необычайной зрелостью мысли и таланта отмечено всё, что вышло из-под пера Добролюбова в годы работы в «Современнике». О чем бы он ни писал, его статьи были согреты страстью революционного порыва. Могучий призыв к деятельности, к борьбе звучал в его словах, обращенных «к целому обществу»: «Не надо нам слова гнилого и праздного, погружающего в самодовольную дремоту и наполняющего сердце приятными мечтами, а нужно слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной...» (IV, 92).
С таким словом, «свежим и гордым», заставляющим сердце «кипет отвагою гражданина», обращался к своим читателям сам Добролюбов, наследник и продолжатель традиций Белинского в русской литературе. Одна за другой появлялись на страницах «Современника» такие важнейшие
- 181 -
статьи, как «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» (1858), «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» (1858), «Литературные мелочи прошлого года» (1859), «Роберт Овэн и его попытки общественных реформ» (1859), «Темное царство» (1859), «Когда же придет настоящий день?» (1860), «Черты для характеристики русского простонародья» (1860), «Луч света в темном царстве» (1860) и др. Это были подлинные манифесты передовой литературно-общественной и философской мысли. Каждое боевое выступление критика знаменовало собой новую ступень в развитии политической и эстетической теории революционной демократии. Каждая его статья имела огромный общественный резонанс, оказывала прямое и непосредственное влияние на умы современников, а с другой стороны — вызывала возмущение и злобные отклики во вражеском лагере.
Добролюбов сознавал революционное значение своей литературно-публицистической деятельности. Одному из друзей критик писал о «Современнике»: «Он для меня всё более становится настоящим делом, связанным со мною кровно. Ты понимаешь, конечно, почему...».1 Слова «настоящее дело» особенно важны: в устах Добролюбова они были равнозначны понятию «святое», т. е. революционное дело. Отсюда видно, что свою литературную работу в журнале Добролюбов расценивал как форму революционной пропаганды. Разъясняя ее политический смысл, он писал: «... мы должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху, — до того, чтобы противно стало читателю всё это богатство грязи, чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил с азартом и вымолвил: „да что же, дескать, это наконец за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше“. Вот чего надобно добиться и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи „Современника“, и „Свисток“...».2 Эти слова из письма к С. Т. Славутинскому (март 1860 года), несмотря на их отчасти эзоповский характер, достаточно красноречиво говорят о том, какое значение придавал Добролюбов «Современнику». Но его деятельная натура жаждала прямого дела, практического приложения своих сил, он не мог ограничиться литературной пропагандой с журнальной трибуны и стремился к живому участию в непосредственной подпольно-революционной работе.
Сохранилось слишком мало прямых и точных данных об этой стороне деятельности Добролюбова, но многочисленные намеки в его письмах и дневнике, в воспоминаниях современников, целый ряд косвенных данных позволяют определенно говорить о том, что Добролюбов был активным деятелем начавшей складываться в конце 50-х годов революционной организации, он собирал силы, искал надежных единомышленников для участия в ней. В свете общих устремлений Добролюбова, в связи с его последовательно революционной позицией в политических вопросах, весьма важен тот факт, что он счел нужным зашифровать в дневнике имена людей, среди которых нашел «настоящее сочувствие»; многозначительны слова Добролюбова: «Во всяком случае мало нас... Но я убежден, что нас скоро
- 182 -
прибудет...» (VI, 488). Характерно и замечание о том, что «молодые люди понимают тенденции „Современника“ и им сочувствуют» (VI, 488).
В письмах Добролюбова к друзьям, относящихся к 1859—1861 годам, звучит постоянный мотив — призыв к деятельности, к «святому делу», к готовности пожертвовать собой (совершить «Курциев подвиг»). В письме к И. И. Бордюгову от 11 июня 1859 года он писал: «Ты сам должен непременно приехать. Нам нужно говорить о предметах очень важных. Теперь нас зовет деятельность... Приезжай, ради бога. Ты очень нужен. Твой на всё Н. Добролюбов».1 Характерен тот условный, но понятный друзьям язык намеков и умолчаний, с которым мы встречаемся в добролюбовских письмах этих лет. Призывая Бордюгова «окунуться в тот кипящий водоворот, который мы называем жизнью мысли и убеждения, сочувствием к общественным интересам», Добролюбов прибавлял: «Можно бы назвать и короче, но ты и без того понимаешь, о чем я говорю».2
Всё это подтверждает важность наблюдений, сделанных новейшими исследователями по поводу близости Добролюбова к прогрессивным военно-офицерским кругам Петербурга конца 50-х годов, а также по вопросу о возможной связи кружка «Современника» с Герценом и революционной эмиграцией, установленной к началу 60-х годов.3 Нельзя забывать и о таком факте, как общение Добролюбова с поэтом-революционером М. Л. Михайловым. Примечательно, что после ареста Михайлова царским правительством Н. В. Шелгунов, живший с ним в одной квартире, немедленно отправился к Добролюбову, уже тяжело больному, чтобы предупредить его о случившемся. Это подтверждает предположение о том, что Добролюбов, причастный к подпольным делам, был на подозрении у властей; только ранняя смерть избавила его от участи, постигшей сначала Михайлова, а потом и Чернышевского.
Таким образом, литературно-критическая и публицистическая деятельность Добролюбова, пропагандиста революционных идей, собирателя сил передовой русской литературы, воспитателя демократических писателей, подкреплялась его прямой подпольно-революционной деятельностью, освещенной идеей свержения ненавистного самодержавно-крепостнического режима.
К весне 1860 года резко ухудшилось здоровье Добролюбова. Врачи настаивали на поездке за границу. Чернышевский и Некрасов, руководясь, видимо, не только заботами о здоровье, но и стремлением уберечь своего соратника от возможных преследований, «почти насильно» заставили его отправиться в путешествие. За границей Добролюбов был свидетелем серьезных политических событий. Он побывал в Праге, где в мае 1860 года происходили антиавстрийские студенческие волнения. Более полугода провел он в Италии, где развертывалось национально-освободительное движение, вызвавшее самый живой интерес русского публициста. Продолжая неустанно работать для «Современника», Добролюбов посылал в Петербург одну за другой свои статьи («Непостижимая странность», «Из Турина», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура», «Отец Александр Гавацци и его проповеди»), в которых давал глубокое истолкование итальянским событиям и в то же время поднимал вопросы, важные для революционной пропаганды в России. Разоблачая западноевропейских либералов,
- 183 -
«Черты для характеристики русского простонародья». Корректурный лист с правкой
рукой Н. Г. Чернышевского. 1860.
- 184 -
пытавшихся задушить итальянскую революцию, он тем самым наносил сильнейшие удары лагерю российского помещичье-буржуазного либерализма, верного пособника реакции и крепостничества.
Поездка за границу не облегчила болезни Добролюбова. Вернувшись в августе 1861 года в Петербург, он продолжал работать в журнале, написал большую статью «Забитые люди» (о Достоевском); но это были последние усилия. Постоянные лишения в стенах института, непосильный труд последних пяти лет, жестокие нравственные страдания, борьба с цензурой — всё это ослабило его организм. Течение болезни (туберкулез) обострялось причинами общественного характера: в стране поднимала голову реакция. Цензура свирепствовала, в журналах запрещались статьи, разгонялись студенческие демонстрации, начались обыски, аресты революционеров. Уже прикованный к постели, Добролюбов напряженно следил за политическими событиями. Он расспрашивал Некрасова, приехавшего из Ярославской губернии, о настроениях в деревне и с грустью узнал, что там, по мнению поэта, «ничего не будет». Особенное впечатление на умирающего произвел арест М. Л. Михайлова. Суд над ним вызвал большое общественное возмущение. Н. В. Шелгунов, посетивший Добролюбова за три дня до его смерти, рассказывает об этом: «Я торопливо передавал Добролюбову некоторые подробности этих дел, и он, приподнявшись на диване, на котором лежал, смотрел на меня..., его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы и свои лучшие силы».1
29/17 ноября 1861 года Добролюбов умер, не дожив до 26 лет. Его похороны превратились в настоящую общественную демонстрацию. «Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ» (Чернышевский).2 Образ Добролюбова, его пламенная пропаганда вдохновляли многие поколения русских революционных борцов. Его труды во многом способствовали дальнейшему развитию русской демократической литературы.
2
Добролюбов, по свидетельству Чернышевского, «... прямо со студенческой скамьи встал окончательно установившимся и сформировавшимся, вполне развитым и цельным человеком, с стройным гармоническим мировоззрением, с твердо сложившимися убеждениями теоретическими и практическими и сразу стал на настоящую прямую дорогу. Он вышел из своего мрачного и монастырского института совершенным человеком, как Минерва из головы Юпитера».3 В этой характеристике нет ни малейшего преувеличения: только такой человек и мог в двадцатилетнем возрасте, едва сделав первые шаги на избранном поприще, стать, наряду с Чернышевским, признанным вождем революционно-демократического движения России. Но мы допустили бы большую ошибку, сделав отсюда вывод, что мировоззрение Добролюбова за годы работы в «Современнике» не претерпело никакого развития. Наоборот, оно развивалось в высшей степени интенсивно. В решении многих политических, философских, социологических, эстетических вопросов Добролюбов и Чернышевский были не только новаторами, но и пионерами. Двигая русскую научную мысль, щедро ее обогащая, они сами,
- 185 -
естественно, обогащались, совершенствовались в своем понимании действительности. Слова Чернышевского подтверждают, что у Добролюбова, к моменту его появления в редакции «Современника», была уже прочная и вполне развитая теоретическая основа, которая давала ему возможность наиболее правильно и глубоко решать большие проблемы, выдвигаемые жизнью перед прогрессивной частью тогдашнего русского общества, перед отечественной литературой.
Н. А. Добролюбов.
Фотография. 1860—1861.Из чего же складывалась эта теоретическая основа?
Еще сравнительно недавно некоторые исследователи философских взглядов Добролюбова склонны были объяснять все их особенности влиянием немецкого мыслителя Л. Фейербаха. Несомненно, философия последнего была одним из источников мировоззрения Добролюбова, на что он и сам указывал. Однако сводить всё дело к влиянию Фейербаха это значило бы становиться на позиции чуждой марксизму исторической школы, которая изображала развитие передовой русской общественной мысли как процесс непрерывной пересадки на русскую почву то одного, то другого философского или общественно-политического учения, возникшего в странах Западной Европы. Неудивительно, что при этом влиянию окружающей действительности на формирование мировоззрения великих русских мыслителей отводилось незначительное место. Общественная жизнь России рассматривалась, в лучшем случае, лишь как почва — иногда удобная, иногда неподходящая — для произрастания заброшенных историческим ветром чужеземных семян. Тем самым уничтожалась всякая преемственность между поколениями русских философов. Эта точка зрения не только принижала значение отечественных деятелей и оскорбляла чувство национальной гордости русского народа, но и делала бессмысленным само понятие истории в применении к русской общественной мысли. Тем не менее она нередко находила себе место на страницах книг, написанных уже в советское время. Авторы этих книг пытались выдавать свои взгляды за марксистско-ленинские, несмотря на то, что Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин в своих высказываниях о развитии революционной теории в России утверждали нечто прямо противоположное.
Так, в письме к русской эмигрантке Е. Паприц Ф. Энгельс в 1884 году писал:
«Мне кажется, что Вы несправедливы к Вашим соотечественникам. Мы оба, Маркс и я, не можем на них пожаловаться. Если некоторые школы и отличались больше своим революционным пылом, чем научными исследованиями,
- 186 -
если были и есть различные блуждания, то, с другой стороны, была и критическая мысль и самоотверженные искания чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского. Я говорю не только об активных революционных социалистах, но и об исторической и критической школе в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой».1
В. И. Ленин доказал, что Герцен в условиях отсталой крепостнической России 40-х годов сумел не только подняться на уровень крупнейших философов своего времени, но и пойти дальше Гегеля, дальше Фейербаха: «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом».2 Эта оценка, которая во многом может быть отнесена также к Чернышевскому и Добролюбову, показывает, что В. И. Ленин считал философию Герцена высшей формой домарксистской материалистической философии.
Но как объяснить тот факт, что высший уровень домарксистской материалистической философии был достигнут в стране, отставшей в своем историческом развитии от передовых стран Западной Европы? С точки зрения вульгарных социологов, этот знаменательный факт должен представляться чем-то вроде исторического парадокса, не имеющего никакого рационального объяснения. С марксистской точки зрения он с исчерпывающей полнотой объяснен В. И. Лениным.
В труде «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» В. И. Ленин писал: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым „последним словом“ Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».3
Итак, развитие передовой общественной мысли России шло в определенном направлении: она «жадно искала правильной революционной теории». Именно это обстоятельство объясняет нам, почему, в частности, Герцен не только усвоил диалектику Гегеля, но понял, что она представляет собой «алгебру революции»; не только пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом, но вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом. По той же самой причине и Добролюбов не мог просто усвоить систему взглядов Фейербаха, не мог уже по одному тому, что философия немецкого мыслителя, как известно, отнюдь не была действенной и революционной.
Говоря о героических поисках правильной революционной теории, В. И. Ленин связывает их с революционной практикой. В ней он видит источник той энергии, самоотверженности, с какой шли эти поиски. Герцен и Белинский, Добролюбов и Чернышевский действительно с величайшим усердием и тщательностью следили за всяким «последним словом» Европы и Америки. Но это был творческий процесс: опыт Западной Европы сопоставлялся
- 187 -
с отечественным опытом, шло испытание идей на практике, шла их критическая проверка. Именно таким путем была создана в 40—60-х годах высшая форма домарксистского материализма — теория, отвечавшая революционным задачам демократического общественного движения. Его руководители, Чернышевский и Добролюбов, вполне отдавали себе и этом отчет и трудились над развитием русской материалистической философии не ради «чистой науки», но для того, чтобы вооружить людей, поднимавшихся на борьбу против крепостничества и царизма, надлежащей теорией.
В письме к С. Т. Славутинскому (март 1860 года) Добролюбов, излагая программу своей деятельности в «Современнике», утверждал, что главная задача передовой публицистики — пробуждать революционные настроения в обществе («мы должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом»). Заканчивая, Добролюбов говорил: «В письме моем — мое крепкое, хотя и горькое убеждение, которое дорого мне, как плод всего, чему я учился, что я видел и делал, дорого, как ключ для всей моей дальнейшей жизни».1
Действительно, это был ключ ко всей его жизни. Вот почему, анализируя теоретические взгляды Добролюбова, надо прежде всего иметь и виду его позицию «мужицкого демократа», его революционные убеждения. Именно они, а не философия Фейербаха, были краеугольным камнем добролюбовского мировоззрения. Только с помощью этого ключа мы можем придти к пониманию того, каким образом юноша, с детства воспитанный в крайне религиозном духе, как бы внезапно становится столь же крайним атеистом. Разумеется, отнюдь не внезапно (хотя и довольно быстро) произошло такое превращение: это был сложный и мучительный процесс. Конечно, поиски передового мировоззрения были в значительной мере облегчены тем, что учителями Добролюбова явились Белинский и Герцен, а позднее Чернышевский, которые сами прошли трудный, но славный путь искания революционной теории и могли, следовательно, дать Добролюбову готовые ответы на многие мучившие его вопросы. Тем не менее он и полном смысле этого слова «выстрадал» свое атеистическое, материалистическое, революционное мировоззрение.
Идея крестьянской революции, которая, как полагал Добролюбов, принесет торжество республиканского демократического строя, эта идея пронизывает всё мировоззрение великого критика. Она озаряет своим светом и его философские взгляды, и его общественно-политическую программу, и его эстетические, литературно-критические принципы.
*
В формировании мировоззрения Добролюбова большую роль сыграло русское материалистическое естествознание, расцвет которого относится к 50—60-м годам.
Придавая огромное значение распространению в широкий кругах читателей естественно-научных знаний, Добролюбов, как руководитель критико-библиографического отдела «Современника», внимательно следил за выходом научных и, особенно, научно-популярных книг, брошюр, журнальных статей. Он сам часто брался за перо для того, чтобы рекомендовать читателю ту или иную книгу или, наоборот, предостеречь его от невежества и
- 188 -
шарлатанства, выступающего под маской учености. Так появились в «Современнике» и в «Журнале для воспитания» рецензии на брошюры о внутреннем устройстве земного шара, о магните и земном магнетизме, о звездном небе, о торфе и его добывании во Франции, статьи по вопросам философии, истории, физиологии, психологии, педагогики.
Только в первой половине 1858 года Добролюбов напечатал в «Современнике» рецензию-памфлет, посвященный книжке казанского профессора-мракобеса В. Берви «Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни», большую статью «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» и еще две рецензии, которые скорее следует назвать памфлетами: «Френология» и «Об истинности понятий или достоверности человеческих знаний». В этих выступлениях Добролюбов предстает перед нами во всем блеске своей гениальной одаренности. Поражают его научная эрудиция и умение связывать факты, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения друг к другу; пленяет глубина суждений, для которых найдена простая и острая литературная форма. Здесь всё поставлено на службу воинствующей материалистической философии и всё направлено на то, чтобы разоблачить, уничтожить главного врага — идеализм, под какой бы личиной он ни скрывался.
Во многих статьях, в частности и на литературные темы, Добролюбов развивал и обосновывал мысль о том, что единственно правильным и соответствующим данным науки является материалистическое мировоззрение, что ненаучны все идеалистические попытки объяснять материю как порождение духа. Высмеивая идеалистов, он писал «Пора бы уж бросить такие платонические мечтания и понять, что хлеб не есть пустой значок, отражение высшей, отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлеб — объект, который можно съесть» (I, 206).
Всё существующее Добролюбов рассматривает как единую, вечно развивающуюся, изменяющуюся в своих формах материю, а движение, которое он называл «силой», понимал как неотъемлемое и коренное свойство материи. «В мире вещественном, — читаем мы в статье «Основания опытной психологии», — мы не знаем ни одного предмета, в котором бы не проявлялись какие-либо свойственные ему силы. Точно так же невозможно представить себе и силу, независимую от материи. Сила составляет коренное, неотъемлемое свойство материи и отдельно существовать не может» (IV, 309).
Решая основной вопрос философии — о соотношении духа и материи, Добролюбов твердо стоял на материалистических позициях: мир материален, он существует независимо от нашего сознания; этот внешний, объективно существующий материальный мир в своих многообразных проявлениях отражается в человеческом сознании. «Мы чувствуем, — писал критик в рецензии «Об истинности понятий или достоверности человеческих знаний», — что на нас повсюду действует что-то, от нас отличное, внешнее, словом — не я. Отсюда мы заключаем, что кроме нас существует еще нечто, потому что иначе мы не могли бы ощущать никакого внешнего действия на наше я. Отсюда следует, что бытие предметов сознается нами потому только, что они на нас действуют, и что, следовательно, нет возможности представить предмет без действия» (III, 362—363).
В статье «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» критика различных идеалистических воззрений заканчивается знаменательным утверждением: «... все усилия наши представить себе отвлеченного духа без всяких материальных свойств, или
- 189 -
положительно определить, что он такое в своей сущности, всегда были и всегда останутся совершенно бесплодными» (III, 95). Одна лишь материалистическая философия, опирающаяся на новейшие данные опытных наук, в состоянии правильно объяснить «отношение между духовной и телесной деятельностью человека» (III, 95).
Прежде всего, говорит Добролюбов, надо покончить со всякими схоластическими представлениями о том, что «душа, дескать, и человеке сама по себе, и тело само по себе; одна действует по своим законам, а другое по своим, совершенно особенным» (III, 97). На человека надо смотреть «как на единый нераздельный организм», а сознание его следует рассматривать как особое свойство, присущее столь сложной форме материи, какой является человеческий мозг. Отстаивая материалистическое учение о первичности материи и вторичности сознания, Добролюбов вместе с тем отвергал взгляды вульгарных материалистов, уничтожавших специфичность сознания, считавших, что мысль является таким же продуктом мозга, каким является, например, желчь, вырабатываемая печенью: «Нам кажутся смешны и жалки невежественные претензии грубого материализма, который унижает высокое значение духовной стороны человека, стараясь доказать, будто душа человека состоит из какой-то тончайшей материи» (III, 92).
На примере развития ребенка Добролюбов обосновывал еще одно важное положение материалистической философии — о зарождении и развитии сознания человека в процессе взаимодействии его с окружающим миром.
«Что человек не из себя развивает понятия, а получает их из внешнего мира, это несомненно доказывается множеством наблюдений над людьми, находившимися в каких-нибудь особенных положениях. Так, например, слепорожденные не имеют никакого представления о свете и цветах; глухие от рождения не могут составить себе понятия о музыке» (III, 106). «Да ведь что же составляет материал мысли, как не познание внешних предметов? Возможна ли же мысль без предмета; не будет ли она тогда чем-то непостижимым, лишенным всякой формы и содержания? Ведь защищать возможность такой беспредметной и бесформенной мысли решительно значит утверждать, что можно сделать что-нибудь ид ничего!..» (III, 241).
Добролюбов вполне отдавал себе отчет в том, что наши познания о действительности имеют относительный характер и неминуемо должны изменяться в ходе общественной истории; то, что вчера еще казалось неоспоримым, сегодня может стать спорным и даже вовсе утерять свой смысл. В этой исторической смене понятий и состоит прогресс человеческого разума. Однако относительность наших знаний об окружающем мире отнюдь не делает понятия чем-то зыбким, недостоверным. Понятия, развиваясь, всё более верно и более полно отражают явления и процессы, происходящие в мире. Поэтому следует решительно отвергнуть всякие попытки агностиков объявить мир непознаваемым или поставить под сомнение истинность понятий, т. е. соответствие их с тем, что являет сознанию действительность и что составляет единственный источник всякого познания. В рецензии на брошюру некоего Кусакова «Об истинности понятий...» Добролюбов с великолепным остроумием высмеял попытки опорочить достоверность человеческих знаний. Высмеивал Добролюбов и тех «ученых», которые ставили «мышление и знание в совершеннейшей отдельности друг от друга» и уверяли, что «может быть народ, набивающий себя познаниями, без уменья мыслить, и может быть другой народ, предающийся мысли, без знаний» (III, 241). Истина, справедливо утверждал критик, не может быть
- 190 -
постигнута интуитивно, без приобретения знаний, а приобретаются знания в процессе практической деятельности; следовательно, практика и дает нам критерий правильности понятий.
В статье, направленной против профессора-мракобеса В. Берви, Добролюбов утверждал, что, изучая философию природы, необходимо следовать «лучшим, наиболее смелым и практическим из учеников Гегеля» (III, 344); Добролюбов, несомненно, имел в виду Фейербаха. Этот выдающийся немецкий философ, нанесший первый серьезный удар по идеалистической философии Гегеля, был дорог русским революционным демократам именно потому, что его философия была материалистической. Но материализм Добролюбова, в сравнении с материализмом Фейербаха, представлял собой более высокую ступень развития домарксистской философии. Преимущество теоретических воззрений Добролюбова состояло прежде всего в том, что в них материализм сочетался с элементами диалектики (Фейербах, как известно, преодолев идеализм Гегеля, не сумел удержать положительную сторону его учения — диалектический метод). Правда, диалектика великого русского революционного демократа была далеко еще не такой совершенной, как диалектический метод Маркса — Энгельса, но она уже сильно отличалась и от диалектики Гегеля.
Познакомившись с диалектикой по трудам Белинского и Герцена, а позднее Чернышевского, Добролюбов сразу же воспринял их материалистически, т. е. как отражение в понятиях реальных процессов, происходящих в природе и обществе. В этой связи большой интерес представляет характеристика русских диалектиков-идеалистов 30—40-х годов, которую он дал в статье «Литературные мелочи прошлого года»:
«Люди того поколения проникнуты были высокими, но несколько отвлеченными стремлениями. Они стремились к истине, желали добра, их пленяло всё прекрасное; но выше всего был для них принцип. Принципом же называли общую философскую идею, которую признавали основанием всей своей логики и морали. Страшной мукой сомненья и отрицанья купили они свой принцип и никогда не могли освободиться от его давящего, мертвящего влияния... Отлично владея отвлеченной логикой, они вовсе не знали логики жизни и потому считали ужасно легким всё, что легко выводилось посредством силлогизмов, и вместе с тем ужасно мертвили всю жизнь, стараясь втиснуть ее в свои логические формы...
«Разумеется, — говорит далее Добролюбов, — были и есть в этом поколении люди, которые вовсе не подходят под общую норму, нами указанную» (IV, 58—59).
Белинский, Герцен, Огарев (последние два имени в статье по цензурным соображениям не были названы) сумели «довести в себе отвлеченный философский принцип до реальной жизненности» (IV, 59), т. е. применить диалектические идеи к практике общественной борьбы.
Рассматривая действительность, окружающий человека мир как единую материю, Добролюбов, в отличие от материалистов-метафизиков, считал, что все явления природы, а также общественные явления, в частности, материальные интересы людей, их политические институты, научные взгляды, эстетические принципы, не вечны и неизменны, а, наоборот, изменчивы; они подвергаются развитию, причем этот процесс всегда идет по восходящей линии. Полемизируя с архимандритом Кикодзе, автором книги «Основания опытной психологии», Добролюбов дал следующую общую формулу диалектического развития природы: «В природе всё идет постепенно от простого к более сложному, от несовершенного к более совершенному; но везде одна и та же материя, только на разных степенях
- 191 -
развития» (IV, 310). Вслед за этим он набросал удивительную по своей яркости картину непрерывного усложнения форм материи и соответственного возникновения всё новых и новых ее свойств: «В телах неорганических мы совсем не замечаем жизни в том виде, в каком она проявляется в телах органических; тем не менее и они подлежат изменениям как в объеме, так и во внутреннем своем составе. Наблюдая над ними, мы постоянно замечаем то механические, то химические процессы. Не есть ли это та же жизнь, хотя на низшей степени развития? В растениях жизнь обозначается уже гораздо яснее, потому что и сами они представляют материю более развитую, чем тела неорганические. Здесь есть и голова, и члены, и органы питания, и органы воспроизведения, рождение и смерть. В животном царстве обнаружение жизни еще ощутительнее. Животные имеют способность местопеременения; кроме того, мы замечаем в них проблески высшей жизненной деятельности. Человек, совершеннейшее из животных, составляет последнюю степень развития мировых существ в видимой вселенной; почему же в нем, уже по одному этому, не допустить того, чего мы не замечаем в существах менее развитых? А если самую развитую часть человеческого тела составляет мозг, то отчего же не допустить, что мозг способен к такой деятельности, какой мы не замечаем в камне и дереве? Что мозг имеет тесную связь с психической деятельностью, к этому приводят нас весьма многие разительные факты» (IV, 310—311).
Отметим кстати, что статья Добролюбова «Основания опытной психологии», появившаяся за шесть лет до опубликования знаменитой работы И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», заканчивалась прямо-таки пророческими словами, предвещавшими победу сеченовско-павловского учения о высшей нервной деятельности над идеалистическими теориями: «Замечательно, что по мере того, как физиология подвигается вперед, отвлеченная психология к прежним нелепостям присоединяет новые, путается, но не хочет уступить своей сопернице и всё еще смотрит на нее с какой-то средневековой иронией» (IV, 311).
Итак, в отличие от метафизиков, понимавших развитие как чисто количественный процесс, т. е. фактически отрицавших развитие, Добролюбов рассматривал развитие как процесс количественно-качественных изменений, как процесс усложнения, возникновения новых материальных форм с присущими им новыми специфическими качествами. В этом диалектическом единстве эволюционных и революционных форм развития природы он и видел причину неисчерпаемого качественного богатства природы и, и частности, разгадку возникновения «высшей жизненной деятельности», т. е. сознания.
Добролюбов не раз отмечал существование в природе и обществе противоположностей и борьбу между ними, которая является движущей силой развития.
Но если «в мире всё подлежит закону развития», то, справедливо полагал Добролюбов, все вещи и явления должны рассматриваться в движении, развитии, в их живой взаимосвязи. «Вырвать факт из живой действительности, — писал он в рецензии «Народные русские сказки», — и поставить его на полочку рядом с пыльными фолиантами, или классифицировать несколько отрывочных, случайных фактов на основании школьных логических делений — это значит уничтожать ту жизненность, которая заключается в самом факте, поставленном в связи с окружающей его деятельностью» (I, 432). Эту важную мысль критик в той или иной форме высказывал неоднократно. В статье «Луч света в темном царстве» мы
- 192 -
читаем: «Дайте мне понять характер явления, его место в ряду других, его смысл и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путем вы приведете меня к правильному суждению о деле гораздо вернее, чем посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства вашей мысли» (II, 320—321).
*
Наиболее ценным вкладом Добролюбова-мыслителя в сокровищницу русской материалистической фолософии явились те статьи, где разрабатывались общие принципы эстетики (впрочем, эти проблемы так или иначе затронуты почти во всех его литературно-критических работах). В области эстетики Добролюбов также следовал воззрениям своих учителей — Белинского и Чернышевского, развивая дальше их основные положения и внося много нового в созданную ими теорию отражения жизни искусством.
Борясь с идеалистическими теориями в искусстве, он, естественно, должен был прежде всего поставить и разрешить вопрос об отношениях искусства к действительности. В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» критик по этому поводу писал:
«Книжные приверженцы литературы очень горячатся за нее, считая прекрасные литературные произведения началом всякого добра. Они готовы думать, что литература заправляет историей, что она изменяет государства, волнует или укрощает народ, переделывает даже нравы и характер народный; особенно поэзия, — о, поэзия, по их мнению, вносит в жизнь новые элементы, творит всё из ничего» (I, 205).
Иными словами, эти книжные приверженцы литературы сродни тем философам-идеалистам, которые считали, что лишь «чистые идеи имеют настоящую действительность, а всё являемое, т. е. видимое, составляет только отражение этих высших идей» (I, 206). На самом деле всё обстоит совершенно по-иному: «Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни... Наоборот не бывает; а если иногда и кажется, будто жизнь пошла по литературным убеждениям, то это иллюзия, зависящая от того, что в литературе мы часто в первый раз замечаем то движение, которое, неприметно для нас, давно уже совершалось в обществе» (I, 207—208). Литература, следовательно, не творит что-то свое из ничего, а только отражает действительность. Это основное положение эстетической теории русских революционных демократов Добролюбов неутомимо обосновывал и защищал на протяжении всей своей литературно-критической деятельности.
Устанавливая зависимость искусства от жизни, объясняя его развитие развитием общества, Добролюбов, вслед за Чернышевским, отрицал неизменность, вечность, всеобщность идеала прекрасного. В только что цитированной статье он писал: «Что отжило свой век, то уж не имеет смысла; и напрасно мы будем стараться возбудить в душе восхищение красотою лица, от которого имеем только голый череп. Боги греков могли быть прекрасны в древней Греции, но они гадки во французских трагедиях и в наших одах прошлого столетия. Рыцарские воззвания средних веков могли увлекать сотни тысяч людей на брань с неверными, для освобождения святых мест; но те же воззвания, повторенные в Европе XIX века, не произвели бы ничего, кроме смеха» (I, 206). Понятие прекрасного наполняется реальным содержанием в соответствии с жизненными условиями, которые воспитывают человека; это понятие всегда так или иначе отражает в себе то «грубое», «практическое», что презрительно третировали поборники
- 193 -
«чистого искусства», как не имеющее никакого отношения к возвышенной поэтической сфере.
В статье «Органическое развитие человека...» Добролюбов эту свою мысль выразил так, что она кажется почти цитатой из диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности»: «Посмотрите, в самом деле, как презрительно смотрим мы на телесный труд, как мало обращаем внимания на упражнение телесных сил. Мы любим, правда, красоту, ловкость, грацию; но и тут часто выражается нами презрение к простому, здоровому развитию организма. В лицах часто нам нравится мечтательное, заоблачное выражение и бледный цвет, „тоски примета“; в строении организма — талия, которую можно обхватить одной рукой; о маленьких ручках и ножках и говорить нечего. Этого, конечно, нельзя назвать положительно дурным, нельзя утверждать, что большая нога непременно лучше маленькой; но все-таки наше предпочтение, основываясь не на понятии о симметричности развития всех органов человека, а на каком-то безотчетном капризе, служит доказательством одностороннего, ложного идеализма. Мускулистые, сильно развитые руки и ноги пробуждают в нас мысль о физическом труде, развивающем, как известно, эти органы; и это нам не нравится. Напротив, миниатюрные, нежные ручки свидетельствуют, что обладающий или обладающая ими не преданы грубому труду, а упражняются в какой-нибудь высшей деятельности. Этого-то нам и нужно...» (III, 98). Приведенные строки примечательны не только тем, что в них содержится конкретно-историческая трактовка понятия прекрасного применительно к физическому облику человека, но и одновременно формулируется идеал физической красоты и вообще физического развития, который теснейшим образом связан с позицией Добролюбова как «мужицкого демократа», идеолога трудящихся масс.
Вопрос о соотношении литературы и жизни, конечно, не мог быть исчерпан одним общим утверждением, что литература отражает явления действительности. В сущности, для материалистической эстетики революционных демократов вслед за этим утверждением и возникали основные проблемы, которые надлежало исследовать. Что значит отражение? Как надо понимать тот факт, что «поэзия и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависит от поэзии»? (I, 206). Значит ли это, что между жизнью и поэзией существует, так сказать, односторонняя зависимость и поэзия, ограничиваясь пассивной ролью своеобразного «зеркала жизни», никак на последнюю не влияет? Далее, если не только искусство, художественная литература, но и наука являются отражением жизни, то в чем состоит между ними разница, иначе говоря, какова специфика отражения действительности в художественных образах? На всё это предстояло дать ответы, и мы находим их в эстетической теории Добролюбова, причем многие из этих вопросов были выдвинуты и разработаны им впервые, хотя и в органической связи с эстетическими принципами, уже сформулированными Белинским и Чернышевским.
По Добролюбову, как мы уже видели, выработка понятий о жизни представляет собой активный процесс: дело не только в том, что понятия берутся из жизни, а не вырабатываются чистым мышлением из самого себя; дело еще и в том, что «высшая жизненная деятельность» человека, т. е. сознание, развивается на основе его практической деятельности, его взаимодействия с окружающей действительностью. Понятно, что и искусство, будучи одной из форм отражения действительности, не может являться чисто пассивным проявлением человеческого духа, не может ограничиваться рабским копированием действительности. Оно не просто
- 194 -
созерцает ее и фотографирует, но познает своими особыми, только ему присущими средствами. В статье «Забитые люди» Добролюбов говорит: «... художник — не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных произведениях и жизни не было, и смысла не было» (II, 373).
Именно потому, что в фиксации отдельного факта, вырванного из общих связей, уже нет действительной жизни, и нельзя было бы правильно понять смысл этого факта при таком искусственно изолированном его рассмотрении. «Художник дополняет отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создает одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных повидимому явлениях, сливает и перерабатывает в общности своего миросозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности» (II, 373).
Эти слова Добролюбова доказывают, что под отражением жизни искусством критик понимал процесс познания действительности, процесс проникновения в сущность явлений, обнаружения законов, которые ими управляют, связей и взаимодействия, которые между ними существуют. Художник только отправляется от частных явлений, отдельных моментов и разрозненных черт жизни, но в процессе творчества он всё это сливает с помощью своего мировоззрения в единое целое, и это целое — готовое произведение искусства — есть уже не простая действительность, не поверхностно отраженные явления ее, а нечто более глубокое, именно — глубокий, подспудный ход жизни, открывшийся «вдохновенному взору художника» (II, 373). Правда жизни — вот что составляет настоящий предмет искусства. Она и есть высший критерий художественности произведений искусства. В статье «Темное царство» об этом сказано так: «Признавая главным достоинством художественного произведения жизненную правду его, мы тем самым указываем и мерку, которою определяется для нас степень достоинства и значения каждого литературного явления» (II, 52). Но правда правде — рознь. Ведь и фотографическая пластинка, отразившая, зафиксировавшая какой-то отрывочный момент бытия, дает нам его правдивое изображение. Поэтому необходимо уточнить само понятие правды жизни, отраженной в искусстве, найти для нее тоже какую-то мерку. «Судя по тому, — разъясняет критик свою мысль, — как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни, — можно решить и то, как велик его талант» (II, 52).
Однако Добролюбов как мыслитель изменил бы самому существу своей теоретической позиции, если бы удовлетворился этим верным, но всё же абстрактным разъяснением. Ведь и явление явлению — рознь: есть явления существенные, есть и несущественные. Писатель может охватить достаточно широко многие стороны жизни. Но один писатель охватит наиболее важные стороны, другой — не имеющие сколько-нибудь серьезного значения. Какой тут может быть объективный критерий? И Добролюбов отвечает:
«Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы принимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений известного времени и народа. Естественные стремления человечества, приведенные к самому простому знаменателю, могут быть выражены в двух словах: „чтоб всем было хорошо“» (II, 324).
Критик был лишен возможности сформулировать свою мысль прямо, но она достаточно ясна: та литература достойна наивысшего признания, которая наиболее полно выражает кровные интересы народа, которая самую
- 195 -
сокровенную правду жизни видит в общественной борьбе за народное счастье. Памятуя о революционной политической позиции великого демократа, мы можем выразить это еще определеннее: степень отражения литературой передовых идей и настроений является главным критерием ее достоинств. Добролюбов всегда именно с этой, революционно-демократической точки зрения подходил к оценке произведений искусства. Однако это был отнюдь не грубо «утилитарный» подход, при котором искусство превращается в простую «служанку» политики и, при известных условиях, неизбежно вырождается. Дело в том, что политические идеалы русских революционных демократов в то время наиболее полно отражали «естественные стремления», кровные интересы народных масс. Поэтому критерий, выдвинутый Добролюбовым, действительно давал возможность наиболее точно определить, насколько широко тот или иной писатель, то или иное произведение охватили различные стороны жизни и в какой мере эти стороны были существенными для исторической судьбы народа. Таким образом, между общей, абстрактно-теоретической постановкой вопроса и его конкретно-исторической, революционно-демократической расшифровкой не было ни малейшего противоречия.
Из сказанного необходимо сделать и тот вывод, что, говоря о зависимости литературы от жизни, Добролюбов отнюдь не имел в виду одностороннюю зависимость. Наоборот, в его эстетике искусство рассматривается как общественное явление, с одной стороны, формируемое действительностью, а с другой — оказывающее на нее обратное влияние. Еще Белинский, характеризуя специфические свойства искусства, отличающие его от науки, отметил, что общественная роль искусства гораздо шире, чем роль науки. Философа, политико-эконома «слушают и понимают немногие», поэта — «все». Добролюбов держался той же точки зрения, и она была правильна для того времени. Именно потому, что Добролюбов признавал за литературой и искусством силу, способную воздействовать на общественную жизнь и, следовательно, могущую участвовать в революционной борьбе, он, по выходе из института, и посвятил себя литературно-критической деятельности. В упомянутом выше письме к Славутинскому об этом было сказано с великолепной и страстной убежденностью революционного борца.
Придавая такое исключительное значение идейности искусства, Добролюбов неизбежно должен был сосредоточить внимание на проблеме мировоззрения художника. Для эстетики революционных демократов, именно в силу того, что их материалистическая философия была еще далека от совершенства, эта проблема представляла немалые трудности.
Добролюбов вполне понимал ту роль, которую играет в процессе художественного творчества мировоззрение писателя, и в этом отношении не делал никаких разграничений между ученым и художником. «Величие философствующего ума и величие поэтического гения равно состоят в том, чтобы, при взгляде на предмет, тотчас уметь отличить его существенные черты от случайных, затем, — правильно организовать их в своем сознании и уметь овладеть ими так, чтобы иметь возможность свободно вызывать их для всевозможных комбинаций» (II, 47). Чтобы художник мог постичь правду жизни, он должен иметь, кроме таланта пластически изображать жизненные явления, правильное, развитое мировоззрение. Но как следует толковать понятие «мировоззрение» применительно к художнику? Можно ли приравнять его к мировоззрению философа или между ними есть какая-то разница?
В своих статьях критик не раз останавливался перед тем фактом, что в искусстве иногда являются примеры резкого несоответствия «убеждений»
- 196 -
автора объективному идейному смыслу его произведений. Он правильно при этом указывал, что при оценке идейного смысла произведения искусства надо исходить не из «отвлеченных представлений художника» о жизни, не из его декларативных заявлений, а из самого существа образов — оно-то и является «ключом к характеристике его таланта». Однако противоречие всё же оставалось противоречием, и его нужно было объяснить. В статье «Темное царство» на этот счет имеются интересные мысли, связанные главным образом с разбором пьес Островского. Вот одно из важных высказываний Добролюбова:
«Не отвлеченные идеи и общие принципы занимают художника, а живые образы, в которых проявляется идея. В этих образах поэт может, даже неприметно для самого себя, уловить и выразить их внутренний смысл гораздо прежде, нежели определит его рассудком. Иногда художник может и вовсе не дойти до смысла того, что он сам же изображает... В первой части „Мертвых душ“ есть места, по духу своему близко подходящие к „Переписке“, но „Мертвые души“ от этого не теряли своего общего смысла, столь противоположного теоретическим воззрениям Гоголя. И критика Белинского не трогала гоголевских теорий, пока он являлся пред нею просто как художник...
«Не сравнивая значения Островского с значением Гоголя в истории нашего развития, мы заметим однако, что в комедиях Островского, под влиянием каких бы теорий они ни писались, всегда можно найти черты глубоковерные и яркие, доказывающие, что сознание жизненной правды никогда не покидало художника и не допускало его искажать действительность в угоду теории. А если так, то, значит, и основные черты миросозерцания художника не могли быть совершенно уничтожены рассудочными ошибками» (II, 84).
Сказанное можно понять двояко. Прежде всего в том смысле, в каком говорил Энгельс о Бальзаке, творчество которого являло собой пример величайшей победы реалистического искусства, потому что реализм в нем проявлялся «даже независимо от взглядов автора». Правда жизни, которую видел Бальзак и которая, в частности, заключалась в неизбежности падения излюбленных писателем аристократов, принудила его «идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков».1 Поскольку достижение правды жизни не может, конечно, происходить помимо мировоззрения художника, а тем более вопреки ему, постольку слова Энгельса надо понимать как указание на противоречивость бальзаковского мировоззрения: Бальзак и видел историческую неизбежность падения аристократии, и, одновременно, не мог полностью и окончательно разделаться со своим легитимизмом. Однако ведущим началом его мировоззрения как художника явились прогрессивные взгляды на исторический процесс Недаром Энгельс называет легитимизм политическими предрассудками художника.
Всё это с соответствующими поправками приложимо и к Гоголю, к Островскому. Что именно так следует понимать рассуждения Добролюбова, можно убедиться по другим строкам той же статьи, в которых критик прямо говорит о значении мировоззрения художника: «... художник, руководимый правильными началами в своих общих понятиях, имеет все-таки ту выгоду пред неразвитым или ложно развитым писателем, что может свободнее предаваться внушениям своей художнической натуры. Его непосредственное чувство всегда верно указывает ему на предметы; но когда его
- 197 -
общие понятия ложны, то в нем неизбежно начинается борьба, сомнения, нерешительность, и если произведение его и не делается оттого окончательно фальшивым, то все-таки выходит слабым, бесцветным и нестройным. Напротив, когда общие понятия художника правильны и вполне гармонируют с его натурой, тогда эта гармония и единство отражаются и в произведении. Тогда действительность отражается в произведении ярче и живее, и оно легче может привести рассуждающего человека к правильным выводам и, следовательно, иметь более значения для жизни» (II, 49).
Но в приведенной выше цитате о теоретических воззрениях Гоголя и рассудочных ошибках Островского заключена и другая мысль. Она состоит отнюдь не в диалектическом разделении чувственного и рассудочного восприятия действительности. К тому же чувственному восприятию фактически отдается предпочтение: «... непосредственное чувство, — говорит Добролюбов, — всегда верно указывает ему <художнику> на предметы» (II, 49), т. е. оно, можно сказать, неспособно его обмануть. Иное дело — рассудок: он может быть введен в заблуждение ложными теориями. Если же мы учтем, что в художническом мировосприятии, в отличие от научного, по мысли Добролюбова, явно главенствует чувственное постижение действительности (в этом и состоит сущность «художнической натуры»), то мы поймем, почему получается так, что ложные общие понятия художника, его ложные теоретические взгляды не могут сделать произведение «окончательно фальшивым», — в худшем случае это лишь заметно ослабит его, обесцветит, сделает нестройным. Конечно, такое толкование значении рационального и эмоционального моментов в процессе художественного творчества нельзя признать правильным, да оно и не соответствует общей концепции Добролюбова о роли мировоззрения художника, и его надо рассматривать как недостаток, обусловленный тем, что домарксистская материалистическая философия не могла еще построить сколько-нибудь полной, развитой теории отражения. При всем том разработка Добролюбовым теории художественного отражения действительности явилась большим шагом вперед. Важной его заслугой была и разработка другой стороны того же вопроса — вопроса о специфичности средств выражения идей в искусстве.
В основу взглядов на специфику искусства Добролюбов положил сформулированную Белинским мысль о том, что «философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами»; первый доказывает, действуя на ум своих читателей или слушателей, второй показывает, действуя на фантазию своих читателей.1 Развивая именно этот тезис, Добролюбов писал в статье о творчестве Кольцова, что достоинство поэта зависит, с одной стороны, от того, на какие предметы направлено его творчество, сколь важна мысль, выраженная в произведении; с другой же стороны, от силы его поэтического чувства. «Против него-то часто погрешают люди, принимающиеся за поэзию. Они нередко рассказывают о каком-нибудь обыкновенном поступке или излагают стихами свои убеждения и воображают, что это поэзия. Но на деле выходит, что они, увлекшись своими мыслями или добрыми стремлениями, не позаботились вовсе о чувстве, и потому, вместо поэзии, пустились в дидактику, т. е. в холодные рассуждения. Чувство паше возбуждается всегда живыми предметами, а не общими понятиями. Если даже, например, читая какое-нибудь рассуждение, мы вдруг ощущаем в душе чувство приятное или неприятное вследствие мыслей, в нем изложенных, то это может случиться не иначе, как когда мы живо представим себе предмет, о котором тут говорится. В этом представлении общая мысль непременно
- 198 -
получит для нас какой-нибудь определенный образ, например, от понятия бедности мы можем перейти к представлению бедняка, голодного, в рубище и пр., от понятия счастья — к представлению какой-нибудь картины жизни, в которой мы сочли бы себя счастливыми, и т. п. На этом основании, для поэзии необходимы живые, определенные образы, чтобы она могла удовлетворить нашему чувству» (I, 121).
Главное отличие так называемых поэтических натур в том и состоит, что они умеют мысль «развить в поэтической форме» (I, 121), т. е. передать ее в живых, конкретных образах, возбуждающих чувство. Эта способность проявляется только тогда, когда человек умеет не только хорошо понять мысль, избранную для поэтического воплощения, но вполне представить себе ее в живом, определенном, чувственно-осязаемом, пластическом виде. Отсюда мы должны сделать вывод, что, говоря о художественном образе, Добролюбов имел в виду не простое изображение предмета, подобное его фотографии, а нечто совсем иное, в чем, с одной стороны, заключено понятие о предмете, и с другой — как бы сохранена его конкретно-чувственная форма. Мы сказали «как бы сохранена», потому что в действительности, конечно, эта форма предмета не сохраняется, а вместо нее создается новая, соответствующая понятию о предмете, соответствующая его познанной сущности.
Добролюбов вполне отдавал себе отчет в том, что познание художником явлений жизни есть процесс проникновения в их сущность, процесс абстрагирования, обобщения, типизации явлений; под мыслью, выраженной в образе, он и понимал результат этого процесса типизации. Одновременно он справедливо считал конкретно-чувственную форму мысли важнейшим признаком художественного образа. Иначе говоря, художественный образ он рассматривал как сложное, противоречивое единство абстрактного и конкретного, общего и единичного. Следовательно, перед художником, если говорить о творческом процессе схематически, стоит как бы двуединая задача: во-первых, как можно глубже проникнуть в сущность явлений, как можно шире охватить и обобщить различные стороны жизни, как можно больше различных по внешности черт жизни слить в некое единство; во-вторых, создать для добытых таким путем понятий, мыслей о жизни соответствующую им пластическую форму, которая бы оказалась способной вызвать к деятельности фантазию читателя. В том-то и состоит трудность поэтического творчества, говорил Добролюбов, что далеко не всякий человек способен одновременно и на то, и на другое. Даже художники далеко не всегда обладают в равной мере этими двумя различными качествами. Поэтому одни поэты, обладающие высоко развитым чувством воображения, сильно проигрывают в своем творчестве, так как «имеют очень мало мыслей в своей поэзии», а другие, будучи умными людьми, оказываются плохими поэтами, так как не имеют живого воображения. Только большие таланты и гении гармонически сочетают в себе обе способности (I, 123).
В связи с этим следует вспомнить рассуждения Добролюбова о творчестве Островского, в частности, о создании им образа Катерины, который критик назвал «шагом вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе». В чем заключалась заслуга Островского как художника? В том, что он создал образ, который «давно требовал своего осуществления в литературе»; более того, это образ, около которого «вертелись наши лучшие писатели», но так и не смогли осуществить своего намерения. Почему же? Потому, во-первых, что «они умели только понять его надобность и не могли уразуметь и почувствовать его сущности». Островский же «это сумел сделать» (II, 344). Но дело не только
- 199 -
в этом. «Нам кажется, — говорит Добролюбов, — что все их неудачи происходили оттого, что они просто логическим процессом доходили до убеждения, что такого характера ищет русская жизнь, и затем кроили его сообразно с своими понятиями о требованиях доблести вообще и русской в особенности». Не так поступил Островский, «не так понят и выражен русский сильный характер в „Грозе“... Он водится не отвлеченными принципами, не практическими соображениями, не мгновенным пафосом, а просто натурою, всем существом своим. В этой цельности и гармонии характера заключается его сила...» (II, 345, 346). По мысли критика, в образе Катерины Островскому удалось слить воедино как понятие о сильной личности, выступающей с решительным и действенным протестом против «темного царства», так и конкретные обстоятельства жизни Катерины, неповторимые, индивидуальные черты ее характера. Энгельс, в письме к Минне Каутской, имея в виду сочетание в образе общего и единичного, писал: «... каждое лицо — тип, но вместе с тем и вполне определенная личность, — „этот“, как сказал бы старик Гегель...».1 Такова и Катерина в оценке великого русского критика: она — тип и вместе с тем вполне определенная личность со своей особенной, неповторимой судьбой. Поэтому Добролюбов целиком приемлет и «фатальный конец» ее жизни, считая его необходимым, хотя, разумеется, критик был далек от мысли, что та же самая судьба вообще уготована людям типа Катерины, людям, поднимавшимся на борьбу с темным царством помещиков и капиталистов.
Таким образом, Добролюбов внес много нового и важного и понятие художественного образа как специфического средства отражения искусством действительности, как диалектического единства типичного и индивидуального, абстрактного и конкретного.
*
В разработке эстетических проблем с наибольшей отчетливостью выявились сильные стороны философского материализма и диалектического метода Добролюбова. Иначе обстояло дело, когда он вступил в область социологии. Здесь историческая ограниченность и материализма и диалектики русских революционных демократов, как известно, выступала особенно наглядно.
Добролюбов, как и его учителя — Белинский, Герцен, Чернышевский, в истолковании общественных явлений и законов, ими управляющих, оставался еще на идеалистических позициях. Исторические условия, в которых развивали науку вожди шестидесятников, не дали и не могли дать им возможности совершить скачок от идеологии революционного демократизма к революционному пролетарскому мировоззрению, к теории научного коммунизма.
Добролюбов во всех своих попытках объяснить ход развития человеческого общества не мог полностью отбросить ту философию истории, согласно которой именно «идеальные» причины — стремления, поля, страсти, мнения людей — правят событиями, вызывают их к жизни и определяют их течение, их смену. Но сказать о добролюбовских социологических взглядах только это — значит сказать далеко не всё. И дело заключается не в том, что в своих общественных суждениях критик высказывал гениальные материалистические «догадки»; дело в том, что формула «Добролюбов — идеалист в вопросах социологии» не включает в себя самого существенного момента — момента развития его мировоззрения. Говоря словами самого критика,
- 200 -
такая формула вырывает «факт из живой действительности», закрывает все пути для подлинно научного исследования социологических взглядов великого революционного демократа.
Вспомним ленинскую характеристику мировоззрения Герцена. Ее глубочайшая правда, ее исчерпывающая полнота определяется тем, что взгляды Герцена раскрыты В. И. Лениным в движении — как связующее звено между двумя первыми поколениями русских революционеров. Добролюбов также не стоял на месте в своих взглядах на исторический процесс. Нет, он неутомимо двигался вперед — от идеализма к материалистическому толкованию общественных явлений. Поэтому важно выяснить, какие именно материалистические «догадки» он высказал, но еще более важно установить, что идеализм в вопросах социологии был у Добролюбова чем-то вроде философского «родимого пятна» или «философского предрассудка», т. е. элементом отмирающим, хотя всё еще достаточно сильно дававшим о себе знать.
При таком подходе к вопросу сразу же выясняется односторонность характеристики мировоззрения Добролюбова, данной Г. В. Плехановым в его статье «Добролюбов и Островский»; лишний раз обнаруживается и грубая ошибка тех советских литературоведов, которые пытались ограничить истоки мировоззрения Добролюбова фейербахианской философией.
Плеханов вполне справедливо отметил, что «исторический идеализм был непоследовательностью, диссонансом в миросозерцании Добролюбова, Чернышевского...», но тут же добавил: «... и Фейербаха».1 Конечно, это можно сказать и о Фейербахе. Однако его никак нельзя на этом основании ставить в один ряд с идейными вождями русской революционной демократии: это была не та непоследовательность, не тот диссонанс. Закрывая глаза на различие, Плеханов неизбежно грешил против истины, а истина заключалась в том, что Чернышевский и Добролюбов приближались к пониманию значения классовой борьбы, тогда как Фейербаху эта идея была явно чужда.
Плеханов, имея в виду некоторые высказывания Добролюбова по вопросам истории и литературы, справедливо называл их «просветительскими», оговорившись в одном месте статьи, что эти просветительские взгляды «носили на себе печать своего времени».2 В чем именно состояла «печать времени», об этом Плеханов, в сущности, не сказал ничего определенного. Но зато он неоднократно ставил Добролюбова и Чернышевского в один ряд с французскими просветителями XVIII века, отчего «печать времени» неизбежно превращалась в чистейшую фикцию. Он делал это на том единственном основании, что французские материалисты XVIII века были точно такими же идеалистами в области истории, как и русские революционные демократы XIX века, что «они, как и Добролюбов, были материалистами, державшимися, по неразработанности их материализма, идеалистического взгляда на историю».3 Конечно, исторический идеализм являлся следствием неразработанности их материализма. Однако нельзя забывать о том, что между материализмом Добролюбова и материализмом французских просветителей существовала не малая разница. Стоит только вспомнить, какой гигантский прогресс в естественных науках отделяет эпоху Добролюбова от эпохи французских материалистов. К этому надо прибавить и тот важнейший факт, что Добролюбов критиковал «грубый», т. е. механистический, метафизический материализм, составлявший существо
- 201 -
философии французских просветителей. В равной мере нельзя ставить на одну доску исторический идеализм последних с историческим идеализмом Добролюбова.
Плеханов, много сделавший для исторической оценки наследия демократов 60-х годов, не учитывал, однако, что французские просветители являлись идеологами буржуазии, тогда как Добролюбов был идеологом крестьянских масс, поднимавшихся на революционную борьбу. Как известно, в связи с аналогичной ошибкой Плеханова В. И. Ленин написал на полях его книги о Чернышевском: «Из-за теоретического различия идеалистического и материалистического взгляда на историю Плеханов просмотрел практически-политическое и классовое различие либерала и демократа».1
Жертвой подобной методологической ошибки сделались и позднейшие литературоведы, пытавшиеся стереть всякое различие между мировоззрением Добролюбова и мировоззрением Фейербаха. В частности, они утверждали, что Добролюбов будто бы заимствовал у немецкого философа его этическую программу, что добролюбовские формулы: «человек и его счастье», «чтобы всем было хорошо» — являются всего-навсего модификациями «порочных идеалистических элементов» этической теории Фейербаха. Откуда, однако, было выведено такое заключение? Можно ли формулу «человек и его счастье» объявить идеалистически порочной, не выяснив при этом, о каком человеке идет речь, что подразумевается под его счастьем, какими путями оно достигается? Конечно, нет!
Борьба за построение коммунистического общества это и есть борьба за реальное человеческое счастье, за то, «чтобы всем было хорошо». Следовательно, весь вопрос заключается в том, каким конкретно-историческим содержанием наполняется эта формула, и только по выяснении этого можно было бы сказать, повторял ли Добролюбов этическую концепцию Фейербаха или по-своему, в соответствии со своими взглядами революционного демократа, трактовал идею всеобщего человеческого счастья.
Добролюбов, несомненно, сближался в своих взглядах с Фейербахом, когда объяснял некоторые явления общественной жизни, исходя из физиологической природы человека. Но добролюбовское понимание человека, при всей своей непоследовательности, существенно отличалось от фейербаховского хотя бы уже потому, что великий русский демократ имел в виду совсем не того человека, которого стремилась «осчастливить» новая религия братства и всеобщей любви, изобретенная немецким философом. Характеризуя взгляды последнего, Энгельс писал: «... каковы бы ни были намерения и ожидания Фейербаха, его мораль оказывается скроенной по мерке нынешнего капиталистического общества».2
В тесной связи с этим находится и другое отличие добролюбовской точки зрения от фейербаховской. Ведь мало мечтать о человеке и его счастье, — надо найти путь, которым достигается счастье. Далекий от политической жизни своего народа, склонный к созерцательности, пассивности, Фейербах в качестве средства для достижения всеобщего счастья проповедовал свою «религию любви». Добролюбов же был борцом, сторонником революционного насилия. Для него единственным реальным путем к счастью была крестьянская революция, в результате которой на месте разгромленного самодержавно-крепостнического строя должна возникнуть демократическая, социалистическая республика.
Разумеется, Добролюбов серьезно ошибался, полагая, что крестьянская революция будет иметь социалистический характер. Корни этой ошибки —
- 202 -
в идеалистическом представлении об историческом процессе, о силах, управляющих общественным развитием. Так, например, в статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым», излагая свое понимание прогресса, Добролюбов писал: «Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории». Правда, отмечал он, до сих пор «дармоедство не исчезло, но оно постепенно везде уменьшается с развитием образованности», и как только «количество знаний, распространенных в массах», будет достаточно для того, чтобы народ имел «правильное понятие о сравнительном достоинстве предметов и о различных отношениях между ними», дармоедство будет полностью и навсегда уничтожено (III, 267, 268).
Нет необходимости доказывать, что отмеченная Добролюбовым «тенденция истории» совершенно не соответствовала действительности; на самом же деле шла смена одной эксплуататорской общественной формации другой эксплуататорской общественной формацией, шел процесс усиления господства дармоедов над трудящимися. Справедливость требует, однако, отметить, что этот идеалистический взгляд на историю постепенно уступал место более правильному. В статье «От Москвы до Лейпцига», написанной всего через год после статьи «Русская цивилизация...», Добролюбов уже утверждает, что распространение просвещения, по крайней мере в правящих классах, отнюдь не влечет за собой улучшения жизни трудящихся. Напротив, «... с развитием просвещения в эксплуатирующих классах только форма эксплуатации меняется и делается более ловкою и утонченною; но сущность все-таки остается та же, пока остается попрежнему возможность эксплуатации» (IV, 394).
Во взглядах Добролюбова на роль различных факторов, определяющих исторический процесс, материальный фактор приобретал всё больший и больший удельный вес. Добролюбов всё определеннее склонялся к той мысли, что решающим моментом борьбы между «аристократией» и «демократией» — «дармоедами» и «трудящимися» — является момент экономического угнетения и что именно эта борьба составляет основное содержание истории. В такой эволюции исторических взглядов Добролюбова главнейшую роль, несомненно, играла его политическая позиция — позиция идеолога закрепощенных, угнетенных крестьянских масс.
Для характеристики исторических взглядов критика и его представлений о судьбах России исключительное значение имеет уже упомянутая статья «От Москвы до Лейпцига». Направленная всем своим содержанием против так называемых западников, т. е. русских либеральствующих идеологов буржуазии, эта статья примечательна глубокой критикой капиталистического строя, который Добролюбов, естественно, не мог признать за идеал общественного устройства.
Добролюбов считал, что государства Западной Европы, по сравнению с Россией, ушли значительно дальше по дороге «исторической жизни». Он признавал далее, что Россия должна идти тем же путем, но, поскольку она может присмотреться «к ходу развития народов Западной Европы», ее движение вперед будет совершаться лучше. «Что и мы на пути своего будущего развития не совершенно избегнем ошибок и уклонений, — в этом тоже сомневаться нечего. Но все-таки наш путь облегчен; все-таки наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное, — мы можем и должны идти решительнее и тверже, потому что уже вооружены опытом и знанием...» (IV, 402).
Говоря о фазисах, которые надлежало еще пройти России, Добролюбов прежде всего имел в виду ликвидацию феодальных порядков, крепостнического
- 203 -
строя; он имел также в виду необходимость развития промышленности, техники и культуры. Но, в отличие от «западников», пытавшихся выдать капиталистические порядки за образец, он указывал на отрицательные стороны западноевропейской цивилизации, и при том не на какие-нибудь частности, а на коренные ее пороки. Он утверждал, что в результате революций, происходивших в Западной Европе, «поселяне» и «фабричные работники», т. е. основная масса народа, ничего не выиграли. Более того, «... вышло то, что рабочий народ остался под двумя гнетами: и старого феодализма, еще живущего в разных формах и под разными именами во всей Западной Европе, и мещанского сословия, захватившего в свои руки всю промышленную область. И теперь в рабочих классах накипает новое неудовольствие, глухо готовится новая борьба, в которой могут повториться все явления прежней...» (IV, 392—393). Может ли быть образцом такой строй, в котором эксплуатация человека человеком является «основанием почти всех общественных отношений»? (IV, 394). Идеолог трудящихся масс на такой вопрос, естественно, отвечал отрицательно. Он говорил, что Западная Европа хотя и ушла дальше России по пути прогресса, но ей еще только предстоит идти «к самому идеальному совершенству», и это дело совсем не такое легкое. Достичь совершенства отдельными реформами, различными паллиативными мерами немыслимо, а поэтому «необходимо, для уничтожения зла, начинать не с верхушки и побочных частей, а с основания» (IV, 399). Иначе говоря, необходима революция. Вот этот-то опыт и следует учесть России, которая должна двигаться вперед «решительнее и тверже» (IV, 402).
Добролюбов, как и Чернышевский, «... не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма».1 В этом смысле его социалистические взгляды следует назвать утопическими. Но вместе с тем они сильно отличались от взглядов утопических социалистов Западной Европы, наивно полагавших, что свои планы социального переустройства они смогут осуществить при помощи господствующих классов и правительственной верхушки. Для Сен-Симона, Фурье, Оуэна народные массы являлись лишь объектом социальных реформ. Добролюбов же отводил народу важнейшую роль в историческом развитии, хотя и не отрицал большого значения выдающихся общественных деятелей, если последние действуют в соответствии с законами общественного прогресса. «Без сомнения, — писал он, — великие исторические преобразователи имеют большое влияние на развитие и ход исторических событий в свое время и в своем народе; но не нужно забывать, что прежде, чем начнется их влияние, сами они находятся под влиянием понятий и нравов того времени и того общества, на которое потом начинают они действовать силою своего гения... Значение великих исторических деятелей можно уподобить значению дождя, который благотворно освежает землю, но который, однако, составляется все-таки из испарений, поднимающихся с той же земли» (III, 120, 121). Иными словами, значение и роль выдающихся исторических деятелей находятся в прямом отношении к тому, чьи интересы они защищают: чем более широк общественный круг людей, выдвигающих из своей среды историческую личность, чем более соответствует ее деятельность назревшим потребностям общественного развития, тем большую роль может сыграть в истории великий человек.
- 204 -
Отводя народным массам важнейшее место в историческом процессе, русский революционный демократ с величайшим оптимизмом смотрел на будущее своего народа. Он был глубоко убежден в неисчерпаемости его творческих сил, в способности построить действительно справедливую и счастливую жизнь, как только будут сломаны самодержавно-крепостнические оковы, уродующие русскую общественную жизнь и сдерживающие ее развитие. Этот горячий патриотизм пронизывал всё мировоззрение Добролюбова.
*
Одним из наиболее острых вопросов, который должны были решать вожди русской революционной демократии, был вопрос об отношении к Западу. Спор шел о том историческом пути, какой должна для себя избрать Россия: обязателен ли, выражаясь современным языком, для нее капиталистический путь развития, на который западноевропейские страны вступили раньше России; а если необязателен, то, может быть, этот путь всё же наиболее правильный; или, наконец, у России есть свой собственный путь социально-экономического развития, в корне отличающийся от западноевропейского? Этой важной теме Добролюбов посвятил большую статью «От Москвы до Лейпцига», напечатанную в «Современнике».
«Две великие партии существуют издавна между русскими учеными по вопросу об отношениях России к другим народам Европы. Одна партия выражает свое убеждение на этот счет формулою: „Россия цветет, а Запад гниет“». Другая, противоположная партия должна была бы говорить: «Нет, Россия гниет, а Запад цветет»; но столь «крайней и дерзкой формулы», говорит Добролюбов, до сих пор в русской литературе не появлялось, да и не появится, потому что «никто из нас не лишен патриотизма». Эта вторая партия формулирует свои воззрения более умеренно, и они выглядят примерно, так: «Каждый народ проходит известный путь исторического развития; Запад вступил на этот путь раньше, мы позже; нам остается еще пройти многое, что Западом уже пройдено, и в этом шествии, умудренные чужим опытом, мы должны остеречься от тех падений, которым подверглись народы, шедшие впереди нас» (IV, 387).
Профессор Бабст, чьи путевые письма разбирает Добролюбов в статье «От Москвы до Лейпцига», принадлежал ко второй «великой партии», и именно это обстоятельство привлекло внимание критика к письмам Бабста, опубликованным в журнале «Атеней» (1859). Они давали руководителю русской революционной демократии удобную возможность высказаться в подцензурной печати по многим злободневным политическим вопросам и сформулировать свою точку зрения.
Заключительные абзацы статьи «Современника» как будто бы говорили о том, что автор разделяет взгляды путешествовавшего по Германии русского профессора:
«Да, счастье наше, что мы позднее других народов вступили на поприще исторической жизни. Присматриваясь к ходу развития народов Западной Европы и представляя себе то, до чего она теперь дошла, мы можем питать себя лестною надеждою, что наш путь будет лучше. Что и мы должны пройти тем же путем, это несомненно и даже нисколько не прискорбно для нас. Об этом говорит и г. Бабст... Что и мы на пути своего будущего развития не совершенно избегнем ошибок и уклонений, — в этом тоже сомневаться нечего. Но все-таки наш путь облегчен; все-таки наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые
- 205 -
так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное, — мы можем и должны идти решительнее и тверже, потому что уже вооружены опытом и знанием..., к счастью, у нас есть такие энергические деятели, как г. Бабст, которые своими призывами и указаниями на то, что делается у других, пробуждают и нас от дремотной лени... Радуясь этому прекрасному явлению, мы решились своим слабым голосом аккомпанировать мощной речи г. Бабста, с кротким намерением заметить только, — что и того, что сделано у других, всё это слишком мало...» (IV, 402).
Однако только наивный простак мог поверить в согласие автора статьи «Современника» со взглядами Бабста. В действительности статья Добролюбова содержала не «кроткое намерение» кое-что прибавить к мыслям профессора, а решительную и последовательную критику политических позиций последнего, критику капиталистического общества и разоблачение самодержавно-крепостнических порядков в России.
Бабст, ставя в пример России Западную Европу, в частности Германию, рассматривал капиталистический строй как образец, которому следует подражать. Правда, он видел и в Германии некоторые недостатки, какие следовало бы устранить, но в целом, по его мнению, капиталистический строй не нуждается в изменениях. Таким образом, он занимал позицию либеральствующего буржуазного идеолога. Понятно, что революционный демократ должен был отмежеваться от него со всей решительностью. Так Добролюбов и поступил. Он показал, во-первых, что «о роли народных масс в будущей истории Западной Европы почтенный профессор думает очень мало» (IV, 393). Ссылаясь на факты, приводимые самим Бабстом, он доказал, что нелепо тешиться мыслью, будто все недостатки капиталистического общественного порядка есть частные недостатки и легко могут быть исправлены образованностью общества и гласностью общественного мнения. Бабст считал, что «свобода труда непременно когда-нибудь восторжествует и разобьет в конец последние остатки средневековых промышленных стеснений». На это Добролюбов резонно отвечал, что замена феодализма капитализмом не есть освобождение труда, а лишь изменение формы эксплуатации трудящихся, которая при капитализме делается еще более ловкой и утонченной. И не просвещение, не общественная гласность могут сыграть в этом деле решающую роль. «Призовите на помощь историю: где и когда существенные улучшения народного быта делались просто вследствие убеждения умных людей, не вынужденные практическими требованиями народа?» (IV, 396, 395).
Одна из главных мыслей статьи «От Москвы до Лейпцига» состоит в том, что не только Россия, но и страны Западной Европы нуждаются в коренных общественно-политических переменах: «... мы удивляемся, — писал Добролюбов, — каким образом могут некоторые ученые люди защищать благодетельность паллиативных мер для будущего прогресса Западной Европы и отвергать реформы общие и решительные, как гибельные для ее благоденствия» (IV, 400—401). Эти строки свидетельствуют, что, говоря о неизбежности движения России по пути капиталистического развития, Добролюбов, в отличие от Бабста, считал капиталистический уклад не конечной целью развития, а лишь определенным этапом, остановиться на котором значило бы «остановиться на полдороге к цели» (IV, 400). Отвергая эту «ужасную ошибку», в которую «постоянно впадали» народы Западной Европы, он считал необходимым, чтобы русский народ, используя западноевропейский опыт, двигался «решительнее и тверже».
Таким образом, в решении вопроса об историческом пути России Добролюбов проявил необычайную последовательность, а между тем известно,
- 206 -
что по этому поводу в рядах русской революционной демократии господствовало иное мнение: считалось, что Россия может придти к социализму, минуя путь капиталистического развития.
Всё это показывает, что, приобретая за годы работы в «Современнике» опыт политической борьбы, Добролюбов всё более правильно и глубоко начинал постигать сущность общественных явлений. К нему вполне применима ленинская характеристика философских взглядов Герцена: Добролюбов также вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом.
3
Наряду с Белинским и Чернышевским, Добролюбов является одним из самых выдающихся представителей литературно-критической мысли в России. Его статьи на историко-литературные темы и разборы произведений современных писателей по глубине мысли, тонкости эстетического анализа и мастерству изложения принадлежат к числу величайших достижений русской критики.
Значение работ Добролюбова в этой области, его влияние на творчество отдельных писателей и на развитие отечественной литературы в целом определяются прежде всего глубоко прогрессивным содержанием его литературно-критической деятельности, его борьбой за передовую реалистическую литературу, правдиво отражающую действительность, вскрывающую пороки и язвы крепостнического режима, воспитывающую в широких массах ненависть к этому режиму. Как подлинный демократ, верный ученик Белинского, Добролюбов разоблачал в своих статьях все проявления реакционной и либерально-реформистской идеологии в литературе, горячо поддерживал молодые и свежие силы, страстно звал передовую литературу к служению «святому делу» борьбы за освобождение народа. С точки зрения задач этой борьбы, с точки зрения революции он оценивал любое явление искусства: помогает ли оно «святому делу» или мешает ему — вот какой вопрос прежде всего ставил перед собой критик, определяя достоинство того или иного произведения.
Первая же статья Добролюбова, положившая начало его славной работе в «Современнике», носила программный характер: в ней была изложена позиция молодого критика, выражен его взгляд на задачи литературного исследования. Несмотря на свою узко академическую тему — разбор журнала XVIII века «Собеседник любителей российского слова», статья носила остро публицистический характер и была направлена против крохоборческой, лженаучной критики, оторванной от жизни и чуждой современности. Добролюбов жестоко высмеивал схоластическую критику, переставшую влиять на судьбы литературы и погрузившуюся в узкий мир библиографических подробностей, интересных лишь «избранным». Выступая против дворянско-буржуазной академической науки, условно называя ее «библиографическим направлением» в критике, Добролюбов писал: «... позвольте же мне более уважать критика, который дает нам верную, волную, всестороннюю оценку писателя или произведения, который произносит новое слово в науке или искусстве, который распространяет в обществе светлый взгляд, истинные, благородные убеждения... И долго будет в обществе отзываться звучный, ясный голос этого критика, долго будет чувствовать народ благотворное влияние его убеждений, его горячей, смелой, задушевной проповеди» (I, 30—31).
- 207 -
Такому представлению о призвании критика-гражданина, проповедника благородных убеждений и воспитателя общества как нельзя лучше отвечала вся дальнейшая деятельность самого Добролюбова.
В статье о «Собеседнике» он подверг тщательному изучению журнал, занимавший «видное место в истории русской литературы и в особенности журналистики..., в продолжение двух лет своего издания он совмещал в себе почти всю литературную деятельность русских писателей того времени» (I, 32). Но, в отличие от либеральной науки, высоко оценивавшей успехи сатирической литературы XVIII века, Добролюбов в своих суждениях о ней был чрезвычайно сдержан. Искусно маскируя смелые мысли, Добролюбов раскрывал перед читателем дворянско-помещичий характер литературы, возглавлявшейся Екатериной II, показывал бессилие и беззубость официальной сатиры, бесплодность ее обличений, не выходящих за пределы дозволенного императрицей. Самые предметы обличения — французское воспитание, плохие стихотворцы, женское легкомыслие — говорят о том, что коренные пороки крепостнического общества не привлекали внимания сатириков. Да и трудно требовать от них серьезных обличений, говорит Добролюбов, если на страницах «Собеседника» «нет почти ни одного произведения, в котором бы как-нибудь, кстати или некстати — всё равно, — не выразились чувства благоговения к государыне» (I, 81). Эта последняя, по словам критика, в своих собственных произведениях умела «набросить на все темные явления русской жизни и истории какой-то светлый, даже отрадный колорит»; при этом она старательно подчеркивала «во всем, в чем только можно, что всякое добро нисходит от престола» (I, 43, 45). Яркими сатирическими красками Добролюбов набрасывает портрет Екатерины II, кокетничавшей своим знакомством с просветителями и вольнодумцами Западной Европы и в то же время панически боявшейся проникновения этой гибельной «заразы» в Россию.
Свои суждения о литературе XVIII века Добролюбов развернул в более зрелой статье «Русская сатира в век Екатерины» (1859), где с еще большей силой и остротой поставлен вопрос о слабости сатирических изданий того времени. Правда, обратившись снова к историческому материалу, Добролюбов прямо предупреждал читателей «Современника», что перед ними не только научное исследование, но и злободневное выступление, направленное против мелкого либерального обличительства, столь распространенного в литературе конца 50-х годов. Действительно, в этой статье, как и во многих других, Добролюбов умело сочетал серьезность научного исследования, разработку мало изученного историко-литературного материала с разрешением актуальных литературно-политических задач, стоявших перед «Современником», и прежде всего задач борьбы против либерализма.
В основе статьи Добролюбова лежит мысль о том, что «наша сатира не то и не так обличает» (II, 140). Привлекая обширный фактический материал, автор доказывал, что сатирики прошлого критиковали мелкие, частные недостатки, но «никогда почти не добирались... до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия» (II, 138). Иные из них нападали на «необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в обращении с низшими», но «весьма редко в подобных обличениях проглядывала мысль, что все эти частные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства... Никогда в сатирах наших вопрос о взятках не переходил в рассмотрение общего вреда бюрократии и тех обстоятельств, которыми сама бюрократия порождена и развита»
- 208 -
(II, 139). Такова была революционная постановка вопроса о сатире, которая, по мнению критика, должна была обличать не частные недостатки, а коренные основы крепостнического государства.
Добролюбов отмечал, что сами сатирики, пребывавшие в «забавных иллюзиях», искренно считали, что они делают важное дело, воображали, что от их слов может произойти «поправление нравов» в целой России (II, 150). Но все их усилия были по существу бесплодны, потому что они нападали главным образом на такие явления, которые в царствование Екатерины представляли собой пережитки старины, нередко преследовавшиеся самим правительством. В редких случаях сатира касалась крестьянского вопроса, но вместо единственно правильного вывода: «крестьяне тоже человеки, следовательно, помещики не имеют над ними никаких прав», — из этой сатиры в лучшем случае вытекало: «крестьяне тоже человеки, следовательно, не нужно над ними тиранствовать» (II, 170). В конце концов Добролюбов приходит к заключению, поражающему своей смелостью и глубоко революционному по существу: главная причина бессилия дворянской сатиры XVIII века состояла в том, что она «не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старалась исправить» (II, 166).
Внимательный читатель понимал, что этот вывод Добролюбова относился не только к прошлому, но и к современному состоянию литературы. Больше того, всем ходом своих рассуждений критик подводил читателя к мысли о необходимости коренного изменения существующих общественных отношений. Указывая на дворянско-крепостнический характер екатерининской сатиры, на ее враждебность народу, Добролюбов звал современную литературу к активному разоблачению самых основ самодержавного строя, звал к революционному действию. Он считал, что, только отказавшись от «маниловского характера» и «обломовской миловидности», сатира обретет подлинную силу обличения и сможет служить народным интересам. Добролюбов придавал очень большое значение сатире, считал ее «могучим деятелем» общественного развития (I, 32) и потому постоянно возвращался в своих статьях к вопросам сатирического направления в русской литературе.
Следует иметь в виду, что, увлеченный своей полемической задачей — стремлением как можно решительнее осудить либеральное обличительство, Добролюбов, проводя исторические параллели, не вполне четко представлял себе особенности процесса формирования русской литературы. Но и при всей суровости приговора, вынесенного революционным демократом дворянской литературе XVIII века, он все-таки не забывал отметить такие прогрессивные явления, как журналы Н. И. Новикова, книгу А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и др. Разумеется, Добролюбов не имел возможности говорить о них полным голосом. Поэтому он ограничился только глухим напоминанием о тех мерах, какие употребляла Екатерина, преследуя «свободоязычие». Так, она прекратила издательскую деятельность Новикова и посадила его в Шлиссельбургскую крепость. «Еще более гнев императрицы на литературу возбужден был известным „Путешествием из Петербурга в Москву“ Радищева»; далее Добролюбов называет эту книгу «едва ли не единственным исключением в ряду литературных явлений того времени» (II, 148, 149) и пытается доказать, что «строгости», принятые Екатериной, были излишни, поскольку эта книга «стояла совершенно одиноко» и не могла быть опасной для существующего порядка. Вряд ли можно сомневаться в том, что в действительности критик прекрасно понимал, какая разрушительная сила была заключена в книге Радищева.
- 209 -
От внимания Добролюбова не укрылся и мало кому известный в его время «Отрывок из путешествия» И. Т., напечатанный в «Живописце» Н. И. Новикова; критик выделил «Отрывок» из прочих материалов «Живописца», отметив, что его безымянный автор ушел «гораздо далее всех обличителей того времени». Добролюбов обнаружил в «Отрывке» ясную мысль о том, что «вообще крепостное право служит источником зол в народе» (II, 170), и этим определил достоинства произведения, которое советские исследователи приписывают Н. И. Новикову (впрочем, не может считаться окончательно отвергнутым и предположение о принадлежности его А. Н. Радищеву).
Все эти верные наблюдения над прогрессивными явлениями русской литературы прошлого Добролюбов не смог глубоко обобщить и привести в стройную систему. Правда, еще в статье «Собеседник любителей российского слова» он высказал мысль о том, что прогрессивно-сатирическое направление «никогда не замирало у нас..., и во всем, что есть лучшего в нашей словесности, от первых народных песен до произведений Гоголя и стихотворений Некрасова, видим мы эту иронию, то наивно открытую, то лукаво-спокойную, то сдержанно-желчную» (I, 33). Но эта важная мысль не получила развития, не стала основой общего взгляда на историко-литературный процесс; произведения передовой литературы XVIII века выглядят в освещении Добролюбова единичными и более или менее случайными, они не показаны в русле той демократической традиции, которая привела к величайшим достижениям реализма в XIX веке.
Наиболее полное и законченное выражение историко-литературная концепция Добролюбова, сложившаяся под несомненным влиянием Белинского, получила в одной из важнейших его статей — «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858), написанной по поводу второго издания книги А. Милюкова «Очерк истории русской поэзии». Добролюбов воспользовался выходом этой книги, чтобы рассмотреть процесс развития русской литературы — от начала зарождения письменности до Гоголя — с точки зрения ее близости интересам и стремлениям народа, с точки зрения ее народности.
В начале статьи Добролюбов говорит о «великом значении литературы» для общества. Он полемизирует с «некоторыми книжниками», полагающими что «литература заправляет историей», и доказывает, что именно развитие общества определяет характер и развитие литературы (I, 204, 205). «Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни...»; в подтверждение своей мысли критик ссылается на «великие поэмы первых веков человечества» (I, 207, 205). В чем секрет их обаяния и вечной молодости, почему нас до сих пор волнуют творения Гомера, Вергилия? Потому, отвечает Добролюбов, что в них «отразилась живая действительность... Там видна жизнь своего времени, и рисуется мир души человеческой с теми особенностями, какие производит в нем жизнь народа в известную эпоху...» (I, 205).
Для того чтобы литература могла осуществлять свое общественное назначение, необходимы два условия: свобода ее развития и известный круг воздействия, т. е. читательская аудитория. Литература может служить верным показателем того, к чему стремится общество, какие вопросы его волнуют, но только в том случае, если ее голос «не стесняется разными посторонними обстоятельствами» (I, 208; Добролюбов имеет в виду цензуру). Литература, по Добролюбову, — мощное средство пропаганды. Но ее возможности ослабляются «малостью круга, в котором она действует». Узость сферы ее влияния — вот обстоятельство, о котором, по словам Добролюбова,
- 210 -
«... невозможно без сокрушения вспомнить и которое обдает нас холодом всякий раз, как мы увлечемся мечтаниями о великом значении литературы и о благотворном влиянии ее на человечество» (I, 209).
Литература, которая чужда народу, не отражает его интересов и мнений, неизбежно обречена на замкнутость, на обслуживание незначительного кружка «избранных»; она бесполезна для народа даже и в том случае, если речь идет о предметах, прямо его касающихся, ибо они трактуются «не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса». Добролюбов отмечает, что «между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе» (I, 211). Он приходит к выводу, что литература не может выполнять свои общественные задачи, если она недоступна широким массам, даже не знающим о ее существовании. Как живут, спрашивает критик, десятки миллионов людей, «не читающих наших газет и журналов? Участвуют ли они в тех рассуждениях о возвышенных предметах, какие мы с такою гордостию стараемся поведать миру? Интересуют ли их наши художественные создания, которыми мы восхищаемся?». Ответ на эти вопросы мог быть только отрицательным. И Добролюбов с горечью говорит о той пропасти, которая отделяет русскую культуру от породившего ее народа: «... народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений Державина..., даже юмор Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже он и грамоте выучится: он должен заботиться о том, как бы дать средства полмиллиону читающего люду прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишут для удовольствия читающих» (I, 209, 210).
В этих рассуждениях ясно выражена мысль революционного демократа и просветителя: до тех пор, пока существует самодержавно-крепостнический строй, культура будет привилегией паразитических классов, достоянием ничтожной кучки людей. Отсюда сама собой вытекала задача: чтобы уничтожить препятствия, стоящие на пути развития подлинно народной, реалистической литературы, выражающей интересы масс, необходима ликвидация крепостнического уклада и самодержавного государства.
Переходя к обзору исторического развития русской литературы с древних времен, Добролюбов говорит о славянских песнях, былинах, «Слове о полку Игореве» и других произведениях народного эпического творчества, доказывающих, что «в народе нашем издревле хранилось много сил для деятельности обширной и полезной, много было задатков самобытного, живого развития» (I, 215). Он рассматривает возникновение книжной словесности, отмечает постепенное расширение круга распространения письменности, которая обслуживает преимущественно религиозные нужды и является привилегией духовенства. Много еще пройдет веков, прежде чем голос настоящей, действительной жизни вторгнется в литературу. Еще дальше те времена, когда она сумеет непосредственно отразить народные интересы. Но всё же литература постепенно приближается к действительности, ее содержание расширяется, сфера ее влияния растет.
В своих оценках крупнейших явлений русской литературы нового времени Добролюбов опирался на наследие Белинского, в новых условиях развивая многие его мысли. Общественно-политическая обстановка в стране к концу 50-х годов существенно отличалась от обстановки предыдущего десятилетия. Рост крестьянских волнений, подъем общественного движения привели к укреплению лагеря революционной демократии, к четкому оформлению его политической программы — программы крестьянской революции.
- 211 -
С другой стороны, лагерь либерального дворянства окончательно определился как сила, враждебная революции. В условиях обострения классовых противоречий приобрели бо̀льшую остроту и вопросы литературы, в частности, вопросы ее исторической оценки. Перед критикой демократического лагеря встали новые задачи, и прежде всего задача сближения литературы с передовым общественным движением. Этим объясняется, что Добролюбов со всей политической непримиримостью бойца-шестидесятника очень резко оценивал дворянскую литературу XVIII века, решительно отказывая ей в народности, в положительном содержании. Он подчеркивал, что даже наиболее видные писатели того времени старались «вести себя сколько можно аристократичнее в отношении к низким предметам, касающимся быта простого народа и в отношении к самому этому народу, к подлому народу, как называли тогда публику, не принадлежавшую к высшему кругу» (I, 230).
Далекой от потребностей народа была, по мнению Добролюбова, и сатирическая литература того времени, умевшая замечать только те пороки, которые были уже «уличены, опубликованы и всенародно наказаны». Добролюбов саркастически отзывается о сатирах Кантемира, направлявшего свое «благородное негодование против Медора, завивающего кудри, против Менандра, переносящего вести, против скупого Хризиппа» и т. д. (I, 239, 240). Он высмеивает трагедии Сумарокова, герои которых «вещали высоким слогом нелепейшие бессмыслицы» (I, 230). Суровую оценку он дает «высокопарным пиитам» Хераскову и Княжнину, далеким, по его мнению, от общественных интересов, равнодушных к «нуждам и страданиям людей, если они только не пользуются громкими титулами» (I, 231).
Добролюбов возражает против мнения, будто Державин целым веком отделен от ломоносовских времен. С точки зрения реального содержания своего творчества, Державин, по словам критика, недалеко ушел даже от Симеона Полоцкого. Добролюбов приводит его «не совсем гуманное» восклицание:
Прочь, дерзка чернь, непросвещенна
И презираемая мной!(I, 231)
Это подчеркнуто презрительное отношение к народу вызывает прямое осуждение со стороны критика-демократа, считающего, что стихи Державина носят на себе «отпечаток то отвлеченной мертвой схоластики, то эпикурейских ощущений..., то придворного шутовства в духе нравов того времени» (I, 231). От слов Добролюбова веет искренней ненавистью ко всему, что чуждо и враждебно простому народу. И тем не менее этих слов недостаточно для всесторонней оценки литературных явлений XVIII века, в частности, поэзии Державина. Суждения Добролюбова складывались в обстановке ожесточенной борьбы против дворянской культуры, и этим во многом объясняется их резкость и острота. Полемически заостряя свои высказывания, Добролюбов нередко проходил мимо положительного опыта, уже накопленного русской литературой в XVIII веке. К тому же — и это нельзя забывать — он не имел возможности писать о революционной линии развития отечественной литературы, о таких ее представителях, как Радищев.
После Державина наиболее значительным писателем, уже свидетельствующим, по мнению Добролюбова, о некотором движении в литературе, явился Карамзин; по отношению к нему критик был также суров и непримирим, как и ко всем другим дворянским писателям. Признавая некоторые заслуги Карамзина, он подчеркивал, что черты реальной действительности находят у автора «Бедной Лизы» весьма ограниченное отражение. «Точка зрения на всё попрежнему отвлеченная и крайне аристократическая».
- 212 -
Правда, Карамзин пытался изображать явления, существующие в жизни: нежные чувства, любовь к природе, простой быт. Но природу он брал «из Армидиных садов», «нежные чувства — из сладостных песен трувёров и из повестей Флориана, сельский быт — прямо из счастливой Аркадии». Добролюбов указывает на слащавое лицемерие карамзинской проповеди, будто умеренность — лучше всякого богатства: «Это проповедует человек, живущий в довольстве и который, после вкусного обеда и приятной беседы с гостями, садится в изящном кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, описывать блаженство бедности на лоне природы» (I, 232). С необычайной яркостью Добролюбов обнажает здесь классовые основы идиллически-сентиментальных традиций карамзинской школы.
Столь же резкую оценку дает Добролюбов и «поклоннику и последователю» Карамзина — Жуковскому. «Мечтательность, призраки, стремление к чему-то неведомому, надежда на успокоение там, в заоблачном тумане..., соединение державинского парения с сентиментальностью Коцебу, — вот характеристика романтической поэзии, внесенной к нам Жуковским» (I, 232—233). Единственное, что сближало ее с «русской народностью», это интерес к народным суевериям, воспроизведенным в балладах («Светлана»); во всем остальном поэзия Жуковского отделялась от народного духа «неизмеримой пропастью». Тем не менее Добролюбов признает, что и Карамзин, и Жуковский получили в русском обществе такое значение, какого не имели их предшественники; критик объясняет это тем, что оба они «удовлетворяли потребностям того общества, которое их читало», т. е. дворянского общества (I, 233).
Разумеется, народ не знал повестей Карамзина и баллад Жуковского. Но всё же круг влияния литературы расширился. Если Державина знали главным образом среди придворной знати, то произведения Карамзина и Жуковского «перечитывались, можно сказать, во всем дворянском круге» (I, 233). Появилась дворянская интеллигенция, увеличилось количество людей, интересующихся литературой. Некоторое приближение литературы к действительности и составляет в глазах Добролюбова тот «значительный шаг вперед», который сделала карамзинская школа (I, 233). Однако это всё еще был «неудачный суррогат действительности, на которую явилась уже потребность, но которую боялись дать живьем, боясь оскорбить отвлеченные требования искусства» (I, 234).
Новую эпоху в развитии русской литературы открыл Пушкин. «... Он в своей поэтической деятельности первый выразил возможность представить, не компрометируя искусства, ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле. В этом заключается великое историческое значение Пушкина» (I, 234). Заслуга Добролюбова состоит в том, что он глубоко понял это и, вслед за Белинским, доказал еще в своей ранней статье «Александр Сергеевич Пушкин» (1856); здесь, в противовес реакционно-дворянской точке зрения, он настойчиво стремился показать Пушкина как первого народного общенационального поэта, сыгравшего огромную роль в истории русской культуры и литературы.
Добролюбов проницательно связывает возможность появления пушкинской поэзии с историческими событиями Отечественной войны 1812 года когда «русские стали приходить к самосознанию»; он подчеркивает, что Пушкин близко стоял к народу, входил «в соприкосновение со всеми классами русского общества» (I, 114). Критик прежде всего выделяет реалистическое начало в поэзии Пушкина, резко отличающее его от предшествующих поэтов, которые «в наемном восторге воспевали по заказу иллюминации» (I, 113)
- 213 -
или ударялись в сентиментальность и плакали над вымышленными героями. Пушкин, по мнению Добролюбова, сумел преодолеть эти направления, далекие от реальных нужд народа, и «создать на Руси свою самобытную поэзию». Он «умел постигнуть истинные потребности и истинный характер народного быта»; он «откликнулся на всё, в чем проявлялась русская жизнь» (I, 114).
В сложных условиях литературно-политической борьбы конца 50-х годов, когда идеологи реакционного дворянства, фальсифицируя наследие Пушкина, пытались сделать из него знамя антинародных литературных течений, Добролюбову не удалось до конца вскрыть глубоко прогрессивное содержание пушкинского творчества, тем более что по цензурным условиям ряд политически острых произведений Пушкина Добролюбову не мог быть известен. Он не умел отрешиться от своего представления о Пушкине как дворянском художнике и говорил об ограниченности пушкинского реализма, считая, что он был направлен прежде всего на изображение «положительно прекрасных моментов жизни» и страдал недостатком обличительного, критического начала. В силу известной ограниченности своего мировоззрения Добролюбов не мог понять, что по объективному значению своего творчества, по его реальному историческому содержанию русский художник начала XIX века мог быть народным, если он даже был связан с господствующим классом того времени. Поэтому критик не мог раскрыть проблему народности Пушкина во всей ее глубине и показать всю силу и своеобразие пушкинского реализма.
Тем не менее для нас важны не слабые стороны добролюбовского понимания Пушкина, явившиеся следствием определенных исторических обстоятельств, а те его суждения, в которых даны верные и точные оценки, не потерявшие своего значения и в наши дни. Некоторые явно ошибочные положения Добролюбова (например, его утверждение, что Пушкин «умел овладеть» только «формой русской народности») находятся в прямом противоречии с другими его высказываниями, в которых критик нашел для характеристики Пушкина сильные и справедливые слова, свидетельствующие об историческом подходе к его наследию, о проникновенном понимании его поэзии. Добролюбов, несомненно, и сам порой ощущал это противоречие, особенно встречаясь с фактами, опровергавшими многие из тех предвзятых мнений, которые распространяли и навязывали мнимые почитатели поэта из либерально-дворянского лагеря. Несмотря на то, что они усердно старались представить Пушкина певцом «звуков сладких и молитв», Добролюбов высоко ценил его политическую лирику (хотя и не умел связать творчество Пушкина с передовым общественным движением того времени — движением декабристов). Размышляя над Пушкиным, он стремился найти в нем такие черты, которые были не по душе его противникам. Так, он подчеркивал враждебное отношение поэта к «свету», его «настроение вечного, неудовлетворяемого беспокойства» (I, 117); он указывал на то, что в «Памятнике» выразилось чувство ответственности поэта перед обществом. Добролюбов отмечал, что именно Пушкин подсказал Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» и видел в этом доказательство серьезного понимания поэтом интересов и нужд русского общества.
Добролюбов, не знавший многих произведений Пушкина, внимательно следил за всеми новыми публикациями их в печати, о чем особенно красноречиво свидетельствует его рецензия на седьмой (дополнительный) том сочинений Пушкина, издававшихся П. В. Анненковым. Добролюбов впервые познакомился здесь с двумя «Посланиями к цензору», со статьей Пушкина о Радищеве, со стихотворением «О муза пламенной сатиры!», которое
- 214 -
с удовлетворением истолковал как обещание поэта «приняться за сатиру и клеймить пороки» (I, 322). Знакомясь с этими произведениями, критик уточнял и даже отменял некоторые свои предыдущие оценки. Коснувшись полемики Пушкина с Булгариным, Добролюбов характеризовал выступления поэта как «яркие, живые, энергические, убийственно остроумные статьи» (I, 317). Он критиковал Анненкова за его попытки «пригладить» Пушкина, смягчить политическую остроту многих стихотворений; он сетовал, что издатель не включил в книгу пушкинские эпиграммы и послание к Чаадаеву — «гордое послание», в котором поэт «поверял своему другу свои надежды и мечты» (I, 320). Нет сомнения, что Добролюбов близко подходил к правильной, исторически справедливой оценке великого русского поэта.
Итогом всех наблюдений Добролюбова было признание того факта, что Пушкин явился основоположником реализма, способного создать разоблачительные картины крепостнической действительности. На смену Пушкину пришел Гоголь. Именно ему суждено было продолжить и поднять на новую высоту традиции критического реализма, заложенные Пушкиным.
Еще Белинский утверждал: «... мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени...».1 Это отношение к Гоголю характерно также для Чернышевского и Добролюбова. Критика революционной демократии в творчестве автора «Ревизора» и «Мертвых душ» увидела черты беспощадного реализма, смелой сатиры, отрицания действительности. Пафос социального обличения не достигал такой силы в произведениях догоголевской литературы. Поэтому имя Гоголя сделалось символом, обозначавшим обличительное, «гоголевское» направление в искусстве. Его принципы были обоснованы Белинским; исчерпывающую характеристику нового направления дал в «Очерках гоголевского периода» Чернышевский. Таким образом, Добролюбову не было необходимости специально писать о Гоголе. Отдельные высказывания критика позволяют судить о том, как высоко ставил он творчество великого сатирика, который «изобразил всю пошлость жизни современного общества» (I, 236). Высмеивая бессилие старой сатиры, Добролюбов противопоставлял ей «сатиру гоголевского периода». Он писал: «Мы же, с своей стороны, признаем только плодотворность сатиры Лермонтова, Гоголя и его школы...» (I, 244). Любопытно, что в своих статьях Добролюбов постоянно цитировал Лермонтова и очень часто, по самым различным поводам, ссылался на сатирические образы «Ревизора» и «Мертвых душ». Однако и Гоголь не во всем удовлетворяет критика, хотя он и был страстным поборником «гоголевского» направления. Гоголь, по мнению Добролюбова, «в лучших своих созданиях очень близко подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической ощупью» (I, 244). Изобразив пошлость жизни, он сам ужаснулся: «... он не сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, где ее нужно до конца преследовать...» (I, 237). И Гоголь начал искать идеалы там, где их не было, обратился к нравственному самоусовершенствованию; результатом были его «жалкие аскетические попытки» — реакционная книга «Выбранные места из переписки с друзьями».
В послепушкинской литературе Добролюбов выделяет двух писателей, постоянно привлекавших его внимание: Кольцова и Лермонтова. В поэзии
- 215 -
Кольцова критик настойчиво подчеркивал ее жизненную правдивость, близость к народу. «В его стихах впервые увидали мы чисто русского человека, с русской душой, с русскими чувствами, коротко знакомого с бытом народа, человека, жившего его жизнью и имевшего к ней полное сочувствие» (I, 127), — так писал Добролюбов в своей книжке, посвященной Кольцову (1858). В самом факте появления кольцовской музы, поднявшейся с самых низов жизни, критик-демократ видел доказательство неиссякаемой талантливости народа, придавленного вековым гнетом. Однако он не закрывал глаза и на слабые стороны стихов Кольцова: «... простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только с своими частными житейскими нуждами...» (I, 237—238). Критик сожалеет, что песням Кольцова недостает той политической остроты, которая свойственна, например, песням Беранже. Правдивость и народность Кольцова, при всем их огромном значении, еще далеки от той боевой поэзии, о которой мечтал Добролюбов.
Поражает своей проницательностью его лаконичная, но глубоко содержательная оценка Лермонтова (в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы»). По словам Добролюбова, Лермонтов рано сумел постичь недостатки современного общества и понять, что «спасение от этого ложного пути находится только в народе». В доказательство критик ссылается на стихотворение «Родина», проникнутое истинным патриотизмом и содержащее выражение «чистой любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь» (I, 238). Верно указав то направление, в каком развивался Лермонтов, Добролюбов подчеркнул, что слишком ранняя смерть помешала ему укрепиться на новых позициях.
Мысли Добролюбова о прошлом русской литературы, несмотря на отдельные крайности и односторонние выводы, отличаются необычайной целеустремленностью в проведении революционно-демократической точки зрения. Все литературные школы и направления расцениваются им в зависимости от их отношения к принципам народности и реализма. В какой мере полно то или иное явление литературы отражает реальную действительность, соответствует ли оно интересам народа, отвечает ли его нуждам, — вот что является решающим для Добролюбова. С этих позиций он выносит решительное осуждение дворянской литературе допушкинского времени, приветствует поэзию «действительной жизни», открытую Пушкиным, активно поддерживает «гоголевское» направление, народность Кольцова и Лермонтова.
Разрабатывая свое понимание реализма в русской литературе, Добролюбов настойчиво стремится выделить народную, реалистическую тенденцию в ее развитии. В представлении критика реализм и народность — понятия, теснейшим образом связанные, невозможные одно без другого. Искусство, далекое от народа, далеко и от жизни, оно не может быть подлинно реалистическим искусством. В неуклонном «сближении литературы с жизнью» Добролюбов видит залог будущего расцвета подлинно народной литературы.
Вся литературно-критическая деятельность Добролюбова была неустанной борьбой за новую реалистическую литературу, за новый тип писателя — подлинного трибуна масс, который претворит в своем творчестве художественные достижения прошлых поколений, оплодотворит их светлыми революционными идеалами, сблизит литературу с народом. Добролюбов требовал от художников своего времени сознательного служения высоким общественным идеалам, умения откликаться на насущные запросы жизни, поднимать наиболее острые вопросы современности. Он требовал жизненной
- 216 -
правды от художника. «Жизненный реализм должен водвориться и в поэзии, и ежели у нас скоро будет замечательный поэт, то, конечно, уж на этом поприще, а не на эстетических тонкостях» (II, 578).
Все надежды Добролюбова устремлены в будущее, к тому времени, когда появится этот замечательный поэт — «человек с сильным поэтическим талантом, с горячим сочувствием к интересам родины, с уменьем отозваться благородно и смело на все общественные и народные явления...» (I, 297).
*
В основе литературной программы «Современника», развивавшей принципы и традиции Белинского, лежала забота о создании подлинно народной литературы, которая служила бы делу крестьянской революции, делу освобождения и просвещения русского народа. С точки зрения этих высоких требований Добролюбов подходил и к современной литературе. Осуществляя литературную политику «Современника», он опирался, с одной стороны, на наследие Белинского, с другой — на основные положения революционно-демократической эстетики, разработанные в теоретических трудах Чернышевского. Полностью разделяя эти положения, Добролюбов не раз подчеркивал единство своих взглядов со взглядами своего учителя и соратника.1 Это не мешало Добролюбову оставаться вполне самостоятельным мыслителем, сумевшим не только применить на практике свои эстетические принципы, т. е. дать блистательные разборы многочисленных явлений современной литературы, но и внести много существенно нового в разработку важнейших эстетических проблем, и в первую очередь проблемы реализма.
Добролюбов испытал многообразное и глубокое влияние Белинского. Он по праву считал себя его идейным наследником, продолжателем его работы в русской литературе, работы во имя народа и будущего. Он писал, что влияние великого критика «ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного» (II, 470). Отзывы Добролюбова о своем предшественнике, полные глубочайшего уважения, свидетельствуют о том, что Белинский являлся в его глазах непревзойденным идеалом русского деятеля, идеалом критика — гражданина и патриота. Еще в статье о Кольцове, написанной в начале 1857 года и вышедшей отдельным изданием, Добролюбов воспользовался случаем, чтобы напомнить о громадном значении Белинского для отечественной литературы. Вскоре после того, как был снят цензурный запрет, тяготевший над именем великого критика, Добролюбов писал о нем: «... этот человек много сделал для развития всей нашей литературы... Его слово всегда имело высокую цену, принималось с любовью и доверием... Его критические статьи читались с жадностью, с восторгом, его мнения находили себе жарких защитников и последователей, хотя большая часть читателей и не знала, кто именно высказывает в журнале эти мнения. И самое это обстоятельство уже показывает, сколько ума и силы было в Белинском» (I, 141).
Добролюбов особенно подчеркивал роль Белинского как критика, впервые оценившего творчество Гоголя. В той же статье о Кольцове, указывая, что Белинский «обладал необыкновенной проницательностью и удивительно светлым взглядом на вещи», Добролюбов в подтверждение этого напоминал:
- 217 -
«... Белинский тогда же, прежде всех, понял, какое значение имеет Гоголь..., он постоянно защищал Гоголя против всех обвинений других критиков, и статьи его доказывают, что он совершенно ясно и верно понимал, в чем заключаются истинные достоинства Гоголя и сущность его таланта. Прошло двадцать лет, вся русская публика признала, вслед за Белинским, великое значение Гоголя, и порицатели его принуждены были умолкнуть...» (I, 141). Спустя год, характеризуя состояние литературы в 40-х годах, Добролюбов писал: «За Гоголем возвышался гениальный критик его, энергически громко и откровенно объяснивший России великое значение ее национального писателя» (I, 203).
В конце 50-х годов вокруг наследия Белинского шла ожесточенная борьба. Либерально-дворянские писатели, когда-то общавшиеся с критиком, претендовали на роль хранителей его традиции. Революционные демократы отстаивали свою точку зрения и считали необходимым постоянно подчеркивать, что именно они, а не либералы, являлись подлинными продолжателями дела Белинского. Добролюбов, воспламенявшийся гневом каждый раз, когда мнимые почитатели лицемерно заявляли о своей причастности к заветам критика, выступил против них с резким сатирическим стихотворением «На тост в память Белинского» (1858). Гневную отповедь всем, кто клеветал на Белинского, он дал в рецензии на книгу «Московский университетский благородный пансион» Н. В. Сушкова (1858), в которой было опубликовано письмо Ф. Ф. Вигеля, осмелившегося отнести автора «Письма к Гоголю» к числу врагов России. «Мы не в силах выразить наше негодование на эту клевету, — писал Добролюбов, — на это бессильное старание покрыть всю послегоголевскую литературу нашу, в которой только что и начинает проявляться истинно-народная русская мысль, — позором... Он, безвестный, бездарный, ничего не сделавший остряк..., он осмелился выступить со словом черной клеветы на Белинского, на этого человека, который сгорал любовью к родине, который понимал и ценил ее больше, чем тысячи Вигелей со всеми их друзьями и единомышленниками» (V, 298).
И, наконец, когда в 1859 году начало выходить первое собрание сочинений Белинского, Добролюбов встретил первый том этого издания буквально восторженной статьей в «Современнике», в которой выразил чувства всей передовой и мыслящей России. Расценивая выход первого тома как крупнейшее литературное событие, он говорил о живом, непреходящем значении Белинского, о том, что новые поколения читателей смогут приобщиться к его мыслям. «Во всех концах России, — свидетельствовал Добролюбов, — есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, это лучшие люди России!..». Добролюбов говорил здесь и о себе, о том, как еще в юные годы чтение Белинского открыло перед ним «совершенно новый мир знания, размышления и деятельности». «Да, в Белинском наши лучшие идеалы, в Белинском же история нашего общественного развития... Идеи гениального критика и самое имя его — были всегда святы для нас, и мы считаем себя счастливыми, когда можем говорить о нем» (II, 470, 471).
Приведенные цитаты убедительно говорят о том, какое место занимал Белинский в духовной жизни Добролюбова, сколь многим был обязан молодой критик своему учителю. Уместно напомнить здесь слова Некрасова, утверждавшего, что «в Добролюбове во многом повторился Белинский».1 Некрасов имел в виду боевой темперамент и целеустремленность критика,
- 218 -
его преданность революционному долгу, его умение воспитывать читателей, влиять на общество в революционном духе.
Все эти качества с большой силой проявились в первых же литературно-критических статьях Добролюбова в «Современнике», проникнутых духом воинствующего демократизма. Обратившись к современной литературе, он начал борьбу с реакционной идеологией, находившей свое выражение в многочисленных произведениях второстепенных писателей. Разбирая сочинения В. Соллогуба (1857), Добролюбов вскрывал классовую обусловленность его взглядов, кровно связанных с верхними слоями общества, с «большим светом». Уничтожающие статьи он посвятил сочинениям Е. Растопчиной, В. Бенедиктова, Е. Розена, А. Подолинского и некоторых других авторов, произнеся в этих статьях беспощадный приговор литературе реакционного дворянства, отживающей поэзии вчерашнего дня, выглядевшей прямым анахронизмом в условиях нового времени.
В годы обострения классовых противоречий особую опасность для дела революции представляла идеология дворянского либерализма, являвшаяся одним из опорных пунктов политической программы правящих классов и объективно смыкавшаяся с крепостничеством. Либералы, рядившиеся в одежды народолюбия, пытались красивыми словами прикрыть свою неспособность к настоящему делу; они пробовали даже осуждать пороки крепостнического режима, но на деле это было, по словам В. И. Ленина, «... борьбой внутри господствующих классов..., борьбой исключительно из-за меры и формы уступок. Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти».1
Идеологи крестьянской революции видели в либерализме своего злейшего врага и вели ожесточенную борьбу с его многочисленными проявлениями в литературе. Добролюбов с присущей ему политической проницательностью рано начал эту борьбу. Уже в первых своих статьях он намечал задачу развенчания «героя» либерально-дворянской литературы, человека безвольного, далекого от жизни, лишенного принципов и твердых убеждений. Так, он писал об одном из персонажей романа В. Соллогуба: «Ни правил, ни взглядов у него нет; он по легкомыслию готов совершить доблестный подвиг, так же, как и покуситься на гнуснейшее преступление... Он почти никогда не думает, а только кричит, повторяя то, что слышал от других, и слова его никогда не сходятся с поступками...» (I, 175). В этих словах Добролюбовым впервые набросана характеристика определенного общественного типа, вызывавшего к себе особую ненависть революционных демократов; позднее этот тип дворянского либерала был последовательно разоблачен Добролюбовым в его важнейших статьях.
С гораздо большей остротой вопрос о никчемных людях из дворянского круга поставлен в статье Добролюбова, посвященной «Губернским очеркам» Салтыкова-Щедрина (1857). Эта книга дала критику большой материал для политических обобщений. Опираясь на щедринское изображение «талантливых натур», он дал памфлетные характеристики «провинциальных Печориных» и «уездных Гамлетов», типичных порождений дворянско-крепостнической среды, загубившей в них всякое здоровое начало. Главные свойства этих людей — отсутствие самостоятельности в поступках, общественная бесполезность, тунеядство и беспринципность. «Лучшая из талантливых натур не пойдет дальше теоретического понимания того, что нужно, и громкого
- 219 -
крика, когда он не слишком опасен. В случае же обстоятельств неблагоприятных они или заговорят двусмысленно, или и совсем противно своим убеждениям. Самые отважные — замолчат, и свое молчание будут считать геройством» (I, 195).
Так разоблачал Добролюбов «героев» дворянского либерализма, превращая щедринское изображение «талантливых натур» в символ бессилия русских либералов. Оперируя термином «талантливые натуры», Добролюбов впервые наметил свой излюбленный критический прием, позднее широко примененный в статьях об «обломовщине», о «темном царстве», о романе «Накануне»; заимствуя у писателя найденное им понятие, критик широко истолковывает его, придает ему характер обобщения, всеобъемлющего символа. Спустя два года роман Гончарова «Обломов» позволил Добролюбову с еще большей резкостью обрушиться на того же противника; понятие «обломовщина» помогло ему глубоко раскрыть главное зло тогдашней жизни.
Статья о «Губернских очерках» примечательна и в том отношении, что она открывала собой целую эпопею борьбы Добролюбова за формирование кадров демократических писателей, за объединение вокруг «Современника» всех живых сил, способных выступить под его знаменем. Вопреки некоторым критикам, оценившим книгу Щедрина как заурядное произведение либерально-обличительной литературы, Добролюбов со свойственной ему прозорливостью указал, что в «Губернских очерках» нашли выражение насущные интересы народа. «Сочувствие к неиспорченному, простому классу народа, как и ко всему свежему, здоровому в России, выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо» (I, 201). Не закрывая глаза на политическую незрелость писателя, на противоречия в его мировоззрении, Добролюбов безошибочно предсказывал путь его дальнейшего развития, звал его в свой лагерь; со смелостью, достойной Белинского, он утверждал, что в массе народа «имя г. Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью...» (I, 200).
*
В апрельском номере «Отечественных записок» за 1859 год закончилось печатание романа И. Гончарова «Обломов», а уже в майской книжке «Современника» Добролюбов, умевший с необычайной быстротой откликаться на важные события политической и литературной жизни, выступил со статьей «Что такое обломовщина?». В это время в России назревала революционная ситуация. Процесс размежевания либералов и революционных демократов приобрел исключительную остроту. Роман «Обломов» с его реализмом, богатством жизненного материала давал в руки критику-революционеру сильное оружие для сокрушительного удара по либерализму.
Идейные противники Добролюбова не раз упрекали его в том, что под видом критических разборов он преподносит читателям политические статьи, публицистику. Не сомневаясь в том, что и новая статья даст повод для таких упреков, Добролюбов первый перешел в наступление.
«„Обломов“, — писал он язвительно, — вызовет, без сомнения, множество критик. Вероятно, будут между ними и корректурные, которые отыщут какие-нибудь погрешности в языке и слоге, и патетические, в которых будет много восклицаний о прелести сцен и характеров, и эстетично-аптекарские, со строгою поверкою того, везде ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено действующим лицам надлежащее количество таких-то и таких-то
- 220 -
свойств, и всегда ли эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте. Мы не чувствуем ни малейшей охоты пускаться в подобные тонкости, да и читателям, вероятно, не будет особенного горя, если мы не станем убиваться над соображениями о том, вполне ли соответствует такая-то фраза характеру героя и его положению, или в ней надобно было несколько слов переставить, и т. п. Поэтому нам кажется нисколько непредосудительным заняться более общими соображениями о содержании и значении романа Гончарова, хотя, конечно, истые критики и упрекнут нас опять, что статья наша написана не об Обломове, а только по поводу Обломова» (II, 6).
Наступая на своих противников, вытесняя их из той сферы, которую они считали своей монополией, — сферы эстетических оценок, — автор статьи «Что такое обломовщина?» связывает свое намерение заняться более общими соображениями о содержании и значении романа с особенностями художественного таланта Гончарова:
«Нам кажется, что в отношении к Гончарову более, чем в отношении ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты, выводимые из его произведения» (II, 6).
Добролюбов указывает, что одни писатели сами берут на себя труд объяснить читателю цель и смысл своих произведений, другие хотя и не высказывают своих намерений категорически, но так ведут рассказ, что каждая страница должна вразумить читателя. Совсем иной талант у Гончарова. Он не делает и, повидимому, не хочет делать никаких выводов. Изображаемая жизнь служит для него не средством выражения отвлеченной философии, а прямой целью сама по себе. Дело читателя так или иначе толковать смысл романа и формулировать для себя выводы из него. Другой отличительной особенностью писательского дарования Гончарова является его уменье охватить полный образ предмета. Он не останавливает внимание на какой-нибудь одной стороне его, забывая об остальных, а «вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления, и тогда уже приступает к их художественной переработке» (II, 7). Третья черта, характеризующая автора «Обломова», — спокойствие, трезвость, бесстрастность, с какой он изображает жизнь. Как следует относиться к этой особенности гончаровского повествования? «Составляет ли это высший идеал художнической деятельности или, может быть, это даже недостаток, обнаруживающий в художнике слабость восприимчивости? Категорический ответ затруднителен и во всяком случае был бы несправедлив, без ограничений и пояснений. Многим не нравится спокойное отношение поэта к действительности, и они готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого таланта. Мы понимаем естественность подобного приговора и, может быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши чувства, посильнее увлекал нас. Но мы сознаем, что желание это — несколько обломовское, происходящее от наклонности иметь постоянно руководителей, — даже в чувствах» (II, 9).
Из этих слов видно, что критик считал достоинством произведения спокойную, бесстрастную гончаровскую манеру изображения жизни, исключавшую навязывание читателю каких бы то ни было выводов. Но как согласовать это с добролюбовским взглядом на искусство, на его активную роль в общественной жизни? Отвечает ли это пониманию литературы как средства пропаганды определенных идей? В бесстрастности повествовательной манеры Гончарова Добролюбов видел не «слабость восприимчивости», не отсутствие чувства, а наоборот, глубину его. Чем скорее, стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолетным. Если же «человек умеет выдержать, взлелеять в душе своей
- 221 -
образ предмета и потом ярко и полно представить его, — это значит, что у него чуткая восприимчивость соединяется с глубиною чувства» (II, 9). Поэтому образы, созданные Гончаровым, действуют с огромной силой, они долго преследуют читателя, заставляют его размышлять о них.
В этой связи следует вспомнить еще одно соображение критика, высказанное в другой статье, но имеющее несомненную связь с его мыслями об особенностях художественного таланта Гончарова. В статье «Забитые люди» Добролюбов писал: «Литературное произведение искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее решение взятого факта составляет еще вопрос, разгадка которого занимает самого автора. Но у сильных талантов самый акт творчества так проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда из простой постановки фактов и отношений, сделанной художником, решение их вытекает само собой. У г. Достоевского не достало на это силы дарования, его рассказам нужны дополнения и комментарии» (II, 380). Совсем иное — дарование Гончарова. Это сильный талант, способный так глубоко проникнуть в жизнь и так верно и полно изобразить ее явления, что одно только изложение фактов дает возможность читателю самостоятельно сделать правильные выводы. А если это так, то спокойное, бесстрастное по внешности, но одушевленное глубоким внутренним чувством искусство Гончарова оказывается вполне способным играть активную общественную роль.
Добролюбов считает необходимым выяснить, на что именно, на какие жизненные явления направлен сильный талант. Только приверженцы «искусства для искусства», иронически замечает критик, полагают, что «превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное изображение характера человека» (II, 10). Нельзя согласиться с тем, что поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, может иметь то же значение, какое имеет поэт, с равной силой таланта воспроизводящий явления общественной жизни. Разбирая «Обломова», Добролюбов показывал, что сильный талант Гончарова был направлен на изображение значительных явлений общественной жизни. В сочетании художественных достоинств романа с богатством его содержания он видел «тайну успеха» этого произведения у читателя.
В статье «Что такое обломовщина?» центральный образ романа был подвергнут столь тонкому и глубокому анализу с позиций революционно-демократической эстетики, что литературные противники Добролюбова, с озлоблением встретившие его новое выступление, могли только бесноваться; противопоставить ему что-либо серьезное им было не под силу. Сам автор романа, отнюдь не принадлежавший, как известно, к революционному лагерю, с изумлением отозвался (в письме к П. В. Анненкову) о добролюбовской статье: «Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше».1
Действительно, Добролюбов с необычайным искусством проанализировал образ Обломова и показал, в каких условиях жизни сформировался характер этого человека; он показал также, что в его индивидуальном облике воплотился некий социальный характер, что Илья Ильич Обломов — вовсе не редкостная аномалия, а совершенно определенный социально-психологический тип, в котором сгустились и отчетливо выявились многие существенные черты помещика предреформенной эпохи. Честность, добродушие и другие умилительные качества Ильи Ильича — это только детали, индивидуальные признаки характера, а не существенные его стороны. Между ним,
- 222 -
помещиком средней руки, который, при всем своем добродушии, не стесняется «поддать ногой в рожу обувающему его Захару» (II, 13), и всеми другими помещиками покрупнее, вплоть до главного помещика, сидящего на троне, различие чисто количественное. Обломов, сколько бы он ни красовался, ни прекраснодушничал, — законченный тунеядец, и это самое главное в его характеристике.
Добролюбов указывает еще одно важное обстоятельство: «... гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу» (II, 13). И это удивительное, почти невероятное сочетание барства, неограниченной власти над людьми и крайнего нравственного рабства — тоже не простая индивидуальная особенность Ильи Ильича. Добролюбов подсказывал читателю, что именно в этом проявилось дошедшее до предела историческое вырождение дворянства как общественного класса. Образ тунеядца, в засаленном халате проводящего всю свою жизнь на старом диване, не способного ни к какому делу, — разве это не олицетворение обреченной на гибель крепостнической России?
Тот факт, что Гончаров в образе Обломова вывел на страницы романа деградирующее дворянство, подчеркивался в статье при помощи литературной «родословной» героя. Еще Белинский сравнивал Онегина с Печориным, а позже — Печорина с Бельтовым. Добролюбов, следуя Белинскому, ставит их всех в один ряд с Обломовым и приходит к выводу, что «родовые черты обломовского типа» можно найти еще в Онегине (II, 10). «Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым» (II, 17).
Внимательный, непредубежденный читатель мог найти в статье Добролюбова строки, из которых следовало, что критик видел и существенную разницу между Обломовым и его предшественниками. Так, Добролюбов писал, что Обломов — «коренной, народный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших серьезных художников. Но с течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить сущность его нового смысла — это всегда составляло громадную задачу, и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг вперед в истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим „Обломовым“» (II, 10). Здесь особенно важны слова, выделенные нами курсивом: Добролюбов не думал отрицать того обстоятельства, что Онегин, Печорин и другие, вплоть до Обломова, каждый по-своему становились в определенные отношения к жизни и получали соответственное этому общественное значение. Однако автора статьи «Что такое обломовщина?» мало интересовали эти различия, он упоминал о них лишь для того, чтобы дать картину развития типа «лишнего человека», нарисовать процесс перерождения Онегина в Обломова. При этом, естественно, на передний план были выдвинуты общие всем этим героям «родовые» черты, а сам тип получил название не по имени родоначальника, но по имени своего последнего представителя — Обломова.
- 223 -
Добролюбов, как и Чернышевский, давший аналогичную характеристику героям дворянской литературы в статье «Русский человек на rendez-vous» (1858), понимал их положительное значение для своего времени, но в момент, когда писалась статья об «Обломове», главной его задачей было разоблачение либерализма, а это требовало решительного развенчания «лишних людей», людей фразы, не способных ни на какое полезное для общества дело. Недаром Плеханов писал о статье Чернышевского, что ему «никогда не случалось читать такой злой и вместе до такой степени меткой характеристики российского либерализма».1 Недаром В. И. Ленин широко использовал созданное Добролюбовым на основе гончаровского романа понятие «обломовщина» в полемике против народников, меньшевиков, либералов.
Политическое значение статьи Добролюбова было особенно велико потому, что он необычайно расширил и углубил содержание понятия «обломовщина».
«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, — я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
«Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он — Обломов.
«Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов.
«Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, — я думаю, что это всё пишут из Обломовки.
«Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих всё те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, — я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...» (II, 30).
Прежде все эти краснобаи, quasi-талантливые натуры вызывали восхищение, потому что прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами. Теперь же Обломов предстает перед нами во всей своей неприглядности, сведенный с высокого пьедестала на мягкий диван и прикрытый вместо романтической мантии старым халатом. Вопрос о том, что он делает, говорит критик, в чем смысл и цель его жизни, поставлен прямо и ясно, не вытеснен никакими побочными вопросами. И это произошло потому, что «теперь уже настало, или настает неотлагательно, время работы общественной» (II, 27). Вот почему в «Обломове» Добролюбов видел «знамение времени», — такой роман мог появиться только в условиях ясно обозначившегося кризиса самодержавно-крепостнического строя.
Кто же противостоит в романе Обломову? Прежде всего — Штольц. Эта фигура не может нас удовлетворить, говорит критик. Штольц не тот человек, который, выражаясь словами Гоголя, сумеет на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: «вперед» (читателю статьи было ясно, что в устах Добролюбова гоголевские слова означали: «вперед, к революционному действию»). Штольц — человек как будто бы деятельный, что решительно отличает его от Обломовых, но чем он занят, в чем состоит его практическая деятельность, этого писатель не показывает, это так и остается тайной для читателя. Критик не винит автора, а объясняет недостаток романа объективными условиями: «литература не может забегать
- 224 -
слишком далеко вперед жизни», а в жизни еще нет людей с цельным, деятельным характером, способных сказать «всемогущее слово» (II, 32).
Второй человек, противостоящий Обломову, — Ольга. По своему развитию она, по мнению Добролюбова, представляет высший идеал, какой только может воплотить русский писатель в художественном образе, основываясь на понимании тенденций развития общественной жизни. Таких людей в жизни еще нельзя встретить, но Ольга — это «не сентенция автора, а живое лицо», в ее сердце и голове мы замечаем веяние новой жизни, к которой она «несравненно ближе Штольца» (II, 33, 35). Поэтому, заканчивая статью, Добролюбов высказывает следующее мнение о будущности этих двух людей: Штольц не пойдет на борьбу с «мятежными вопросами», он смиренно склонит голову; Ольга, если это случится, оставит Штольца так же, как она оставила Обломова, «Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтоб произнести над нею суд беспощадный...» (II, 35).
В уже цитированном письме к Анненкову Гончаров признал, что после статьи Добролюбова «об обломовщине — т. е. о том, что она такое — уже сказать... ничего нельзя»,1 и это было вполне справедливо.
Страсти вокруг статьи Добролюбова только еще разгорались, а критик уже выступил с новым выдающимся произведением — статьей «Темное царство», посвященной творчеству Островского.
Поводом для появления обширного, занимавшего более полутораста журнальных страниц, критического разбора пьес Островского явилось издание первого двухтомного собрания сочинений драматурга, где были помещены тринадцать его произведений, — всё, написанное между 1847 и 1858 годами. Перед Добролюбовым стояла задача обозреть и оценить вполне созревшее, могучее и яркое творчество писателя, с именем которого была связана целая эпоха в развитии русской драматической литературы и русского театра. Творчество Островского чуть ли не с первой его пьесы стало предметом ожесточенной литературной полемики, вокруг него, как выразился критик, «образовались даже две литературные партии, радикально противоположные одна другой» (II, 36). Эта полемика также требовала оценки, поэтому Добролюбову необходимо было подробно изложить и обосновать свои взгляды на задачи и принципы литературной критики. К этому надо добавить, что подавляющее большинство пьес Островского могло служить удобным поводом для обсуждения в печати злободневных и острых общественно-политических вопросов.
Мы видим теперь, как широко задумал критик свою статью об Островском, какие большие цели он преследовал ею. И нет ничего удивительного в том, что «Темное царство» произвело огромное впечатление на современников Добролюбова; по словам Шелгунова, эта статья была «поворотом общественного сознания на новый путь понятий».2
В начале своего обзора Добролюбов рассказал о «странной участи», постигшей Островского в критике. К нему обращали самые противоречивые, взаимоисключающие упреки, предъявляли диаметрально противоположные требования. Одни хвалили в нем то, что порицали другие, а эти последние осуждали за то, что превозносили первые. Поэтому, писал Добролюбов, «трудно представить себе возможность середины, на которой можно было бы удержаться, чтобы хоть сколько-нибудь согласить требования, в течение
- 225 -
десяти лет предъявлявшиеся Островскому разными (а иногда и теми же самыми) критиками. То — зачем он слишком чернит русскую жизнь, то — зачем белит и румянит ее? То — для чего предается он дидактизму, то — зачем нет нравственной основы в его произведениях?.. Если бы публике приходилось судить об Островском только по критикам, десять лет сочинявшимся о нем, то она должна была бы остаться в крайнем недоумении о том: что же, наконец, думать ей об этом авторе? То он выходил, по этим критикам, квасным патриотом, обскурантом, то прямым продолжателем Гоголя в лучшем его периоде; то славянофилом, то западником; то создателем народного театра, то гостинодворским Коцебу; то писателем с новым особенным миросозерцанием, то человеком, нимало не осмысливающим действительности, которая им копируется». При всем этом, отмечал Добролюбов, «никто до сих пор не дал не только полной характеристики Островского, но даже не указал тех черт, которые составляют существенный смысл его произведений» (II, 42—43).
<Иллюстрация:>
«Темное царство». Первопечатный текст. 1859.
Причина этой странной «безалаберности» в суждениях о драматурге заключалась в том, что его непременно хотели сделать представителем известного рода убеждений, а затем карали за неверность этим убеждениям или возвышали за укрепление в них. В Островском признали замечательный талант, поэтому всем критикам хотелось видеть в нем поборника именно тех убеждений, которым они сами следовали; славянофилы пытались сделать его последовательным славянофилом, западники — перетянуть в свой лагерь. «Но, в сущности, Островский никогда не был ни тем, ни другим, по крайней мере, в своих произведениях, — утверждал критик. — Может быть, влияние кружка и действовало на него, в смысле признания известных отвлеченных теорий, но оно не могло уничтожить в нем верного чутья действительной жизни, не могло совершенно закрыть пред ним дороги, указанной ему талантом. Вот почему произведения Островского постоянно ускользали из-под обоих, совершенно различных мерок, прикидываемых к нему с двух противоположных концов» (II, 43). Таким образом, Островский как писатель сделался жертвой полемики между двумя противоположными литературно-политическими партиями.
Стоя на позициях революционного демократизма, Добролюбов, естественно, не мог отдать симпатии ни одной из этих партий. В статье «Темное
- 226 -
царство» и во второй своей работе об Островском («Луч света в темном царстве») он язвительно высмеял защитников обоих направлений. При этом критик начисто отвергал не только политические взгляды, но и эстетические принципы литераторов-славянофилов и литераторов-западников. Он неопровержимо доказал, что представители этих двух враждовавших лагерей подходили к творчеству Островского с одинаково ложных эстетических позиций: они прежде всего определяли, что, по их понятиям, должно содержаться в произведении, а затем решали вопрос о том, в какой мере сумел ответить этим требованиям художник. Между тем настоящая, т. е. реальная критика, как ее называл Добролюбов, совсем иначе понимала свою задачу. Статья «Темное царство» потому, в частности, и являлась «поворотом общественного сознания на новый путь понятий», что здесь критик ясно сформулировал и обосновал главные положения эстетики русской революционной демократии. Поскольку о них уже было сказано выше, следует остановиться лишь на том, как понимал Добролюбов задачу реальной критики.
Высмеивая господствовавшее в тогдашней критике направление, Добролюбов называл его «художественной схоластикой». Он разумел под нею в первую очередь различные «курсы» и «учебники» риторики, пиитики, написанные Кошанским, Давыдовым, Чистяковым, Зеленецким и др. В статье «Луч света в темном царстве» критик писал: «Известно, что по мнению сих почтенных теоретиков, критика есть приложение к известному произведению общих законов, излагаемых в курсах тех же теоретиков: подходит под законы — отлично; не подходит — плохо. Как видите, придумано не дурно для отживающих стариков: покамест такое начало живет в критике, они могут быть уверены, что не будут считаться совсем отсталыми, что бы ни происходило в литературном мире. Ведь законы прекрасно установлены ими в их учебниках, на основании тех произведений, в красоту которых они веруют; пока всё новое будут судить на основании утвержденных ими законов, до тех пор изящным и будет признаваться только то, что с ними сообразно...» (II, 312). Такая критика «приступает к авторам, точно к мужикам, приведенным в рекрутское присутствие, с форменною меркою, и кричит то „лоб!“, то „затылок!“, смотря по тому, подходит новобранец под меру или нет. Там расправа короткая и решительная; и если вы верите в вечные законы искусства, напечатанные в учебнике, то вы от такой критики не отвертитесь» (II, 315). Само собой разумеется, речь шла не об общих законах искусства, существование которых Добролюбов и не думал отрицать. Так, для него была незыблемой и поэтому «вечной» формула: «Не жизнь идет по литературным теориям литература изменяется сообразно с направлением жизни...» (I, 207). В этом же смысле «вечным» законом следует назвать положение о том, что искусство отражает жизнь в определенных, только ему присущих формах, отличных от научного познания действительности. Но от этих естественных, как говорил Добролюбов, законов, т. е. от законов объективных, надо отличать «правила», установленные в каком-нибудь схоластическом курсе эстетики и выдаваемые за вечные, незыблемые, абсолютные критерии художественности.
Однако главными противниками Добролюбова в критике были, конечно, не «отживающие старички», а те же либералы, пытавшиеся под видом борьбы за «настоящее», «чистое» искусство увести литературу от жизни, приглушить в ней ростки революционно-демократических идей.
Дружинин, один из апологетов «чистого искусства», так объяснял суть этой теории: «Теория артистическая, проповедующая нам, что искусство служит и должно служить само себе целью, опирается на умозрения,
- 227 -
по нашему убеждению, неопровержимые. Руководясь ею, поэт ...признает себя созданным не для житейского волнения, но для молитв, сладких звуков и вдохновения. Твердо веруя, что интересы минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он, в бескорыстном служении этим идеям, видит свой вечный якорь».1
<Иллюстрация:>
«Луч света в темном царстве». Первопечатный
текст. 1859.По поводу таких сентенций Добролюбов писал в рецензии на литературный сборник «Утро» (1859), что только остаток здравого смысла не позволял защитникам «искусства для искусства» прямо, без всяких прикрас высказывать требования «чистой художественности»: они смахивали бы «на требование от писателя того, чтобы он весь век оставался круглым дураком» (II, 421). Главное же, на что критик обращал внимание читателя, состояло в следующем. Слова о «скоропреходящих интересах минуты», о бескорыстном служении «вечным идеям красоты, добра и правды» были только фиговым листком, которым сторонники «чистого искусства» прикрывали свою политическую идеологию и свои политические цели в литературной борьбе. Тот же Дружинин писал об Обломове: «Он дорог нам как человек своего края и своего времени, как незлобный и нежный ребенок, способный, при иных обстоятельствах жизни и ином развитии, на дела истинной любви и милосердия. Он дорог нам как самостоятельная и чистая натура, вполне независимая от той схоластико-моральной истасканности, что пятнает собою огромное большинство людей, его презирающих... И, наконец, он любезен нам, как чудак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь скверному».2 В этой характеристике Обломова яснее ясного выступают «интересы минуты» и «житейские волнения» дворянского либерала. Если революционная демократия совершала над обломовщиной «суд беспощадный», то критик-либерал упорно старался выставить ее в привлекательном виде.
То же самое проделывали и с произведениями Островского: славянофилы и западники хвалили или порицали драматурга в зависимости от того, находили или не находили в его пьесах прямое соответствие своим политическим взглядам.
- 228 -
Реальная критика, наоборот, не навязывает писателю своих взглядов. Она прежде всего излагает факты, с помощью которых читатель сам может составить мнение о характере и существе данного произведения. Затем реальная критика сопоставляет эти факты с действительностью и таким путем дает возможность понять, насколько правдиво она отражена в произведении искусства. «Реальная критика относится к произведению художника точно так же, как к явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их существенные, характерные черты, но вовсе не суетясь из-за того, зачем это овес — не рожь, и уголь — не алмаз...» (II, 46).
В выяснении того, в какой мере отражена писателем правда жизни, на какие стороны действительности обратил он свое внимание, сумел ли глубоко проникнуть в сущность изображаемых явлений, — в этом и состояла, по мнению Добролюбова, основная задача критического анализа произведения искусства. Такой объективный, научный подход, конечно, нисколько не противоречил публицистическому характеру добролюбовской критики. И это понятно: Добролюбов имел в виду не абстрактную «правду жизни», которая ничем не отличается от «идей вечной красоты, добра», а конкретно-историческую правду, т. е. «естественные стремления известного времени и народа». В то время вся общественная жизнь, вся общественная борьба сводилась к крестьянскому вопросу. Отразить в этих условиях правду жизни в искусстве — значило обнажить гнилость, мертвенность крепостнического режима, показать силы, зреющие в народе и направленные на уничтожение отживающего общественного порядка. Поэтому научный подход к анализу произведения естественно сочетался с публицистикой, с пропагандой революционно-демократических идеалов. Враги обвиняли Добролюбова в том, что он под видом критических разборов пишет статьи на политические темы. Но в этом была не слабость, а сила добролюбовской критики, в этом заключался главный источник его неотразимого влияния на современников. И если бы он строго ограничивал себя рамками разбираемого произведения, если бы он и не обращался непосредственно к самой жизни, то и тогда его статьи оставались бы страстными выступлениями политического борца, потому что политика была душою его критики. Статьи об Островском — лучшее подтверждение этого.
Добролюбов прежде всего показал в них, что главным стержнем пьес Островского является «неестественность общественных отношений, происходящая вследствие самодурства одних и бесправности других» (II, 85). Верно и глубоко определив общественное содержание драматургии Островского, Добролюбов вскрыл типический, обобщающий характер его образов, и они предстали перед читателем, освещенные двойным светом: сила художественного изображения дополнялась силой мысли критика.
Добролюбов убеждал читателя в том, что дело заключается вовсе не только в купцах-самодурах или жестоких помещиках, а в самых условиях жизни, при которых возможен этот дикий и косный быт, эти тяжелые, тупые нравы и эта вопиющая несправедливость. Следуя Островскому, критик раскрыл перед читателями потрясающую картину «темного царства», каким была тогдашняя Россия, государство крепостников и жандармов. Можно ли было в те времена изобразить в подцензурной печати царскую Россию, как страшную тюрьму, в которой задыхаются и гибнут лучшие люди? Эту почти немыслимую задачу Добролюбов решил с исключительной смелостью, создав незабываемый обобщенный образ крепостнического царства: «Это мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей
- 229 -
боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом... Нет ни света, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч светлого дня не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется эта искра в сырости и смраде темницы, но иногда, на минуту, вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лица человеческого — и наше сердце стесняется болью и ужасом... И неоткуда ждать им отрады, негде искать облегчения: над ними буйно и безотчетно владычествует бессмысленное самодурство, в лице разных Торцовых, Большовых, Брусковых, Уланбековых и пр., не признающее никаких разумных прав и требований» (II, 53—54).
Добролюбов помогал читателю придти к мысли, что под этим «темным царством» следует разуметь не только быт замоскворецких купцов-самодуров, но весь уклад жизни крепостнического государства.
Есть ли какой-нибудь выход из этого мрака, кроме самоубийства, голодной смерти или сумасшествия? — спрашивал критик. В произведениях Островского он не находит прямого ответа на свой вопрос, но это не умаляет в его глазах огромной заслуги драматурга: «Поблагодарим же художника за то, что он, при свете своих ярких изображений, дал нам хоть осмотреться в этом темном царстве. И то уж много значит... Выхода же надо искать в самой жизни...», — писал Добролюбов в заключительной части статьи «Темное царство» (II, 133). По существу, он благодарил драматурга за то, что его пьесы позволяли сделать революционные выводы. Именно такие выводы и делали вслед за Добролюбовым демократически настроенные читатели «Современника».
Разбор творчества Островского в статье «Темное царство» был исчерпывающим, тем не менее через год Добролюбов написал новую, большую статью об Островском — «Луч света в темном царстве». Одной из причин, побудивших критика взяться за перо, было то обстоятельство, что «Темное царство» вызвало ожесточенную полемику. Добролюбов счел нужным ответить некоторым критикам, удостоившим его, как он выразился, «прямой или косвенной бранью», тем более что для его полемического таланта эти критики доставили обильный и благодарный материал. Кроме того, он считал небесполезным разъяснить и некоторые вопросы эстетической теории, изложенной в «Темном царстве», поскольку враги «Современника» не преминули напасть на нее. Но главная причина выступления критика была в том, что появилась новая пьеса драматурга — «Гроза».
Добролюбов высоко оценил общественное значение этой пьесы: «„Гроза“ есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского (не говори, разумеется, об его этюдах чисто-комического характера). В „Грозе“ есть даже что-то освежающее и ободряющее» (II, 344).
Это «что-то» Добролюбов видел в том, что «фон пьесы» обнаруживал перед читателем и зрителем «шаткость и близкий конец самодурства» (II, 344), а еще более в том, что от центрального персонажа пьесы веяло новой жизнью, идущей на смену «темному царству».
- 230 -
После того как Добролюбов проникновенно и тонко истолковал образ героини «Грозы», стало очевидно, что Катерина — настоящий «луч света» в «темном царстве», что ее трагический конец как бы предвозвещал приближение новой жизни. Не так было в то время, когда появилась добролюбовская статья. Не одни только мракобесы усмотрели в Катерине «безнравственную и бессовестную женщину», противозаконно возведенную художником на трагический пьедестал. Недалеко от этой точки зрения оказались такие люди, как знаменитый актер М. С. Щепкин. Разошелся с Добролюбовым в оценке образа Катерины и Д. И. Писарев. Разумеется, Писарев еще более решительно расходился с ханжами, лицемерами, ретроградами, видевшими в Катерине воплощение опоэтизированного порока, но он считал неправильным принимать ее за «светлое явление» и утверждал, что «ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в „темном царстве“ патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского». Статью Добролюбова Писарев назвал ошибкой и объяснил ее тем, что критик «увлекся симпатией к характеру Катерины», «поддался порыву эстетического чувства». По Писареву получалось, что Добролюбов из-за этих порывов и увлечений увидел в героине «Грозы» не ту женщину, которую в действительности вывел драматург, а совсем иную, являющуюся, в сущности, плодом творческой фантазии самого критика. Это была «светлая иллюзия», с которой, как ни грустно, но необходимо расстаться во имя правды.1
Нет необходимости разбирать в данном случае ошибочность статьи Писарева, хотя, вероятно, именно она положила начало распространенному мнению, будто образ Катерины, каким мы теперь привыкли его видеть, создан Добролюбовым, а не Островским. На этом обстоятельстве надо остановиться подробнее, чтобы глубже понять самое существо добролюбовской критики.
Как бы предвосхищая упрек, сделанный Писаревым (статья последнего появилась после смерти Добролюбова, в 1864 году), Добролюбов писал в своем разборе «Грозы» следующее:
«Правда, объясняя характер известного автора или произведения, критик сам может найти в произведении то, чего в нем вовсе нет. Но в этих случаях критик всегда сам выдает себя. Если он вздумает придать разбираемому творению мысль более живую и широкую, нежели какая действительно положена в основание его автором, — то очевидно он не в состоянии будет достаточно подтвердить свою мысль указаниями на самое сочинение, и таким образом критика, показавши, чем бы могло быть разбираемое произведение, чрез то самое только яснее выкажет бедность его замысла и недостаточность исполнения» (II, 315).
Критические статьи Добролюбова, несомненно, придавали более широкий смысл таким произведениям, как «Обломов», «Гроза», роман Тургенева «Накануне» и т. д. И поэтому можно сказать, что обобщенный образ «обломовщины» или образ Катерины являются творением не только их авторов, но в какой-то мере и творением критика. Однако, расширяя образы, созданные писателями, Добролюбов не выискивал в произведениях того, чего в них вовсе не было. Поэтому критик всегда оказывался в состоянии «подтвердить свою мысль указаниями на самое сочинение». И по этой причине сила его критического анализа была неотразимой. «Расширение» достигалось путем глубокого проникновения в образ, в замысел драматурга.
- 231 -
Известно, что восприятие художественного произведения в большой мере зависит от жизненного опыта воспринимающего, от его взглядов, умственного развития, в частности, от развития эстетического чувства. Глубина толкования художественного произведения читателем или критиком может быть безошибочным критерием его жизненного опыта, взглядов, умственного развития, в частности, развития эстетического чувства. Гениальность Добролюбова как критика в том и заключалась, что он мог до дна исчерпывать художественные образы, какой бы емкостью они ни отличались. Он всегда добирался до таких глубин, куда нередко не заглядывал даже сам писатель. Когда Гончаров говорил, что после статьи Добролюбова уже больше ничего нельзя сказать об «обломовщине», то этим он по существу признавал, что критик глубже его самого разобрался в созданном им образе. Добролюбов достигал этого главным образом тем, что поверял художественные образы действительностью: он рисовал перед читателем тот или иной образ и многочисленными нитями связывал его с наиболее существенными сторонами жизни. Именно этой цели служили публицистические отступления, рассказы о жизненных явлениях, на первый взгляд и не имевших прямого отношения к делу. В совокупности многочисленных связей образа с действительностью, которые гениально умел находить критик, и раскрывалась вся глубина произведения.
О «темном царстве», изображенном Добролюбовым в статьях об Островском, можно сказать то же самое, что было сказано Гончаровым об «обломовщине»: после этих статей к характеристике «темного царства» уже нельзя было прибавить что-либо существенное. Добролюбовский анализ творчества великого драматурга остался непревзойденным.
*
Одно из центральных мест в критике Добролюбова занимал вопрос о положительном герое. Добролюбов был убежден, что на смену Рудиным, Лаврецким и другим литературным персонажам, сходящим со сцены, должны придти новые герои, стремительно выдвигаемые самой жизнью. Критик с нетерпением ждал произведений, в которых был бы показан волевой характер деятеля нового времени: человека-борца, патриота, народного заступника. Ему было ясно, что эти новые люди появятся не ив дворянской, а из разночинной среды, из недр самого народа. В статье «Когда же придет настоящий день?» он откровенно указал на то, что герой дворянской литературы не способен в новых условиях быть человеком-борцом, так как «сам кровно связан с тем, на что должен восставать» (II, 229). В этом утверждении одного из руководителей революционной демократии нашел отражение тот факт, что на пороге 60-х годов русское освободительное движение вступило в новый этап своего развития, который был, по определению Ленина, разночинским этапом. Пока демократическая литература делала свои первые шаги, критик внимательно присматривался к каждой честной книге, ко всему, в чем находили хотя бы частичное выражение основные общественные процессы того времени: рост возмущения а народе, обострение классовой борьбы между крестьянами и помещиками, — свидетельство неизбежной катастрофы крепостнического режима.
Уже «Гроза» дала возможность Добролюбову говорить о новом положительном герое. Образ Катерины, женщины, которая не могла мириться с самодурством, был в глазах Добролюбова освещен первым отблеском грозы, нависшей над «темным царством». Еще больше оснований для этого дал критику роман Тургенева «Накануне», которому посвящена статья,
- 232 -
многозначительно названная «Когда же придет настоящий день?». Впрочем, она появилась в «Современнике» (1860) под иным, ничего не выражавшим заголовком — «Новая повесть г. Тургенева», и этим отнюдь не исчерпывалось то смягчение, на какое вынужден был пойти автор под нажимом цензуры.
Во многих отношениях «Когда же придет настоящий день?» примыкает к статье «Что такое обломовщина?» и является развитием ее мыслей.
Главной особенностью Тургенева как писателя критик считал его умение быстро улавливать новые потребности жизни, новые идеи, возникавшие в общественном сознании, и в своих произведениях обращать внимание на вопросы, стоявшие на очереди и смутно начинавшие волновать общество. Именно «этому чутью автора к живым струнам общества, — писал Добролюбов, — этому уменью тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей, мы приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался г. Тургенев в русской публике» (II, 208). Конечно, прибавлял тут же критик, и литературный талант писателя много помог успеху. Но известно, что автор «Накануне» — не из тех «титанических талантов», которые одной силой поэтического воображения властно захватывают читателя и увлекают его на сочувствие к явлениям и идеям, до тех пор вовсе не вызывавшим его расположения. Не бурная сила, а скорее мягкость, лиричность характеризуют тургеневское дарование. А при таком таланте, без живой связи его с потребностями общества, о писателе скоро забывают, как это произошло, например, с Фетом. Тургенев же потому и упрочил свой успех у читателей, что его никогда не покидало живое отношение к современности. Поэтому, если он затронул «какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений, — это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или скоро подымется в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется резко и ярко пред глазами всех» (II, 209).
Естественно, каждое новое произведение Тургенева рождало при своем появлении мысль: какие же стороны жизни изображены в нем, какие новые вопросы затронуты? Выяснение этого применительно к роману «Накануне» представляло, по мнению Добролюбова, особенный интерес потому, что в этом произведении наметилась совершенно новая идейно-тематическая линия тургеневского творчества. В своих прежних произведениях писатель выводил в качестве героя ту или иную разновидность «лишнего человека», с большим искусством вызывая симпатии к нему читателей. Предмет этот «казался неистощимым» (II, 209). Но тем временем в обществе развивались процессы, которые привели к тому, что «Рудин и вся его братия» уже перестали вызывать симпатии, и никакие новые вариации этого устаревшего литературного героя не могли помочь делу.
Добролюбов оценил «Накануне» как новое свидетельство чуткого отношения автора к требованиям жизни. Тургенев понял, что прежние герои уже сделали свое дело и более не могут вызывать интереса лучшей части общества. Поэтому он решился их оставить и «попробовать стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени» (II, 212).
Добролюбов, разумеется, не случайно написал эту фразу. В словах «попробовать стать...» заключался большой смысл. Критик не мог не отметить нового направления в творчестве Тургенева и со всей искренностью приветствовал его, почти открыто призывая писателя двигаться
- 233 -
дальше по этому новому пути. Вместе с тем он далеко не был уверен в том, что Тургенев сумеет это сделать. Чтобы двигаться дальше, Тургеневу, как и героям его прежних произведений, пришлось бы восстать против того, с чем он был кровно связан. Добролюбов предвидел, что на это у писателя не хватит сил, и он не обманулся. Однако в оценке романа явственно звучало его одобрение критиком.
Разбирая «Накануне», Добролюбов уделил особое внимание образу Елены, который он назвал новой — после Ольги из романа «Обломов» — и удачной попыткой «создания энергического, деятельного характера» (II, 216). Если несмелость, жизненная пассивность героини, в сочетании с богатством внутренних сил и томительной жаждой деятельности, и оставляла впечатление незавершенности фигуры Елены, то в этом не было вины автора. Наоборот, тут сказалась правда жизни; таково положение дел. «Это трудное, томительное переходное положение общества необходимо кладет свою печать и на художественное произведение, вышедшее из среды его» (II, 216). А трудность, томительность положения заключались в том, что общество, находясь накануне революционного взрыва, всё еще продолжало жить в условиях полностью омертвевшего общественного уклада (в статье не раз говорилось о самодержавно-крепостническом строе, как о мертвеце, трупе, которого не оживить никакими стараниями, никакими средствами).
Бедой, вызывающей томление Елены, является то обстоятельство, что она, по причине своего воспитания, не знает, куда, на что обратить богатство своих внутренних сил. Не могут помочь ей в этом и окружающие ее люди — Шубин, Берсенев. Быть может, она так бы и прожила свою жизнь в томлении, но на ее счастье явился Инсаров. Он указал Елене цель, настолько великую, что она была потрясена и целиком захвачена ею. Но почему, спрашивал Добролюбов, писатель вывел перед нами героя не русского, а болгарина? Потому, отвечал критик, что ему нужен был такой герой, который мог бы указать Елене великую и святую цель. У болгарина она могла быть — его родина порабощена турками. Что же может быть более святого и великого, чем идея освобождения родины? А у русских людей, иронизировал Добролюбов, слава богу, родина никем не порабощена, России — страна вполне благоустроенная. Здесь «существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность» (II, 228). Добролюбов так подробно расписывал прелести российской жизни, что царский цензор, смутно почуяв насмешку, вынужден был умерить его восторг и вычеркнул из статьи несколько пышных эпитетов.
Итак, русская жизнь, по мнению Добролюбова, еще не стала той почвой, на которой произрастают героические личности, подобные Инсарову, человеку, одушевленному великой идеей, вполне способному бороться за ее осуществление. Литературные герои до сих пор если и подымались до высоких идеалов, то на этом их силы истощались, на практические действия у них уже не хватало энергии. Между тем общество нуждается в настоящих героях, русских Инсаровых, активных деятелях, бесстрашных борцах. Однако с кем они должны бороться? — спрашивает Добролюбов, ведь мы народ не порабощенный. И отвечает: «Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними, и разве не требуется геройства для этой борьбы?.. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться только переменивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, и вырос, и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может» (II, 239).
- 234 -
Современникам Добролюбова было ясно, что в этих строках шла речь о необходимости революционного переворота. Но критик, не останавливаясь на этом, поднимал вопрос: возможен ли переворот, и если возможен, то когда? Долго ли еще осталось ждать «настоящего дня»? Да, переворот возможен, — отвечал он. Мертвящие условия русской жизни долго подавляли развитие личностей, подобных Инсарову, но теперь эти условия переменились настолько, что они же помогут появлению героя. «И не долго нам ждать его: за это ручается то лихорадочное мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..» (II, 240).
Статья Добролюбова прозвучала, как набат. Ее называли «революционным завещанием» великого критика. Она знаменовала собой окончательный разрыв «Современника» с группой писателей-либералов, и прежде всего с Тургеневым, который сделал всё, что мог, для того чтобы статья не увидела света, хотя она и не заключала в себе ничего обидного для писателя. Тургенев был несогласен с революционным истолкованием его романа и считал, что тот оборот, который дал делу Добролюбов, ничего, кроме неприятностей, принести ему не может. Он упрашивал Некрасова не печатать статью: «я не буду знать, куда бежать, если она напечатается».1 Некрасов стойко выдерживал натиск, хотя и опасался потерять для журнала такого автора, как Тургенев. Добролюбов, узнав о некоторых его колебаниях, заявил, что немедленно покинет «Современник», если статья не будет опубликована. Некрасову предстояло выбирать, и он выбрал Добролюбова.
Перепуганный цензор Бекетов также хлопотал, чтобы статья не увидела света. Убеждая Добролюбова отказаться от статьи, он писал ему: «Критика такая, каких давно никто не читал, и напоминает Белинского. И пропустить ее в том виде, как она составлена, решительно нет никакой никому возможности» (Добролюбов, II, 683).
После многих цензурных мытарств, после мучительных переделок и сокращений статья «Когда же придет настоящий день?» появилась, наконец, на страницах «Современника».
*
Литературно-публицистические статьи, написанные Добролюбовым в 1859—1861 годах, пронизаны мыслью о неминуемом и близком конце «темного царства», о «настоящем дне», который скоро должен наступить. Даже тогда, когда тема статьи, казалось бы, не давала никакой возможности говорить об этом, критику все-таки удавалось развивать перед читателем «Современника» революционные идеи. Так было и при разборе творчества Достоевского в последней статье Добролюбова, озаглавленной «Забитые люди». Он не случайно взялся за эту тему: ему предстояло ответить Достоевскому на его полемическую статью «Г.—бов и вопрос об искусстве», напечатанную в журнале «Время».
Поводом для своего выступления против Добролюбова Достоевский избрал его статью «Черты для характеристики русского простонародья», посвященную рассказам Марко Вовчка (псевдоним украинской писательницы
- 235 -
М. А. Маркович, близко стоявшей к революционно-демократическому лагерю). Достоевского интересовали не столько самые рассказы, сколько оценка их Добролюбовым; она давала, по мнению писателя, возможность обратиться к одному из самых важных литературных вопросов — вопросу о значении художественности. Действительно, в статье «Г.—бов и вопрос об искусстве» рассуждения о художественности, о том значении, которое придают ей приверженцы «утилитарного направления», занимали большое место. Тем не менее не в них была суть дела.
Достоевский, назвав Добролюбова «одним из предводителей утилитаризма» в искусстве, обвинил его в полном пренебрежении художественностью: «художественность он считает ничем, нулем». Ему важно только одно, утверждал Достоевский, чтобы «была видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу...».1 Но ничего подобного Добролюбов, конечно, не писал в своей статье о рассказах Марко Вовчка. К тому же Достоевскому были известны и другие статьи критика, в которых достаточно ясно и подробно излагалась его точка зрения на художественность. Наконец, автор статьи «Г.—бов и вопрос об искусстве» не мог не понимать, что в статье «Черты для характеристики русского простонародья» речь шла совсем не о художественности, а о связи литературы с жизнью.
Добролюбов видел художественное несовершенство рассказов Марко Вовчка, и вместе с тем он высоко ценил их как верное изображение отдельных сторон народной жизни. Особенно важно для него было то, что некоторые рассказы (например, «Купеческая дочка») давали возможность говорить о появлении в народе натур, которые уже не мирятся безропотно со своим бесправным и угнетенным положением, натур суровых и беспощадных, в них «внутренняя реакция всякому посягательству на их личность развивается до размеров поистине сокрушительных и получает наступательный характер» (II, 301). В статье Добролюбова содержалось немало прозрачных намеков на то, что рост этих наступательных сил в крепостном крестьянстве неизбежен. Основываясь на рассказах Марко Вовчка, критик с максимальной остротой, которая только была возможна в жестоких цензурных условиях, ставил вопрос о созревании крестьянства как активной революционной силы.
Достоевский не мог не понимать этого, и скрытая цель его статьи состояла в опровержении добролюбовской оценки жизни крепостной деревни. Он отдает Добролюбову должное: у него блестящий литературный талант, он «заставил-таки читать себя»; «надо признаться откровенно, — только одного у нас теперь и читают, чуть ли не из всех наших критиков». Но вслед за этим Достоевский пытается убедить читателя в том, что Добролюбов — кабинетный человек, суждения которого о реальной жизни не могут приниматься в расчет: «Г.—бов — теоретик, иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность; с действительностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно: нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только б поставить ее так, чтоб она доказывала его идею».2
Что же касается вопроса о художественности, то и тут была известная цель. Утверждая, что «настоящее искусство никак и не может быть несовременным и неверным насущной действительности»,3 Достоевский в то же время выступал против того, чтобы литература вмешивалась в жизнь и не
- 236 -
только поднимала насущные общественные вопросы, но и решала их. Заявляя, что он не принадлежит ни к одной из борющихся «литературных партий», так как обе они ударились в крайность. Достоевский фактически встал на защиту реакционной теории «чистого искусства».
Статья «Забитые люди» не содержит прямой полемики с Достоевским. Однако в ней заключался исчерпывающий ответ на обвинения, брошенные «утилитаристам». Добролюбов указывал, что он не отрицает значения художественности и понимает все преимущества талантливого произведения перед бесталанным. Но сейчас время напряженной борьбы, сейчас надо готовить людей к гражданской деятельности и поощрять всякую попытку сближения литературы с жизнью, всякую попытку писателя сказать правду о народе. В такое время не до эстетических тонкостей. Добролюбов писал: «... автор может ничего не дать искусству, не сделать шага в истории литературы собственно, и все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению и смыслу своих произведений. Пусть он и не удовлетворяет художественным требованиям, пусть он иной раз и промахнется, и выразится нехорошо: мы уж на это не обращаем внимания, мы все-таки готовы толковать о нем много и долго, если только для общества важен почему-либо смысл его произведений» (II, 379).
Для пояснения своей мысли Добролюбов решил сослаться на произведения самого Достоевского. Лучшего способа ответить оппоненту нельзя было и придумать. Критик подробно и убедительно разобрал художественные недостатки «Униженных и оскорбленных». Он отметил, что характеры главных действующих лиц романа не раскрыты с достаточной психологической глубиной. Показывая Ивана Петровича, говорил Добролюбов, автор «избегает всего, где бы могла раскрыться душа человека любящего, ревнующего, страдающего» (II, 372). Тот же самый упрек надо сделать автору и в отношении князя: «И ведь хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя... Нет, ничего, ни попытки, ни намека... Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему, наконец, верит?.. Мы вправе требовать от автора объяснений на подобные вещи, даже не предъявляя на него особенно громадных претензий» (II, 375). Не удовлетворяет критика и язык, которым говорят персонажи: это язык самого автора, одинаковый для всех действующих лиц. В итоге Добролюбов приходит к выводу, что роман Достоевского стоит «ниже эстетической критики», поэтому разбор его художественных достоинств и недостатков не является насущной необходимостью.
И в то же время роман отнюдь не бесполезен с точки зрения «утилитаристов». Наоборот, доказывает критик, при всех его слабых сторонах он имеет несомненное общественное значение. Там, где писатель идет по пути, указанному в свое время Гоголем и Белинским, ему удается создать правдивые картины и выразить «гуманные идеалы». Люди униженные, забитые, жалкие встают со страниц его книги. Одни из них потеряли вовсе свое человеческое достоинство, смирились и тупо успокоились, другие ожесточились, третьи приспособились. Правда, автор ничего не говорит о причинах, порождающих этот тип людей и эти «дикие, странные отношения между ними». Но критик благодарен писателю уже за то, что он сумел показать хотя бы и слабые признаки пробуждения человеческого сознания в своих героях — «забитых личностях», что он своей книгой помог ему поднять важные общественные вопросы.
На последних страницах своей статьи Добролюбов коснулся одного из таких вопросов: где же выход из критического положения для этих забитых,
- 237 -
угнетенных и оскорбленных людей? Долго ли они будут молча терпеть свои бедствия? Ему хотелось ответить на эти вопросы прямо и резко, как и подобает человеку, уверенному в том, что единственный выход — это уничтожение векового порядка, уродующего людей. Но он вынужден был ответить иначе:
«Не знаю, может быть, есть выход; но едва ли литература может указать его; во всяком случае, вы были бы наивны, читатель, если бы ожидали от меня подробных разъяснений по этому предмету... Где этот выход, когда и как — это должна показать сама жизнь» (II, 404).
Так, от литературы критик перешел к жизни, заговорил о ее великих задачах. Он звал к борьбе, будил уснувших, воспевал свободного человека, перед которым «открывается выход из горького положения загнанных и забитых» (II, 405). Он не мог прямо ответить на вопрос: «когда и как» придет «настоящий день». Но, обращаясь непосредственно к читателям и забыв о Достоевском, он, вопреки цензуре, старался все-таки разъяснить, в каком направлении следует искать «выход»: «... главное, следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем не сдержимым течением жизни, и будьте живы, а не мертвы» (II, 404). Это был зашифрованный призыв к революционному действию. «Эзоповским» языком, маскирующим смелые мысли, написана вся последняя страница статьи «Забитые люди», представляющая собой как бы политическое завещание критика. В конце статьи Добролюбов, полный веры в будущее, выражал твердую уверенность в том, что большая часть так называемых «забитых людей» крепко и глубоко «хранит в себе живую душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание своего человеческого права на жизнь и счастье» (II, 405).
*
Литературная деятельность Добролюбова оставила яркий след в истории русской общественной мысли, русской критики и публицистики. Наряду с Белинским, Чернышевским, Герценом, он является предшественником революционного марксизма в России, выдающимся борцом за передовое реалистическое искусство. Борьба Добролюбова за реализм и высокую идейность оказала огромное воздействие на дальнейшее развитие русской литературы и критики, а также литературы других народов России. Под влиянием идеологии русских революционных демократов и, в частности, Добролюбова формировалось мировоззрение таких выдающихся писателей и публицистов, как Т. Шевченко, И. Чавчавадзе, А. Церетели, М. Налбандян, М. Ф. Ахундов, Абай Кунанбаев и др. Эстетические и литературно-критические суждения Добролюбова, которого Энгельс назвал, наряду с Чернышевским, социалистическим Лессингом,1 имеют огромное значение для советской науки о литературе, которая наследует и разрабатывает лучшие традиции своих великих предшественников.
СноскиСноски к стр. 176
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, 1935, стр. 470. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—VI, 1934—1941).
Сноски к стр. 177
1 Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, 1890, стр. 356.
2 Имеются в виду инспектор Нижегородской семинарии Паисий и нижегородский архиерей Иеремия.
3 Т. е. в отъезде из Нижнего в Петербургскую духовную академию.
Сноски к стр. 178
1 Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, стр. 13—14.
2 Текст письма сохранился в архивах III Отделения. Его принадлежность Добролюбову с большой долей вероятности обоснована Б. П. Козьминым («Литературное наследство», кн. 57, 1951, стр. 7—24).
Сноски к стр. 180
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VII, 1950, стр. 851.
Сноски к стр. 181
1 Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, стр. 522.
2 Н. А. Добролюбов, Избранные философские произведения, т. II, 1948, стр. 561.
Сноски к стр. 182
1 Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, стр. 521.
2 Там же, стр. 512.
3 См. об этом в статье С. Рейсера «К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова» («Известия Академии Наук СССР, серия истории и философии», М., 1952, т. IX, № 1).
Сноски к стр. 184
1 Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М. — Пгр., 1923, стр. 170.
2 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, 1949, стр. 449.
3 Эти слова Чернышевского сохранились в передаче М. А. Антоновича. Сб. «Шестидесятые годы» (воспоминания М. А. Антоновича и Г. З. Елисеева), 1933, стр. 156.
Сноски к стр. 186
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVII, стр. 389.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 9.
Сноски к стр. 187
1 Н. А. Добролюбов, Избранные философские произведения, т. II, 1948, стр. 561—562.
Сноски к стр. 196
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVIII, стр. 28.
Сноски к стр. 197
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, 1917, стр. 105.
Сноски к стр. 199
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVII, стр. 505.
Сноски к стр. 200
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIV, 1927, стр. 52.
2 Там же, стр. 49.
3 Там же, стр. 56.
Сноски к стр. 201
1 Ленинский сборник, XXV, стр. 231.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 660.
Сноски к стр. 203
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 97.
Сноски к стр. 214
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, 1904, стр. 291.
Сноски к стр. 216
1 Примеры текстуальной близости многих мест в статьях Добролюбова и Чернышевского см. в работе Б. И. Бурсова «Учение Добролюбова о реализме» («Ученые записки Ленинградского Государственного ордена Ленина университета имени А. А. Жданова», № 158, серия филологических наук, вып. 17, Русские революционные демократы, Л., 1952, стр. 119—163).
Сноски к стр. 217
1 В. Евгеньев-Максимов. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. III, Гослитиздат, М., 1952, стр. 78.
Сноски к стр. 218
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.
Сноски к стр. 221
1 Цитируется по книге: А. Г. Цейтлин. И. А. Гончаров. М., 1950, стр. 207.
Сноски к стр. 223
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. V, стр. 85.
Сноски к стр. 224
1 А. Г. Цейтлин. И. А. Гончаров, стр. 207.
2 Н. В. Шелгунов. Воспоминания. 1923, стр. 169.
Сноски к стр. 227
1 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, СПб., 1865, стр. 214.
2 Там же, стр. 601.
Сноски к стр. 230
1 Д. И. Писарев. Мотивы русской драмы. Избранные сочинения, т. I, Гослитиздат, 1934, стр. 528.
Сноски к стр. 234
1 «Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 101.
Сноски к стр. 235
1 «Время», 1861, т. I, февраль, отд. III, стр. 176, 177.
2 Там же, стр. 167, 178.
3 Там же, стр. 203.
Сноски к стр. 237
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XV, стр. 235.