5
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
6
7
1
Русская классическая литература, неразрывно связанная с освободительным движением, росла и развивалась вместе с ним. Основными социально-историческими предпосылками творчества Пушкина явились Отечественная война 1812 года и восстание декабристов. Гоголь, следуя за Пушкиным, значительно обогатил реалистический метод именно потому, что глубоко почувствовал новые потребности времени: как художник, он шел рядом с Белинским, который явился предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в освободительном движении еще при крепостном праве. В 40-е годы выдвигается целая плеяда писателей «натуральной школы». Это последователи Гоголя, воспитанники Белинского. Конфликт между «богатством» и «нищетой» они освещали еще острее, нежели Гоголь. Крестьянский вопрос был и оставался центральным в общественно-политической борьбе в России.
В 50-х годах выступает второе поколение русских революционеров — демократы-разночинцы. Появление революционных демократов на исторической арене свидетельствовало о дальнейшем углублении экономических противоречий, о нарастании в народных массах гнева против своих угнетателей. С другой стороны, деятельность революционных демократов способствовала подъему самосознания народа, общественной активности, подъему всей передовой культуры, тесно связанной с исторической судьбой народа. Уже в «Эстетических отношениях искусства к действительности» и в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский отмечает глубокие сдвиги в русской литературе. И действительно, ряд писателей, начавших свою деятельность еще в 40-х годах, в середине 50-х годов одерживает значительные победы. Это относится к Некрасову, Тургеневу, Салтыкову-Щедрину, Островскому. Начало 50-х годов ознаменовалось выступлением Л. Н. Толстого, которого в середине десятилетия Чернышевский провозглашает великой надеждой русской литературы.
Шестидесятые годы — время могучего расцвета русской литературы, всей русской культуры. Корни этого явления были заложены в самой русской социально-исторической действительности.
Период, условно обозначаемый в литературе как «шестидесятые годы», охватывающий отрезок времени от середины 1850-х и примерно до 1866—1867 годов, был ознаменован крупными сдвигами в историческом развитии России.
Именно 60-м годам принадлежит важная роль в истории ликвидации феодального строя. К 60-м годам относится падение крепостного права, названное В. И. Лениным переворотом, «... последствием которого была смена одной формы общества другой — замена крепостничества капитализмом...».1 Этот переворот протекал в обстановке резкого обострения классовой
8
борьбы, в обстановке, которую В. И. Ленин определил как революционную ситуацию.1 Назревание ее начинается с середины 50-х годов.
Приблизительно в это же время — в 50-х и на рубеже 60-х годов — и совершается исторический поворот во всем ходе освободительного движения: дворянский его период сменяется разночинским (или буржуазно-демократическим).2
На 60-е годы, таким образом, падают важные исторические события и явления: первый, весьма ответственный этап разночинского периода русского революционного движения; революционная ситуация конца 50-х — начала 60-х годов и совершающаяся в условиях этой революционной ситуации отмена крепостного права.
*
К уничтожению крепостного права Россию толкал весь ход экономического развития, втягивавший ее на путь капитализма.
В течение ряда десятилетий до реформы 1861 года, начиная со второй половины XVIII века, в недрах феодально-крепостнического строя происходило формирование капиталистического уклада, исподволь разлагавшего феодальный строй. Новые процессы социально-экономической жизни проявлялись как в сферах производства и обмена, так и в классовой структуре общества.
С неумолимой силой происходило разложение крепостнического сельского хозяйства. Разрушалась натурально-хозяйственная система, составлявшая одну из коренных отличительных особенностей феодального строя, развивались товарно-денежные отношения. Резко увеличивавшееся производство помещиками хлеба на продажу, особенно в последнее время существования крепостного права, как отмечает В. И. Ленин, являлось уже «предвестником распадения старого режима».3
Расширение помещичьего производства для внутреннего, в первую очередь, и для внешнего рынков вызывало рост помещичьей, барской, запашки и, следовательно, прогрессирующее обезземеливание крестьянства (помещики захватывали земли, бывшие раньше в пользовании крестьян), увеличение числа барщинных дней, вообще всемерное усиление крепостнической эксплуатации. Но это всё более приводило к разорению, к деградации крестьянских хозяйств, минимальная исправность которых являлась между тем необходимым условием существования хозяйства самих помещиков, которое в итоге тоже зачастую попадало в безвыходный тупик. Вместе с тем всестороннее усиление эксплуатации крестьянства (наряду с расширением и интенсификацией барщины неуклонно увеличивались также оброки) влекло за собой обострение народного недовольства, рост крестьянских волнений.
Промышленное производство в тот же период, несмотря на многочисленные и разнообразные препятствия, стоявшие на его пути в связи с существованием крепостного права, увеличивалось от десятилетия к десятилетию. Увеличение это шло путем роста и крестьянской промышленности, и крупных купеческих мануфактур. В начале XIX века, по новейшим подсчетам
9
исследователей, имелось около 1200 мануфактур (в том числе около 200 горных заводов). Ко второй половине 50-х годов число предприятий выросло приблизительно до 2800. Число рабочих за тот же период возросло примерно с 225 тысяч до 860 тысяч.1 Из них несколько более полумиллиона человек приходилось уже на вольнонаемных рабочих, среди которых, впрочем, преобладали не свободные от всякой феодальной зависимости люди, а оброчные помещичьи и государственные крестьяне, приходившие на заработки из деревень в города или промышленные села и здесь нанимавшиеся к предпринимателям.
Ко второй четверти XIX века (30—40-е годы) приурочиваются советскими историками первые признаки «промышленного переворота» в России, который в основном всё же приходится на пореформенное время.
На протяжении всей первой половины XIX века росли обороты внутренней и внешней торговли. Одних ярмарок к началу 30-х годов насчитывалось более 1700, с оборотом в сотни миллионов рублей. Внешнеторговый оборот, составлявший в первое пятилетие XIX века около 128 миллионов рублей в год, в последнее перед реформой пятилетие превышал 430 миллионов. С ростом товарного обращения связано развитие путей сообщения (новые каналы, шоссейные дороги). В 1833—1834 годах на Урале была построена первая русская паровая железная дорога. В 30—40-х годах появились Царскосельская и Варшаво-Венская железные дороги. Большое экономическое и культурное значение имела Николаевская (Петербурго-Московская) железная дорога, открытая в 1851 году.
Показателем происходивших в стране социально-экономических изменений являлся рост удельного веса городского населения — с 4.4% в год Отечественной войны против Наполеона до 7.8% в половине XIX века. В середине 50-х годов число городских жителей составляло 5.7 миллиона человек.2 Сельское население составляло попрежнему подавляющую часть жителей России; но признаком времени была усиливающаяся дифференциация крестьянства, из которого чаще прежнего выделялись, с одной стороны, немногочисленные богатеи, занимавшиеся торговлей, заводившие мануфактуры, а с другой — множество обнищавших крестьян, пополнявших кадры складывающегося рабочего класса. Увеличивалась в своей численности и экономически усиливалась городская буржуазия. С середины 30-х до начала 50-х годов число мужских душ купеческого сословия выросло со 123.8 тысячи до 180 тысяч. Сумма купеческих капиталов некоторыми наблюдателями определялась в 50-х годах в полмиллиарда рублей.
Отмеченные явления свидетельствовали об упадке и разложении крепостной системы хозяйства и о возникновении в недрах старого строя новых производительных сил и существенных элементов новых, капиталистических производственных отношений.
Вторую четверть XIX века — время после подавления восстания декабристов — примерно можно считать периодом определившегося уже прямого кризиса феодального строя, хотя именно тогда полицейско-крепостническая диктатура Николая I довела до апогея преследование прогрессивных общественных сил, отстаивавших необходимость немедленной ликвидации отжившего порядка, и всеми средствами пыталась поддержать и упрочить последний.
10
В конечном счете все подобные усилия были, разумеется, обречены на провал.
Расширение антикрепостнической борьбы крестьянских масс и поражение николаевской монархии в Крымской войне весьма приблизили окончательный крах крепостного порядка.
*
Классом, наиболее заинтересованным в скорейшем уничтожении феодально-крепостнического строя, было, конечно, крестьянство, составлявшее, по данным двух «ревизий» (народных переписей), предпринятых в царствование Николая I, около 4/5 всего населения России, причем половину общего числа крестьян составляли именно крепостные помещичьи крестьяне (другую половину составляли государственные и удельные крестьяне). Накануне крестьянской реформы, по данным десятой переписи, осуществленной в 1858—1859 годах, на 60 миллионов жителей приходилось в Европейской России около 221/2 миллионов крепостных людей.1
Крестьянство никогда не мирилось с помещичьей кабалой, и не раз феодальная монархия потрясалась грандиозными крестьянскими возмущениями, грозившими истреблением всему классу дворян-душевладельцев. «Когда было крепостное право, — писал В. И. Ленин, — вся масса крестьян боролась со своими угнетателями, с классом помещиков, которых охраняло, защищало и поддерживало царское правительство. Крестьяне не могли объединиться, крестьяне были тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне все же боролись, как умели и как могли».2
Последние предреформенные десятилетия отмечены непрерывным ростом крестьянских волнений. «Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред сим», — жаловалось III Отделение в отчете за 1839 год и связывало эту перемену с влиянием на крестьянскую массу всякого разночинного люда — «подъячих, тысяч мелких чиновников, купечества и выслуживающихся кантонистов», прививающих крестьянству, по словам отчета, «много новых идей», раздувающих в нем искру, которая может «когда-нибудь вспыхнуть».3 Не оспаривая воздействия, уже и в то время, городских демократических элементов на крестьян, необходимо подчеркнуть, что крестьянство непосредственно в окружающей его действительности, в условиях своего собственного существования находило весьма достаточно оснований для всё более энергичного выражения своего недовольства. Частичное (иногда и полное) обезземеление крестьян, принуждение отдавать всё больше времени работе на барском поле, предоставлять помещику всё большую долю стороннего, внеземледельческого заработка, стремление всевозможными средствами интенсифицировать труд крепостных, — всё это влекло за собой разорение и обнищание крестьянства, всё это обостряло стремление крестьян к скорейшему освобождению от крепостного гнета.
Показательны цифры крестьянских волнений в николаевское царствование. По далеко не полным данным, известным до сих пор, за 1826—
11
1854 годы имело место не менее 712 волнений, и почти половина из них (348) приходится лишь на одно последнее десятилетие этого царствования (1845—1854).1
Грозный характер крестьянское движение приняло во время Крымской войны. Война значительно обострила бедствия народа. Вместе с тем политические события, связанные с войной, возбуждающе действовали на сознание народных масс. Ожидание воли стало еще более напряженным. Достаточно было того или иного повода, того или иного случайного толчка для возникновения массовых волнений, для предъявления крестьянами, как признавали современники, «старинных притязаний на освобождение».
В 1854 году поводом для волнений явился указ Николая I о наборе в морское ополчение. Этот указ вызвал широкое брожение в ряде северозападных и центральных губерний; среди крестьян упорно держался слух, что зачисление крепостных в ополчение возможно без согласия помещиков и что оно принесет полное освобождение от крепостной зависимости и самим ополченцам, и их семьям; рассчитывали также на освобождение от платежа податей, на избавление от рекрутства для нескольких поколений.2 Целыми толпами бежали крестьяне из помещичьих имений в Москву и другие центры, преодолевая всяческие препятствия, чинимые им властями, и настаивали на записи в ополчение.
Едва справившись с этой волной крестьянского движения, правительство столкнулось с новыми, еще значительно более серьезными волнениями по поводу январского (1855 года) манифеста о сборе общегосударственного ополчения. На этот раз главным центром движения стала Киевская губерния, где между крестьянами распространилось убеждение, что освобождение уже состоялось, что существует скрываемый попами и панами указ, «выводной лист», перечисляющий всех крестьян в казаки, с полным их избавлением от всяких повинностей по отношению к помещикам. Крестьяне рассчитывали не только на личное освобождение, но и на переход к ним земли. Отказываясь повиноваться местным полицейским властям, крестьяне устанавливали самоуправление — «громаду» («временное правительство», по определению свидетеля, участника усмирения волнений, небезызвестного в будущем С. С. Громеки3). Ряд воинских частей был направлен правительством для подавления движения киевских крестьян.
Волнения в связи с призывом общегосударственного ополчения происходили в 1855 году и в великорусских губерниях — Воронежской и других. Огнем и мечом старалось правительство только что вступившего на престол Александра II рассеять у крестьян иллюзию о «дарованной» уже свободе. Толки о воле не прекращались, и в 1856 году крепостные крестьяне из южных губерний массами направлялись «самовольно» на Крымский полуостров, движимые слухами о том, что там ожидает их свобода.
Ссылаясь на волнения крестьян в период Крымской войны, как и в предшествующие годы, К. Кавелин в записке по крестьянскому вопросу (1855—1856) убеждал «самых близоруких и ослепленных» крепостников, что «народ сильно тяготится крепостною зависимостью, и при неблагоприятных обстоятельствах из этого раздражения может вспыхнуть и разгореться
12
пожар, которого последствия трудно предвидеть».1 Говоря это, Кавелин лишь выражал мнение, очень широко распространенное под впечатлением крестьянских возмущений тех лет.
*
Усилив и обострив крестьянскую борьбу за волю, Крымская война этим самым ускорила падение крепостного строя в России. Но влияние ее на ход событий внутри страны сказалось не только с этой стороны. Крымская война дезорганизовала в той или иной степени лагерь сторонников и защитников старого режима, помогла распространению в обществе оппозиционных настроений, создала обстановку, благоприятствовавшую росту и оформлению революционно-демократических элементов.
При возникновении внешних осложнений, приведших затем к войне против англо-франко-турецкой коалиции, значительная часть общества была расположена верить в военное превосходство России Николая I и в неминуемость ее победы над врагами. Лишь в наиболее мыслящей и критически настроенной части общества не разделяли уверенности в николаевском «всемогуществе» и предвидели или, по крайней мере, предчувствовали, что режим, основанный на беспримерном насилии и угнетении, намеренно тормозящий народное развитие, может или даже должен оказаться бессильным во внешней борьбе. Так, в речи, произнесенной в Лондоне в конце 1853 года на собрании по поводу годовщины польского восстания 1830—1831 годов, А. И. Герцен заявил: «... Россия сильна, но императорская власть, так, как она сложилась, не может вызвать этой силы. Она выродилась и негодна больше».2 Совсем немного времени потребовалось для того, чтобы вся страна стала осознавать пророческий характер предостерегающих голосов: «Все стали догадываться, — как писал потом Герцен, — что только обшивка была гранитная, а внутри щебень» (XVI, 189).
Прежде всего потерпела крах вся система дипломатических отношений, долгие годы настойчиво поддерживаемая правительством Николая I. Ставка на союз с Австрией и Пруссией не дала ожидаемых результатов. Восстановив против себя передовые круги Европы жандармской ролью в 1848—1849 годах, особенно подавлением венгерской революции, Николай, как оказалось, не купил этим поддержки реакционных правительств, в том числе спасенного им австрийского правительства Франца-Иосифа, которое заняло в Крымскую войну позицию, недружелюбную в отношении России, и повлияло на неблагоприятный для нее исход борьбы.
Основной и важнейшей причиной поражения николаевской монархии была экономическая отсталость крепостной России, отнюдь не поспевавшей за хозяйственным ростом передовых капиталистических государств, и гнилость административного механизма страны. Ленин указывал, что Крымская война «показала гнилость и бессилие крепостной России».3
Несмотря на исключительное мужество и героизм русских войск, сказавшиеся с такой силой во время беспримерной обороны Севастополя, военная машина царской России оказалась недостаточно приспособленной к новым условиям войны, сложившимся к середине XIX века.
13
Вооружение армии было устарелое и потому негодное. «... Вооружение солдата, так же как и его обучение, было рассчитано на парадоспособность войск, а не на боевую их подготовку».1 Снабжение армии и подвоз резервов тормозились отсутствием путей сообщения (отмеченный выше некоторый прогресс в строительстве путей в предреформенной России был все-таки ничтожен сравнительно с потребностями государства). Отряды ополчения, прежде чем достигнуть места назначения, теряли иногда до половины своего состава. Болезни уносили больше жертв, чем боевые действия на фронте. Неумелость и ошибки верховного командования (Меншиков, Горчаков), громадные хищения во всех звеньях государственного аппарата вызывали недовольство в обществе.
Те, кто раньше верил в несокрушимую военную мощь империи, были жестоко разочарованы ходом войны. Предвидевшие возможность или даже неизбежность военных неудач нашли подтверждение своим взглядам и еще более укрепились в своем враждебном отношении к существующему порядку. Ореол силы и непобедимости николаевской империи стал быстро рассеиваться. Столь же быстро нарастали протестующие настроения, смелее и решительнее стала критика язв и пороков феодально-крепостнического режима. Симптоматичным было то, что в роли «обличителей» стали подвизаться даже такие апологеты существующего порядка, как М. П. Погодин, из-под пера которого вышла в годы Крымской войны столь нашумевшая серия «Политических писем», где с верноподданнических позиций подвергались критической оценке некоторые стороны внутренней и внешней политики и изыскивались пути и средства для спасения положения монархии. Ожесточение и тревога, всё сильнее охватывавшие значительные круги дворянской общественности, ярко отражены во многих дневниках, воспоминаниях, в переписке современников, а также в получившей большое распространение рукописной публицистической литературе.
Летом 1854 года, еще до высадки вражеских войск в Крыму, Ф. И. Тютчев писал (в частном, разумеется, письме): «Положение становится с каждым днем всё более угрожающим... Мнится, будто находишься внутри кареты, которая катится по всё более наклонной плоскости, и вдруг замечаешь, что на козлах нет кучера». Несколько позднее Тютчев писал: «... эта невероятная и шутовская нелепица должна скоро кончиться..., нельзя... не предвидеть переворота, который сметет всю эту гниль и подлость».2
Военные и дипломатические поражения, производя тяжелое впечатление на общество и вызывая в нем тревогу за будущее, одновременно учитывались, особенно в среде наиболее последовательных и непримиримых противников существующего порядка, в качестве фактора, который может и должен способствовать внутреннему обновлению и оздоровлению России. Распространение пораженческих настроений явилось, таким образом, одной из характерных черт внутреннего положения России в годы Крымской войны. Пораженцы встречались тогда даже в среде более или менее умеренных, либеральных общественных элементов. Известно признание историка С. М. Соловьева: «... с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России; с другой, мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение...».3
14
Вполне сознательное пораженчество, продиктованное патриотическо-революционными мотивами, было свойственно представителям складывавшегося в этот период разночинного революционно-демократического лагеря. Революционными пораженцами были в годы Крымской войны Н. Г. Чернышевский и только еще вступавший на поприще общественно-литературной деятельности (пока в качестве автора юношеских стихов и руководителя студенческой газеты) Н. А. Добролюбов. В отличие от либералов, Чернышевский и Добролюбов рассчитывали не на уступчивость и половинчатые «реформы» потрясенного внешними неудачами самодержавия, а на могучее революционное движение трудящегося народа, который, «сорвав свои оковы», встанет перед миром «вольным мужем жизни новой».1
Когда в августе 1855 года, после 11-месячной героической борьбы, пал Севастополь, это было внутри страны воспринято как показатель негодности существующего режима, как обличение «всей гнили правительственной системы».
Еще до падения Севастополя, в феврале 1855 года, умер Николай I (многие были вполне убеждены в том, что он покончил с собой). Смерть царя, в течение целых тридцати лет душившего и давившего всё живое и прогрессивное в стране, вызвала чувство облегчения в широких общественных кругах.
«Надо было жить в то время, — рассказывает в своих воспоминаниях Н. В. Шелгунов, — чтобы понять ликующий восторг „новых людей“, точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень...».2
Правда, преемник Николая — Александр II вовсе не отличался склонностью к «либерализму» и, в частности, был раньше известен как противник отмены крепостного права. Но обстановка его вступления на престол не дозволила ему целиком и полностью следовать обанкротившейся системе отца, который сам перед смертью признался своему наследнику, что сдает ему «команду» «не в таком порядке, как желал», оставляя «много трудов и забот».
Надо было подумать об ослаблении общественного возбуждения и недовольства, и правительство вынуждено было отпустить слегка вожжи. Наступившую полосу внутренней политики Тютчев назвал довольно метко «оттепелью». Немного легче стало работать университетам, в известной мере (очень ограниченной) был смягчен тяготевший над печатью и литературой цензурно-полицейский гнет, были удалены отдельные ненавистные обществу деятели николаевского царствования (но подавляющее их большинство сохранило свое положение), позднее была проведена политическая амнистия, тоже весьма неполная. «Послабления» чередовались с открыто реакционными действиями. Современники, даже столь лойяльные к власти, как славянофилы, сомневались и тревожились: что же последует за «оттепелью»? «Хорошо, если весна и благодатное лето, но если эта оттепель временная, и потом опять всё закует мороз, то еще тяжелее покажется».3
Главную опасность правительство, во главе с Александром II, усматривало все-таки не в «образованном обществе», с его очень трусливой, непоследовательной, слабой оппозицией, а в положении и настроении народа. Само либеральное общество в этом отношении беспокоилось не меньше
15
правительства, одинаково с последним боялось народного возмущения и думало о средствах к предотвращению крестьянской революции. К. Д. Кавелин, о котором впоследствии Ленин писал, как об одном «из отвратительнейших типов либерального хамства»,1 подчеркивал в самом начале нового царствования: «... из всех вопросов, — вопрос, из всех зол, — зло, из всех несчастий наших, — несчастье есть крепостное право... Только в этом горестном крепостном праве я и вижу возможность восстаний и насильственных переворотов».2
Когда в марте 1856 года Александр II впервые высказал московским дворянам свое намерение приступить «рано или поздно» к разрешению крестьянского вопроса, он, как известно, подчеркнул ту же сторону дела — опасность решения его «снизу», опасность народной революции.
При всем том не сразу после смерти Николая I, не сразу даже по окончании войны был прямо поставлен вопрос о «крестьянской реформе». Дело в том, что крепостническое поместное сословие в России, как указывает В. И. Ленин, было «гораздо более „крепким“, твердым, могучим, всесильным, „чем где бы то ни было в цивилизованном мире“»; «с величайшим сопротивлением уступало оно частички своих привилегий».3 Александр II сам проявлял нерешительность и колебания, да к тому же очень считался с окружающей его средой высшего дворянства, помещичье-сановной аристократии. «Нет даже начала освобождения крестьян, — этой первой азбуки гражданского развития», — негодующе писал Герцен в октябре 1856 года в предисловии ко второму изданию своей «Крещеной собственности» (VII, 264). Тогда же А. К. Толстой, в частной переписке, выражал крайнее недовольство тем, что правительство «секретничает» и медлит. «Вопрос, — писал он, — стоит вовсе не так..., как решить лучше?.. — а как решить скорее?.. кончится тем, что нас перережут», — восклицал Толстой.4
Лишь в январе 1857 года открыл свои занятия вновь учрежденный «Секретный комитет» по крестьянскому делу. Состоя в большинстве своем из ультракрепостников, он намеренно топтался на месте; планы, вынашивавшиеся членами комитета, были рассчитаны на то, чтобы изменить существующий крепостной порядок через десятки лет.
Подготовка реформы сдвинулась с мертвой точки в конце 1857 года, когда появились царские рескрипты на имя виленского и петербургского генерал-губернаторов. Ими предусматривалось учреждение в трех западных и в Петербургской губерниях дворянских комитетов для составления проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян»; в сопроводительном отношении министра внутренних дел Ланского пояснялось, что речь идет об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Общие основания реформы, содержавшиеся в рескриптах и дополнениях к ним Ланского, свидетельствовали, однако, о том, сколь призрачный характер должно было иметь это «освобождение». Правительство объявляло, что «уничтожение крепостной зависимости должно быть совершено не вдруг, а постепенно». В связи с этим проектировалось для крестьян «переходное состояние» (сроком до двенадцати лет), в течение которого они оставались «более или менее крепки земле». Правительство исходило из положения, что «помещикам сохраняется право собственности на всю землю», крестьянам же предоставляется часть ее только в пользование, и за это они должны платить
16
оброк помещикам или отбывать «работу», т. е. ту же ненавистную барщину. «Усадебная оседлость», которую предполагалось оставить крестьянам (имелось в виду жилье и хозяйственные строения с землей под ними), подлежала постепенному выкупу. Помещики сохраняли над крестьянскими обществами административную власть — «вотчинную полицию».
Сам факт издания рескриптов был учтен в обществе и печати как уступка власти, как признание ею невозможности дальнейшего сохранения окончательно изжившего себя порядка. Но содержание рескриптов, намечавшиеся ими основы реформы вызвали у многих недоумение и разочарование. Один из корреспондентов «Колокола» писал: «... в сущности, освобождение это есть все-таки освобождение без земли: освобождение в голод и бесприютность».1
В течение 1858 года правительству пришлось пересмотреть свою позицию: оно помирилось с идеей выкупа крестьянами в собственность части полевой земли. Главная причина эволюции заключалась всё в том же страхе перед гневом народа, волнения которого отнюдь не прекратились после появления рескриптов. Выкуп не был сделан обязательным — он был поставлен в зависимость от односторонней воли помещиков.
В 1858 году дворянские губернские комитеты постепенно открылись повсеместно: вопрос о подготовке реформы ставился в общерусском масштабе. В Петербурге был образован из Секретного комитета Главный комитет по крестьянскому делу. В начале 1859 года при Главном комитете были учреждены «Редакционные комиссии» (под председательством генерал-адъютанта Якова Ростовцева, при практическом руководстве Николая Милютина), на которые возлагалась выработка общего для всей России положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, с дополнениями, изменениями и частными положениями в зависимости от местных условий.
Во всех звеньях правительственно-дворянского аппарата, занятого подготовкой отмены крепостного права, сказывались те разногласия, которые в той или иной степени разделяли и среду дворян-помещиков, и различных представителей правительственных верхов по тем или другим вопросам реформы. Различия в имущественных интересах разных помещичьих групп (прежде всего разница между черноземными помещиками, больше всего дорожившими своей ценной землей, и помещиками нечерноземных, промышленных по преимуществу губерний, где больше ценились крепостные души, нежели земля), разное понимание путей и средств, которые наилучшим образом должны были вести к упрочению позиций помещичьего класса и гарантировать государственный «порядок» и общественное «спокойствие», — всё это вызывало трения, столкновения, иногда получавшие довольно резкие по внешности проявления.
В наиболее общей форме разделение сводилось к группировке на так называемых «либералов» и «крепостников».
По поводу расхождения между ними В. И. Ленин писал впоследствии: «Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок». Либералы сами стояли «на почве признания собственности и власти помещиков» и «хотели „освободить“ Россию „сверху“, не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к „уступкам“ духу времени». Ленин оценивал либералов, как идеологов буржуазии,
17
«которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс...».1 Многократно в своих характеристиках либерализма Ленин подчеркивал, что либералы больше боятся революции, чем реакции.
Конечно, нет никаких оснований вовсе сбрасывать со счета внутреннюю борьбу в среде господствующих классов при общей оценке положения России в период подготовки и проведения крестьянской реформы. Эта борьба обостряла неустойчивость политической обстановки, она отражала тот «кризис „верхов“», который, как учит Ленин, составляет один из признаков всякой революционной ситуации. Обнаруживалась «невозможность для господствующих классов сохранить в неизмененном виде свое господство», породившая «кризис политики господствующего класса». Подобные кризисы создают трещину, в которую «прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов».2 Кризис верхов и в России времени падения крепостного права сыграл такую роль. Но первейшим по своему историческому значению фактором русской революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов было именно недовольство угнетенного класса — крестьянства, возмущение самих крестьянских масс и того общественного слоя (разночинно-демократической интеллигенции), который поднял, во имя интересов этих масс, знамя революционной борьбы против крепостничества и царской монархии.
*
Вопреки уверениям старых либерально-буржуазных историков, в годы непосредственной подготовки «крестьянской реформы» (1858—1860) крестьянское движение вовсе не прекращалось и не затихало. Напротив, оно проявлялось в разнообразных, иногда бурных формах и достигло значительных размеров.
Ежегодные отчеты III Отделения дают следующие цифры «неповиновений крестьян» за этот период: в 1858 году — в 86 имениях, в 1859 году — в 90 имениях, в 1860 году насчитано 108 случаев волнений.3 Цифры эти нельзя считать исчерпывающими. Годовые отчеты министра внутренних дел, показывая для 1859 года число волнений, несколько меньшее по сравнению с отчетами III Отделения (78), для 1858 года давали гораздо более высокую цифру — 170 случаев неповиновений крестьян своим помещикам. Кстати, отмечая будто бы уменьшение количества волнений в 1859 году, министр внутренних дел должен был признать, что «формы, в которых в 1859 году проявлялись беспорядки, к сожалению, были несравненно резче и прискорбнее».4
В течение всего предреформенного периода крестьяне внимательно наблюдали за происходящими на «верхах» приготовлениями. Крестьяне «зорко следят за делом», сообщал помещик и участник реформы князь В. Черкасский Ю. Ф. Самарину в сентябре 1858 года; Черкасский отмечал частые «вспышки» у «дурных» помещиков на почве исполнения барщины.5 То же
18
подтверждал через два года Н. А. Добролюбов (в известной статье «Черты для характеристики русского простонародья»): «... когда стало ясно, что с ним <крестьянином> не шутят, вопрос об освобождении стал для крестьян наших решительно на первом плане, как самое важное и жизненное дело. Теперь нет уголка во всей России, где бы не рассказывали о том, как, при начале дела освобождения, помещичьи крестьяне собирали сходки и отправляли депутации — или к помещику, или к священнику, или даже к земским властям, чтобы разузнать, что и как намерены решить насчет их...» (II, 271).
Программа освобождения, жившая в умах и сердцах крестьян, коренным образом отличалась от помещичьей и правительственной, находилась с последней в полном противоречии. «Народ везде решил, что освобождение будет со всей землею», свидетельствовал близко наблюдавший крестьянские настроения А. К. Толстой еще в 1856 году.1 Министр государственных имуществ М. Н. Муравьев («вешатель», палач польского народа) на основании своих наблюдений на местах в 1857 году утверждал, что крестьяне видят свободу в «неограниченном пользовании всеми землями помещиков».2 В качестве минимума крестьяне рассчитывали на закрепление за ними всех участков, находившихся при крепостном праве в их пользовании. Крестьяне считали естественным, что с отменой крепостного права сразу и полностью прекратятся всякие их повинности помещикам.
На почве коренной противоположности стремлений крестьян и грабительских планов помещиков происходило множество конфликтов между ними. Крестьяне во многих случаях отказывались повиноваться новым владельцам при переходе имений в другие руки. Они противились продаже тех или иных угодий, ожидая, что при освобождении эти угодья перейдут бесплатно к ним. Крестьяне в разных местах добивались уже теперь, в подготовительный к реформе период, сокращения (иногда и полного прекращения) барщинных работ.
Всё «спокойствие» в деревне, как подчеркивали некоторые внимательные наблюдатели, было «наружное и крайне ненадежное». Усиливалась вражда («взаимное недоброжелательство», по словам, например, А. В. Головнина, будущего министра просвещения) между обоими сословиями. Тот же современник особенно подчеркивал (в 1860 году) напряженное настроение в молодом крестьянском поколении, на которое «жгучая мысль о „вольности“, о „свободе“ сильно действует, воспламеняет их умы и кипятит кровь».3
Гораздо острее, чем прежде, реагировали в это время крестьяне на издевательства, на те или иные махинации, мошенничества владельцев. Между тем, не останавливаясь ни перед какими насилиями, обманами и беззакониями, многие из помещиков старались заранее обеспечить себе наиболее выгодные условия будущего размежевания с крепостными. Так, например, принимались всевозможные меры (перевод в дворовые, сдача в рекруты и т. д.), чтобы сократить число крестьян, которых предстояло в момент реформы «наделить» землей. Менялись на худшие крестьянские участки, присваивалась земля, когда-то купленная крестьянами на имя помещиков. Подобные действия помещиков вызывали сопротивление; во многих случаях они оказывались поводами к крестьянским выступлениям.
Правительственные власти всегда и везде спешили на помощь помещикам. В имения то и дело вводились военные команды, происходили массовые
19
экзекуции, аресты так называемых «подстрекателей», которых обычно крестьяне стремились всячески поддержать и защитить.
Особое место в крестьянских волнениях кануна реформы принадлежит движению против питейных откупов, возникшему в 1858 году и принявшему в 1859 году исключительно широкий размах. В этом движении большое участие принимали, кроме помещичьих, государственные крестьяне. Увеличение откупщиками цен на вино, ухудшение его качества, общее вздорожание жизни вызвали массовое движение бойкота спиртных напитков. Сначала в литовско-белорусских губерниях, потом в Поволжье, в некоторых губерниях центральной России и Украины крестьяне стали составлять приговоры об отказе от вина, назначая ослушникам денежные штрафы и даже телесные наказания. От простого бойкота крестьяне и присоединившиеся к ним мещане во многих местах перешли к разгрому винных лавок. «Питейные беспорядки» подавлялись применением вооруженной силы. Тысячи крестьян были арестованы, наказаны розгами, многие преданы военному суду.
Правительство утешалось тем, что беспорядки «имели источником злоупотребления откупщиков и ни в каком случае не могут быть отнесены к разряду возмущений или неповиновений правительству».1 На деле они, понятно, являлись симптомом такого настроения масс, которое при известных условиях могло вылиться в другие формы, прямо направиться против помещиков, против крепостнического порядка.
Представители революционно-демократической интеллигенции проявили к движению против откупов огромный интерес и придавали ему серьезное значение. Их особенно обнадеживало то, с каким единодушием и упорством действовали массы. В известной статье, озаглавленной «Народное дело» (по требованию цензуры статью пришлось опубликовать под более нейтральным названием «О распространении трезвости в России»), Добролюбов писал: «Какая бы ни была причина этого, факт имеет важное значение в том отношении, что доказывает способность народа к противодействию незаконным притеснениям и к единодушию в действиях... Сотни тысяч народа, в каких-нибудь пять-шесть месяцев, без всяких предварительных возбуждений и прокламаций, в разных концах обширного царства, отказались от водки... Эти же сотни тысяч откажутся от мяса, от пирога, от теплого угла, от единственного армячишка, от последнего гроша, если того потребует доброе дело, сознание в необходимости которого созревает в их душах» (IV, 127, 138—139).2
Крестьянское движение предреформенных лет, как и еще более широкое и острое по формам движение крестьян сразу после объявления реформы, имело важный исторический смысл. В эпоху падения крепостного права, как показал Ленин, «шла борьба из-за способа проведения реформы между помещиками и крестьянами. И те и другие отстаивали условия буржуазного экономического развития (не сознавая этого), но первые — такого развития, которое обеспечивает максимальное сохранение помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих (кабальных) приемов эксплуатации. Вторые — интересы такого развития, которое обеспечило бы в наибольших, возможных вообще при данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства, уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов эксплуатации, расширение свободного крестьянского землевладения».3
20
Крестьянские выступления (раздробленные, единичные восстания, скорее даже «бунты», как отмечает Ленин) не были освещены «никаким политическим сознанием».1 «В России в 1861 году народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу».2 На политической арене не было еще сформировавшегося И организованного рабочего класса, который мог бы объединить крестьян и возглавить их борьбу. Поэтому дело осталось в руках правительства и помещиков, которые провели его по-своему, по-крепостнически.
Но крестьянство, в тех формах, какие были ему в то время доступны, начало ту борьбу за демократический путь развития России, которая затем красной нитью проходит в пореформенной истории страны.
Недаром Маркс, внимательно следивший за ходом дел в России, признавал накануне реформы 1861 года крестьянское движение в России и движение рабов в Америке самыми великими событиями в мире.3
*
Крестьянское движение встретило живой отклик в среде всех подлинно демократических элементов русского общества. Период «шестидесятых годов» имел огромное значение в формировании и развитии революционного движения русской демократической интеллигенции.
Чернышевский и Добролюбов (со всем своим окружением) в самой России, Герцен и Огарев в эмиграции — высоко подняли знамя борьбы за народные требования, против насильничества и наглого своекорыстия помещиков и помещичьего правительства.
Для Герцена обозреваемый период был временем расцвета его публицистической деятельности. Сразу после смерти Николая I, в предвидении неминуемого оживления общественной борьбы, Герцен создал свою «Полярную звезду», потом (вместе с Огаревым) — знаменитый «Колокол». Ленин писал:
«Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга. „Полярная звезда“ подняла традицию декабристов. „Колокол“ (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено».4
Освобождение крестьян с землей являлось центральным пунктом программы ближайших требований, выдвинутой Герценом. Свобода печати (упразднение цензуры), немедленное уничтожение телесных наказаний также входили в круг его минимальных требований. В более общей форме Герцен (уже в первой книжке «Полярной звезды») определял свои цели, как уничтожение «современного порядка дел в России» и замену его «свободными и народными учреждениями» (VIII, 222).
Основоположник «русского», крестьянского социализма, «народничества» (в широком значении этого слова), Герцен ошибочно видел, как указывает Ленин, в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю» — «социализм».
«На деле в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве... нет ни грана социализма... Идея „права на землю“ и „уравнительного раздела земли“ есть не что иное как формулировка революционных
21
стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения».1
<Иллюстрация:>
«Десятилетие Вольной русской типографии».
Титульный лист. 1863.
Упорно и настойчиво развивая и пропагандируя свою программу, Герцен на деле выступал как выразитель антикрепостнических требований и демократических чаяний широких крестьянских масс.
Герцен выступил еще в 30—40-х годах как выдающийся наследник и продолжатель декабристов, представителей первого, дворянского поколения русских революционеров. «... Герцен, — по словам Ленина, — принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г... Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах».2 Это обусловило тактические колебания Герцена во второй половине 50-х годов. Он идеализировал одно время возможную общественную роль образованных кругов среднего дворянства. Он апеллировал не только к ним, но и непосредственно к царской власти. Откликнувшись на воцарение Александра II открытым письмом, в котором он призывал нового императора дать свободу и землю крестьянам, дать всем русским людям «вольную речь», Герцен неоднократно повторял свои попытки воздействовать на направление правительственной политики. В этих случаях он отступал от демократизма к либерализму. Однако «при всех колебаниях Герцена... демократ все же брал в нем верх».3
Герцен был глубоко предан интересам народной массы, с точки зрения которых он стремился разрешать все текущие вопросы. Поэтому и в пору своих ошибочных, утопических надежд на Александра II он никогда не смешивался с либеральной толпой, славословившей царя, и обличал, напротив, самих либералов, жертвующих передовыми стремлениями, «выстраданными под лапой Николая» (VIII, 386). Герцен зорко следил за всеми махинациями царской бюрократии и крепостников, он клеймил лицемерие власти, нее ее реакционные мероприятия, разоблачал усвоенную правительством жалкую систему мелких частичных улучшений», не затрагивающих «существа дела» (VIII, 412).
22
Герцен подчеркивал неоднократно, что он вовсе не является сторонником «мирного» развития во что бы то ни стало и «самое бурное и необузданное развитие» безусловно предпочитает сохранению самодержавно-крепостнического режима (IX, 2). Он отнюдь также не был исключительным сторонником освобождения «сверху» и признавал полную правомерность и необходимость самоосвобождения народа, народной революции, в случае, если массы почувствуют, что их обманывают, «надувают освобождением». Ничто, пожалуй, не иллюстрирует так ярко и остро демократической, враждебной либерализму основы предреформенной герценовской агитации, как те его страницы, на которых он говорил об обязанности армии по отношению к восстающему народу, где он призывал войско не подчиняться крепостникам, помнить о «смертном грехе» усмирения крестьян.
Чем ближе к реформе 19 февраля, тем больше таяли и выветривались иллюзии Герцена, тем резче он нападал на правительство Александра II и его политику, тем очевиднее становилась пропасть, отделяющая его от всех (до самых «левых») представителей дворянско-буржуазного либерализма, тем устойчивее становился его революционный демократизм.1
Резкий подъем крестьянского движения после 19 февраля, развитие деятельности революционных разночинцев, полное саморазоблачение правительства помогли Герцену и Огареву преодолеть либеральные иллюзии и ошибки. Говоря о том, что Герцен в 40-х годах не мог видеть революционного народа в самой России, В. И. Ленин подчеркивал: «Когда он увидал его в 60-х — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма».2
Революционную агитацию, развернутую Герценом, по словам Ленина, «подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной воли“».3
С Чернышевским, Добролюбовым, с фалангой их сподвижников и последователей русское освободительное движение вступило в свой второй, разночинский этап. Этот новый этап явился не вдруг, он имел свою подготовку, очень заметную уже в 40-х годах. В. Г. Белинский был самым выдающимся его предшественником; с некоторыми ранними представителями передового разночинства мы сталкиваемся также в кружках петрашевцев. Но именно в период падения крепостного права разночинец окончательно вышел на авансцену русской общественной жизни и стал на десятилетия главным деятелем нашего революционного движения.
Ленин определял разночинцев, как «образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших... к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству».4 Разночинную среду пополняли и представители низших слоев духовенства, а также «деклассировавшиеся» выходцы из самой дворянской интеллигенции.
23
«Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности».1
<Иллюстрация:>
«Русская потаенная литература XIX столетия».
Титульный лист. 1861.
Сравнивая разночинский этап с дворянским, Ленин писал: «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом».2
Чувствуя себя и по положению, и духовно гораздо ближе к народной массе, чем передовые дворяне, разночинец значительно вернее, глубже улавливал те потребности, ее живые интересы, он яснее видел ее революционные возможности, он смелее, тверже, решительнее шел навстречу революционным битвам.
Величайшим представителем разночинского этапа русского революционного движения является Чернышевский. Сопоставляя общественные взгляды Чернышевского и Герцена, Ленин показал, что и по сравнению с Герценом Чернышевский «сделал громадный шаг вперед... Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма несмотря на свой утопический социализм».3
Освещению взглядов и деятельности Чернышевского и его великого друга-соратника Добролюбова ниже посвящаются специальные главы. В вводном обзоре общественно-политического движения эпохи достаточно подчеркнуть ведущее место обоих руководителей «Современника» в борьбе передовых демократических сил русского общества во время подготовки и проведения «крестьянской реформы».
Чернышевский выступал в острой литературно-общественной борьбе, развернувшейся вокруг «реформы», как подлинный выразитель и истолкователь крестьянских интересов и требований. Он был горячим поборником полного уничтожения землевладения и власти помещиков, сторонником перехода к крестьянству всей земли, без всякого выкупа. Последовательно-демократическая программа крестьянского освобождения выражена позднее
24
Чернышевским в романе «Пролог» в лозунге: «... вся земля мужицкая, выкупу никакого! — Убирайся, помещики, пока живы!».1
Неблагоприятное для крестьянства соотношение реальных общественных сил, наряду с грубым давлением всего цензурно-полицейского аппарата крепостнического государства, исключали для Чернышевского возможность прямой, открытой, развернутой защиты в легальной печати этой самой полной крестьянской программы целиком. Чернышевский, преследуя широкие агитационно-пропагандистские цели, вынужден был обосновывать и отстаивать такое решение вопроса, которое, по его словам, «могло бы, хотя до некоторой степени, соответствовать идеям, с незапамятных времен существующим в поселянах» (V, 713).
Это объясняет тот вариант демократических аграрных требований, — рассчитанный на разоблачение верхов, на углубление и активизацию антикрепостнической борьбы, — который Чернышевский развивал одно время в «Современнике». Нечего говорить, что и этот вариант коренным образом противоречил предположениям и планам, вырабатывавшимся тогда как в дворянских комитетах, так и в правительственных канцеляриях. В среде помещиков и эта, по необходимости урезанная, платформа Чернышевского вызывала против него бешеное озлобление. «Вспомните, в какую цену вы оценили наши имения», — писал аноним-помещик в письме, впоследствии найденном у Чернышевского при аресте.2 Помещики, в самом деле, не могли не видеть злейшего врага в Чернышевском, который, даже и вынужденный вести полемику на почве «признания» неизбежности компенсации дворянству,3 предлагал принять ее на счет всей нации и намечал цифры раза в четыре меньше тех, какие потом были назначены к выплате помещикам на основании «Положений» 19 февраля. Не менее радикально Чернышевский расходился со всем господствующим классом по вопросу о нормах крестьянских земельных наделов, требуя, как крайнего минимума, оставления в руках крестьян всей той земли и именно тех самых участков, которыми они пользовались до реформы, и настаивая при этом на добавочной прирезке земли за счет помещиков во всех тех имениях, где крестьяне при крепостном праве были обделены ею. Наконец, и по вопросу о переходном «временно-обязанном» состоянии он давал бой врагам крестьянства, сидевшим в губернских дворянских комитетах, в Главном комитете и Редакционных комиссиях, отвергая самым категорическим образом сохранение, на какой бы то ни было срок и в какой бы то ни было форме, обязательного труда бывших крепостных в пользу помещиков.
С начала практической разработки реформы Чернышевский, используя материалы западноевропейской жизни и истории, разъяснял «обиняками» читателям, что дело крестьянской реформы вручено царем врагам крестьянства; напрашивался вывод, что царь сам фактически становится в ряд этих врагов. Как Чернышевский, так и Добролюбов, явно видя, куда клонится предпринятая царизмом реформа, вели решительную и настойчивую, крайне трудную по условиям момента борьбу против всякого рода иллюзий в отношении правительства и его «освободительных» замыслов.
Чернышевский и Добролюбов превосходно понимали, кому полезны подобные иллюзии, сознательно сеявшиеся либералами, которые, задаваясь целью непременно воспрепятствовать революционной развязке кризиса,
25
охотно поддерживали в широкой публике ничем не оправданный оптимизм, или, как говорил Добролюбов, «розовый колорит». Будучи убеждены, что, как выразился однажды Добролюбов, «современная путаница не может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной жизни»,1 — другими словами, народным, крестьянским восстанием, — Чернышевский и Добролюбов пропагандировали недоверие к всевозможным «надеждам и обещаниям». Они последовательно, упорно боролись против всех тех литературно-общественных явлений, которые могли действовать усыпляющим образом на лучшую, передовую часть интеллигенции, способную стать под революционно-демократическое знамя.
«Призыв к революции», — так характеризовал Добролюбов в дневнике за 1859 год основной смысл своей литературной деятельности (VI, 487). То же самое, разумеется, мог бы и Чернышевский повторить о характере и значении своей работы. Это не значит, что они призывали к немедленному восстанию, к восстанию неорганизованному, неподготовленному, заранее обреченному на разгром. Но вне революции — «желанной, святой», по слову Добролюбова (VI, 267), — они не видели возможности удовлетворительного, отвечающего интересам народа разрешения поставленных на очередь вопросов, и на подготовку революции, на подготовку условий для ее успеха они направляли все свои усилия.
Этим целям, между прочим, служила та тактика бойкота, демонстративного молчания о реформе, которую приняли Чернышевский и возглавляемый им «Современник» в последней фазе ее подготовки. Этот бойкот являлся своеобразной формой борьбы против наивных и вредных «обольщений», иллюзий известных кругов публики. Он должен был еще резче подчеркнуть полное и безусловное недоверие и непримиримую враждебность руководителей демократического лагеря к правящим сферам и подготовляемому ими «освобождению» крестьян.
«Чернышевский понимал, — указывает Ленин, — что русское крепостническо-бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, т. е. ниспровергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести „мерзость“, жалкий компромисс интересов либералов... и помещиков, компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий головой помещикам. И он протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов».2
И Чернышевский и Добролюбов мечтали и готовились принять действенное участие в этой «открытой борьбе». Вожди разночинной демократии сближались с лучшими представителями интеллигенции, особенно в среде студенчества, передового офицерства, в демократической литературной среде. Впоследствии, в примечаниях к опубликованной им переписке Добролюбова, Чернышевский, например, вспоминал о существовании двух офицерских кружков (из слушателей и преподавателей Военной академии), с участниками которых был близок Добролюбов (конечно, и сам Чернышевский).3 Нам не известно конкретное содержание революционных проектов, вынашивавшихся Добролюбовым и Чернышевским, как не известно и то, что могло уже быть предпринято в смысле попыток их осуществления
26
на деле. Во всяком случае, в момент объявления крестьянской реформы и в ближайшие затем недели и месяцы мы встречаемся уже с достаточно определенными планами нелегальной революционной работы, исходящими от того литературно-общественного круга, центром которого был Чернышевский.
*
В октябре 1860 года Редакционные комиссии закончили свою работу. Составленные из ряда виднейших чиновников и нескольких приглашенных правительством крупных помещиков, имевших репутацию общественных деятелей, комиссии руководились в своей работе интересами помещичьего класса и дворянской монархии. Разоблачая идеализацию в либеральной литературе деятелей комиссий, Ленин отмечал, что «Милютин и Соловьев1 сами отстаивали привилегии крепостников и необычайно тяжелый „выкуп“ за эти привилегии».2 Тем не менее представители так называемой крепостнической партии в дворянстве, да и часть так называемых либералов нападали на Редакционные комиссии за якобы недостаточное внимание к помещичьим интересам и требованиям. В заключительный период своей деятельности Редакционные комиссии, во главе со своим новым председателем графом Паниным, занявшим место умершего Ростовцева, сделали немало дополнительных уступок домогательствам крепостников-помещиков. В Главном комитете по крестьянскому делу, куда поступил проект Редакционных комиссий, он был подвергнут новому пересмотру в интересах помещиков. При окончательном обсуждении проекта реформы в Государственном совете в начале 1861 года Александр II имел все основания заявить: «всё, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков — сделано».3 Сделав в угоду крепостникам еще одно существенное изменение проекта принятием пресловутого «дарственного» надела (в одну четвертую долю нормального), Государственный совет одобрил «Положения о крестьянах», выходящих из крепостной зависимости, которые 19 февраля 1861 года были утверждены Александром II. Тем же числом был датирован и известный манифест об «освобождении».
«Положения» 19 февраля оправдали худшие предсказания революционно-демократических кругов. Во всех разделах — о земельном «обеспечении» крестьянства, крестьянских повинностях, размерах и порядке выкупа, организации крестьянского управления и пр. — «Положения» неуклонно проводили линию защиты интересов и привилегий помещиков.
Помещичий дух реформы 19 февраля сказался прежде всего в том, как она разрешила вопрос о земельном наделе крестьян. Для большинства районов был установлен максимальный, высший душевой надел, больше которого крестьяне получить не могли и который, как правило, был сам по себе совершенно недостаточен. Наряду с высшим устанавливался низший надел, равный одной трети высшего. Помещики имели самую широкую возможность в пределах этих крайних норм производить урезку, сокращение прежних, существовавших до реформы крестьянских наделов. Эти «отрезки» от крестьянских земель сыграли губительную роль в пореформенном крестьянском хозяйстве. «По случаю „освобождения“, — писал Ленин, — от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях свыше 1/5 части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до 1/3 и даже до 2/5 крестьянской
27
земли».1 В результате крестьяне вынуждены были арендовать у помещиков недостающую землю на самых кабальных условиях. Грабеж крестьянских земель выразился не только в количественном уменьшении, но и в резком качественном ухудшении крестьянского надела. Помещики взяли себе лучшие земли, лишили крестьян самых необходимых угодий.
За сильно уменьшенные и весьма ухудшенные земельные участки крестьян заставили уплатить громадный выкуп, намного превышавший реальную стоимость земли и фактически представлявший собой плату не только за землю, но и за освобождение личности крестьянина. Крестьяне, конечно, не располагали необходимыми средствами для немедленной расплаты с помещиками, и правительство взяло на себя роль посредника: оно выплатило до 80% выкупной суммы помещикам, и этот долг — уже не отдельным помещикам, а всему помещичьему государству — подлежал взысканию с крестьян в течение 49 лет. При этом вся выкупная операция была так организована, что крестьяне уплатили казне гораздо больше, чем сама она выдала помещикам.
Выкуп земли в собственность крестьян, несмотря на грабительскую ее оценку и неимоверно тяжелые условия выплаты, был, вдобавок, поставлен в зависимость целиком от воли помещиков. Помещик, если находил выгодным, мог в продолжение неопределенного времени уклоняться от перехода на выкуп, оставаясь, вследствие того, юридическим собственником всей земли, за пользование которой крестьяне были обязаны ему попрежнему несением феодальных повинностей. Это так называемое временно-обязанное состояние было упразднено в законодательном порядке лишь через двадцать лет, в 1881 году; к указанному моменту еще седьмая часть бывших крепостных душ не перешла на выкуп и оставалась на положении временнообязанных.
Административное устройство крестьянства, введенное «Положениями» 19 февраля, закрепляло приниженное, бесправное положение крестьянской массы.
Крестьянская реформа, писал Ленин, «является величайшим историческим примером того, до какой степени изгаженным выходит всякое дело из рук самодержавного правительства».
«„Освобожденный“ от барщины, крестьянин вышел из рук реформатора таким забитым, обобранным, приниженным, привязанным к своему наделу, что ему ничего не оставалось, как „добровольно“ идти на барщину. И мужик стал обрабатывать землю своего прежнего барина, „арендуя“ у него свои же отрезные земли, подряжаясь зимой — за ссуду хлеба голодающей семье — на летнюю работу. Отработки и кабала — вот чем оказался на деле тот „свободный труд“, призвать на который „божие благословение“ приглашал крестьянина манифест, составленный попом-иезуитом».2
Правда, при всем том реформа 1861 года была «крупным историческим переломом».3 Она была «проводимой крепостниками буржуазной реформой. Это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию».4 Буржуазное содержание и направление происходившего в России преобразования подчеркивалось и теми реформами, которые последовали вслед за
28
крестьянской: судебной (1864), земско-городской (1864 и 1870), военной (1874), в известной мере также школьно-университетской (1863—1864) и цензурной (1865). Русская жизнь после реформы 19 февраля перестраивалась на буржуазный лад.
«19-ое февраля 1861 года знаменует собой начало новой, буржуазной, России, выраставшей из крепостнической эпохи», — писал В. И. Ленин.1
Перелом, нашедший выражение в событии 19 февраля, явился одним из исторических примеров действия экономического закона обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил — одного из важнейших законов исторического материализма. Однако тот факт, что перелом совершился не путем революции, а путем реформы, проведенной руками крепостников, определил своеобразие действия указанного закона, который не мог получить в данном случае полного простора.
После 1861 года в России сохранились такие громадной важности пережитки крепостничества, как монархия, сословность, огромные помещичьи латифундии, по-старому эксплуатировавшие и грабившие крестьян, унаследованное от феодального прошлого землепользование и т. д. Эти пережитки крайне тормозили свободное, беспрепятственное развитие производительных сил, они задерживали рост культуры народа, обостряли народные бедствия, обрекали массы на постоянные голодовки и нищету.
*
Революционная ситуация, назревшая в России к концу 50-х годов, накануне «крестьянской реформы», с наибольшей остротой выразилась в событиях 1861 года — года объявления реформы. В ослабленной форме демократический подъем продолжался еще в 1862, частью в 1863 году, когда вполне обозначилось поражение революционно-демократических сил, неудача первого демократического натиска.
В своей работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма» (1901) В. И. Ленин охарактеризовал те конкретные явления и обстоятельства, из которых складывалась чреватая революционным взрывом политическая обстановка «начала 60-х годов»: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России „Колокола“, могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых „очень часто“ приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять „Положение“, обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять такое „Положение“, студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной».2
Огромный рост крестьянского возбуждения был прямым ответом на реформу 19 февраля. Крестьянские массы встретили манифест и «Положения» 19 февраля с чувством разочарования, глубокого раздражения и недовольства, подчас и с откровенным недоверием.
Один из губернаторов доносил в 1861 году министру внутренних дел: «Народ остался недоволен объявленною свободой: он надеялся на полную
29
развязку со старой жизнью и помещичьей властью, он твердо рассчитывал на совершенное прекращение барщины и обязательного труда».1
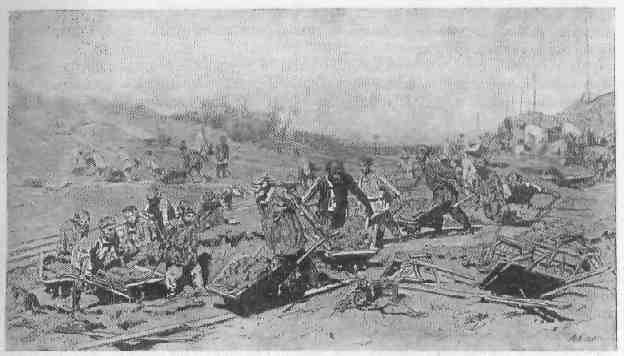
Ремонт железной дороги. Офорт К. А. Савицкого с его картины 1874 г.
В объявленные «Положения» 19 февраля крестьяне нередко вкладывали свое понимание, отвергая то объяснение их, которое исходило от официальных лиц. Большое распространение получило убеждение, что данная реформа не имеет окончательного характера, что за нею последует вторая, которая уже и принесет настоящую, «чистую» волю. Поэтому, между прочим, крестьяне так упорно отказывались от подписания уставных грамот, определявших «новые» отношения помещиков со своими бывшими крепостными. Для составления уставных грамот законом был установлен срок в два года. Крестьяне рассчитывали, что, уклоняясь от подписания грамот, они приобретут право на ту новую, полную волю, которая наступит но истечении двухлетнего срока.
Бойкотом уставных грамот крестьянский протест отнюдь не ограничивался. Он принимал такие формы, как полный или частичный отказ от барщинных работ и т. д. Положение казалось в этом отношении столь серьезным, что весьма многие современники, из разных кругов, признавали предписания акта 19 февраля, касающиеся обязательного труда крестьян, совершенно провалившимися, невыполнимыми на практике.
Правительство меньше всего расположено было оставаться безучастным наблюдателем происходивших почти повсеместно между крестьянами и помещиками конфликтов. Оно приготовилось заранее к подавлению любых проявлений сопротивления со стороны крестьянских масс. Одновременно с опубликованием «Положений» 19 февраля на места были командированы флигель-адъютанты и генерал-майоры царской свиты, наделенные самыми широкими полномочиями, действовавшие «именем высочайшей власти». Опираясь на военную силу, эти специальные эмиссары помещичьей
30
монархии, совместно с губернским начальством, жестоко подавляли малейшие проявления народного недовольства и вынуждали массы к полному подчинению реформе.
По отчету III Отделения за 1861 год, в течение этого года крестьянами было оказано «неповиновение» в 1176 имениях.1 По данным министерства внутренних дел, в 1861 году было 784 случая волнений, охвативших 2034 селения.2 В 337 имений вводились воинские команды. В 17 имениях крестьяне, по отчету III Отделения, «нападали на нижних чинов», в 48 — «сопротивлялись арестованию виновных или насильно освобождали задержанных», в 126 — по казенной терминологии — «буйствовали при укрощении неповиновавшихся».
Из многочисленных столкновений между крестьянами и усмирителями наибольшее значение имели кандеевское и безднинское.
Селение Кандеевка Керенского уезда Пензенской губернии, вместе с селением Черногай Чембарского уезда той же губернии, стало центром серьезных волнений, охвативших несколько смежных уездов Пензенской и Тамбовской губерний. Тысячи крестьян из нескольких десятков сел собирались в Кандеевке и Черногае. Как утверждал предводитель дворянства, по деревням с криками: «Воля! Воля!» развозилось красное знамя; крестьяне объявляли: «Земля вся наша! На оброк не хотим, работать на помещика не станем».3 Во главе движения стоял крестьянин Леонтий Егорцев; он призывал не верить полиции, дворянам, даже самому «царскому послу» (генералу свиты Дренякину, кровавому усмирителю пензенских крестьян). Егорцев в духе требований крестьянства толковал манифест 19 февраля. Сопротивление крестьян полиции и войскам в Черногае и Кандеевке было исключительно смелым и упорным. Войска стреляли в народ (10 апреля в Черногае, 18 апреля в Кандеевке). Было немало убитых и раненых. Из арестованных в Кандеевке крестьян 108 были сосланы в Сибирь на каторгу и поселение.
Село Бездна Спасского уезда Казанской губернии было центром движения крестьян также нескольких уездов Казанской, Самарской и Симбирской губерний. Здесь среди крестьян распространено было убеждение, что они получили право собственности на все земли и леса, даже на хлебные запасы помещиков. Крестьянин села Бездна Антон Петров, понимая и истолковывая в свете народных чаяний «Положения» 19 февраля, поддерживал в крестьянах дух неповиновения и призывал их не исполнять барщины, не слушаться начальства и помещиков, не платить оброков. Движение в этом районе кончилось расстрелом войсками 12 апреля, по приказу царского посланца графа Апраксина, толпы крестьян, отказавшейся выдать усмирителям Петрова. По официальным данным, убитых и умерших от ран насчитывалось 91 человек, раненых — 874 (врач, лечивший больных, насчитал более 350 пострадавших). Осужденный «по законам военного времени», Антон Петров был расстрелян.
Народные волнения 1861 года, кроме крепостного крестьянского населения помещичьих имений, охватили «освобождаемых» крепостных рабочих на Урале (главным образом в Пермской губернии) и в некоторых центральных
31
губерниях.1 В рабочих выступлениях интересы чисто крестьянского характера переплетались с требованиями, отражавшими особые условия жизни тружеников промышленности (борьба за повышение заработной платы и т. д.). Большого внимания заслуживает движение весной 1861 года на заводах Мальцова в Калужской губернии, в котором ярко проявилось растущее самосознание рабочих, их независимое поведение по отношению к надменному и наглому заводчику-феодалу.
<Иллюстрация:>
«Русская кровь льется!». Статья А. И. Герцена. 1861.
Борьба крестьян против проводившейся крепостниками реформы и зверское подавление правительством массового движения всколыхнули широкие круги демократической интеллигенции. Революционно-демократическое движение, нараставшее с середины 50-х годов, поднимается на значительно более высокую ступень.
*
Характер реформы 19 февраля не мог не встретить самого резкого осуждения и возмущения со стороны революционно-демократических кругов.
«Внутреннее обозрение» мартовской книги «Современника» за 1861 год начиналось следующими многозначительными словами: «Вы, читатель, вероятно, ожидаете, что я поведу с вами речь о том, о чем трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и газеты, т. е. о дарованной крестьянам
32
свободе. Напрасно. Вы ошибетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете».1 В таком демонстративном уклонении от освещения вопроса, занимавшего все умы, заключалась достаточно понятная и красноречивая отрицательная, осуждающая оценка.
На протяжении 1861 года лагерь «Современника» и близких к нему элементов дал, однако, развернутую оценку реформы 19 февраля в ряде документов: в нелегальных прокламациях Чернышевского и Шелгунова, в заграничной брошюре Н. Серно-Соловьевича и др. В начале 1862 года Чернышевский в статье, которую он безуспешно пытался провести через цензуру («Письма без адреса»), заявил: «... результат <реформы> оказался такой, что изменены были формы отношений между помещиками и крестьянами с очень малым, почти незаметным изменением существа прежних отношений» (X, 99).
То же самое, по существу, выразил на страницах вольного «Колокола» Огарев в серии статей «Разбор нового крепостного права...»:
«Старое крепостное право заменено новым.
«Вообще крепостное право не отменено.
«Народ царем обманут!».2
Только что упомянутые прокламации подводят к вопросу о подпольной революционной работе, которую развертывали представители передовой демократической общественности, группировавшиеся вокруг Чернышевского и «Современника».
План широкой прокламационной кампании, рассчитанной на крестьянство, армию, прогрессивную интеллигенцию, был важным практическим шагом нелегальной революционной деятельности, задуманным Чернышевским и небольшой группой его единомышленников в то время, когда завершалась подготовкой и начала осуществляться крестьянская реформа, когда возбуждение как в народной массе, так и в среде демократической интеллигенции достигло особенной остроты.
Первой по времени была прокламация Н. Г. Чернышевского, адресованная барским крестьянам. Она была совсем подготовлена к печати, но не напечатана и попала в руки властей в рукописном виде. Она представляет огромный интерес, как формулировка позиции и стремлений наиболее передового демократического революционного круга в ответственнейший исторический момент.
Воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» содержало яркий и беспощадный разбор крестьянской реформы, из которого делался вывод: «... не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней». Воззвание раскрывало крестьянам причину такого исхода дела — теснейшую связь между царем и помещиками: «что он, что они — всё одно»; манифест выпущен царем «только для обольщения», т. е. для обмана народа. В популярной форме в прокламации излагались основы желательного демократического устройства общества: «... чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный, и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы пачпортов не было и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины не было». Воззвание указывало на восстание народа как на путь к достижению такого устройства. Оно призывало
33
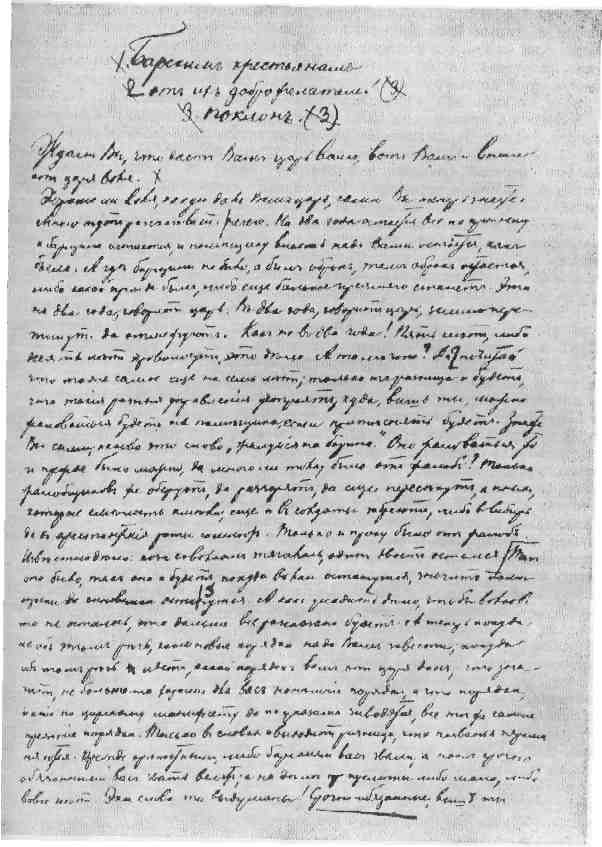
«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Список прокламации
Н. Г. Чернышевского, сделанный рукой М. Л. Михайлова. 1861.
34
готовиться к восстанию, для чего рекомендовало устанавливать согласие между барскими (помещичьими), государственными и удельными крестьянами, привлекать к народному делу солдат, привлекать и «офицеров добрых», которые «за народ стоять будут».1 Прокламация предупреждала против выступлений до завершения революционной подготовки и предлагала ждать сигнала от народных «доброжелателей» (Чернышевский, VII, 517—524).
Забота о привлечении на сторону народа армии, нашедшая выражение в прокламации Чернышевского, побудила подготовить специальное воззвание к солдатам. Прокламацию «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» написал (видимо, в марте 1861 года) Н. В. Шелгунов. Здесь также разоблачалась реформа 19 февраля: «это воля не настоящая, так только по губам помазали»; предсказывались «смуты и неудовольствия» в народе, и солдаты призывались не идти против крестьян.2 И эта прокламация не могла быть напечатана. Но в том же году Шелгунов написал листок «К солдатам», который удалось опубликовать и распространить; в нем Шелгунов призывал солдат не исполнять «преступных приказаний царя», не стрелять в народ, «когда тот восстанет».3
Весной 1861 года Шелгуновым же было написано пространное воззвание «К молодому поколению» — к русской демократической молодежи. Друг и соратник Шелгунова, также сотрудник «Современника», поэт-революционер М. Л. Михайлов отвез прокламацию, без сомнения выражавшую также его мысли и стремления, для издания в Лондон к Герцену и позднее, накануне нового учебного года, организовал ее распространение в Петербурге и провинции. Вскрывая антинародный характер крестьянской реформы и всей правительственной политики, прокламация подробно обосновывала программу широкого демократического преобразования родины. Автор находил, что Александр II «уступкой народу» еще может «поправить беду», но сам же подчеркивал, что правительство ненадежно, что оно «готово испортить всё будущее всей страны», и, по существу, высказывался против целесообразности сохранения царской власти: «Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина...». Воззвание заявляло решимость призвать революцию на помощь народу; «... мы не испугались бы..., — писал Шелгунов, — если для осуществления наших стремлений... пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков». Воззвание подсчитывало силы народной России: «народная партия из молодого поколения всех сословий», войско, 23 миллиона «освобожденного народа», вообще «все угнетенные, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола». Обращаясь непосредственно к «молодому поколению», оно призывало его говорить «чаще с народом и с солдатами», увеличивать число прозелитов, число кружков, искать вожаков, способных и готовых на всё, — «да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря!».4 С точки зрения практической, злободневной политической агитации не имела прямого значения характерная для мировоззрения автора теоретическая часть его прокламации, написанная под несомненным влиянием воззрений Герцена. Она посвящена горячей защите принципов утопического «русского», общинного крестьянского социализма.
35
Важным памятником общественного возбуждения послереформенных месяцев являются нелегальные листки «Великорусс». Авторы их в точности неизвестны. К группе их издателей принадлежали или были с нею связаны, по имеющимся сведениям, В. А. Обручев, братья Лугинины (в том числе известный в будущем русский химик В. Ф. Лугинин). Обручев был близок к Чернышевскому, который, как можно предполагать, сам имел известное отношение к этому политическому начинанию. Подобно остальным революционным воззваниям 1861 года, «Великорусс» признавал полную непригодность реформы 19 февраля. Он настаивал на новом разрешении крестьянского вопроса — приблизительно в духе аграрных требований, излагавшихся в ряде предреформенных статей Чернышевского. Наряду с этим «Великорусс» требовал коренных изменений в государственном порядке ответственности министров, свободы печати и исповеданий, областного самоуправления и т. д. «Великорусс» отстаивал право наций на самоопределение, прежде всего освобождение Польши.
<Иллюстрация:>
«Что нужно народу?». Статья Н. П. Огарева. 1861.
Для составления конституции «Великорусс» считал обязательным созыв свободно избранных «представителей русской нации». Он заявлял о том, что считает законность и существующую династию вещами несовместимыми, и давал понять, что сочувствует установлению республики. Вместе с тем в интересах «политического воспитания массы» (чтобы рас крыть «глаза людям, питающим ошибочную надежду на династию»),
36
в целях подготовки единства действия всех «друзей свободы», «Великорусс» предлагал организовать кампанию по подаче адреса Александру II с требованием созыва народных депутатов. «Образованным классам», к которым обращался прямо «Великорусс», он указывал на перспективу народного восстания летом 1863 года, неизбежного, по словам авторов, в том случае, если эти классы не вынудят правительство «до весны 1863 года устранить причины к восстанию». Как известно, надежды на то, что народ, обманутый в ожиданиях, которые он приурочивал к окончанию двухгодичного срока после издания манифеста об «освобождении», восстанет в 1863 году, были широко распространены в среде демократической интеллигенции. В форме угрозы «образованным классам» «Великорусс» открыто выражал эти надежды.1
К важным документам «прокламационного времени» (как называет Шелгунов эти месяцы) принадлежал ряд статей-воззваний Н. П. Огарева 1861—1862 годов. Напечатанные на страницах лондонских изданий Герцена — Огарева, главным образом в «Колоколе», они издавались также в виде прокламаций или небольших брошюр и широко распространялись в России. Из них наибольшую роль сыграла статья «Что нужно народу?», впервые опубликованная 1 июля 1861 года в «Колоколе».2 «Выражаясь современным языком, эта прокламация была нашей платформой», утверждал впоследствии один из руководителей «Земли и воли» А. А. Слепцов (Герцен, XVI, 76).
Народу нужны, — отвечало воззвание Огарева на вопрос, поставленный в заголовке, — земля, воля, образование. Воззвание, разоблачая реформу 19 февраля, давшую волю «только на словах, а не на деле», намечало основы желательного решения вопроса (о них см. ниже); оно требовало освобождения народа от чиновничьего управления и замены последнего народным самоуправлением, начиная с общин и волостей и кончая собранием «доверенных от народа людей» в центре. Огарев разъяснял, что народу не следует ждать добра от царя, и призывал готовиться к энергичной и упорной борьбе за «землю мирскую, волю народную да правду человеческую». В качестве особо важной задачи подчеркивалась необходимость сближения народа с войском. Как и ранее написанное воззвание Чернышевского к барским крестьянам, прокламация Огарева предупреждала против неорганизованных выступлений («шуметь без толку и лезть под пулю вразбивку нечего») и звала «молча сбираться с силами, искать людей преданных».
С переходом к подготовке активных революционных действий был тесно связан вопрос о кадрах революционного движения.
В первую очередь широкие революционные кадры вербовались в то время (да и вообще в течение разночинского этапа освободительного движения) в среде демократического студенчества.
Характеризуя допролетарский период революционного движения, Ленин писал в 1901 году в «Заре»: «Было время, когда особо охраняемой средой считалась только учащаяся молодежь... В те времена — и очень недавние времена — другого слоя, тем менее класса населения, представлявшего в глазах правительства „весьма благоприятную почву для противоправительственной агитации“, не было».3
37
Выделению активных революционных элементов из среды учащейся молодежи не в малой степени способствовали так называемые студенческие беспорядки, начало которым — в большом масштабе — положено было в описываемое время, особенно в 1861 году.

Группа участников студенческих волнений в Петербурге. Снимок сделан
в Кронштадтской крепости. 1861.
Студенческие волнения 1861 года, несомненно, находились в тесной связи с исходом крестьянской реформы и с крестьянским ответом на реформу. Это верно и относительно тех студенческих выступлений, для которых непосредственными поводами служили вопросы университетского быта, мероприятия правительства, направленные против интересов и прав студенчества.
Прямым и открытым откликом на крестьянское движение явилось выступление учащейся молодежи в Казани в апреле 1861 года. До 400 человек, преимущественно студентов Казанского университета и духовной академии, 16 апреля 1861 года устроили панихиду по «в смятении за свободу убиенным», по жертвам безднинского расстрела. По утверждению организатора безднинской расправы графа Апраксина, до панихиды студенты «превратно толковали» народу на улицах Казани «происшедшее в Спасском уезде». На панихиде выступил со смелой и яркой речью историк Л. П. Щапов, указывавший, что безднинские жертвы «разрушили своей инициативой... несправедливое сомнение, будто народ наш не способен К инициативе политических движений». Земля, принявшая крестьян в Бездне «мучениками в свои недра», воззовет народ, говорил Щапов, «к восстанию и к свободе». Щапов заключил свою речь словами: «Да здравствует демократическая конституция!».1 Герцен потом указывал, что Г казни Антона Петрова «начался мужественный, неслыханный в России
38
протест, не втихомолку, не на ухо, а всенародно, в церкви — на амвоне. Казанские студенты служили панихиду по убиенным, казанский профессор произнес надгробное слово» (XVII, 380).
Студенческое движение достигло большой остроты и размаха осенью 1861 года в Петербурге и Москве. Хотя оно было тут вызвано непосредственно стеснительными мерами власти, касающимися специально студенчества, движение приобрело крупное общеполитическое значение (сами мероприятия правительства были продиктованы чисто политическими реакционными мотивами). Волнения сопровождались демонстративными шествиями студентов (в Петербурге — к попечителю, в Москве — на могилу Грановского), зверскими нападениями на студентов полиции и войск, массовыми арестами, высылками, исключениями. Петербургский университет был надолго закрыт.
Студенческое движение не было единым. В нем сталкивались демократические и либеральные тенденции. Демократические руководители студенческой массы были тесно связаны с Чернышевским и его кругом. «Современник», в меру цензурных возможностей, живо откликался на движение студентов, оказывал им большую поддержку. В начале 1862 года в «Письмах без адреса» Чернышевский подчеркнул значение «небывалого движения молодежи» в Петербурге (X, 102). В марте 1862 года произошли новые волнения по поводу высылки из столицы профессора П. Павлова и демонстративного прекращения в связи с этим лекций в «вольном университете», созданном после закрытия официального университета. Чернышевский, направлявший действия студенческих руководителей, в специальной статье «Научились ли?» горячо и мужественно защищал студентов, тем самым укрепляя их волю к борьбе.
Большое значение движению студенчества придавал Герцен. В событиях в Петербургском университете он видел яркий симптом общего пробуждения России. В знаменитой статье «Исполин просыпается!» Герцен писал, обращаясь к студентам, от которых «заперли науку»: «... со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, поднимается ропот; это — начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. В народ! к народу! — вот ваше место; изгнанники науки, покажите..., что из вас выйдут не подьячие, а воины... воины народа русского!» (XI, 260).
В. И. Ленин, как мы видели, оценивал «студенческие беспорядки» начала 60-х годов как одно из выражений той политической обстановки, при которой даже осторожные и трезвые политики имели основание считаться с возможностью революционного взрыва. Ленин, с другой стороны, придает значение, в этом смысле, также требованиям реформ, раздававшимся в среде дворянства.
*
«Кризис верхов», первые явные симптомы которого восходят к Крымской войне, который ясно определился в последние предреформенные годы, не был изжит, конечно, сразу после 19 февраля. Как и в канун реформы, в привилегированном обществе имелись разные течения и оттенки мнений.
Еще в 1859—1860 годах в верхнем дворянско-помещичьем слое громко заявила о себе группировка, раздраженная слишком, по ее мнению, резким вмешательством власти в отношения помещиков и крестьян, слишком якобы крутой переменой в установившихся социальных отношениях. Эта
39
группировка добивалась передачи в руки одного высшего дворянства всего решения крестьянского дела и стремилась к расширению и юридическому закреплению фактического своего преобладания в государственном управлении путем создания какого-либо подобия олигархической «конституции». Выступления представителей олигархической «оппозиции» продолжались и после объявления реформы. Озлобившиеся крепостники, говоря словами Герцена, «прикидывались конституционными либералами» (XVII, 295). В очерке «К читателю», в февральской книге «Современника» за 1862 год, Салтыков-Щедрин писал, имея в виду, несомненно, эти крепостническо-олигархические круги: «не от гробов повапленных предстоит ждать слова жизни».1
<Иллюстрация:>
«Исполин просыпается!». Статья А. И. Герцена. 1861.
Правительство Александра II, очень чуткое ко всем экономическим жалобам и претензиям крепостников, враждебно, однако, принимало каждый намек на возможность какого-либо политического ограничения царско-чиновничьего всевластия, хотя бы даже в пользу крепостнической аристократии.
Другая группировка в господствующем классе выражала настроения и стремления либерально-оппозиционных элементов. В «Письмах без адреса» Чернышевский разграничивал раздражение одной части дворянства на власть «за уничтожение крепостного права» и «желания общей реформы», которые выражала другая его часть. Чернышевский указывал:
40
«В мыслях о реформе общего законодательства, об основании администрации и суда на новых началах, о свободе слова дворянство только является представителем всех других сословий, и представителем их выступило оно даже не потому, чтобы в нем сильнее были эти желания, чем в других сословиях, а единственно потому, что оно одно имеет при нынешнем порядке организацию, дающую возможность выражать желания» (X, 100, 101).
Либерально-оппозиционная группировка, как и крепостническо-олигархическая, также проявила себя рядом выступлений еще накануне реформы. После реформы самым громким выражением ее деятельности оказалось выступление тверских дворян зимой 1861—1862 года. Беспокойство по поводу роста крестьянского движения, финансовой разрухи, общей административной неурядицы, убеждение, что крестьянская и общая политика правительства не способна обеспечить нормальные условия буржуазного преобразования хозяйственной и общественной жизни страны, послужили мотивами выступления либерального дворянства Тверской губернии. Сначала губернский съезд мировых посредников, затем губернское дворянское собрание в Твери высказались тогда в том смысле, что реформа 19 февраля не удовлетворила народных потребностей, что сохранение обязательных отношений с крестьянами несостоятельно. Был поставлен вопрос о немедленной отмене этих отношений путем выкупа при содействии всего государства, о слиянии сословий, о введении гласности во все отрасли управления и преобразовании финансовой системы государства, которое поставило бы ее в зависимость «от народа, а не от произвола». В качестве единственного средства для осуществления этих задач было указано на «собрание выборных от всего народа без различия сословий».1
Тверские постановления (Ленин именно о них говорит в приведенной характеристике политического положения в начале 60-х годов) явили собой крайнюю степень либеральной оппозиционности. В целом либеральный лагерь отнюдь не шел так «далеко». Некоторые из его представителей, и притом такие влиятельные, как Кавелин, решительно высказывались против своевременности введения представительного правления. Холопство перед правящей кликой, превознесение «заслуг» Александра II, тупой и дикий страх перед революционным движением, ожидание только уступок «сверху» — вот что характеризовало либеральную среду в целом. Да и наиболее «левые» не обнаруживали, как правило, настоящей твердости в своей оппозиции, не умели и не хотели серьезно бороться за свои собственные лозунги.
Ненадежность, неустойчивость либеральной оппозиции, готовность либерализма к предательству интересов противоправительственного движения ярко обнаружились в переходные 1862—1863 годы.
*
Известно, что правительство Александра II взяло курс на упрочение позиций реакции немедленно после 19 февраля. Смещение ряда правительственных деятелей, неугодных помещичьим реакционерам, наступление на университеты, аресты и осуждение на каторгу М. Л. Михайлова, В. А. Обручева последовательно раскрывали намерения власти. Весной 1862 года подготовлялся общий удар по демократическим силам, рассчитанный на то, чтобы одновременными массовыми арестами обезглавить
41
передовую литературу и общественность (среди намеченных жертв находились Чернышевский, Шелгунов, Елисеев, Антонович, Благосветлов, Лавров, Н. Обручев, братья Серно-Соловьевичи и др.). Переход реакции в общее наступление тогда был несколько отсрочен, но все-таки осуществился весьма скоро — в июне-июле 1862 года.

Карикатура на П. А. Валуева в журнале «Искра».
1862.
При этом наступлении были использованы грандиозные петербургские пожары, разразившиеся в мае 1862 года (существует мнение, что пожары были прямо организованы реакционными элементами), и распространение тогда же известной прокламации «Молодая Россия».
Листок «Молодая Россия» был составлен в 1862 году одним из руководителей московских студенческих революционных кругов П. Г. Заичневским.
Заичневский с 1861 года находился под арестом и свою прокламацию написал в заключении при содействии товарищей, в том числе молодого поэта И. И. Гольц-Миллера. «Молодая Россия» отмежевывалась, как от людей, по ее мнению, отсталых и слишком умеренных, и от авторов «Великорусса», и от Герцена с его «Колоколом». Провозгласив лозунг «социальной и демократической республики Русской», под которым понималось превращение России в республиканско-федеративный союз областей, состоящих в конечном счете из мелких земледельческих общин, «Молодая Россия» призывала для его осуществления к «революции кровавой и неумолимой — революции, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка». «Молодая Россия» надеялась на поддержку крестьянства, но в инициативу с его стороны не верила и возлагала ее на войско, а прежде всего на молодую интеллигенцию. Молодежь «Молодой Россией» признавалась «главной надеждой» революции. Прокламация высказывалась за захват власти «революционной партией», которая при помощи диктатуры должна была «ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени».1 «Молодая Россия» закладывала в известной мере основы того заговорщического, «бланкистского» направления в русском революционном движении,
42
которое потом нашло особо полное выражение во взглядах Ткачева и которому крупную дань отдали также народовольцы.
Ультралевыми лозунгами «Молодая Россия» как бы старалась оглушить, запугать не только правительство, помещиков, реакционеров, но и широкую обывательскую массу, угрожая истреблением всем, кто активно не поддержит революционную партию при ее выступлении. В свою программу она включила такие пункты, как «уничтожение брака», «уничтожение семьи». Заичневский впоследствии сам объяснял, что сознательно стремился «нагромоздить» возможно больше «пороха», чтобы «всем либеральным и реакционным чертям стало тошно».1
Эту-то прокламацию, выпущенную от имени фиктивного «Центрального революционного комитета», поспешило использовать в своих целях царское правительство. Совпадение пожаров с появлением прокламации дало повод власти и послушной ее воле части печати к провокационным и клеветническим обвинениям революционеров, студентов (также и поляков — это было время подъема польского национально-освободительного движения) в поджогах.
Не только в темной и невежественной массе городского мещанства была подхвачена эта клевета. Травлю, поднятую против демократической интеллигенции, поддержали определенные элементы либерального «образованного» общества. Кавелин в письме к Герцену утверждал: «Что пожары в связи с прокламациями — в этом нет теперь ни малейшего сомнения».2 Пользуясь создавшейся обстановкой, правительство приступило к выполнению давно лелеемых им планов. Оно арестовало Чернышевского, Писарева, Н. Серно-Соловьевича, оно приостановило на восемь месяцев издание «Современника» и «Русского слова», закрыло воскресные школы и народные читальни и т. д. Тот же Кавелин писал по этому поводу: «Аресты меня не удивляют..., не кажутся возмутительными... Революционная партия считает все средства хорошими, чтоб сбросить правительство, а оно защищается своими средствами».3 Об этом письме Кавелина Ленин говорил: «Вот образчик профессорски-лакейского глубокомыслия!».4 Оценивая политику либерализма в начале 60-х годов, Ленин указывал: «Вместо того, чтобы подняться на защиту преследуемых правительством коноводов демократического движения, они фарисейски умывали руки и оправдывали правительство. И они понесли справедливое наказание за эту предательскую политику широковещательного краснобайства и позорной дряблости. Расправившись с людьми, способными не только болтать, но и бороться за свободу, правительство почувствовало себя достаточно крепким, чтобы вытеснять либералов и из тех скромных и второстепенных позиций, которые ими были заняты „с разрешения начальства“».5
Правящие круги выражали явное удовлетворение результатами предпринятого ими с середины 1862 года большого наступления против демократии.
Шеф жандармов Долгоруков в годовом отчете царю, представленном весной 1863 года, утверждал, что «волнение умов видимо успокоилось», что в «публике» возбуждено «чувство самосохранения» и «негодования»
43
<Иллюстрация:>
«Молодая Россия». Прокламация П. Г. Заичневского. 1862.
44
против «беспокойных студентов, поляков и вообще против мятежных голов». «Удалось, — заявлял Долгоруков, — на этот раз рассеять скопившуюся над русскою землею революционную тучу, которая грозила разразиться при первом удобном случае...» (Герцен, XV, 588, 589).
Надо, однако, заметить, что в 1862 году в революционно-демократической среде не только жила уверенность в конечной победе над царизмом (подобная уверенность эту среду никогда не покидала), но вовсе еще не была потеряна надежда на возможный в скором времени взрыв крестьянской революции.
Следует помнить, что в 1862 году крестьянское движение, хотя и сократилось значительно по сравнению с 1861 годом, всё же держалось на относительно высоком уровне. III Отделением в течение 1862 года только «наиболее значительные неповиновения крестьян» были отмечены в 400 имениях. Воинские команды были введены в 193 имения. Было немало столкновений крестьян с властями.1 Составление и введение в действие «уставных грамот» в 1862 году сильно подвинулось. Ведомость по 45 губерниям, составленная в министерстве внутренних дел на 1 января 1863 года, определяла число введенных в действие грамот в 73 195, а процент душ, у которых грамоты введены, по отношению к общему числу крестьян — в 68.6. Однако целая половина введенных в действие грамот не была подписана крестьянами (на не подписанные крестьянами грамоты приходилось 3.9 миллиона душ против 2.8 миллиона душ на подписанные).2 Уклонение от подписания «уставных грамот» продолжало оставаться массовым явлением: крестьяне попрежнему рассчитывали на предстоящее по истечении двухлетнего срока объявление новой воли с «предоставлением им безусловной свободы и полного владения дворянскою землей», как подтверждает отчет III Отделения.3
Эти обстоятельства, хорошо известные в обществе, поддерживали, вопреки уменьшению числа активных протестов крестьянства, расчеты революционно-демократических кругов на возможность, если не неизбежность общего возмущения крестьянских масс после 19 февраля 1863 года, когда крестьяне должны были убедиться в призрачности своих надежд.
Именно в предвидении этой возможности было окончательно оформлено в 1862 году тайное общество «Земля и воля», которому удалось собрать в своих рядах более или менее значительные группы демократической интеллигенции (литераторов, студентов, молодых офицеров и др.) в Петербурге, Москве и ряде провинциальных центров. Подготовка к образованию Общества велась примерно с середины и второй половины 1861 года.
Н. Г. Чернышевский являлся идейным вдохновителем, руководителем кружка основателей и организаторов «Земли и воли», среди которых находились братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи, Николай Обручев, А. Слепцов, Василий Курочкин. Лондонский эмигрантский центр, несомненно, был в курсе подготовительных работ по созданию Общества. Уже отмечалось свидетельство Слепцова о том, что статья-воззвание «Что нужно народу?», написанная Н. П. Огаревым и напечатанная в «Колоколе» в середине 1861 года, рассматривалась землевольцами как их платформа.
45
В дальнейшем деловая и идейная связь землевольцев с Герценом и Огаревым была еще более тесной (с «Землей и волей» в эмиграции был близко связан и Бакунин).

Н. А. Серно-Соловьевич.
Фотография.
Арест Чернышевского и Н. Серно-Соловьевича в июле 1862 года и вынужденная эмиграция А. Серно-Соловьевича не остановили работ по устройству Общества, руководящее ядро которого пополнилось новыми людьми. Постепенно возникли отделения Общества в Казани, Саратове, Твери, Вологде и т. д.
Со второй половины 1862 года центр организации назывался «Русским центральным народным комитетом». Вышедший от имени комитета в феврале 1863 года нелегальный лист «Свобода» писал: «Образование нашей организации вызвано потребностью самого общества, в котором пробудилось сознание необходимости и неизбежности борьбы с самодержавным деспотизмом». «Свобода» подчеркивала, что все отрасли русской жизни «парализованы и убиты» царским самодержавием. «Уродливые попытки разных реформ», в частности, «мнимое разрешение крестьянского вопроса», сопровождавшееся лишением народа его собственности — земли и избиением крестьян, только нагляднее засвидетельствовали несостоятельность самодержавия. Последнее «по самому принципу» не может удовлетворить всеми сознаваемой потребности «новой свободной жизни» и добровольно не откажется от «вооруженного господства над жизнью людей и их свободою». Землевольческая организация, как указывалось в «Свободе», составилась из людей, непоколебимо убежденных в неизбежности революции, в неминуемости восстания «ограбленного и подавленного народа». Она предсказывала, что это восстание получит «исполинские размеры кровавой драмы», если хотя бы «способное и честное» большинство «образованных классов» не станет на сторону «доведенного до восстания народа» и тем самым не обессилит окончательно правительство. Цель организации формулировалась в общем виде, как «разрушение императорского самодержавия» и «торжество народных интересов», которое должно было прежде всего выразиться в созыве «Народного собрания из выборных представителей свободного народа».1
«Свобода» не конкретизировала аграрной программы землевольцев. Представление о ней дается воззванием Огарева 1861 года, содержавшим
46
требования передачи крестьянам всей земли, бывшей в их пользовании при крепостном праве, прирезки земли в случаях недостаточности прежнего надела; некоторое вознаграждение помещиков допускалось за счет всего государства, без какого-либо специального отягощения крестьян.1
В месяцы, предшествовавшие началу польского восстания, с «Землей и волей» вступили в переговоры представители польских национально-революционных кругов, рассчитывавших на совместные действия против общего врага — царского самодержавия. «Земля и воля» пока не в силах была обещать ничего, кроме моральной поддержки путем соответствующей агитации. Но организация русских офицеров-революционеров в Польше, во главе с землевольцем А. А. Потебней, смогла активно включиться в национально-освободительную борьбу поляков (Потебня погиб в этой борьбе).
Как и «Колокол» Герцена, спасшего, по известному выражению Ленина, честь русской демократии своей позицией во время польского восстания, землевольцы в своих прокламациях 1863 года отстаивали право Польши на независимое государственное существование, доказывали общность интересов русского и польского народов, горячо и страстно протестовали против волны шовинизма, поднявшейся в буржуазно-дворянском обществе в связи с восстанием в Польше, старались всеми силами противодействовать человеконенавистнической проповеди Каткова.2
Польское восстание было жестоко подавлено царским правительством.
Русские передовые деятели предвидели неудачу. Огарев в конце 1862 года писал русским офицерам-революционерам, что он и Герцен не предвидят шансов на успех, что Польша будет побеждена, если раньше времени восстанет, и что русское движение также будет потоплено в национальной ненависти. Подавлением восстания, встретившим одобрение со стороны значительных кругов привилегированного общества в России, правительство временно укрепило свои позиции внутри страны. Лагерь же противников правительства в результате восстания оказался сильно дезорганизованным и потерял некоторую часть в той или иной мере сочувствовавших ему оппозиционных элементов.
Еще тяжелее было то, что рухнули надежды на крестьянское (или военно-крестьянское) восстание, ожидавшееся в 1863 году. В крестьянстве заметно было напряженное настроение. По свидетельству самих властей, многие крестьяне «с нетерпением ожидали наступления 19 февраля <1863 года>, собирались к этому дню в города, наполняли церкви и ожидали объявления указа о безвозмездной отдаче им земли и прекращении обязательных повинностей».3 Но повторное разочарование, испытанное крестьянством, не привело, как известно, к восстанию. Правда, по числу крестьянских «неповиновений» 1863 год почти не уступал предшествующему (386 случаев), однако это, разумеется, было совсем не то, на что рассчитывали и надеялись лучшие люди из демократической интеллигенции.
47
А следующий, 1864 год принес уже резкий упадок крестьянского движения.

Карикатура в журнале «Искра» на преследование властями «Колокола».
1862.
«Земля и воля» теряла почву под ногами, и постепенно, примерно к концу 1863 — началу 1864 года, замерла ее деятельность. Исчезновение «Земли и воли» как бы символизировало окончание того периода демократического подъема, той революционной ситуации, которая сложилась в России в годы крестьянской реформы и которая достигла своей кульминации в 1861 году и в ослабленной мере еще чувствовалась в 1862—1863 годах.
Революционная ситуация конца 50-х — начала 60-х годов не привела к революции.
«Реформа 61-го года, — писал Ленин, — отсрочила развязку, открыв известный клапан, дав некоторый прирост капитализму...».1
В тогдашней России еще не было революционного класса, способного на революционные массовые действия, «достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство...».2
И. В. Сталин указывал в период первой русской революции, сравнивая обстановку с временем «освобождения крестьян»: «... если тогда народ поддался обману, если правительству удались его фарисейские планы, если оно с помощью реформ укрепило своё положение и тем самым отсрочило победу народа, то это, между прочим, означает, что тогда народ ещё не был подготовлен и его легко можно было обмануть».3
Политическая отсталость крестьянских масс, глубоко вкоренившиеся и широко распространенные царистские иллюзии, неорганизованный, стихийный характер крестьянской борьбы, отсутствие помощи и руководства со стороны пролетариата, еще находившегося на первых стадиях своего формирования, — вот что прежде всего предопределило неудачу первого демократического подъема в России.
К этому надо добавить предательскую политику либералов, готовность либеральной оппозиции к сделке с крепостниками, с открытой реакцией, ее враждебность революционному лагерю. Следует учесть, говоря о причинах неуспеха первой волны «революционного натиска», слабость самих
48
революционных сил в виду тех громадной трудности задач, перед решением которых они стояли.
При всем том первая революционная ситуащия (вторая, как известно, приходится на конец 70-х годов) имела выдающееся историческое значение. Она окончательно предопределила неизбежность «крестьянской» и других реформ. Крестьянство, при всей его неорганизованности и политической отсталости, выступило как огромная массовая сила, объективно борющаяся за демократический путь развития страны. Демократическая интеллигенция, не связанная организационно с крестьянской борьбой, живо и интенсивно реагировала на последнюю и в столкновении общественных сил выступала как верный и последовательный защитник крестьянских интересов. В ходе общественной борьбы ясно наметились две исторические тенденции, потом развивавшиеся и боровшиеся между собой на протяжении всей пореформенной эпохи: тенденция демократическо-революционная, с одной стороны, и либерально-монархическая, с другой. Для представителей первой из этих тенденций годы революционной ситуации имели первостепенное значение; тогда отчетливо выкристаллизовались их идейные позиции, были разработаны основы демократической политической программы, сделаны первые серьезные шаги на пути организации революционных сил передового разночинства.
Политическая борьба, развернувшаяся в России в годы революционной ситуации, оказала также более или менее решающее влияние на дальнейший рост и развитие русской передовой, демократической культуры.
*
Если между 1854—1855 годами и концом 50-х годов шло назревание демократического подъема, если на самом рубеже 50-х и 60-х годов определилась революционная ситуация, достигшая наибольшей остроты в 1861 году, если затем в 1862—1863 годах демократическое движение, при некоторой убыли, продолжало держаться на значительно высоком уровне, — то последний отрезок так называемых шестидесятых годов, между 1863—1864 и 1866—1867 годами, характеризуется снижением общественной активности, резким ухудшением условий деятельности демократических сил.
Правительство, после полосы беспокойства и тревоги, почувствовало свое положение упроченным. В гораздо большей мере, чем в непосредственно предшествующие годы, оно могло опереться на реакционные настроения в сравнительно широких кругах привилегированного общества. Даже либеральный журналист В. Ф. Корш (редактор «Петербургских ведомостей»), характеризуя в начале 1865 года настроения близких ему социальных кругов, писал: «... с беспримерною злобою мы сокрушали в минувшем году те самые кумиры, пред которыми преклонялись еще так недавно; мы рвали в клочки самих себя, какими мы были еще за три, за два года, и с злобною радостью издевались над своим собственным растерзанным существованием».1
Демократический лагерь потерял часть прежних попутчиков. «Слабые, шаткие, мелкие, робкие ушли, — одни от испуга, другие по глупости», — писал Герцен (XVII, 3—4). Поредевшие ряды друзей находились, по словам того же Герцена, под тройным надзором — «явной, тайной и литературной полиции» (XVII, 4).
49
Усилилась разноголосица, сказывался известный идейный разброд в демократической литературе. Отражением этого факта являлись некоторые стороны полемики между «Современником» и «Русским словом». Эта полемика, развернувшаяся в течение 1864—1865 годов, касалась по форме преимущественно вопросов литературы, эстетики, философии (трактовка образов тургеневского Базарова, Катерины из «Грозы», оценка творчества Щедрина, истолкование эстетических принципов Чернышевского и т. д.). По существу же за литературными или философско-эстетическими спорами скрывались (и порой, несмотря на тяжелый цензурный гнет, получали довольно явное выражение в полемике) разногласия по острым вопросам общественно-политической жизни, освободительного движения. «Русское слово», в лице своего талантливейшего критика-публициста Д. И. Писарева и ряда других сотрудников, выступало в описываемые годы как представитель особого оттенка демократической мысли, переоценивавшего общественную роль естественно-научной пропаганды и ее двигателей — «мыслящих реалистов», отступавшего, в большей или меньшей степени, от учения Чернышевского и Добролюбова о безусловно решающей роли народных масс в историческом процессе, в борьбе за общественное преобразование, допускавшего, в связи с этим, колебания по вопросу о неизбежности революционного пути развития.1 Далеко не свободна была от ошибок и слабых сторон также деятельность «Современника», который в новых, особенно сложных и трудных условиях не всегда и не во всем способен был поддерживать идейно-политический уровень, достигнутый журналом в пору руководства Чернышевского и Добролюбова, в пору наивысшего подъема демократического движения 60-х годов.
Несмотря на расхождения и полемику, оба журнала настойчиво и самоотверженно отстаивали передовые и демократические начала общественной жизни. За рубежом продолжалась славная и плодотворная деятельность Герцена и Огарева, не прерывавших вплоть до 1867 года издания своего «Колокола».
Вообще борьба прогрессивных сил страны против реакции, в защиту интересов народа отнюдь не прекращалась, хотя формы ее отчасти менялись, и открытых, массовых проявлений освободительного движения было очень мало в условиях наступившей реакции. Борьба в значительной мере сосредоточилась теперь именно в области науки, литературы, искусства.
Деятельность революционного подполья продолжалась в сокращенном объеме. При этом в практике нелегальной революционной борьбы наметились некоторые болезненные явления, как результат прежде всего упадка массовой борьбы народа. Это заметно на примере наиболее известной подпольной группы середины 60-х годов, так называемого кружка ишутинцев (или каракозовцев).
Кружок, преимущественно студенческого состава, образовался в Москве в 1863 году под руководством Н. А. Ишутина. Ишутинцы считали себя верными последователями Чернышевского, строили планы освобождения сосланного на каторгу великого писателя-революционера, мечтая видеть его руководителем нового революционного органа за границей. Однако ишутинцы склонны были толковать учение Чернышевского в духе, более или менее отвечающем оформлявшемуся постепенно народническому мировоззрению.
50
В демократических платформах конца 50-х и начала 60-х годов большей частью чувствуется ясное понимание значения для народных масс политической борьбы и коренных политических преобразований. По-иному этот вопрос трактовался среди ишутинцев. Ставя непосредственной своей целью экономический переворот, «социальную революцию» (ее характер и условия им были далеко не ясны), ишутинцы, — по крайней мере, некоторые из них, — политическое переустройство по образцу капиталистических парламентарных стран считали опасным для народных интересов. Сам Ишутин находил, что народу будет «в сто раз хуже», когда «выдумают какую-либо конституцию» и «вставят жизнь русскую в рамку западной жизни».1
В организации кружка, в свою очередь, чувствуется идейно-политическая слабость: оторванные от масс, в условиях упадка народного движения, ишутинцы изощряются в изобретении фантастических организационных форм, которые будто бы должны были лучше обеспечить успех революционного дела. Возникает проект создания внутри ишутинского кружка, получившего в 1865 году более строгое оформление под названием «Организация», особо законспирированной, чисто заговорщической группы «Ад», участники которой должны были окружить себя исключительной обстановкой, «отчуждаться от всех порядочных людей» и пр. Члены «Ада» должны были принять на себя надзор за деятельностью революционных кружков, пресекать всякие в ней уклонения, принуждать пассивных к более решительным действиям. С этими затеями, в которых уже намечаются отдельные черты бакунинско-нечаевского «Катехизиса революционера», связывались также возникшие в среде ишутинцев террористические замыслы. Упрощенность политической мысли, непонимание подлинной роли масс, свойственные многим ишутинцам, вели к индивидуальному террору, к заблуждению, что он «вызовет» социальную революцию. Д. В. Каракозов, решившийся привести в исполнение террористический акт против царя, — в момент, когда среди ишутинцев не было еще на этот счет единомыслия, — в рукописной прокламации, которую он распространял, доказывал, что со смертью царя, «главного могучего врага» народа, остальные «мелкие враги», «помещики, вельможи, чиновники и другие богатеи», «струсят» — «тогда-то и будет настоящая воля».2
4 апреля 1866 года Каракозов стрелял в Александра II (в Петербурге). Это покушение, а также выяснившиеся при следствии обстоятельства дела наглядно показали, что недовольство политикой Александра II после подавления правительством революционного движения конца 50-х и начала 60-х годов вовсе не улеглось, что движение, говоря словами Герцена, «только въелось глубже и дальше пустило корни» (XIX, 49). Вместе с тем покушение говорило о некоторых опасных для развития революционной борьбы извращениях, порождаемых обстановкой ослабления массового народного движения, общими условиями реакции.
Само покушение 4 апреля дало толчок к дальнейшему, еще более резкому усилению реакции. Внутри правительства произошла перегруппировка, имевшая целью передачу важнейших постов в руки наиболее последовательных, твердых и способных к самым крайним реакционным действиям людей. Двуличного министра народного просвещения А. В. Головнина, балансировавшего между либерализмом и прямой реакцией, сменил Дмитрий Толстой; на место начальника III Отделения князя Долгорукова, по старости
51
не вполне пригодного для проведения активного политического курса, был поставлен П. А. Шувалов. Во главе особой следственной комиссии, на которую теперь было возложено расследование каракозовского дела, стал М. Н. Муравьев-Вешатель, который от имени всего реакционно-крепостнического лагеря выступил перед царем с далеко идущей программой борьбы против «разрушительных» элементов.

Н. А. Ишутин.
Фотография. 1868.
«„Нет власти, власть потрясена“. Надо поэтому вновь восприять ускользнувшую власть», — таков был лозунг реакции, сформулированный Муравьевым. Следуя ему, Муравьев потребовал всемерного укрепления административно-полицейских органов, действиям которых должен был быть предоставлен неограниченно широкий простор. Власть должна была в более прямой и непосредственной форме, чем прежде, опереться на крепостнические круги землевладельческого дворянства. «Дворянство представляет собою лучшее орудие для противопоставления демократии», — указывал Муравьев Александру II и предложил ему целую систему мер для материального и политического «поднятия уроненного землевладельческого класса». «Устранение притязаний журналистики», т. е. решительное подавление печати, свобода которой, писал Муравьев, «не совместима с нашим образом правления», составляло один из краеугольных камней муравьевской программы. Другой важный элемент этой программы составили меры, направленные к искоренению «вредного направления» в учебных заведениях. «Лучше, — писал он, — на некоторое время приостановиться на пути просвещения», чем выпускать тот слой молодежи, который «в настоящее время обратил на себя внимание правительства».1
Программа, предложенная Муравьевым и вполне сочувственно принятая Александром II, в несколько прикрытой форме была повторена в рескрипте от 13 мая 1866 года на имя председателя комитета министров П. П. Гагарина. Для выработки конкретных мер по выполнению рескрипта или, в конечном счете, той же муравьевской программы была создана специальная комиссия из семи сановников (Муравьев, Шувалов, Долгоруков, Толстой, Панин и др.), результатом деятельности которой явились окончательное закрытие «Современника» и «Русского слова», полное уничтожение в высших учебных заведениях студенческих организаций, усиление полицейского наблюдения и контроля над высшей школой и студенчеством и ряд других реакционных мер в области народного образования, печати и всей общественной и культурной жизни страны.
52
Преследование демократических и даже отчасти либеральных элементов приняло самый широкий и необузданный характер. Аресты, обыски, высылки по малейшему подозрению в «неблагонадежности» стали повседневным явлением. Самодержавная власть стремилась запугать, устрашить всё мало-мальски прогрессивное в обществе, всё сколько-нибудь независимое, способное противопоставить себя, свои мнения и взгляды правительству.
2
Перелом в экономической и общественной жизни страны, происшедший в 50—60-х годах XIX века, сопровождался важными сдвигами в области культуры.
Переход от крепостнического к капиталистическому обществу; окончательное завершение, на почве этого перехода, процесса формирования русской буржуазной нации; атмосфера политического подъема, в которой происходила ликвидация крепостнического порядка, атмосфера революционной ситуации, — всем этим создавались условия для большого оживления, для подъема культуры.
Подобно тому как в общественно-политической жизни в 60-х годах проявились глубокие классовые противоречия, шла острая борьба между различными общественными силами, и в культурном движении этого бурного периода нашли выражение разные, далеко между собой расходящиеся, даже прямо противоположные тенденции.
Ленин обосновал учение о наличии и взаимной борьбе двух культур в каждой национальной культуре. Это в полной мере, конечно, относится к периоду 60-х годов. В одном из писем конца 90-х годов В. И. Ленин подчеркивал, что считать «наследство» 60-х годов «за нечто единое — плохая традиция плохих (80-х) годов».1
«В каждой национальной культуре, — писал Ленин впоследствии, — есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую».2
Говоря о передовой культуре русского народа, Ленин характеризовал ее «именами Чернышевского и Плеханова».3
Чернышевский был в 60-х годах главным знаменосцем русской передовой культуры, порожденной условиями жизни и интересами многомиллионной трудящейся и эксплуатируемой массы русского крестьянства. Чернышевский, как и другие выдающиеся корифеи демократической русской культуры той эпохи — Добролюбов, Герцен, Некрасов, Щедрин, Писарев, — опирался в своей деятельности на новый, передовой слой — разночинно-демократическую интеллигенцию. Выступив в качестве активного фактора не только политической, но и культурной жизни, разночинцы придали культурному движению широкий размах и наступательный демократический характер. Новый этап общественной жизни, связанный с гегемонией разночинца-демократа, благоприятно отразился и на творческом труде лучших, наиболее преданных народу деятелей культуры, не принадлежавших непосредственно, по своему положению, к разночинцам.
53
*
С самого начала периода шестидесятых годов с большой силой дает себя знать в стране рост образовательных стремлений, охватывающих широкие круги общества; тяга к образованию пробуждается и растет в народной массе города и деревни.

Д. В. Каракозов.
Фотография. 1866.
Вопросы образования и воспитания вызывают к себе очень повышенный, сравнительно с прежним, интерес. Отдельные литературные выступления в этой области приобретают значение выдающихся общественных событий («Вопросы жизни» Н. И. Пирогова, 1856). «Вопрос о воспитании сделался современным, жизненным вопросом, обратившим на себя внимание лучших людей нашего общества», — заявляет в 1859 году Писарев.1
Проблемами просвещения и воспитания много занимается общая печать, им целиком посвящаются новые специальные издания («Журнал для воспитания», «Русский педагогический вестник», «Учитель» и др.), в которых выдвигается ряд значительных писателей по педагогическим вопросам во главе с великим русским педагогом К. Д. Ушинским. Можно с полным правом говорить о широком общественно-педагогическом движении 60-х годов. Оно написало на своем знамени борьбу против крепостнических принципов в системе общественного образования, сословной организации школы, против подавления личности учащихся, против всех видов схоластики и формализма в школьном деле, против подчинения преподавания реакционным политическим интересам и видам царизма. Положительная его программа сводилась к утверждению гуманистических начал в деле образования, к защите общего образования, «воспитывающего образования», к утверждению начала подлинной народности, к возможно широкому приобщению к благам просвещения и культуры народных масс, к обеспечению прав женщины на образование. Передовая педагогика 60-х годов стремилась воспитать человека, хорошо понимающего, что он «гражданин и слуга» родины, и готового сознательно и честно трудиться и бороться для блага народа.
Как и в иных сферах культурно-общественной жизни, в педагогике не было и не могло быть единства мнений, и при сколько-нибудь внимательном рассмотрении можно определить различные тенденции — и демократические и либеральные разных оттенков, не говоря уже об открыто охранительных,
54
реакционных тенденциях, носители которых активно боролись против прогрессивного педагогического движения, опираясь в большей или меньшей степени на материальную силу государственного аппарата.
Демократическая линия с наибольшей яркостью и последовательностью представлена Чернышевским и Добролюбовым, взгляды которых встречали поддержку со стороны Писарева, Шелгунова и др. Для позиции Чернышевского — Добролюбова характерно прежде всего то, что она имела материалистическую философскую основу, в то время как ряд деятелей просветительного движения свои построения обосновывали идеалистически или колебались между материализмом и идеализмом. Религиозные мотивы, сильно звучавшие у некоторых даже прогрессивных педагогических деятелей, были, разумеется, абсолютно чужды Чернышевскому и Добролюбову и встречали с их стороны отпор. Вместе с тем Чернышевский и Добролюбов очень далеки были от узкого «культурничества» и яснее, чем кто-либо, видели неразрывную связь вопросов просвещения с общими задачами освободительной борьбы. «... Хотя просвещение есть корень всякого блага, — писал Чернышевский, — но не всегда оно само по себе уже бывает достаточно для исцеления зла...»; последнее «поддерживается и другими обстоятельствами», до уничтожения которых часто «невозможно и распространение просвещения» (IV, 841—842). В России «другими обстоятельствами», исключающими и нормальное развитие просвещения, Чернышевский и Добролюбов признавали гнет крепостничества и политику самодержавной власти. Чернышевский и Добролюбов считали необходимым готовить молодежь к «самобытному участию в гражданских делах», т. е. к активному участию в революционной борьбе. «Лучше, — писал Чернышевский, — не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них» (V, 168, 169). В центре педагогических задач для обоих великих просветителей стояло воспитание «нового» человека, «развитого, благородного и честного», независимо и самостоятельно мыслящего, готового и способного к смелой инициативе и деятельности, к революционной борьбе, умеющего слить свою жизнь, свои интересы с жизнью и интересами народа.
Воззрения Чернышевского и Добролюбова, как и идеи их непосредственного предшественника Белинского, их предшественника и современника Герцена, оказали большое влияние на лучшую часть русского учительства. К педагогическому учению великих демократов приближалась сильными своими сторонами педагогическая система «учителя русских учителей» К. Д. Ушинского. Он подвергал резкой критике господствующую казенную школу, был врагом мертвящего «классицизма». Он пламенно отстаивал принцип народности культуры и образования, пропагандировал труд как основу воспитания. Проникнутый горячей любовью к «простому народу», он уделял громадное внимание устройству народной начальной школы (он недаром снискал себе славу «отца русской начальной школы»). Изучение родной действительности, родного прошлого, русской природы и культуры он ставил во главу угла школьного обучения. Особенно подчеркивал он ведущую роль изучения родного языка. Характеризуя язык народа как «лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни», Ушинский доказывал, что человек, не вскормленный с детства родным словом, «никогда не поймет народа и никогда не будет понят им», останется «жалким человеком без отчизны».1 Ушинский деятельно разрабатывал научные основы педагогики; он при
55
этом учитывал достижения материалистической философии, считая, что «искусство... воспитания в особенности и чрезвычайно много обязано именно материалистическому направлению изысканий, преобладающему в последнее время».1 Но Ушинский до конца жизни все-таки не освободился вполне от влияния идеализма. Его мировоззрению присущи лишь материалистические элементы, сильнее всего сказывающиеся в его взглядах на природу, отчасти в его гносеологических взглядах.2 Ушинский не стал политическим единомышленником революционных демократов, оставаясь, при всей субъективной преданности народным интересам, во власти многих либеральных иллюзий.

К. Д. Ушинский.
Фотография. 1864.
Широкий и живой интерес русского «общества к проблемам воспитания и образования в описываемый период своеобразно выразился, в частности, в том, что к этим проблемам было привлечено внимание многих русских писателей. В различных формах (учительство, составление учебников и пр.) в педагогическом движении 60-х годов участвовали Помяловский, Станюкович, Боборыкин, Николай Успенский, Шеллер-Михайлов, Якушкин и др. Тургенев принимал ближайшее участие в попытке организации «Общества для распространения грамотности и первоначального обучения». Особенно горячо откликнулся на просветительное движение Лев Толстой, который внес в развитие русской и мировой педагогической мысли свой оригинальный вклад, как организатор основанной им на новых началах яснополянской школы и автор ряда педагогических сочинений, печатавшихся одно время в его собственном журнале «Ясная поляна». Противоречия, свойственные Л. Н. Толстому и постепенно раскрывавшиеся в его мировоззрении и творчестве, отразились на его педагогических взглядах, имевших свои сильные, прогрессивные и демократические, и одновременно свои слабые стороны. Толстой выступал как беспощадный критик буржуазно-помещичьей школы, обличитель фальши, формализма, бюрократизма в педагогике, как страстный искатель, движимый любовью к учащимся, глубоким вниманием к их правам, интересам и индивидуальным склонностям. Но его педагогической системе вредило отрицание права сознательных общественных элементов на пропаганду среди народа своих идей (Толстой находил, что интеллигенция не знает, не может знать, чему учить крестьян), вредила проповедь так называемой теории свободного воспитания, порицание твердого учебного плана и школьного режима. Ряд ошибочных положений педагогики Л. Н. Толстого был подвергнут критике со стороны Чернышевского, показавшего во взглядах Толстого известный недостаток «сознания о том, что́ нужно народу, что́ полезно и что́ вредно для него» (X, 517).
56
Шестидесятые годы ставят перед передовыми общественными кругами вопрос о сближении с народом. Раньше, чем попытки сближения получили (со стороны наиболее действенной и демократической части общества) явно политический и революционный характер, была предпринята в довольно широком масштабе попытка общения и сближения с городскими низами на почве так называемых воскресных школ, возникших первоначально в Киеве, Петербурге, Москве (в конце 50-х годов) и открытых затем во многих больших и малых городах России. В движении воскресных школ особенно активно проявила себя студенческая молодежь, но в нем принимали также участие представители учительства, молодого офицерства и других групп интеллигенции. Оно явилось выражением общественных стремлений к вмешательству в дело народного просвещения, которое раньше, будучи сосредоточено целиком в руках власти и духовенства, находилось фактически в полнейшем пренебрежении. Но это-то вмешательство и пугало правительство, и уже в 1860 году шеф жандармов высказывал опасение, что деятельность молодежи в воскресных школах упрочит за ней доверие масс, да и вообще находил нежелательным для самодержавия, чтобы население было обязано своим образованием «не государству, а себе».1 К тому же вся внутренняя организация воскресных школ, свободная от каких бы то ни было стеснительных формальностей, основанная на началах складывавшейся передовой педагогики, вызывала враждебное отношение у правительства, которое, после ряда ограничительных мер, в 1862 году закрыло все воскресные школы.
Но в целом вопрос о начальном народном образовании, а также и о роли в его организации общественных элементов, в условиях ломки крепостнических устоев и обновления русской жизни, не мог быть снят с очереди. Крепостная эпоха в этом отношении почти ничего не оставила в наследство. Старые, дореформенные начальные школы для сельского населения большей частью только числились на бумаге, а те, что существовали, находились в самом жалком состоянии. Народ относился к ним не только без сочувствия, но подчас прямо с неприязнью. По свидетельству современников, народ боялся старой казенной школы, «как казенной больницы и казенного острога». С первыми признаками общественного подъема в середине 50-х годов вопрос о распространении грамотности и хотя бы самых первоначальных знаний в массе крестьянства стал предметом широкого обсуждения в литературе. Под давлением общества и печати правительство должно было заняться разработкой вопроса о народной школе; к 1864 году оно подготовило и издало «Положение о начальных народных училищах», создавшее кое-какие условия для их развития, хотя роль даже цензовых общественных учреждений была им крайне ограничена, а чиновникам и духовенству предоставлены широкие полномочия по руководству, контролю и надзору за народной школой. Все-таки именно в 60-х годах дело начального народного образования впервые было серьезно сдвинуто с мертвой точки, в чем большую роль приняло на себя вновь учрежденное земство.
Шестидесятые годы внесли перемены в положение средней школы, также получившей новый устав в 1864 году. Юридически был установлен принцип бессословности школы (на деле в ней обучались, как и прежде, преимущественно дети дворян), значительно смягчен на первых порах школьный режим и предоставлен некоторый простор творческой инициативе
57
учительства.1 Сеть средних школ была расширена, и число учащихся в мужских гимназиях выросло между 1855 и 1867 годами с 17.8 до 32.6 тысяч.2 Крупный сдвиг совершился в области женского среднего образования с появлением в конце 50-х годов женских гимназий (они именовались сначала женскими училищами). Подверглись преобразованию оставшиеся от прежней эпохи сословные женские институты.

П. И. Якушкин.
Фотография. 1860-е годы.
Вокруг средней школы (мужской), однако, на протяжении всех 60-х годов шла упорная борьба между прогрессивными и реакционными элементами по вопросу о реальном или классическом образовании, завершившаяся, после упрочения к концу 60-х годов реакционного курса всей внутренней политики, торжеством «классицизма», на который министерством мракобеса Д. Толстого, как и его вдохновителями Катковым и Леонтьевым, возлагалась чисто охранительная, полицейская функция (борьба против научного, материалистического мировоззрения, против передовой педагогики, против свободолюбивых стремлений демократической молодежи).
Шестидесятые годы поставили с большой остротой вопрос о высшей школе. Под влиянием потребностей развивающегося капиталистического хозяйства довольно значительно двинулась вперед организация специального высшего образования (промышленно-технического, сельскохозяйственного и т. д.). Наибольший интерес в обществе возбуждало положение университетов. Известно, каким гонениям и ограничениям подвергались университеты в последние годы царствования Николая I. Вынужденные уступки правительства, которыми ознаменовалось начало нового царствования, сказались в жизни университетов постепенной отменой принятых перед тем ограничительных и запретительных мер. Не столько, однако, под влиянием этого обстоятельства, сколько в непосредственной связи с общим возбуждением и подъемом почувствовалось в университетах значительное оживление, коснувшееся и преподавания, и студенческого быта. Складывался понемногу хорошо известный из исторических документов и литературных памятников эпохи яркий тип передового студента-шестидесятника. Явочным порядком появлялись и развивались студенческие кружки и организации. Двери университетов раскрывались для Посторонней публики. Возбужденное, протестующее настроение демократической молодежи уже в конце
58
50-х годов привело в ряде случаев к открытым студенческим волнениям. Правящие сферы тотчас насторожились и стали задумывать меры для «обуздания» студенчества, ряды которого заметно ширились после упразднения контингента, установленного при Николае I, и состав которого к тому же явно демократизировался, ввиду усиливавшегося притока разночинцев. Обострение политической борьбы и роль в ней демократического студенчества привели к репрессиям правительства против студенчества (стеснительные, реакционные правила для студентов, изданные в 1861 году), что, в свою очередь, послужило поводом к известным студенческим «беспорядкам» осенью 1861 года. Правительство, закрыв на время Петербургский университет, вместе с тем должно было объявить о пересмотре университетского устава.
Утвержденный в 1863 году новый устав российских университетов был основан на некоторой автономии профессорской коллегии, при одновременном отказе в признании каких-либо корпоративных прав за студентами. Несмотря на более чем умеренный либерализм устава 1863 года, на наличие в нем и ряда прямо ретроградных черт, реакционные круги были напуганы и недовольны теми даже скромными возможностями, какие устав давал независимой в своих мнениях части университетских ученых, и чем дальше, тем настойчивее домогались его отмены. Окончательно и официально это удалось только в период реакции 80-х годов, но уже с конца 60-х годов фактически действие «либеральных» пунктов устава 1863 года всё более урезывалось и сводилось на нет.
Число университетов в 60-х годах увеличилось с открытием Новороссийского в Одессе и, в самом конце десятилетия, Варшавского университетов. До этого существовало шесть университетов — в Москве, Петербурге, Казани, Харькове, Киеве, Дерпте, не считая университета в Финляндии — в Гельсингфорсе. Количество студентов в 1868 году составляло около шести тысяч (в 1853 году студентов во всех университетах насчитывалось около трех тысяч).
Внутреннее содержание жизни высшей школы обогатилось и углубилось в 60-х годах, ее роль в развитии русской науки значительно повысилась.
*
С 60-ми годами связан замечательный подъем научного творчества.
Вполне в духе общего просветительского характера периода были то уважение, тот повышенный интерес к науке, которые отличали передовые круги общества. Не обходилось даже у отдельных представителей общественного мнения без своего рода увлечений, без преувеличенной оценки возможностей, которые имеет наука в решении общественных задач. В 1864 году в известной статье «Реалисты» Д. И. Писарев утверждал: «Есть в человечестве только одно зло — невежество; против этого зла есть только одно лекарство — наука...».1
Подобно тому, как это было в области литературы и искусства, вопрос об отношении науки и жизни, науки и общества, науки и народа занимал в общественном сознании особо видное место. Еще в 1854 году в статье, посвященной выходу перевода трактата Аристотеля «О поэзии», Чернышевский писал: «„Искусство для искусства“ — мысль такая же странная в наше время, как „богатство для богатства“, „наука для науки“ и т. д.
59
Все человеческие дела должны служить на пользу человеку..., богатство существует для того, чтобы им пользовался человек, наука для того, чтоб быть руководительницею человека...» (II, 271). Это положение Чернышевского являлось выражением широко распространенного в обществе настроения. «Наука должна быть проникнута современною жизнию и должна сама проникать ее», — через несколько лет после цитированной статьи Чернышевского писал Лавров.1
Молодые демократические элементы, втягивавшиеся в научную и научно-публицистическую деятельность, хотели видеть в науке и ученых «двигательную силу к достижению человеческого идеала», к «разрешению общественных вопросов». На этом настаивал, например, Н. Д. Ножин. В 1866 году Ножин писал в статье «Наша наука и ученые»: «... наука для жизни, а не жизнь для науки..., всё достоинство науки измеряется ее практическою пользою, ее живым участием в решении жизненных вопросов». Всё в будущем, по словам Ножина, зависело у нас от того, «... какое направление примет с самого начала наука, как сложится сословие ученых, на каких принципах, на каких правах, с какими обязательствами перед обществом, а главное — перед народом, она явится».2
Требуя от науки тесной связи с жизнью, ответа на «вопросы жизни», передовая общественность не допускала мысли, что ученые, подлинные ученые, могут замыкаться в узком кругу «посвященных», могут не искать общения с массой общества. И действительно, для 60-х годов очень показательно стремление к широкой популяризации знаний, достижений науки. Не говоря уже о таких публицистах-ученых, как Писарев или Шелгунов, неустанно трудившихся над распространением знаний среди широких кругов читателей, задача популяризации науки привлекала к себе многих ученых «профессиональных», занимавших университетские кафедры и т. д. Самым блестящим, неподражаемым популяризатором Тимирязев называет великого русского ученого-шестидесятника И. М. Сеченова. Много сил отдавал популяризации науки выдающийся ботаник А. Н. Бекетов, популярные статьи которого были рассчитаны не только на широкого читателя из интеллигенции, но и непосредственно на читателя из народа. В качестве популяризаторов выступали К. А. Тимирязев, знаменитый физик А. Г. Столетов, историк Н. И. Костомаров и многие другие люди науки.
Задачам распространения знаний в широкой публике служили также весьма многочисленные в описываемый период переводы с иностранных языков. В специальной статье «Литература переводов» (ее автором был А. Н. Пыпин) «Современник» в 1866 году отмечал, что «развитие переводной деятельности становится весьма характеристической чертой современной литературы»; «Современник» при этом подчеркивал, что из переводов (естественно-научной литературы и книг «общего исторического и политического содержания») особенно быстро потребляются «книги, в которых так или иначе высказываются реальные тенденции — одним словом, то же содержание, которое всего больше интересует читателей и в нашей собственной журнальной литературе».3
Жадно набрасываясь на оригинальные и переводные сочинения научного содержания, читатели искали в них материала для решения и общих вопросов мировоззрения, и практических задач общественной жизни. Прогрессивные общественные круги отворачивались от тех отдельных ученых
60
и от целых научных учреждений, которые сами отгораживались от жизни, были равнодушны к общественным вопросам, к национальным, патриотическим интересам. Отсюда вытекало сугубо критическое отношение к Академии Наук, где еще продолжалось засилие иностранных ученых (академиков из немцев), в своей значительной части совершенно оторванных от русской общественной жизни, чуждых выдвигаемым ею запросам. Передовое общество возмущалось предпочтением, отдаваемым правящими кругами зарубежным, подчас и посредственным, ученым при замещении вакантных академических мест. Замечательный рост отечественных научных кадров, блестящие достижения русских ученых делали эту линию правительства всё более нетерпимой в глазах прогрессивного общества и стимулировали нарастание общественного протеста против нее.
Для идейной атмосферы 60-х годов очень характерен исключительный интерес к вопросам естествознания. В художественной литературе первым — и в самой яркой форме — отразил это явление Тургенев в образе Базарова («Отцы и дети»).
Русские естественные, точные науки, имевшие уже очень солидные традиции и прекрасные достижения — от Ломоносова до Лобачевского, Пирогова и Бэра, переживают в 60-х годах и позднее полосу необычайного подъема и роста. Но это не должно заслонять выдающейся роли в тот же период общественных наук в России, тем более что русская общественная наука, неразрывно связанная с русской философией, оказала важное влияние и на развитие самого естествознания.
Разумеется, речь идет о передовой общественной науке. Именно в области общественных (гуманитарных) наук особенно ясно обнаруживался раскол на прогрессивную, демократическую науку и «науку» антинародную, реакционную. «Официальная» общественная наука, связанная, в частности, с гуманитарными факультетами высшей школы, принадлежала наиболее часто к реакционному направлению. В лучших только случаях представители «официальной» учености, академической и университетской, рекрутировались из либеральных элементов. Представители демократии попадали на университетские гуманитарные кафедры в порядке исключения и обычно оттуда выживались (например, историк А. П. Щапов). Не на кафедре, а на страницах передовых журналов, как правило, обосновывалась, развивалась и пропагандировалась демократическая общественная наука.
Характеризуя ход развития передовой русской мысли, В. И. Ленин писал: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым „последним словом“ Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».1
На 40—60-е годы падает крайне важный этап определенного здесь В. И. Лениным идейного процесса. В эти годы развернулась деятельность Белинского, Герцена, Чернышевского, на которых В. И. Ленин указывает как на предшественников русской революционной социал-демократии. К этим годам также непосредственно относится начало знакомства —
61
и отдельных деятелей, и целых кружков, а в известной мере и более широкого читательского круга — с рядом произведений основоположников марксизма (между 40-ми и серединой 60-х годов — «Нищета философии», «Положение рабочего класса в Англии», «Манифест Коммунистической партии», «К критике политической экономии» и т. д.).1
Белинский и Герцен, затем Чернышевский и Добролюбов были выдающимися деятелями передовой, революционно-демократической общественной науки в России. В философии, в истории, политической экономии и праве, в педагогике, в эстетике и литературной критике — то, что было сделано Чернышевским, Белинским, Герценом, Добролюбовым, представляет высшую ступень всей домарксистской науки и философии.
В 60-х годах Чернышевский и Добролюбов, опираясь на все предшествующие достижения русской культуры, продолжая непосредственно дело Белинского и Герцена и учитывая всё положительное, что они находили в науке и культуре Запада, возглавили движение передовой научной мысли.
Основой мировоззрения Чернышевского и Добролюбова являлся цельный философский материализм. Свои материалистические взгляды они защищали и отстояли в ожесточенной борьбе против целого сонма врагов — религиозных изуверов, идеалистов, агностиков-позитивистов. Особенно большое значение в умственном движении 60-х годов имела идеологическая битва, развернувшаяся после опубликования Чернышевским в 1860 году его знаменитой работы «Антропологический принцип в философии». Разгромив идейно Юркевича, Каткова и прочих «рыцарей» российского идеализма и мракобесия, Чернышевский закрепил позиции материализма и оказал огромное влияние на философское самосознание прогрессивных кругов русского общества, определил во многом и материалистическое направление русского естествознания. Историки последнего недаром признают «Антропологический принцип» Чернышевского теоретическим обоснованием материалистического естествознания в России.
Существеннейшим достижением Чернышевского, Добролюбова, как и их предшественников — Герцена и Белинского, было то, что они поняли значение диалектики и применяли диалектический подход к изучению явлений природы и многих общественных явлений, в том числе явлений культуры, искусства и литературы.
Это вовсе не значит, что они были материалистами-диалектиками в марксистском понимании. Ленин разъяснял, что Чернышевский «не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса».2 То же самое относится и к другим классикам русской материалистической философии домарксистского периода.
Отличительной чертой русской материалистической философии, русской общественной науки, представленной именами Чернышевского, его предшественников и его соратников, была самая тесная связь с практикой освободительной борьбы. Исторические корни и источники передовой русской науки (в деятельности демократов-шестидесятников это видно особенно ярко и наглядно) заключались в борьбе народа против экономического и политического гнета, против крепостнического базиса и его государственной надстройки. Чернышевский и Добролюбов ни на один момент не отделяли своей
62
творческой научной деятельности, своей теоретической пропаганды от насущных задач революционной борьбы. Философия и наука целиком ставились ими на службу революции, народу. Вся их теоретическая деятельность имела боевое революционно-патриотическое направление.
Общественно-экономические взгляды Чернышевского и Добролюбова, как и их философские взгляды, были проникнуты духом борьбы против всяких форм угнетения, ненавистью и к крепостничеству, и к буржуазному господству. Чернышевского, как известно, Маркс считал крупнейшим и единственным оригинальным среди всех современных экономистов, он называл его великим русским ученым и критиком, мастерски выяснившим банкротство буржуазной политической экономии. Замечательно глубоким критиком капитализма признавал Чернышевского Ленин.
Слитность революционного демократизма и утопического социализма была характерной чертой освободительного движения разночинского этапа, она составляет важную особенность всей демократической, революционной общественной науки эпохи Чернышевского.
Выше отмечена ограниченность материализма классиков русской философии по сравнению с марксистским материализмом. Эта ограниченность особо ясное выражение нашла в их неумении сколько-нибудь последовательно распространить материализм на область истории общества. Ленин о Герцене писал, что он «остановился перед — историческим материализмом».1 Не могли также стать историческими материалистами Чернышевский и Добролюбов. Но в их историко-социологических воззрениях было в зародыше немало черт материалистического понимания явлений.
Чернышевский подвергал острой критике состояние современной ему буржуазной и дворянской исторической науки.
Историческая судьба трудящихся масс, «развитие внутреннего быта народов», «развитие существенно важных сторон народной жизни: общественных и экономических отношений, образованности и т. д.» должны были в глазах Чернышевского занять важнейшее место в науке истории (II, 562). И при этом изучение следовало вести непременно под углом зрения именно интересов народа, с тем чтобы результаты изучения послужили на пользу народу, послужили его борьбе за лучшее будущее.
Чернышевский настаивал на партийном — демократически- и революционно-партийном — подходе к истории. Он требовал от историка не передачи только прошедшего, но объяснения его и вынесения приговора над ним: «... не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем...; исполняя вторую задачу, историк становится мыслителем, и его творение приобретает научное достоинство» (II, 111). В отношении этой «второй задачи» Чернышевский отождествлял свои требования к исторической науке, с одной стороны, к литературе и искусству, с другой (II, 111).
Мысли Чернышевского о науке находили у Добролюбова полную поддержку. Добролюбов протестовал против того, что «до сих пор история писалась преимущественно в смысле внешне-государственном», вследствие чего «о внутренней жизни народа мы имеем только отрывочные сведения, да и теми дорожили до сих пор очень мало» (III, 136).
Добролюбов требовал от исследования, претендующего на серьезное научное значение, подчинения идее «об отношении исторических событий к характеру, положению и степени развития народа». «... История самая живая и красноречивая, — писал Добролюбов, — будет все-таки не более, как прекрасно сгруппированным материалом, если в основание ее не будет
63
положена мысль об участии в событиях всего народа, составляющего государство» (III, 120).

Н. И. Костомаров.
Литография П. Ф. Бореля. 1859.
Для собственных исторических трудов и высказываний Чернышевского и Добролюбова был характерен пристальный интерес к судьбам народов, к влиянию исторических событий на положение и настроение трудящихся масс, к первенствующей роли этих масс в историческом процессе. С особым вниманием они относились к борьбе классов в истории, к борьбе эксплуатируемых масс против господствующих социальных сил, к борьбе между «тружениками» и «дармоедами» (по определению Добролюбова).
И Чернышевский и Добролюбов сами многократно и с явной охотой обращались к историческим темам как по поводу вновь выходивших трудов по всеобщей и русской истории, так и независимо от каких-либо критико-библиографических задач. Кроме специально исторических статей, они высказывали часто свои взгляды на ход истории в работах, не являвшихся историческими по основной теме и содержанию. Освещение Чернышевским и Добролюбовым с революционно-демократических позиций русского исторического процесса в целом и отдельных его важных этапов и моментов сильнейшим образом двинуло вперед прогрессивную русскую общественно-историческую мысль. Это относится к их понятиям о социальной природе монархии в России, об исторической роли народа, о народных движениях, о петровских реформах и т. д.; не говорим уже об огромном значении работ Чернышевского и Добролюбова для изучения истории духовной культуры русского народа — его литературы, искусства, науки. Большой вклад вожди революционной демократии 60-х годов сделали также в науку всеобщей истории.
Высказывания Чернышевского и Добролюбова по вопросам истории оказывали большое влияние на читательскую массу; под их воздействием, несомненно, складывались исторические представления передовых кругов русского общества и прежде всего молодежи. Бесспорно также, что к ним прислушивались лучшие из тогдашних профессиональных деятелей исторической науки, хотя среди наиболее видных историков-профессионалов того времени не было таких, кто мог бы считаться в совершенной мере последователями Чернышевского — Добролюбова в их исторических воззрениях. Наибольшую, сравнительно с другими, близость к этим воззрениям проявил Щапов, но и этот историк-демократ сильно уступал Чернышевскому и Добролюбову в смысле теоретической и политической зрелости своих взглядов.1
64
Как бы то ни было, общий дух шестидесятых годов и прежде всего воздействие проповеди великих русских революционеров-просветителей сказались в том, что в ряде общественных наук, в исторической в том числе (и даже, пожалуй, в особенности), происходит значительное перемещение интересов, объектов исследования. Самые даровитые представители науки, по свидетельству современника, пришли к убеждению, что «надо по возможности меньше заниматься казенною политикою, а заняться и политикой массовой, народной», надо «заняться простыми смертными, народом, мужиками», показать, почему «эти смертные голодали или страдали, почему бунтовали массами...».1 Серьезные исследования по истории крестьянства, сельской общины, по социальной и экономической истории в целом ведут свое начало с обозреваемого периода в развитии русских общественных наук.
Выше уже было упомянуто об исключительно большом интересе к естествознанию, как характерной черте культурного процесса 60-х годов. И этот интерес, и огромные успехи русского естествознания были исторически обусловлены и подготовлены.
Еще в XVIII и первой половине XIX века русскими естествоиспытателями были сделаны выдающиеся научные завоевания. В период, непосредственно предшествующий обозреваемому, лучшие представители передовой общественности, классики русской философии Белинский и Герцен, стремились привлечь внимание к задачам развития и распространения естественных наук.
Выдающееся значение, в частности, имели знаменитые герценовские «Письма об изучении природы» (1845), о первом из которых В. И. Ленин в 1912 году говорил, что оно «показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов».2 В почти одновременно с «Письмами» опубликованной статье о публичных чтениях талантливого московского профессора зоологии Рулье Герцен писал:
«Одна из главных потребностей нашего времени — обобщение истинных, дельных сведений об естествознании...; надобно втолкнуть их в поток общественного сознания, надобно их сделать доступными... Нам кажется почти невозможным без естествоведения воспитать действительно мощное умственное развитие...» (IV, 377).
Задача, сформулированная в этих словах Герценом, начинает широко осуществляться именно в 60-х годах, когда в поистине мощном умственном движении естествознание занимает очень видное и почетное место.
Экономическое развитие страны, связанное с ростом капиталистических отношений, воздействие ряда новых открытий и изобретений, сделанных русскими и западными учеными, падение авторитета идеалистических и религиозных учений в период крушения отживших общественных устоев и настойчивые поиски цельного научного мировоззрения, особенно в среде передовой молодежи, — всё это направляло мысль в сторону наук — биологических, физико-математических, химических и т. д. Философская пропаганда великих русских просветителей 60-х годов, с своей стороны, сыграла огромную роль, пробуждая интерес к естественным наукам и направляя их развитие по материалистическому пути.
65
«На заре своей научной деятельности, на ряде близких примеров, — писал академик Н. Д. Зелинский, — я мог видеть, как много дали естествоиспытателям Чернышевский, Писарев, Добролюбов. Их ученики натуралисты носили в своих сердцах пламя, зажженное проповедью великих демократов».1

А. П. Щапов.
Гравюра на дереве Э. Паннемакера по фотографии
1860-х годов.
В естествознании передовое общество и демократическая литература видели огромную практическую, народнохозяйственную силу. Всё материальное благосостояние зависит от господства человека над природой, а это господство заключается в знании естественных сил и законов, — таков вывод, к которому приходил, например, Писарев, вдохновенный пропагандист естествознания в русском обществе 60-х годов.
Не менее важная роль передовыми кругами приписывалась естествознанию в общекультурном смысле, в деле выработки научного мировоззрения, в борьбе против предрассудков, против всех форм идеализма и поповщины, вместе с тем и против угнетающих народ реакционных политических и социальных сил, находящих в религии, в невежестве и отсталости масс одну из своих опор. В условиях царизма, его ретроградной политики, направленной на всяческое стеснение открытой философской проповеди в материалистическом духе, изучение и пропаганда подлинно научных идей в естествознании приобретали еще большее значение, поскольку в этой форме оказывалось более возможным, относительно более осуществимым распространение и утверждение тех же материалистических взглядов. Значение естествознания для формирования передового миросозерцания, для освободительной борьбы настойчиво подчеркивал Чернышевский, писавший: «... открытия, сделанные Коперником в астрономии, произвели перемену в образе человеческих мыслей о предметах, повидимому очень далеких от астрономии. Точно такую же перемену и точно в том же направлении, только в гораздо обширнейшем размере, производят ныне химические и физиологические открытия: от них изменяется образ мыслей о предметах, повидимому очень далеких от химии» (VII, 252).
То обстоятельство, что развитие русского естествознания в 50—60-х голах XIX века происходило в обстановке общего подъема освободительного политического и культурного движения в стране, что лучшие силы естествознания испытали на себе огромное влияние вождей демократического лагеря, выражавших в своей деятельности вековые чаяния, порыв к свободе многомиллионных
66
народных масс, далее, то обстоятельство, что развитие естествознания в указанный период было основательно подготовлено всем предшествующим ходом развития науки и культуры в России, — всё это определило ряд особенностей русского естественно-научного движения середины и второй половины XIX века: его патриотический характер, его новаторство, изумительный творческий размах, свойственное ему тяготение к глубочайшим научным обобщениям, открывавшим невиданные перспективы дальнейшего роста науки, прежде же всего определило материалистическую направленность передового русского естествознания.
Часто опережая ученых других стран, прокладывая совершенно новые пути, передовые русские научные деятели также поддерживали, развивали, углубляли ценные достижения западного естествознания.
Великие идеи Дарвина нашли в России весьма благоприятную и подготовленную почву. Всего через несколько месяцев после появления «Происхождения видов» Дарвина (1859) учение его стало достоянием студенчества Петербургского университета. В 1861 году вышло из печати первое издание русского перевода книги Дарвина. На базе дарвинизма, творчески воспринятого и развиваемого, очищенного от отдельных слабых, ошибочных элементов (прежде всего от мальтузианских примесей), шло изучение и освещение важных вопросов биологической науки в России 60-х и последующих годов.
Один из историков естествознания правильно отмечает, что принятие русской наукой учения Дарвина в значительной мере зависело от материалистической традиции, существовавшей в русской философии и естествознании задолго до эпохи 60-х годов,1 получившей, добавили бы мы, именно в 60-х годах дальнейшее блестящее развитие и упрочение. Следует особенно учесть, что идея развития, эволюционная идея плодотворно разрабатывалась в России до Дарвина.2
Среди славных деятелей русского естествознания, выступивших в 60-х годах, одно из особо выдающихся мест занимал И. М. Сеченов.
«Можно сказать, — пишет Тимирязев о Сеченове, — что это была самая типическая центральная фигура того научного движения, которое характеризует рассматриваемую нами эпоху».3 Сеченов, «отец русской физиологии», основоположник эволюционной материалистической психологии, был великим ученым-просветителем, громадное влияние которого сказалось не только в кругу деятелей науки, русской и западной, но и вообще в широчайших общественных кругах. Его учение, открывшее совершенно новую полосу в исследовании явлений душевной, психической жизни, в высшей степени способствовало, как и произведения всех классиков русской материалистической философии во главе с Чернышевским, формированию научного миросозерцания передовых русских людей. Труд Сеченова «Рефлексы головного мозга», впервые появившийся в 1863 году (автор первоначально хотел его прямо назвать «Попытка свести способы происхождения психических явлений на физиологические основы», но должен был уступить давлению цензуры), принадлежал к произведениям, наиболее любимым читателями 60-х годов. Эта книга широко распространялась в отдельном издании 1866 года, едва спасенном от ярости царских властей, также среди передовой интеллигенции последующего времени. «Идеи Сеченова, высказанные
67
им в этом сочинении, — по свидетельству другого его великого современника И. И. Мечникова, — не замедлили войти в плоть и кровь молодого поколения...».1 Министр внутренних дел Валуев недаром поэтому называл Сеченова «наиболее популярным теоретиком в нигилистическом кружке»,2 т. е. в кругу свободомыслящего, демократически настроенного общества. И. М. Сеченов был лично связан с Чернышевским; он явился прототипом образа Кирсанова в романе Чернышевского «Что делать?».

И. М. Сеченов.
Фотография.
Русская биологическая наука с 60-х годов прокладывает новые пути в области зоологии. Илья Мечников и Александр Ковалевский внесли неоценимый вклад в тогда еще слабо разработанную науку о генезисе животного мира, заложили прочные основы сравнительной эволюционной эмбриологии. Работы И. И. Мечникова3 и А. О. Ковалевского, протекавшие в значительной степени параллельно, в тесном дружеском сотрудничестве обоих ученых (не исключавшем, впрочем, на первых порах отдельных научных разногласий между ними), развивали эволюционную теорию Дарвина и представили исключительно важные данные в пользу дарвиновского учения.
Передовым шестидесятником был и младший брат А. О. Ковалевского — В. О. Ковалевский, замечательный геолог и палеонтолог, основатель эволюционной палеонтологии. Начало его творческой научно-исследовательской деятельности приходится на первую половину 70-х годов, но как раз в 60-х годах он получил к ней идейно-теоретические импульсы и подготовку. В. О. Ковалевский был духовным учеником Герцена (с которым был лично связан) и Чернышевского, непосредственным участником революционных кружков 60-х годов, участником польского восстания 1863 года и итальянского национально-освободительного движения, руководимого Гарибальди. Последователь и продолжатель Дарвина, В. О. Ковалевский был лично знаком с ним и пользовался его огромным уважением. В 60-х и начале 70-х годов В. О. Ковалевский отдал много сил переводу и изданию трудов Дарвина в России.
Могучее воздействие освободительного движения 60-х годов, теоретической и политической пропаганды великих русских революционеров-просветителей 40—60-х годов на русское естествознание сказалось на формировании мировоззрения К. А. Тимирязева, одного из лучших представителей русской материалистической биологии, в будущем гениального исследователя так называемого фотосинтеза растений, передового общественного деятеля, пламенного патриота демократической России. Тимирязев, как известно, дожил до Великого Октября и являлся активным другом и сторонником Советской власти, Коммунистической партии. Свою научную деятельность Тимирязев начал еще в пору студенчества, в первой половине 60-х годов. Тогда же, в 1864 году, Тимирязев опубликовал в «Отечественных
68
записках» серию статей о дарвинизме, а через год он выпустил их отдельной книгой «Краткий очерк теории Дарвина». Впоследствии Тимирязев с удовлетворением вспоминал, что уже через пять лет после появления книги Дарвина «Происхождение видов» он выступил в России «убежденным защитником и толкователем» дарвиновского учения. Всю свою жизнь Тимирязев был страстным пропагандистом дарвинизма, творчески развивавшим учение Дарвина в ожесточенной борьбе с его врагами, последовательным противником всевозможных идеалистических построений в естествознании и философии. В творчестве Тимирязева нашла яркое и плодотворное выражение одна из коренных черт русского передового естествознания — неуклонное стремление патриотов-естествоиспытателей связывать вопросы теории и практики.
Это же ценнейшее свойство русских естествоиспытателей — тесная связь теории и практики — отличало всю многостороннюю деятельность величайшего химика XIX века Д. И. Менделеева, который был автором выдающихся исследований и научно-практических проектов, связанных с нуждами народного хозяйства, и в первую очередь с промышленным развитием России (вопросы нефтяного хозяйства, каменноугольной промышленности и т. д.).
Менделеев сформировался как ученый в период 50—60-х годов. На 1850—1855 годы приходится пора его учения в петербургском Главном педагогическом институте, в конце 50-х годов он впервые появляется на кафедре Петербургского университета. В 1861 году Менделеев создал свой высоко оригинальный курс «Органической химии». В 1868—1871 годах появилось первое издание гениального менделеевского труда «Основы химии». В процессе работы именно над «Основами химии» Менделеев совершил свой великий «научный подвиг», как назвал Энгельс1 бессмертное открытие Менделеева, — периодический закон, периодическую систему химических элементов. Первая формулировка закона была дана Менделеевым в 1869 году. Создание периодической системы означало открытие одного из основных законов природы. Своим гигантским обобщением Менделеев дал химии новую основу, реформировавшую, по меткому слову академика С. И. Вавилова, «всё химическое мышление».2 Закон Менделеева имел и имеет огромное философское значение, как блестящее подтверждение материалистической диалектики.
Великий вклад в развитие русской и мировой науки был сделан старшим современником Менделеева — А. М. Бутлеровым. Бутлеров начал свою научную деятельность ранее обозреваемого нами периода (на рубеже 40-х и 50-х годов), но расцвет ее относится к 60-м годам, когда ученый создал свою теорию химического строения вещества.
В своих исследованиях Бутлеров исходил из Материалистических (стихийно-материалистических) позиций. Вместе с Менделеевым и другими корифеями русского естествознания Бутлеров энергично и страстно боролся за честь и достоинство русской науки.
Подъем русских точных наук, определившийся с 50—60-х годов XIX века, коснулся не только химии и биологии, но и других отраслей знания.
В 60-х годах начал свою деятельность знаменитый русский физик А. Г. Столетов, один из основоположников современной электротехники, создатель замечательной школы физиков в Московском университете, один из видных и боевых представителей естественно-научного материализма в России.
69
Мировое значение имела деятельность Ф. А. Бредихина, астрофизика, создателя кометной астрономии (к 60-м годам относятся обе его диссертации, посвященные кометам). Незадолго до 60-х годов начал свое великое служение русской науке гениальный математик П. Л. Чебышев, основоположник так называемой петербургской, или чебышевской, математической школы. Он открыл новую эпоху в развитии теоретической математической мысли, внес неоценимый вклад в механику и всю жизнь отстаивал сближение теории с практикой как средство не только удовлетворить запросы практики, но и непрерывно повышать уровень самой теории. В 60-х годах получила свое общественное и отчасти научное воспитание Софья Ковалевская, одна из наиболее блестящих представительниц математической науки XIX века.

Д. И. Менделеев.
Фотография.
Превосходными достижениями отмечена в 60-х годах деятельность русских ученых в области географических наук. Нельзя не отметить при этом большого значения работ основанного в 1845 году Русского Географического общества. Весьма крупную роль в этом Обществе в описываемое время играл П. П. Семенов. Ему принадлежит честь первых исследований в Центральной Азии (замечательные по своим результатам путешествия 1856—1857 годов на Тянь-Шань). Изучение Азии, начатое Семеновым, было продолжено Н. А. Северцовым, Г. Н. Потаниным и др. К концу 60-х годов относится первый период исследований в Азии всемирно известного географа Н. М. Пржевальского. Начало деятельности Н. Н. Миклухо-Маклая, прославившегося вскоре своими исследованиями Новой Гвинеи, падает на 60-е годы. Нет сомнения, что воспитанию в нем замечательных свойств страстного гуманиста, поборника идеи братства между народами, защитника прав угнетенных народов колоний всемерно способствовала идейная атмосфера этой эпохи.
Приведенные данные касаются, конечно, лишь части достижений русского естествознания описываемого времени. К ним надо добавить успехи русской техники (И. А. Вышнеградский, А. В. Гадолин, Д. К. Чернов и др.), русской медицины (начало славной деятельности С. П. Боткина, Н. В. Склифосовского), достижения таких, не упомянутых в предыдущем обзоре деятелей в области биологии и химии, как Л. С. Ценковский (в сущности, родоначальник всей новой русской ботанической школы, из которой, в числе других, вышел и Тимирязев), как химик Н. Н. Бекетов и ботаник А. С. Фаминцын и др.
Говоря о великих достижениях и победах русских ученых, нельзя забывать и об огромных трудностях, стоявших в 60-х годах и позднее на путях русской естественной науки и сильно ограничивавших ее движение сравнительно с тем, каким оно могло бы быть при иных социальных и политических условиях. Пробудившиеся с середины 50-х годов передовые
70
общественные силы рвались к свету, к науке, а полукрепостническая обстановка пореформенной России сковывала их не только в чисто политических проявлениях, но и в культурных.
3
Великие русские революционеры-просветители, оказавшие могучее влияние на передовых писателей и поэтов, были вдохновителями и учителями нового поколения художников, музыкантов, лучших деятелей театра.
Шестидесятые годы были поворотным, переломным периодом не только в политике, в движении науки и просвещения, но и в искусстве, в частности, в искусстве изобразительном. В. В. Стасов писал потом в своем известном обзоре «Двадцать пять лет русского искусства»:
«Крымская война и наступивший тотчас после нее период разверзли, наконец, уста и русскому художнику..., искусство почувствовало себя общественною силою..., новый живописец чувствовал потребность и призвание идти заодно с остальным обществом...».1
Крайне характерна для эпохи фигура самого Стасова. «Жизненное, национальное и реальное искусство», «новое, здоровое, оригинальное, могучее», — такими словами Стасов в 80-х годах определял дорогие ему свойства искусства 60-х годов. Национальность, верность народу, реализм, современность, идейная содержательность (в демократическом понимании), новизна и оригинальность — таковы были позиции самого Стасова, таково было знамя, под которым он боролся.
В. В. Стасов был непримиримым врагом формалистического искусства. В защитниках теории «чистого искусства», «искусства для искусства» он видел проповедников искусства без содержания или с «содержанием ничтожным», искусства, которое «назначено только для праздного, сибаритского, бесцельного, эстетического, апатичного любованья».2
Стасов убежденно отстаивал «тенденциозность» искусства. В большой работе «Тормозы нового русского искусства», припоминая критику скульптором-литератором Рамазановым художника В. Г. Перова за то, что у последнего «что ни картинка, то тенденция и протест», Стасов писал: «... создания, клейменные у нас презрительной кличкой „тенденциозных“, они-то именно и есть те самые, которые одни должны „существовать в искусстве“». Он разъяснял, что гонители тенденции в искусстве ополчаются, собственно, на «всё то, где есть сила негодования и обвинения, где дышит протест и страстное желание гибели тому, что̀ тяготит и давит свет».3
Ратуя за «здоровое» и «истинное» содержание живописи, Стасов настойчиво призывал художников брать это содержание в первую очередь и преимущественно из окружающей действительности, из современности. Принципиально отвергая деление искусства на «высокое» и «низкое», он отбрасывал, как ошибочное и вредное, представление о картинах «из обыкновенной, действительной жизни», о так называемом жанре как «низшем» виде искусства. Напротив, утверждал он, в этих картинах лежит теперь «вся... сила и призвание» искусства.4
Стасов отдавал себе ясный отчет в значении борьбы за утверждение прав «жанра», бытовой, социальной живописи как борьбы за утверждение
71
реализма и современной тематики в живописи.1 Горячо приветствуя внимание молодых художников 60-х годов к жанровой живописи, Стасов призывал их не ослаблять «нынешнего, подымающегося пыла, устремленного к тому, чтобы зорко вглядываться вокруг себя и верно, поэтически, пламенно передавать живую правду жизни...».2

В. В. Стасов.
Фотография. 1860-е годы.
Жанровой живописи Стасов придавал огромное значение в укреплении и росте самостоятельного, национального направления русского изобразительного искусства. Национальная самостоятельность, самобытность искусства играла в эстетической концепции Стасова первейшую роль, наряду (и в неразрывной связи) с реализмом. Только обратившись вплотную к чисто национальному материалу, живопись могла стать действенным общественным фактором. Именно с национальностью Стасов связывал жизненность и современность искусства. «Наши избы, деревни, улицы, толкучие рынки..., все нынешние картины, над которыми и до сих пор <1863 год> еще раздаются там и сям вопли негодования, как при первом появлении гоголевской правды в литературе, никогда не перестанут иметь существеннейший смысл в истории нашего художества: с них начинается наша настоящая самостоятельная эра».3 Национальное содержание живописи Стасов понимал не только в смысле национальной тематики. «... По-моему, — писал он (в более позднюю пору, в 1892 году), — еще мало удержать свято и хранить ненарушимо русские темы, задачи, характеры, физиономии: надо, чтобы и краска, и колорит, и воздух картины, и солнце, и мрак, и всё, всё — было свои..., надо, чтобы всё наше „художественное слово“ живописи было столько же собственное, свое, нынешнее, как „художественное слово“, „речь“ у Толстого во „Власти тьмы“, у Пушкина в „Борисе Годунове“, у Островского, Гоголя и т. д.».4
Стасов понимал огромное значение сближения искусства с литературой, видел общность их задач и боролся за признание этой общности как признание общественных, идейных целей, демократической направленности самого искусства. «Русское искусство — родной брат русской литературы. У них обоих одна и та же душа, один дух, сердце и смысл, одни и те же стремления, одни и те же любви и ненависти, упования, надежды и
72
задачи, одна и та же натура созидателей и творцов».1 Эти слова были сказаны Стасовым незадолго до его смерти, в разгар революции 1905 года. Но в них выразилось одно из коренных убеждений В. В. Стасова, которое он страстно отстаивал на протяжении всей своей деятельности.
Воззрения Стасова складывались и углублялись в самой тесной связи с развитием русской классической материалистической и демократической эстетики, русской передовой революционно-демократической литературной критики. В материалах для автобиографии, оставленных Стасовым, он прямо называет своими руководителями Белинского, Чернышевского, Писарева (в ряде документов им вместе с тем подчеркнута огромная роль Герцена). В своем обращении к Чернышевскому, после возвращения последнего из ссылки, Стасов писал, что он выше всех русских книг об искусстве ставит «Эстетические отношения искусства к действительности».2 Оценивая развитие русского искусства за третью четверть XIX века, Стасов указывал: «... у нас, помимо всех Прудонов и Курбэ, был свой критик и философ искусства, могучий, смелый, самостоятельный и оригинальный не меньше их всех, и пошедший, не взирая на иные заблуждения свои, еще дальше и последовательнее их». Это, пояснял Стасов, автор «Эстетических отношений».3 В согласии с требованиями эстетики Чернышевского, новые художники, по словам Стасова, перешли к изображению действительности и притом стали «вносить какую-то „мысль“, какое-то „объяснение жизни“, какой-то „приговор“ над явлениями этой жизни».4 Стасов убежденно возражал всем тем, кто находил у Чернышевского «отрицание искусства». «Напротив, — писал он впоследствии, — тут мы встречаем высшую любовь и преданность искусству, ярко выраженную веру в высокое его значение и будущность, горячее ожидание от него великого и правдивого осуществления самых коренных потребностей человеческого духа».5
Как уже отмечено, не только Чернышевский, но и Писарев был одним из идейных учителей и наставников Стасова. В 90—900-х годах, защищая Писарева от позднейших хулителей эстетики и критики 60-х годов, Стасов говорил о нем: «Он старался всего более разрушить старинные указы и приказы по части истинной „красоты“, по части того, что можно и чего нельзя в искусстве, и развеять их, как негодную пыль, на все четыре стороны. Но было ли при этом затронуто и нарушено само искусство, настоящее, правдивое, вечное, навсегда человеку необходимое? Никогда. Оно стало только свободно, независимо и самостоятельно, как никогда прежде». И Чернышевский, и Писарев — «оба только добру учили», доказывал Стасов, «они только старались разбудить русских людей и отворотить их от бесцельного, безидейного, пустого, ничтожного, виртуозного искусства».6
Стасов, насколько можно судить, не видел различий, — по крайней мере, сколько-нибудь существенных, — между эстетической платформой Чернышевского и Писарева. Имеются основания считать, что иногда именно сквозь писаревскую призму он воспринимал эстетику Чернышевского. Влияние Писарева на Стасова, во многом благотворное, отразилось, с другой стороны, в некоторых ошибочных оценках Стасова, касавшихся художественного и литературного наследия, как и отдельных современных литературных
73
и художественных явлений (разумеется, ошибки Стасова зависели не только от влияния Писарева).1
Выдающийся критик, теснейшим образом связанный с художественной практикой, друг, помощник, вдохновитель русских художников передвижнической школы и композиторов «могучей кучки», Стасов своими достижениями, своими успехами в борьбе за реалистическое и демократическое искусство обязан был во многом великим революционным демократам, бывшим его главными учителями, «направителями и указателями в деле искусства» (по его собственному выражению).
Нельзя, при всем том, ставить полный знак равенства между критическими суждениями и эстетическими воззрениями Стасова и эстетикой русских революционных демократов. Тем более нельзя отождествлять политические позиции Стасова и революционных демократов. Патриот и передовой художественно-общественный деятель, враждебный самодержавию, проникнутый горячим сочувствием к угнетенному положению народа, Стасов не мог возвыситься до цельного и последовательно революционного мировоззрения. Он поддавался либеральным влияниям, например, в столь коренном вопросе общественной жизни, как оценка «крестьянской реформы». Противоречия и непоследовательность политических взглядов и высказываний Стасова отразили некоторые общие недостатки его мировоззрения, сказывавшиеся по временам в его деятельности критика, теоретика и историка искусства и литературы (компаративистские ошибки в исследованиях фольклора, отмеченные в свое время Салтыковым-Щедриным, и т. д.). Заслуги В. В. Стасова, несмотря на известную ограниченность некоторых его воззрений и оценок, исключительно велики. «Когда он умер — я подумал, — писал о нем Горький: — Вот человек, который делал всё, что мог, и всё, что мог — сделал...».2
Среди художников-реалистов, рожденных периодом 60-х годов, особенно яркие и характерные фигуры представляют Перов и Крамской. Еще выше их поднялся Репин, но он, хотя и формировался в 60-х годах, выступил самостоятельно только на перевале от 60-х к 70-м, даже, в сущности, в 70-х годах (Репин был значительно моложе не только Перова, но и Крамского). Правда, и творчество Крамского как художника развернулось вполне тоже лишь в 70-х годах, но его роль идеолога и вождя художественного движения началась гораздо раньше.
В. Г. Перов был первым, кто во второй половине 50-х годов смело развил художественные принципы, провозглашенные в живописи Федотовым. Его «Приезд станового на следствие», показанный публике в 1858 году, явился заметным и ярким вестником зачинающегося движения в искусстве, направленного к отображению в живописи действительной жизни, к обличению ее язв и пороков. Ряд картин, которые затем дал Перов, антикрепостнических и антиклерикальных, проникнутых глубоким и искренним сочувствием
74
к угнетенным, к народу («Сельский крестный ход на пасхе», «Проповедь в селе», «Чаепитие в Мытищах», «Проводы покойника» «Тройка», «Приезд гувернантки» и др.), принадлежит к самым типичным и блестящим образцам реалистической школы 60-х годов, представляющей собой начало, первый этап того могучего идейно-художественного движения, которое стяжало великую славу под названием передвижничества (как известная организационная форма, передвижники появляются несколько позднее, на рубеже 60-х и 70-х годов).
Перова нередко сравнивают, по сходству мотивов творчества, с Некрасовым. Стасов сопоставлял его с Гоголем. «... Он был полон негодования на то, что видел..., — писал критик, — его потрясали сцены и события, около которых слишком многие проходят не замечая. У него натура была одной породы с Гоголем, у него было тоже две главные ноты: юмор и трагедия».1
Значение Перова как пионера и одного из крупнейших представителей демократического, реалистического и обличительного жанра в русской живописи второй половины XIX века трудно переоценить.
Вслед за Перовым в конце 50-х и начале 60-х годов выступила целая плеяда художников, родственных ему по духу. Они обратились к изображению национальных типов, рисовали картины из жизни различных слоев народа, освещая ее с позиций критического реализма, смело обличая темные стороны современного быта, причем в лучших, наиболее сильных произведениях обличение было направлено на самые корни зла, на основы существующего строя. Перед глазами зрителей явились сцены из жизни крестьянства, ремесленников, духовенства, купечества, чиновничества. Преобладал именно жанр, хотя уделялось серьезное внимание пейзажу и портрету. Картины (тогда не особенно многочисленные) на исторические сюжеты сближались с жанром, как, например, в раннем произведении Мясоедова «Бегство Дмитрия Самозванца из корчмы на литовской границе» (1862). Тот же Мясоедов дал в 1861 году картину «Поздравление молодых»; одновременно Якоби представил свой «Привал арестантов», Журавлев — «Умирающего отца», Корзухин — «Пьяного отца семейства». В 1862 году появились на выставке «Первое число» Кошелева, «Сватовство чиновника к дочери портного» Петрова, «Кредиторы описывают имение вдовы» Журавлева и др. В 1863 году был выставлен знаменитый «Неравный брак» Пукирева, вместе с «Погребком» Волкова, «Сумасшедшим музыкантом» Косолапа, «Ссыльно-поселенцем в Сибири» Пескова; в 1864—1865 годах — «Переселенцы в Курской губернии» Трутовского, известные «Шутники» («Гостиный двор в Москве») Прянишникова («очень талантливый pendant ко многим пьесам Островского», как писал Стасов2), «Проводы начальника» Юшанова; в 1866 году — «Незабытое прошлое» Неврева и др. Назовем также нашумевшую в те годы «Тайную вечерю» Ге (1863), сочувственно встреченную Щедриным и Герценом, а также исторические полотна Шварца, пейзажи Шишкина и т. д. Налицо был выдающийся рост и подъем живописи, притом изменившей господствовавшее в недавнем прошлом направление.
Было бы, конечно, ошибочно утверждать, что всё, создаваемое в эти годы русскими художниками даже прогрессивного направления, сторонниками реалистического жанра, носило на себе обязательно и непременно печать глубокой мысли и большого чувства. Появлялись произведения второстепенного содержания, затрагивавшие мелкие, порой анекдотические
75
темы. Но лучшие картины схватывали и отражали существенные стороны действительности, ее типические явления. Именно последнее не могло не являться задачей больших художников — демократов и реалистов — и прежде всего (в 60-х годах) В. Г. Перова.
Среди перечисленных художников-шестидесятников фигурируют некоторые из тех питомцев петербургской Академии художеств, которые в 1863 году приняли участие в столь памятном в художественной летописи России протесте «четырнадцати».
Четырнадцать художников, оканчивавших Академию и имевших в виду писать работы на золотую медаль, предъявили требование о свободном выборе сюжетов. Академия, являвшаяся в лице своего руководства и подавляющего большинства профессуры оплотом старых, отживших традиций, отказала в удовлетворении требования и предложила один обязательный сюжет (из скандинавской мифологии). «Четырнадцать», руководимые Крамским, отказались принять программу, уклонились от конкурса на чуждую им, казенную тему и оставили Академию.
Следует отметить, что в то самое время, когда группа молодых художников готовилась к этому решительному шагу, чреватому огромными последствиями для будущего русской живописи, в сатирическом еженедельнике «Искра» Курочкина появилась боевая статья против Академии художеств — «Расшаркивающееся искусство». Вторая часть статьи, появившаяся за месяц до окончательного столкновения «четырнадцати» с Академией (оно состоялось 9 ноября 1863 года), содержала резкий протест именно против обязательных программ, задаваемых выпускникам Академии. Статья «Искры» заканчивалась требованием, чтобы «искусство перестало нас только услаждать одними вздорными сладостями, чтобы оно, сбросив подкуриванья и расшаркиванье, стало на прямую и честную дорогу и сделалось благом народа, потребностию народа».1
Художники, покинувшие Академию, оказались в затруднительном положении. Выход был подсказан им обстановкой, распространенными среди интеллигенции настроениями. Популярная идея «ассоциации», непосредственно перед тем нашедшая столь авторитетного пропагандиста в авторе «Что делать?», получила тут своеобразное приложение в художественной жизни. Родилась на свет «Художественная артель», плодотворно действовавшая, под главенством И. Н. Крамского, как производственно-творческое содружество и идейно-художественный центр. Репин, часто посещавший артель и хорошо знавший ее жизнь, воспитывавшийся под сильнейшим влиянием ее руководителей,2 справедливо связывает успехи артели с подъемом общественного духа в 60-е годы. Крамской, по свидетельству Репина, вполне согласному с другими источниками, был душой артели и
76
имел на нее громадное влияние как личным примером, так и своей художественной проповедью.
Борясь за высокоидейное искусство, отвечающее запросам общества и помогающее его продвижению вперед, Крамской настойчиво подчеркивал и защищал национальный характер искусства. Он писал Репину: искусство «только тогда сильно, когда национально. Вы скажете, а общечеловеческое? Да, но ведь оно, это общечеловеческое, пробивается в искусстве только сквозь национальную форму...».1 Когда Крамскому приходилось называть идейные источники, питавшие новых людей, и в том числе новых художников, он указывал на Белинского, Гоголя, Чернышевского, Добролюбова, из художников — на Федотова, Иванова, Перова.2
Художественная артель, основанная Крамским, просуществовала до начала 70-х годов. За нею пришло новое сообщество художников — «Товарищество передвижных художественных выставок», первая мысль о котором была предложена Г. Г. Мясоедовым зимой 1868—1869 года и которое в ближайшие затем годы было осуществлено совместными усилиями ряда московских (Перов, Прянишников, Мясоедов и др.) и петербургских (Крамской, Ге и др.) художников.
Деятельность «Товарищества передвижных выставок» выходит за хронологические рамки 60-х годов. Надо, однако, отметить, что она была вполне подготовлена художественным движением этого периода. Идейные и художественные начала, из которых исходили «передвижники», закладывались и оформлялись в 60-х годах.
Образование «Товарищества передвижных выставок» было дальнейшим шагом в деле сближения живописи с обществом, не одним столичным, но и провинциальным, — сближения, которое (в отношении столиц) уже сделало довольно крупные успехи начиная со второй половины 50-х годов. Интерес к живописи быстро возрастал, потребность знакомиться с появлявшимися творениями русских художников непрерывно ширилась, более и более захватывая демократические слои. Прогрессивная печать, оказавшая такое большое влияние на пробуждение художников и их искусство, поддерживала интерес к ним среди своих читателей. Не случайно появление в это время — немногих числом, но сыгравших важную роль — активных любителей-друзей (на первом месте здесь стоит имя П. М. Третьякова), поддержавших представителей новой художественной школы своими систематическими покупками картин. Появление их стало возможно лишь в атмосфере оживления художественной жизни и нарастания в обществе и печати внимания к ней. Живопись становилась всё более заметным фактором культурно-общественной жизни, и основание великой цитадели национально-демократического искусства — «Товарищества передвижных художественных выставок» — нельзя не рассматривать как выдающийся показатель этого процесса.
*
В развитии русской музыки 60-е годы (вместе с 70-ми) принято определять как период «бури и натиска», «музыкальной революции». Яркое выражение революционные (в идейно-художественном смысле) тенденции в музыке нашли во взглядах и деятельности «могучей кучки», которая в музыкальном движении 60-х годов заняла центральное место.
77
Название «могучей кучки», как известно, идет от Стасова и относится к кружку, сгруппировавшемуся вокруг композитора и музыкально-общественного деятеля М. А. Балакирева, а также вокруг самого Стасова, в то время ближайшего сподвижника Балакирева. Балакиревский кружок (его зовут также «новой русской музыкальной школой») стал складываться в конце 50-х годов, в пору сближения Балакирева, совсем молодым музыкантом прибывшего в Петербург в 1855 году, со Стасовым, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргским. Кружок сложился вполне в первой половине 60-х годов, со вступлением в его состав Н. А. Римского-Корсакова, затем А. П. Бородина. Не только замечательный композитор, но и блестящий пианист, дирижер, редкий знаток музыкальной литературы, человек с сильной и ярко выраженной индивидуальностью, Балакирев оказал в первый период жизни кружка огромное влияние на своих товарищей (только Кюи уже с самого начала держался более или менее на равной ноге с руководителем кружка и скоро стал литературным выразителем его идей). Совместная деятельность членов кружка продолжалась в течение всех 60-х годов при направляющей роли Балакирева, а затем в течение ряда лет без него.

М. А. Балакирев.
Фотография.
Идейный мир, в котором жил молодой Балакирев, нашел относительно полное выражение в его переписке со Стасовым. Из нее узнаем о большом интересе Балакирева-шестидесятника к Чернышевскому, «Современнику», к изданиям Герцена. Соловьеву, известному историку, в глазах Балакирева вредит «московская любовь к царям». Либретто первой оперы Глинки (старое либретто «Жизнь за царя» барона Розена) кажется ему с каждым годом «несовременнее и противнее». Его возмущает находимая им в обществе «неспособность к протесту»; в народе ему особенно дороги те стороны, которыми он не соприкасался с официальной, «государственной» жизнью. Появление романа Чернышевского «Что делать?» производит на Балакирева громадное впечатление. Из одного письма Стасова к Балакиреву узнаем, что замысел увертюры Балакирева «Тысяча лет» (1862) находился в связи с впечатлением, произведенным на обоих корреспондентов статьей Герцена в «Колоколе» «Исполин просыпается!».1
Живой интерес к передовой литературе, художественной, критической и научной, обнаруживают и другие члены балакиревского кружка, например, превосходно начитанный М. П. Мусоргский. В общественно-художественном развитии Мусоргского глубокий след оставили годы пребывания в демократической интеллигентской «коммуне» (1863—1866), когда, по
78
свидетельству Стасова, в нем «укрепился навсегда тот светлый взгляд на „справедливое“ и „несправедливое“, на „хорошее“ и „дурное“, которому он уже никогда впоследствии не изменял».1
Совсем юный Н. А. Римский-Корсаков, находясь в дальнем плавании (по своей службе в военном флоте), постоянно читает и учится. «Ужасно полюбился» ему Белинский, как он признается в письме к Балакиреву осенью 1863 года.2
Можно считать вполне установленным, что мировоззрение и творческие позиции «могучей кучки» и ее отдельных представителей складывались под сильнейшим воздействием демократической литературы, печати, науки, что воззрения и проповедь Белинского, Герцена, Чернышевского, статьи «Современника» и «Колокола» составили важнейшее звено в цепи тех общих идейных влияний, под которыми воспитывались и развивались так называемые «кучкисты».
Среди влияний музыкального порядка на первое место должен быть поставлен Глинка. «Кучка» всегда считала себя наследницей дела, начатого великим основоположником русской национальной классической музыки. Творчество Глинки, по справедливому замечанию одного из исследователей, составляло «главный устой» музыкальной веры Балакирева. «Кучкисты» Наиболее дорожили «Русланом» — отсюда и еще одно современное наименование членов кружка «русланистами».
Младший современник Глинки, А. С. Даргомыжский, оказывал серьезное влияние на композиторов балакиревского кружка. Творчество Даргомыжского в важной своей части падает на ту пору, когда происходило формирование этого кружка и начинался расцвет музыкальной деятельности его членов. В мае 1856 года на петербургской сцене впервые была представлена «Русалка» Даргомыжского; это музыкальное событие почти совпадает с первыми шагами Балакирева в Петербурге. Предсмертная опера Даргомыжского «Каменный гость» сочинялась во второй половине 60-х годов. С большинством музыкантов, составивших в дальнейшем «новую русскую школу», Даргомыжский был знаком уже во второй половине 50-х годов. Особо тесное сближение с кружком Балакирева относится к последним годам жизни Даргомыжского, ко времени создания «Каменного гостя». Члены «могучей кучки» пристально изучали творчество Даргомыжского, который был «великим учителем музыкальной правды» не для одного Мусоргского, написавшего эти слова, но и для его друзей.
Истинные новаторы, поборники народного, жизненного, действенного искусства, «кучкисты» объявили жестокую войну безидейности и космополитизму, консерватизму, рутине.
Независимость мысли, смелость «дерзания» были в их глазах непременными условиями искусства. В этом, как и во всем другом, они были верными сынами породившей их эпохи русской жизни. С этим-то было связано мало почтительное отношение к некоторым авторитетам и «преданиям», дававшее противникам предлог к обвинениям новой школы в «музыкальном нигилизме». Пусть даже в своей переоценке старых ценностей некоторые представители «кучки» проявляли иногда чрезмерную исключительность, полемические преувеличения. Но исходным моментом и решающим критерием оценок, по существу, всегда у них являлось требование народности и идейной содержательности, высокой художественности, правдивости, глубины и наибольшей выразительности. «Кучка» отстаивала право на свободу
79
форм, на независимость от «тесных рамок музыкальной схоластики», «музыкальной риторики и пиитики».1
Отсюда сильная доза скептицизма к сложившейся теории музыки, к ее слишком закоснелым специалистам, к консерваториям. Балакиревский кружок был в своем роде кружком самообразования, саморазвития, в котором его замечательно одаренные участники достигли величайших вершин искусства. Этот метод самоподготовки вначале возводился в принцип, как наиболее обеспечивающий самобытность художника. «Надо прямо сочинять, творить и учиться на собственном творчестве», — передает мысль Балакирева Римский-Корсаков.2
Идея создания консерватории в России гласно была впервые высказана А. Рубинштейном в 1861 году в известной статье «О музыке в России». Стасов тотчас отвечал резко полемической статьей «Консерватории в России». В письме к Балакиреву Стасов заявлял, что хочет помешать осуществлению планов Рубинштейна, которые должны отозваться «страшным предом». Балакирев соглашался со Стасовым; в 1862 году, вскоре после открытия консерватории, он писал Римскому-Корсакову, что Русское музыкальное общество (основано в 1859 году при ближайшем участии Рубинштейна) стремится «устроить в России музыкальный департамент, для коего в консерватории воспитываются музыкальные чиновники...».3
В недоверии к консерватории была, однако, другая, важнейшая сторона, тесно связанная с самыми кровными убеждениями «могучей кучки». Пламенно отстаивая национальную самостоятельность русской музыки, она сначала консерваторию оценивала как силу, грозившую (так казалось Стасову, Балакиреву, Мусоргскому) затормозить развитие самостоятельной музыкальной культуры.4
Для Стасова и его единомышленников стремление к национальности было особенно характеристической, коренной чертой.
Национальность музыки «новой школы» сказалась и в преобладающем русском характере избиравшихся ею сюжетов и программ, и во всем решительно складе, в музыкальной фактуре ее произведений, и в самом широком обращении к материалу русской народной песни, и в тесной духовной связи идейного и психологического содержания новых музыкальных произведений с общим кругом политических и социальных, художественных, моральных интересов, волновавших русское общество, — вообще в органическом претворении в самой высокой художественной форме сущности народного музыкального духа и в стремлении отразить народные чаяния.
Музыкальными «зипунистами» озлобленно звали композиторов новой русской школы идейно враждебные к ним критики. Но школа именно и задавалась целью подойти возможно ближе к народу в самом содержании творчества, в средствах и приемах музыкального выражения, раскрыть богатства и возможности, заложенные в национальном народном мелосе. Школа, в связи с этим, чрезвычайно много сама сделала для собирания,
80
изучения и популяризации народной песни. Большую роль в развитии русской музыки сыграл, в частности, изданный Балакиревым в 1866 году сборник народных песен, заключавший десятки песен Нижегородской, Тамбовской, Самарской, Симбирской и других губерний. За ним потом последовал ряд аналогичных сборников, в том числе (в 70-х и начале 80-х годов) сборники Римского-Корсакова.
Естественны и неизбежны были, при указанных свойствах школы, стремления ее не только стать органом народа, но и сделать массу, народ героем своих произведений. В начале 70-х годов Мусоргский писал Репину: «... народ хочется сделать: сплю и вижу его, ем и помышляю о нем, пью — мерещится мне он, он один цельный, большой, неподкрашенный и без сусального».1 Это было тогда связано с замыслом «народной музыкальной драмы» — «Хованщины». Почти в то же время Мусоргский написал в своем посвящении для издания фортепианного переложения «Бориса Годунова» известные слова: «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единою идеею. Это моя задача. Я попытался разрешить ее в опере».2 В народных музыкальных драмах Мусоргского народ выступал, и это особенно знаменательно и важно, не только как угнетенная и страждущая масса, но и сила возмущенная и протестующая, восстающая, как в знаменитой сцене под Кромами из «Бориса Годунова», против царя и боярства.
Стремление к народности шло об руку с борьбой за живую правду искусства, об руку с реализмом. Общее реалистическое движение искусства и литературы вполне захватило и музыку. Реалистическая линия, заложенная в глинкинских партитурах, получившая дальнейшее широкое развитие у Даргомыжского, была подхвачена «кучкистами», среди которых особо настойчивым и непримиримым поборником реализма всегда был Мусоргский.
Заметное у «кучкистов» сочувствие к некоторым формам и проявлениям прогрессивного романтизма в музыке не противоречит реалистическим основам их взглядов и творчества. Характеризуя музыкальный романтизм, представитель «кучки» в критике 60-х годов выдвигал на первый план элементы «мысли, страсти, человечности». Эти элементы, а также общий бунтарский дух прогрессивного романтизма, борьба за творческую свободу художника, стремление к сближению искусств и, в первую очередь, музыки и поэзии — всё это всегда близко было самим «кучкистам». Влечение к родному прошлому, выразившееся таким богатством исторических сюжетов в оперном творчестве «кучкистов», тоже знакомо было прогрессивному романтизму, но у деятелей «могучей кучки» трактовка исторических тем носила углубленно реалистический характер. Обращение к истории подсказывалось им в первую очередь переживаниями современности, желанием найти через историю ответы и на запросы текущей жизни; яркий пример в последнем смысле — замысел «Хованщины», по поводу которой, при самом начале работы, Мусоргский писал: «Прошедшее в настоящем — вот моя задача».3
Мы упомянули о связанной с композиторами «новой русской школы» линии развития искусства, которая ведет к сближению музыки и поэзии. Это было естественным результатом всё более глубокого насыщения музыкального искусства передовыми идеями современности. Характерным и
81
знаменательным выражением этого процесса явилось усиленное тяготение к программной музыке. Воззрения «могучей кучки» на соотношение музыки с литературой, поэзией, со словом выразились в подходе к опере. Область оперы, искусства особенно широкого социального охвата и значения,1 приковала преимущественное внимание и творческий интерес школы примерно с середины 60-х годов. В 1868—1869 годах Мусоргский, после ряда других опытов, создал первую редакцию «Бориса Годунова», Римский-Корсаков с конца 60-х годов работал над первой из своих опер — «Псковитянкой» (по исторической драме Мея). К 1869 году относится начало работы Бородина над «Князем Игорем». В том же году была закончена и поставлена долго сочинявшаяся опера Кюи (на текст Гейне в переводе Плещеева) «Вильям Ратклиф».
«Могучая кучка» вырабатывала свой идеал оперы — народно-реалистической «оперы-драмы». Опера «не есть концерт в костюмах, а музыкальная драма», признавал Балакирев. Опера, проповедовал от имени кружка Кюи, должна стремиться к созданию настоящих музыкальных характеров действующих лиц; музыка оперы всегда должна передавать внутреннее состояние действующих лиц, порожденное драматическим ходом пьесы; слово не должно приноситься в жертву музыке, которая должна сливаться с текстом. «Равноправие текста и музыки, ...полное слияние текста с музыкой», — неоднократно определял Кюи (уже впоследствии, ретроспективно) творческий принцип балакиревского кружка.2
Сторонники национальности, народности и реализма, «кучкисты» держались очень высоких и серьезных взглядов на смысл и назначение музыкального искусства. Они с презрением отзывались об отношении к музыке, как «приятному щекотанию уха», требуя от нее «выражения чувств», «впечатлений глубоких и сильных».3 Недаром Стасов восхищался Бетховеном за то, что он способен был думать и чувствовать за массы «рода человеческого», — это замечание дает представление о той миссии, которую в кругу «кучки» возлагали на музыку.4 В искусстве, в музыке «кучкисты» видели явление, важное для общества, для массы.
С большой твердостью и категоричностью ставил вопрос об общественной, моральной и проповеднической роли музыки Мусоргский. В автобиографической записке он писал о себе (в третьем лице): «Формула его художественного profession de foi может быть выяснена из взгляда его, как композитора, на задачу искусства: искусство есть средство для беседы с людьми, а не цель. Этим руководящим принципом определяется вся его творческая деятельность».5
Забота о том, чтобы творчество их не было оторвано от интересов окружающих их живых людей, несомненно, была очень сильна у балакиревцев.
Любопытно предостережение, обращенное Балакиревым в 1861 году к Стасову, в связи с его археологическими работами. Он звал Стасова
82
посвятить себя музыкальной критике: «В этой области Вы были бы Белинским, — и занятие не сухое, а напротив — живое, современное...».1
При взгляде на музыку, как на очень серьезное общественно значимое явление, как на искусство, выражающее чувства людей и взывающее к людям, при живом ощущении современных интересов и настроений, представители «новой школы» тем не менее редко (и только в произведениях малой формы, в песнях и романсах) непосредственно обращались к современным темам. В опере, поглощавшей у них с середины 60-х годов больше всего сил и внимания, они сосредоточились преимущественно на исторических сюжетах.
Однако обращением к истории «кучкисты», как уже упомянуто, не отрешались от современности. Актуальная тема народа искала своего разрешения у Мусоргского через историю и с помощью истории: в «Борисе Годунове» в конце 60-х и начале 70-х годов, в «Хованщине» в 70-х годах. В той или иной мере это же надо сказать о бессмертных операх Римского-Корсакова «Псковитянка» и Бородина «Князь Игорь».
В связи с характеристикой общественных и творческих позиций «могучей кучки» нельзя не упомянуть о Бесплатной музыкальной школе, основанной в Петербурге в марте 1862 года. Ее руководителями были Балакирев и видный вокальный педагог и хормейстер Г. Я. Ломакин. Организация Бесплатной школы была отчасти ответом музыкантов на общее движение бесплатных воскресных школ, столь популярных в конце 50-х и начале 60-х годов. Школа была не только учебным, но и концертным учреждением. Она была органом композиторов балакиревского кружка и деятельно вела пропаганду сочинений как самих этих композиторов, так и Глинки, Даргомыжского, наиболее близких «кучкистам» западноевропейских композиторов (Бетховена, Шумана, Листа, Берлиоза и др.).
Основание Бесплатной музыкальной школы было косвенно связано и с организацией в 1862 году первой в России Петербургской консерватории, за которой последовало открытие консерватории в Москве (в 1866 году). Консерватория и консерваторская «партия» рассматривались балакиревским кружком как идейные противники. Вождем консерваторской «партии» считался гениальный русский пианист и крупный композитор Антон Рубинштейн.
Музыкально-эстетические позиции творца «Демона» и «Маккавеев», действительно, отличаются в значительной мере от воззрений «могучей кучки». Он заметно расходился с нею во взглядах на некоторые вопросы наследия и в оценке ряда современных музыкальных явлений (разногласия касались далеко не одних «крайностей» тех или иных тогдашних суждений «кучкистов»). Рубинштейн не сознавал в должной мере закономерности и плодотворности того направления, какое приняло творчество «кучки», в частности — всего значения глубокого национального своеобразия этого творчества. Он сдержанно, в принципе, относился к широко культивируемой ею программной музыке, хотя и сам писал программные произведения.
Рубинштейн охотно признавал, что музыка способна быть «отголоском времени, событий и культурного состояния общества»,2 но он менее, чем «кучка», был связан в своей деятельности композитора с идейно-общественным движением эпохи. Вместе с тем как исполнитель титанической силы, отец русской пианистической школы, Рубинштейн был ярким выразителем духа времени. Выдающуюся роль сыграла его организаторско-просветительская деятельность.
83
Б. В. Асафьев с достаточным правом указывал, что борьба Антона Рубинштейна за создание и упрочение новых форм музыкального образования и просвещения по-своему была порождением общественной волны 60-х годов и одним из культурных проявлений «натиска „разночинства“».1

М. П. Мусоргский.
Фотография. 1865.
Учеником А. Рубинштейна по Петербургской консерватории, одним из первых ее выпускников (1865) был великий гений русской музыки П. И. Чайковский. Его творчество в подавляющей части выходит за рамки рассматриваемого периода. Но его музыкальное ученичество приходится на первую половину 60-х годов. В 1866 году им сочинена (исполнена в 1868 году) первая симфония «Зимние грезы», а в 1867—1868 годах — опера (на сюжет А. Н. Островского) «Воевода»; в конце 60-х годов он вступил в личные отношения с Балакиревым, в 1869 году он дал первую редакцию столь значительного из своих произведений, как увертюра «Ромео и Джульетта», идея которой была ему подсказана Балакиревым. Таким образом, в обстановке 60-х годов не только выросла идеология и практика «могучей кучки», но зародилась и та линия музыкально-художественного развития, которую представляет Чайковский. При всех отдельных расхождениях между Чайковским и «кучкой» корни его творчества уходят в ту именно эпоху, которая породила и «кучку». Из этой эпохи он вынес всю свою громадную привязанность к родине и народу, к народной песне, этой, по его словам, «художественной святыне»,2 свою глубочайшую искренность и жажду правды, чуткое внимание к движениям человеческой души, свойства своего музыкального языка, яркого, простого и правдивого, находящего прямой путь к сознанию и сердцу слушателя, свой взгляд на музыку, прежде всего на оперу, как «средство сообщаться с массами публики».3 Чайковский был сыном родившей его эпохи в своем тяготении к большим проблемам философско-этического характера, побуждавшем его, между прочим, обращаться к темам, поставленным Пушкиным, Шекспиром, Байроном.
Вне «могучей кучки» и консерватории стоял А. Н. Серов. Как композитор, Серов целиком относится к 60-м годам: его три оперы («Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила») созданы в период с 1860 по 1870 год. Как критик, Серов начал десятилетием раньше. Серов — один из главных основоположников музыкальной критики и науки в России. Он гордился «блистательным состоянием» русской литературной критики, которая, как он заявлял в 1856 году, «во многих отношениях опередила все иностранные».
84
Он мечтал о том, чтобы «поставить и музыкальную критику в России на такое же видное и почетное место».1
Глубокое выражение душевного мира человека, высокая идея, мысль свободная и сильная, союз с поэзией и философией — вот те требования, какие предъявлял Серов к музыкальному искусству. Он убежденно отстаивал национальность, народность искусства. «Повторяя на себе древнеэллинский миф Антея, который оставался непобедимым, пока твердо стоял на своей земле, — русское искусство будет почерпать неистощимые силы из народного элемента», — писал Серов. Идеал русской музыки после Глинки и Даргомыжского, указывал Серов, всенепременно требует, чтобы каждая фраза русской оперы на русский сюжет выливалась в формы, родственные по звуковым приемам русской народной песне.2 Видя в народных песнях «произведения целого народа», в которых ярко выступает «высокая мудрость простоты, главная прелесть и главная тайна всякого художественного создания», Серов писал: «Как лилия, в своем пышном целомудренном убранстве, затмевает блеск парчей и драгоценных каменьев, так народная музыка, именно своим детским простодушием, в тысячу раз богаче и сильнее, нежели все ухищрения школьной премудрости, проповедываемые педантами в консерваториях и музыкальных академиях». Цитируя эти мысли Серова, А. А. Жданов говорил, что Серовым «правильно схвачено основное: что развитие музыки должно идти на основе взаимодействия, на почве обогащения музыки „ученой“ музыкой народной».3
Большая часть критического наследия Серова посвящена проблемам оперы. Музыкальная драма в его глазах прежде всего драма; в ней требуется равновесие между поэтическим смыслом и красотой музыкальной формы. Преобладающий тип помпезных опер он осуждал за то, что они лишены «собственно-музыкальной поэзии», что в них психологической стороне музыки, в которой «главная прелесть оперы», выпадает слишком ничтожная доля.
Как «кучка» и как Чайковский, Серов глубочайшим образом почитал Глинку и смотрел на его творчество, как на краеугольный камень величественного здания русской национальной музыки.
Однако Серов разошелся с «кучкистами» в сравнительной оценке двух глинкинских опер. «Кучкисты» были ярко выраженными «русланистами». Серов выдвигал вперед как оперу, как цельное музыкально-драматическое произведение «Ивана Сусанина», в «Руслане» же признавал только «агрегат отдельных блистательных и гениально-глубоких красот музыкальных».4 Серов видел в «Иване Сусанине» произведение, особенно близкое к его взглядам на музыкальную драму.
Обе стороны объективно оказались правыми в позитивных элементах твоего анализа, своих утверждений, поправив и дополнив (по правильному замечанию новейшего биографа Серова, Г. Хубова) друг друга «положительной оценкой двух опер Глинки, определением их исторической роли в русской музыке».5
Нужно отметить известный разрыв между Серовым-критиком и Серовым-композитором. Выступив сравнительно поздно на поприще композитора, Серов фактически оказался далеко не последовательным в осуществлении тех принципов новой музыкальной драмы, за которые
85
он боролся в своих критических произведениях.

А. Н. Серов.
Фотография. 1866.
В операх Серова заметна забота о внешнем эффекте, не всегда должное внимание уделено психологической характеристике действующих лиц, встречаются не очень содержательные в музыкальном смысле места. При всем том они сыграли серьезную роль в развитии русского оперного искусства; в частности, это относится к написанной в монументально-героическом стиле эмоциональной и красочной опере «Юдифь» и еще, пожалуй, в большей мере к опере «Вражья сила» (на основе драмы Островского «Не так живи, как хочется»), являющейся интересным образцом русской бытовой оперы напряженно драматического характера, широко и творчески использующей материал музыкального фольклора (притом городского).
Оценивая в целом музыкальное движение 60-х годов, нельзя не подчеркнуть его огромной содержательности, его необычайного богатства и разнообразия. Дело, начатое Глинкой, получило достойное продолжение и развитие. Вслед за двумя операми Глинки появляются оперы Даргомыжского, Серова, Кюи, а на рубеже и в начале 70-х годов — первые оперы Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. Расцветает русский романс (Даргомыжский, Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский, Кюи, Рубинштейн, затем и Чайковский). Происходит неуклонный рост и развитие русской симфонической и вообще инструментальной музыки.1 Опираясь на наследие Глинки, глубоко вникая в дух народной песни и оплодотворяя ею свои художественные создания, учитывая достижения передовой музыкальной культуры других народов, русские композиторы ищут новых путей, стремятся, по слову Мусоргского, к «новым берегам». Идейное движение в философии и литературе, движение освободительной общественной мысли оказывает исключительно важное и плодотворное влияние на музыкальные круги, питает и вдохновляет их, дает импульсы музыкальному творчеству. Дух реализма, народности, сознание высоких задач искусства, требование от него глубокого содержания, идейной и эмоциональной насыщенности, стремление к творчеству, не стесненному рутиной и преклонением перед утвержденным, общепринятым, — это в большей либо меньшей степени окрашивает почти всю музыкальную жизнь. Наряду с мощным развитием русского музыкально-художественного творчества, подарившего миру произведения непреходящего значения, великие и гениальные, закладываются прочные основы серьезного музыкального просвещения, происходит быстрый рост собственных исполнительских кадров, ширится круг интересующейся музыкой публики, весьма заметно растут ее художественные запросы. Расширяется
86
большая литература о музыке, становится крупным фактором культурной жизни музыкальная печать и критика. Русская музыка, как русская литература и всё русское искусство, указывает во многом путь передовой музыкальной культуре всех народов, всех стран.
*
Шестидесятые годы знаменательны в истории русского театра. Искусство театра неразрывно связано с литературой. Драматическая литература, драматургия — основа деятельности и развития театра (речь идет о драматическом театре).
Руководители демократического общественного мнения придавали развитию драматургии первостепенное значение. Добролюбов в статье, опубликованной в «Современнике» в начале 1859 года, писал: «... мы очень уважаем драматический род, и хорошей комедии обрадовались бы гораздо больше, нежели столь же хорошей повести» (II, 426).
Новые явления театральной культуры, связанные с 60-ми годами, в значительной мере были подготовлены в предшествующий период — 30-х и 40-х годов.
А. Н. Островский, являющийся центральной фигурой театрального движения 60-х годов, в одном из своих публичных выступлений (в 1859 году) заявил с полным основанием, что русская сценическая литература «с Гоголя... стала на твердой почве действительности и идет по прямой дороге».1 Исключительно важна роль Гоголя не только как автора бессмертных драматических произведений, но и как теоретика, внесшего неоценимый вклад в разработку народно-реалистической эстетики театра. Теория сценического реализма обязана еще в большей мере Белинскому, внимательно и любовно следившему за жизнью русского театра, обобщавшему его опыт и указывавшему путь его дальнейшего развития — путь критического реализма, народности, демократической гражданственности. Принципы эстетики Белинского, идеи и образы драматургии Гоголя (а также Грибоедова) были воплощены с гениальной силой в сценическом творчестве Щепкина, великого реформатора русского драматического искусства.
Нельзя, однако, забывать о том, что характер репертуара в 30-х и 40-х годах препятствовал полному раскрытию богатейших возможностей русского актерства. «... Оригинальные драмы, писанные напыщенным языком, были далеки не только от исторической, но и вообще от человеческой правды; комедии с шаблонными любовниками и резонерами жизненных типов почти не давали; кроме того, была масса переводных пьес сомнительного достоинства...», — писал впоследствии об этом времени Островский.2 Понятны жалобы Щепкина на «преотвратительный» репертуар, из-за которого «память тупеет, воображение стынет, звуков недостает, язык не ворочается».3
Передовые деятели литературы и театра требовали коренного изменения репертуара, принципиально иной постановки всей деятельности и задач театра. Белинский еще в «Литературных мечтаниях» писал: «О, как было бы хорошо, если бы у нас был свой, народный, Русский театр! .. В самом деле — видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным,
87
слышать говорящими ее доблестных героев, вызванных из гроба могуществом фантазии, видеть биение пульса ее могучей жизни...».1 Гоголь, доказывая, что театр является кафедрой, «с которой можно много сказать миру добра», горячо протестовал против засилия в театре заимствованной мелодрамы, водевиля и требовал: «Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам...».2
Подъем общественного самосознания в дальнейшем влечет за собой приближение к решению этих задач, всё более разностороннее и глубокое стремление к отражению подлинной русской действительности, — в ее существенных, типических чертах, — в драматургии и театре.
Признаки подъема театра заметны были даже еще до того, как определился общий перелом в политической жизни, т. е. еще до середины 50-х годов. Они были связаны с успехами «натуральной школы» в литературе, с расширением антикрепостнической борьбы. Последующие события усилили эти признаки, дали развитию положительных, прогрессивных явлений в театре мощный толчок. Началась новая эра в жизни русского театра, связанная в первую очередь с именем Островского. Театр хотел быть общественной трибуной, театр шел на сближение с жизнью, искал возможностей наилучше, полнее откликаться на ее запросы.
Конечно, он встречал на этом пути огромные препятствия. Прогрессивные и патриотические стремления передовых деятелей театра вызывали упорное сопротивление со стороны самодержавной власти и ее органов, со стороны всех реакционных кругов. Правительство всегда боялось общественной роли передового театра больше даже, чем литературы. «Вопросы и течения, волнующие современность, воплощаясь в сценических представлениях, могут вызывать необыкновенный общественный подъем и иметь неисчислимые последствия», — это проникнутое страхом убеждение, формулировку которого мы берем из более поздних правительственных документов,3 всегда заставляло власть опутывать «сценические представления» густой сетью различных ограничений, создавать цензурные барьеры, еще более непроходимые, чем существовавшие для литературы.
Монополия «императорских» театров в столицах, цензура пьес при III Отделении, бдительный надзор двора и политической полиции, специальный контроль так называемого театрально-литературного комитета — всё это должно было служить преградой для проникновения на сцену произведений, в какой бы то ни было степени угрожающих существующим порядкам. В частности, относительно пожеланий об уничтожении монополии императорских театров министр двора Адлерберг писал в конце 50-х годов, что дозволение частных театров привело бы к учреждению их «во множестве, ибо в них желающие переворота найдут верное средство действовать на все сословия сильно и скоро, а паче на простой народ...».4
Особенно губительной была роль театральной цензуры. По вине цензуры первая крупная пьеса Островского «Банкрот» («Свои люди — сочтемся»), написанная во второй половине 40-х годов и опубликованная в 1850 году, могла быть поставлена на сцене лишь в 1861 году. «Доходное место», напечатанное в 1857 году, могло попасть на сцену только в конце 1863 года. «Воспитанница» Островского, известная читателям с 1859 года,
88
впервые была поставлена тоже лишь в 1863 году. Четыре года дожидалась разрешения на постановку «Горькая судьбина» Писемского, столько же лет — «Мишура» Потехина. Из трилогии Сухово-Кобылина разрешена была к постановке лишь первая часть — «Свадьба Кречинского». Алексею Толстому удалось поставить в театре «Смерть Иоанна Грозного», но трагедию «Царь Федор Иоаннович» правительство признало для сцены «совершенно невозможною». «Смерть Пазухина» Щедрина, напечатанная в 1857 году, ожидала возможности первой постановки более тридцати лет. Этот перечень можно было бы весьма значительно увеличить. Далекий от оппозиционности журнал «Заря» писал в 1871 году:
«Сцена есть зеркало жизни — только не наша сцена. Что на ней отразилось из богатой содержанием общественной жизни последнего десятилетия? Ничего или почти ничего. Да и то, что отразилось, — передалось в каком-то условно-исковерканном виде. Виноваты в этом не зеркало и не действительность. Между тем и другою поместилась чья-то толстая рука и застилает обществу видеть себя в зеркале».1
Правительство не ограничивалось тем, что воспрещало вовсе или максимально задерживало появление на сцене казавшихся опасными пьес либо обесцвечивало их цензурными переделками, урезками. Оно заботилось о том, чтобы заполнить репертуар пьесами безидейными, пустыми, отвлекающими от острых общественно-политических проблем (отсюда поддержка пьес «дьяченковского» типа или поощрение оперетки на драматической сцене), и даже больше того — неоднократно пробовало использовать театр для прямой и открытой борьбы против освободительного движения, вызывая к жизни и поддерживая такие пьесы, как «Гражданский брак» Чернявского, «Говоруны» Манна и т. д.
Несмотря на всё влияние, все старания реакционных элементов, передовые силы русской драматургии и театра, опираясь на демократическую общественность, на общий подъем освободительной борьбы, поддерживаемые и вдохновляемые вождями демократии (вспомним гениальные статьи Добролюбова и Чернышевского о драматургии Островского, статьи Добролюбова о других драматургах, например о Потехине, выступления Щедрина по вопросам театра и т. д.2), росли и развивались, поднимали идейный и художественный уровень русской сцены и достигли того, что обеспечили за этой сценой уже в середине XIX века авангардное место в мировом театральном искусстве.
Достижения русской сцены сильнее и ярче всего выразились в деятельности Московского Малого театра. Основанный в 1824 году,3 Малый театр с самого начала своего существования «стал на позиции реалистического творчества и тем самым — на позиции борьбы с крепостничеством», он стал «рупором передовой русской интеллигенции, не мирившейся с самодержавием, в разнообразнейших формах подымавшей голос протеста против официальной самодержавно-бюрократической России».4
Труппу Малого театра возглавляли, на первом этапе его существования, Щепкин и Мочалов, о которых Герцен писал, что это — «без сомнения, два лучших артиста» из всех виденных им «на протяжении всей Европы». Щепкин, который, по известной герценовской оценке, «создал правду на
89
русской сцене,... первый стал не театрален на театре» (XVI, 504), продолжал свою деятельность на сцене Малого театра в течение большей части обозреваемого нами периода (он умер в 1863 году). Но рядом со Щепкиным к этому времени вырос другой могучий гений — Пров Садовский, который больше, чем кто-либо другой, наложил свою печать на физиономию театра именно 50—60-х годов. Творчество Садовского знаменовало собой новый, послещепкинский этап в развитии русского сценического реализма, этап, неразрывно связанный с театром Островского.
С 1853 года, когда на сцене Малого театра была поставлена пьеса Островского «Не в свои сани не садись» (это было началом театрального бытия Островского), и до самой своей смерти в 1886 году великий драматург был тесно связан с труппой Малого театра, был не только автором произведений, наилучше воплощаемых этой труппой, но и непосредственным ее учителем и воспитателем. Это относится к Малому театру в целом, по крайней мере к большинству его деятелей; но с П. М. Садовским Островского связывали особенно близкие духовное родство и сотрудничество, начавшиеся притом еще задолго до осуществления первых постановок пьес Островского.
Актер предельной правды, простоты и естественности, актер, в котором была, по типичному отзыву современника (композитора Серова), «везде натура», не было ни малейших, идущих от школы или рутины, «наростов», актер глубочайшей народности, как бы рожденный для совершенного, безмерно жизненного воплощения разнообразных социальных типов русской действительности, — Садовский словно ждал появления драматурга, который даст ему возможность проявить себя в полную меру своего дарования. Он с энтузиазмом принял творения Островского и оставался его верным спутником до конца своих дней. Садовский (1818—1872) исполнил 30 ролей в 28 пьесах Островского из 32, написанных драматургом при жизни Садовского, в том числе роли Любима Торцова, Русакова, Тита Титыча, Дикого, Юсова, Ахова и др. Об руку с Островским Пров Садовский выступил как беспощадный разоблачитель темного царства, как актер-гражданин, чьи образы вызывали ненависть к насильничающему самодурству и стремление к освобождению человека от порабощения и угнетения.
В 1857 году «Современник» (в статье Панаева) писал о Садовском: «В Садовском актер совершенно исчезает..., вы забываете актера, потому что действительно перед вами не актер, а живое типическое лицо..., ни один актер до сей минуты... не представлял нам русского человека, под разными формами, с такою поразительною правдою, как Садовский..., счастлив писатель <Островский>, нашедший такого истолкователя и исполнителя своих произведений...; счастлив, в свою очередь, и актер, нашедший писателя, доставившего ему возможность обнаружить перед публикою всю силу, великость и разнообразие своего таланта...».1
Труппу Малого театра 40-х, 50-х и 60-х годов А. Н. Островский признавал близкой к тому идеалу совершенства, о каком могут мечтать драматические писатели. Она, кроме Щепкина и Садовского, насчитывала в своих рядах многих других выдающихся сценических деятелей, поборников реалистического, демократического искусства, как Сергей и Екатерина Васильевы, Никулина-Косицкая, Шумский, Самарин и т. д. В начале 60-х годов и труппе появились Федотова, Никулина, тотчас отмеченные критикой как представители «молодой, реальной школы», представители театральной
90
«партии реформы», «радикалы».1 Близко уже было также появление на сцене (в 1870 году) великой трагедийной актрисы, «героической симфонии русского театра» (по слову Станиславского) — М. Н. Ермоловой.
Это был не просто ряд отдельных ярких индивидуальностей; это был, несмотря на отсутствие в те времена подлинной режиссуры, цельный творческий организм, спаявшийся в значительной мере на совместном решении идейно-художественных задач, поставленных драматургией Островского. Недаром Лев Толстой в 1863 году записал в «Дневнике», после одного из спектаклей Островского в Малом театре: «никогда не испытывал более сильного и ни одной фальшивой нотой не нарушенного впечатления».2
Петербургский Александринский театр, являвшийся также одним из основных очагов национальной театральной культуры, значительно уступал, однако, по своему общественно-художественному значению Московскому Малому театру. Он находился под более настойчивым, непосредственным, повседневным давлением правящих (и прежде всего придворных) сфер и не находился в такой тесной связи с общественностью, как театр московский, был менее близок широкому демократическому зрителю из интеллигенции. В самой труппе было меньше внутреннего единства, меньше охоты и способности бороться за повышение уровня репертуара и больше готовности, конечно по существу вынужденной, к подчинению велениям начальства. При всем том и Александринский театр играл очень крупную культурную роль как единственный для населения северной столицы центр русского драматического искусства, как средоточие многих замечательных артистических сил. Великий Островский мог беседовать с петербургским зрителем только с подмостков Александринского театра. Классическое наследие предшествующих эпох, пьесы лучших современников Островского также воспринимались петербургской публикой в исполнении «александринцев», и только их (не считая отдельных гастролей представителей московской труппы). Островский не раз жаловался на недостаточно полное и глубокое воплощение его замыслов петербургской сценой. Но он отмечал и ее бесспорные достижения. Он писал, например, о своей драме «Грех да беда на кого не живет», что она «везде имела огромный успех, а в Петербурге, при игре Снетковой, Линской, Васильева, Самойлова и Зуброва, — едва ли не больший, чем где-нибудь...»3. В утверждении и развитии народного, реалистического стиля русского актерского искусства ряду артистов петербургской сцены принадлежало выдающееся место.
Гордость и славу Александринской сцены составлял А. Е. Мартынов (рано умерший, в 1860 году). Островский называет Мартынова «представителем в Петербурге» той школы «естественной и выразительной игры», которой прославилась московская труппа и которая тесно связана с появлением его, Островского, произведений.4 Высший расцвет творчества Мартынова падает на вторую половину 50-х годов, когда он, прежде блиставший в комических ролях, проявил себя и гениальным исполнителем ролей драматических (в репертуаре Островского, Потехина, Чернышева). Однако уже до этого поворота в его деятельности Мартынов занял одно из ведущих мест в русском театре благодаря не только несравненному мастерству, но идейной насыщенности своих сценических созданий, своему демократическому гуманизму, благодаря тому, что своим творчеством, своей борьбой за права и
91
достоинство «маленького» человека он закреплял связь между театром и передовой реалистической литературой (принято, и справедливо, рассматривать Мартынова как выразителя в сфере театра принципов «натуральной школы» в русской литературе). Надо особо отметить заслугу Мартынова перед театром Тургенева. В 1849—1852 годах он сыграл четыре роли в пьесах Тургенева, доказав на деле замечательные достоинства Тургенева-драматурга; шедевром искусства явилось впоследствии (в 1859 году) исполнение Мартыновым роли Мошкина в «Холостяке» Тургенева. Тургенев писал о Мартынове как «гениальнейшем из всех актеров», каких он когда-либо видал.1 Сохранился аналогичный отзыв Льва Толстого о Мартынове («За всю свою жизнь я не видел актера выше Мартынова»).2
К последним годам жизни Мартынова относится его наиболее тесное сближение с кругом передовых русских литераторов. Демонстрацией единства и общности задач передовой литературы и театра явилось торжественное чествование Мартынова писателями в 1859 году при участии Л. Толстого, Некрасова, Островского, Чернышевского, Добролюбова, Тургенева, Щедрина и др. Островский тогда благодарил Мартынова от имени «авторов нового направления» в русской литературе, вместе с которыми Мартынов отстаивал «самостоятельность русской сцены».3
После смерти Мартынова в известной мере его наследником на Александринской сцене являлся крупный актер-реалист Павел Васильев, захватывавший зрителей теплотой и задушевностью, страстностью своего исполнения, глубоким знанием русского быта и русских характеров, особенно «простонародных». Васильев, подобно своему брату, московскому артисту Сергею Васильеву, был одним из самых законченных актеров театра Островского (он выступал в двадцати пьесах последнего), наряду с этим создавая яркие и глубокие образы в драматургии Сухово-Кобылина, Писемского, Потехина. Одновременно с П. В. Васильевым александринскую труппу возглавлял Василий Самойлов, блестящий талант, несомненно реалистического склада, хотя подчас менее последовательный с точки зрения высших требований реализма, так как он не до самого конца освободился от тех традиций старой классической школы, в которой получил свое первое воспитание.
На жизни провинциальной сцены также сказались сдвиги, переживавшиеся русским театром. Новая правда театра Островского властно вторглась и в театральную провинцию. Ярким носителем ее стал, в частности, знаменитый трагик Н. Х. Рыбаков, актер-демократ, искренний, человечный и простой в своем творчестве, замечательный Несчастливцев, Любим Торцов.
Не останавливаясь подробно на музыкальном театре, на исполнительском искусстве в сфере оперы, отметим лишь, что оно переживало тот же, что и в драме, процесс укрепления и упрочения начал народности и реализма. Характеризуя творчество таких великанов русского оперного искусства, как Осип Петров, Иван Мельников, Федор Стравинский (к ним можно было бы прибавить, например, Лавровскую, Леонову), Стасов справедливо указывал, что они принадлежали «к одной категории сценических художников» с Мартыновым, Щепкиным, Садовским: «все с равною любовью искали правды, национальности и жизненности».4
92
4
Во второй половине 50-х годов, после смерти Николая I и некоторых облегчений цензурного режима, для русской журналистики создаются относительно благоприятные условия развития. Законы о печати остались прежними, драконовскими, однако на работу цензурного ведомства всё же не могла не влиять растерянность нового царского правительства перед возможностью решения крестьянского вопроса «снизу». Вследствие этого цензурный пресс заметно слабеет, что сказывается прежде всего на количестве разрешаемых изданий. Так, если за пятилетие (с 1851 по 1855 год) было разрешено лишь 31 издание, то в следующее пятилетие эта цифра возрастает до 147.
В этот период возникают новые газеты и журналы литературного и общественно-политического содержания. В них появляются такие, ранее запретные, разделы, как внутреннее обозрение, обозрение политической жизни за границей, фельетон с ярко выраженной злободневной общественно-политической тематикой; подготовка царским правительством реформы об отмене крепостного права сопровождается появлением в периодической печати множества статей по крестьянскому вопросу. Журналистика превращается в мощный рупор общественного мнения.
Обострение классовой борьбы в стране (по мере прояснения истинных намерений царского правительства в отношении крепостных крестьян борьба эта всё усиливалась) и связанный с этим выход на общественную арену новой силы — разночинцев предопределили резкую противоположность идейных течений в журналистике. В ней происходят бурные процессы идейно-политического размежевания, консолидации сил. К концу 1858 — началу 1859 года иллюзии о возможности классового мира, пора прекраснодушных упований на «гласность» — якобы панацею от всех бед, — пора надежд на то, что Александр II и его правительство поведут Россию по пути реформ, прогресса и всеобщего благоденствия, сменяются в журналистике ожесточенной борьбой. Ненависть к революционо-демократическим идеалам становится всё более характерной особенностью выступлений в реакционной и либеральной печати всех оттенков. Правая пресса, от умеренно-либеральной до оголтело-реакционной, объединяется в борьбе против разночинно-демократической периодики.
В этой борьбе реакционеры и либералы находят общий язык, пользуются сходными приемами воздействия на врага. Органы либерализма в нередких случаях довольно быстро превращаются в глашатаев реакционнейших идей. Так, например, журнал «Русский вестник» (возник в Москве в 1856 году), по началу придерживавшийся позиций умеренного либерализма, с 1861 года становится общепризнанным вождем, рупором реакции, подчас не уступая в своем направлении мракобесной «Домашней беседе» В. И. Аскоченского.
В 60-е годы «Русский вестник» и газета «Московские ведомости» (в 1863 году она также перешла в руки Каткова) пользовались большим влиянием не только в среде реакционного дворянства, но даже и в правительственных сферах.
Одновременно с «Русским вестником» в Москве начинает издаваться славянофильский журнал «Русская беседа»; вскоре рядом с ним появляются славянофильские газеты: «Молва» (1857), «Парус» (1859), «День» (1861—1865). И эти органы не замедлили проявить свою реакционную сущность. Во время польского восстания 1863 года «День» оправдывал и защищал политику царского правительства.
93
В 60-е годы в Петербурге возникают органы так называемого «почвенничества» — журналы «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865). Эти журналы издавались братьями Ф. М. и М. М. Достоевскими и придерживались ориентации, близкой к славянофильству. Сторонники «почвенничества» считали, что в результате петровских реформ русское образованное общество потеряло связь с народом (оторвалось от «почвы») и восприняло чуждую духу русской жизни западную цивилизацию. Правда, в отличие от славянофилов, «почвенники» не выступали за возвращение к допетровской старине. Пропагандируя идею слияния образованных слоев общества с «почвой» — крестьянством и патриархальным купечеством, деятели «Времени» и «Эпохи» превозносили как идеал якобы «смирение» и «покорность» русского народа. Ф. М. Достоевский и его сподвижники делали ставку на мирное разрешение социальных проблем и в связи с этим жестоко полемизировали с «Современником». В этой полемике реакционные основы «почвенничества» проявились вполне.
Агрессивными по отношению к разночинцам-демократам были в 60-е годы либеральные «Отечественные записки», «Русская речь», «Библиотека для чтения» — «цитадель» поборников «чистого искусства», редактировавшаяся сначала А. В. Дружининым, а затем А. Ф. Писемским (1860—1863) и П. Д. Боборыкиным, либеральная газета А. А. Краевского «Голос» (1863—1884) и многие другие, менее известные и популярные органы.
Единому фронту реакционно-либеральной журналистики противостоял лагерь разночинно-демократической печати во главе с идейным штабом разночинно-демократического движения в целом — журналом «Современник».
В 1854—1857 годах убеждения основных сотрудников «Современника» были далеко не однородны. В «Современнике», особенно в беллетристическом его отделе, печатались такие крупные писатели, как Тургенев, Толстой, Островский, Григорович, поэты Тютчев, Фет, Майков, А. Толстой, Полонский. В критико-библиографическом отделе пытался конкурировать с Чернышевским апологет «чистого искусства» Дружинин, взгляды которого в той или иной мере разделяло всё дворянское крыло журнала.
Относящиеся к этому периоду письма Чернышевского свидетельствуют о том, что великий революционер-демократ возлагал большие надежды на дарования Тургенева и Толстого; вместе с Некрасовым он стремился оградить этих писателей от влияния эстетствующих В. П. Боткина и А. В. Дружинина и сделать их активными защитниками демократических идей в литературе. Всё это, вместе взятое, привело к заключению «обязательного соглашения» (в 1856 году), по которому Тургенев, Толстой, Островский и Григорович обязались сотрудничать исключительно в «Современнике».
С появлением в «Современнике» Добролюбова критико-библиографический отдел журнала переходит в его руки. «Несговорчивый» Добролюбов, продолжая уже намеченный Чернышевским курс на борьбу с дворянским либерализмом, с «искусством для искусства», аполитичностью и эстетизмом, начал беспощадную критику русского либерализма и всего уклада современной ему крепостнической действительности. С особенной остротой эта критика проявилась в «Свистке» — сатирическом приложении к «Современнику», начавшем выходить с 1859 года, а также в многочисленных статьях и рецензиях, посвященных творчеству больших и малых русских писателей. В «Свистке» Добролюбов помещал множество стихотворений, в которых едко высмеял прежде всего либеральную обличительную литературу, не касавшуюся основных пороков жизни.
94
В программных статьях «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?», «Забитые люди», пользуясь материалом произведений Тургенева, Островского и Гончарова, Добролюбов всю крепостническую Россию называл «темным царством», призывал к борьбе с нею и доказывал неизбежность появления в жизни новых людей, революционеров-демократов, русских Инсаровых, которые уничтожат ненавистный самодержавно-крепостнический строй. Попутно с этим, развивая идеи, несколько ранее высказанные Чернышевским в статьях «Стихотворения Н. Огарева» и «Русский человек на rendez-vous», Добролюбов разоблачает так называемых «лишних людей» — прекраснодушных либералов, неспособных к активному действию на благо народа. С особенной силой эта тенденция Добролюбова сказалась в статьях «Литературные мелочи прошлого года» (1858—1859) и «Что такое обломовщина?» (1859).
Статьи Добролюбова, направленные против мелкотравчатого обличительства и прекраснодушия «лишних людей», произвели сильное и неожиданное впечатление не только в реакционно-либеральных кругах. Даже такие люди, как Герцен, испытывавший, правда, в это время колебания в сторону либерализма, восприняли выступления Добролюбова как беспринципное глумление над лучшими делами и традициями русского общества. В № 44 «Колокола» за 1859 год Герцен опубликовал статью «Very dangerous!!!»,1 в которой обвинял Добролюбова и Чернышевского в том, что они якобы играют на руку правительству.
Предоставив Добролюбову критико-библиографический отдел, Чернышевский обращается прежде всего к публикации своих статей по крестьянскому вопросу. Реакционный характер подготовлявшихся правительством реформ, встреченных, однако, славословием со стороны либералов, уже к концу 1858 года становится ясен Чернышевскому. В статье «Критика философских предубеждений против общинного владения», пользуясь «эзоповским» языком, Чернышевский разоблачил готовящийся грабеж крестьян. Чернышевский заявлял в этой статье: «Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?» (V, 361).
Комментируя эту статью, В. И. Ленин отмечал «глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности, понимание того, что̀ такое крестьянские платежи, понимание антагонистичности русских общественных классов».2
В это же время Чернышевский печатал в «Современнике» много статей о международных делах, дававших предлог для иносказательной критики русской жизни. Критика западных монархий и западного либерализма в таких статьях Чернышевского, как «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Июльская монархия», «Кавеньяк», «Тюрго», его обозрения зарубежной жизни в отделе «Политика» в известном смысле имели в виду те же насущные проблемы русской действительности, о которых писал и Добролюбов. Чернышевский писал также философские трактаты и экономические исследования. Работа Чернышевского «Антропологический принцип в философии» пропагандировала материализм и разоблачала идеализм; этот труд явился теоретическим обоснованием необходимости революции. Наконец, немало произведений Чернышевского было
95
посвящено критике буржуазной политической экономии, стремившейся оправдать капиталистическую эксплуатацию трудящихся. По поводу одного из них К. Маркс писал: «... банкротство „буржуазной“ политической экономии... мастерски выяснил уже в своих „Очерках политической экономии по Миллю“ великий русский ученый и критик Н. Чернышевский».1

Группа сотрудников журнала «Современник». Фотография. 1856.
Сидят: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский.
Стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович.
На страницах «Современника» шла непрерывная борьба с либерализмом, обсуждались вопросы о помещичьем землевладении и вообще об основах существующего строя. Недвусмысленные призывы к революции, звучавшие почти в каждой статье, оказались чуждыми дворянской части сотрудников журнала. За исключением Островского, все участники «обязательного соглашения» порывают с «Современником» и переходят в другие издания. Так, Л. Толстой и Тургенев на долгие годы обосновываются в «Русском вестнике» Каткова. Нужно, однако, сказать, что сотрудничество в «Русском вестнике» с течением времени всё менее и менее удовлетворяло Тургенева. Реакционные идеи Каткова были ему чужды. Кроме того, его возмущало постоянное самочинное вмешательство Каткова как редактора в создаваемые им произведения (см., например, историю создания и печатания романов «Отцы и дети» и «Дым»). При первой возможности (в 1868 году) Тургенев покидает «Русский вестник» и переходит в «Вестник Европы», в котором печатается до самой смерти.
96
«Вестник Европы», основанный в 1866 году либерально-буржуазным общественным деятелем М. М. Стасюлевичем, в первые два года своего существования издавался как «ученый журнал». Затем программа его была расширена. Журнал стал виднейшим органом умеренного либерализма.
В политическом его отделе писали такие либерально-буржуазные деятели, как К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, К. К. Арсеньев, в литературном — И. С. Тургенев и И. А. Гончаров и др. (После закрытия «Отечественных записок» в «Вестнике Европы», не разделяя, однако, его общего направления, печатался и М. Е. Салтыков-Щедрин).
На смену дворянским писателям в «Современник» пришло новое поколение молодых литераторов и публицистов, в той или иной мере близких Чернышевскому и Добролюбову по своим убеждениям. Среди этих писателей особенно выделялись М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, В. С. Курочкин, М. Л. Михайлов, Н. В. Шелгунов, М. А. Антонович и др.
В канун объявления реформы, в обстановке нарастания революционной ситуации и усиливающейся реакции главнейшие органы реакционно-либеральной журналистики, предводимые «Русским вестником», начинают бешеную травлю разночинно-демократической идеологии как рассадника освободительных идей. Главным предлогом для этих нападок послужила статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии».
В этой полемике ярко сказались непримиримые разногласия сторон во взглядах на важнейшие проблемы тогдашней современности. Материалистической философии Чернышевского Катков противопоставил идеализм и откровенную поповщину. Разночинно-демократические взгляды на историю, современные общественно-политические и экономические отношения, искусство и мораль, разночинно-демократическая теория разумного эгоизма и общественной пользы, — всё это не только ставилось под сомнение в реакционно-либеральной журналистике, но и намеренно преподносилось в неузнаваемо-искаженном виде. Катков и его единомышленники обвиняли разночинцев-демократов в огульном всеотрицании, приписывали им беспринципные разрушительные тенденции, «уличали» в мракобесии и т. д. В целях дискредитации революционно-демократической идеологии в глазах общественного мнения, реакционно-либеральные журналисты не останавливались перед клеветой. В нередких случаях их выпады приобретали откровенно-доносительный характер. Так, в статье «Виды на entente cordiale с „Современником“» Катков обвинял Чернышевского, а в его лице и весь демократический лагерь: «Вы не колотите, не жжете; но в пределах вашей возможности вы делаете то, что вполне соответствует этим актам; в вас те же инстинкты, которые при других размерах, на другом поприще... выражались бы во всякого рода насильственных действиях. Что можете, то вы и делаете».1
В статьях Каткова «Старые боги и новые боги» («Русский вестник», 1861, № 2), «Одного поля ягоды» («Русский вестник», 1861, № 5) философия разночинцев-демократов определялась как шарлатанство. Катков обвинял Чернышевского и его сторонников в глумлении над нравственностью, «доказывал», что Чернышевский ни больше ни меньше, как философ, проповедующий вульгарный материализм в духе Бюхнера — Молешотта. Катков цинически называл философию Чернышевского смесью из идей Фейербаха,
97
Бюхнера и...Аскоченского. Нет никакой разницы между человеком и животным, нет никакой нужды ни в истории, ни в философии, ни в искусстве, нет никаких авторитетных норм общежития в быту, — такова, доказывал Катков, основа философии революционной демократии. В качестве «неоспоримого» доказательства своих доводов в апрельском и майском номерах «Русского вестника» за 1861 год Катков публикует огромные куски работы «Из науки о человеческом духе», принадлежавшей профессору киевской духовной академии П. Юркевичу.
«Современник». Обложка журнала. 1859.
Выдержки из работы Юркевича, с пояснениями, вполне соответствующими духу катковских высказываний, поместили и «Отечественные записки». Журнал «Время», вторя «Русскому вестнику» и «Отечественным запискам», помещал на своих страницах статьи Ф. Достоевского, А. Григорьева, Н. Страхова; в особенности нападали сотрудники журнала «Время» на материалистическую эстетику, расценивая ее как проповедь отрицания всякого искусства.
Нападкам реакционно-либеральной прессы была дана достойная отповедь в блестящих «Полемических красотах» Чернышевского («Современник», 1861, №№ 6, 7). Тон ответов Чернышевского был уничтожающим; однако, по цензурным условиям, он не имел возможности говорить о своих убеждениях в полный голос. Цензура не пропустила бы ни прямых заявлений о революционной программе, ни отрицательных отзывов о религии. Чернышевский все же выразил свое презрение к Катковым, Юркевичам и их «науке».
«Я не знаю, каких лет г. Юркевич, — писал Чернышевский, — если он уже не молодой человек, заботиться о нем поздно. Но если он еще молод, я с удовольствием предлагаю ему тот небольшой запас книг, каким располагаю» (VII, 725). «... Вам...хочется узнать..., как обширны мои знания? — спрашивал Чернышевский одного из сотрудников «Отечественных записок», Дудышкина, выражавшего саркастическое сомнение в его научной компетентности. — На это могу отвечать вам только одно: несравненно обширнее ваших... Да вы, пожалуйста, не примите этого за гордость: есть чем тут гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы» (VII, 765).
Чернышевский отвечал своим противникам и на обвинения в невежестве и вульгарном материализме. Перечисляя имена философов, взгляды которых он не разделял, Чернышевский прозрачно намекнул на свои симпатии к Фейербаху; однако имени философа-материалиста он не мог назвать
98
по цензурным условиям. Либералам Громеке и Альбертини (из «Отечественных записок»), утверждавшим, что между «свистунами» и «настоящими героями отрицания» нет ничего общего, Чернышевский отвечал, что его симпатии целиком на стороне людей, «говорящих сурово и насмешливо», и тут же, как бы вскользь, добавлял: «А знаете ли что? .. очень многие нас любят за то, что считают именно такими..., как вы изволите описывать героев-то отрицания» (VII, 740, 755).
Журнал братьев Достоевских «Время» в принципе разделял вражду «Русского вестника» и «Отечественных записок» к «Современнику», но нападки его по форме своей были не всегда в такой же мере агрессивны. Сотрудники «Времени» часто пользовались уклончивой манерой изложения своих взглядов. В иных случаях они не только признавали «отдельные» положительные качества у деятелей «Современника», но даже «защищали» их от нападений «Русского вестника». В статье «Г.—бов и вопрос об искусстве» («Время», 1861, № 2) Достоевский обвинял Добролюбова в отрицании искусства и в то же время называл его писателем талантливым, принципиальным, полезным. В статье «По поводу элегической заметки „Русского вестника“» Достоевский «отвергал» катковские обвинения разночинцев-демократов в «шарлатанстве» и «невежестве»: «разве не может увлекаться и ошибаться истинная, честная пытливость ума, честный и совестливый человек?».1
По стопам Достоевского в этом отношении шел и Страхов. Когда вышел роман Тургенева «Отцы и дети», Страхов поставил знак равенства между деятелями «Современника» и людьми базаровского типа; он превознес исключительные достоинства как тех, так и других (Базарова он, например, называл «истинно-русским человеком», «героем», даже «титаном»), — и всё это для того, чтобы с еще большим «основанием» «развенчать» разночинную демократию в лице даже ее лучших представителей, «поймать» ее на бесплодном теоретизировании, из-за которого она якобы не признается за здоровое и нормальное явление не только им, Страховым, но и таким непререкаемым авторитетом, как «сама жизнь».
Неприемлемые для журнала «Время» революционно-демократические взгляды «Современника» определялись как бессильное теоретизирование. Доктрине «отрицания» журнал Достоевского противопоставлял уже упомянутое выше «почвенничество».
По этой довольно расплывчатой и беспомощной теории одним из конкретных способов слияния образованных слоев общества с «почвой» считалось распространение в народе грамотности. «Почвенники» стояли за медленные органические изменения в жизни. В конце 1861 года молодой сотрудник «Современника» Антонович открыл полемику против теории «почвенничества». В статьях «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе „Времени“)» («Современник», 1861, № 12) и «О духе „Времени“ и о г. Косице, как наилучшем его выражении» («Современник», 1862, № 4) Антонович разоблачил куцую программу «почвенничества», умело вскрыв в то же время ее реакционную сущность. Так, например, комментируя «почвеннические» упования на грамотность, Антонович отмечал: «Итак, вот к какому скромному результату привели высокопарные и глубокомысленные фразы... Мало, очень мало; но за то хоть ясно по крайней мере...».2 Искусно обходя цензурные рогатки, Антонович доказывал, что революция, а не распространение грамотности является первым и основным условием для духовного
99
развития и материального благосостояния народа. «В Англии, положим, — писал Антонович, — много грамотных между простым народом, однако ж это не мешает им бедствовать самым отличным образом. Германия...тоже страдает порядочно..., значит, никак нельзя сваливать всего на почву и на грамотность».1 Еще более прозрачные намеки на необходимость революционных выводов были сделаны в статье Антоновича «О духе „Времени“...».

«Прием журналов в рекруты».
Карикатура из журнала «Искра». 1863.
Правильное заключение Антоновича о реакционности «почвенничества» наглядным образом подтверждали сами «почвенники». Отвечая Антоновичу в статье «Пример апатии», Страхов писал:
«Вопрос о материальном благосостоянии и вообще об устранении страданий... есть, как известно, самый живой современный вопрос. Но поднят он уже давно; о нем гонорится в евангелии, и сказано там именно следующее: ищите прежде царствия божия, и вся сия приложится вам. Мне кажется, и ныне нет нужды изменять этого решения..., идеализм есть самая крепкая из сил человеческой жизни..., исцелить и спасти мир нельзя ни хлебом, ни порохом и ничем другим, кроме благой вести».2
В условиях революционной ситуации подобная проповедь «Времени» превращалась в апологию консерватизма и застоя, в апологию вражды к освободительному движению.
Полемика «Современника» с реакционно-либеральными изданиями в 1861—1862 годах является яркой иллюстрацией к ленинской характеристике эпохи 60-х годов, данной в статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция»: «Либералы 1860-х годов и Чернышевский, — писал В. И. Ленин, — суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию».3
Вместе с «Современником» революционно-демократические позиции защищал в 60-е годы еженедельный сатирический журнал «Искра» (начал
100
выходить в 1859 году, прекратил существование в 1873 году вследствие цензурных гонений). Основными сотрудниками «Искры» были поэты братья Курочкины, Д. Минаев, П. Вейнберг, Козьма Прутков, Богданов, Ломан, Пальмин, писатели М. Стопановский, Г. Елисеев, И. Панаев, художники Степанов, Щиглев, Боргделли и др.
«Искра» печатала фельетоны и сатирические стихи, пользовавшиеся огромной популярностью среди читателей не только 60-х годов, но и более позднего времени. Н. К. Крупская определяла эти стихи как «своеобразный фольклор тогдашней разночинной интеллигенции», оказавший «несомненное влияние на наше поколение».1
«Искра» имела несколько отделов. В отделе «Нам пишут», составлявшемся по материалам писем, поступавших от провинциальных корреспондентов, разоблачались злоупотребления провинциальных властей и помещиков. В 1862 году этот отдел был запрещен цензурой. В «Хронике прогресса» наносились удары по проявлениям реакции в журналистике. В «Заметках со всех концов света» помещались обозрения западноевропейской жизни; в этих обозрениях ярко сказывались симпатии искровцев к революционным идеям. «Искра» также принимала активное участие в журнальной полемике, разгоревшейся в связи с выходом романа Тургенева «Отцы и дети». В многочисленных сатирических стихах «Искра» едко высмеивала реакционеров и либералов, стремившихся использовать произведение Тургенева в качестве оружия в борьбе с революционной демократией.
«Искра» была сравнительно дешевым изданием; помещавшиеся в ней материалы отличались злободневностью, широтой сатирических обличений и живостью формы, увеличивавшихся благодаря тому, что литературный текст сопровождался талантливыми карикатурами, исполненными виднейшими рисовальщиками этой поры. Всё это вместе взятое обеспечивало широкую популярность журнала в разночинно-демократической среде. Определяя значение «Искры», Горький писал:
«Роль „Искры“ была огромна: „Колокол“ Герцена был журналом, пред которым трепетали верхние слои общества столиц, „Искра“ распространялась в нижних слоях и по провинции..., она была более доступна и уму и карману наиболее ценного читателя той поры — учащейся молодежи...».2
Наряду с «Искрой» следует упомянуть еще два издания, сходные с ней и по типу своему и по направлению. В 1859 году начал выходить юмористическо-сатирический журнал «Гудок». Издание было приостановлено после двадцать второго номера, но с января 1862 года возобновилось под редакцией одного из главных сотрудников «Искры» — Д. Д. Минаева. Первый номер возобновленного «Гудка» открывался виньеткой с изображением Герцена, произносящего речь перед толпой крестьян. Минаев был отстранен от редактирования, успев выпустить всего 14 номеров. Основателем другого юмористическо-сатирического журнала — «Будильника» (с 1865 по 1871 год издавался в Петербурге, затем в Москве) был также один из сотрудников «Искры» — известный карикатурист Н. А. Степанов. В 60-е годы в «Будильнике» печатали свои произведения сотрудники «Искры» — Г. Н. Жулев, А. И. Левитов, Д. Д. Минаев, Л. И. Пальмин и др. В 70-е годы тон «Будильника» изменяется: его сатира и юмор становятся безобидными, не выходящими за рамки дозволенного цензурой.
101
Третьим крупнейшим органом разночинно-демократической идеологии был журнал «Русское слово», основанный в 1859 году графом Г. А. Кушелевым-Безбородко, человеком мало сведущим в вопросах литературы и далеким от общественно-политических интересов. По приглашению Кушелева-Безбородко, в редакцию журнала вошли Я. П. Полонский, А. А. Григорьев, затем А. Хмельницкий. Вначале журнал не представлял собой сколько-нибудь значительной общественной силы. Однако с 1860 года, когда редактором этого органа стал просветитель-демократ Г. Е. Благосветлов, привлекший вскоре к сотрудничеству таких боевых демократов, как Д. И. Писарев, В. А. Зайцев, Н. В. Соколов, Н. В. Шелгунов, А. П. Щапов, облик журнала радикально изменился.

М. А. Антонович.
Фотография. 1900-е годы.
Главным сотрудником и, по существу дела, идейным вождем направления, пропагандировавшегося «Русским словом», был талантливейший критик и публицист Д. И. Писарев. Подобно Чернышевскому и Добролюбову, Писарев выступал против дворянства и его идеологии, критиковал либерализм в политике, идеализм в философии, буржуазную политическую экономию в экономической науке.
В самом начале деятельности в «Русском слове» позиции Писарева были довольно умеренны. Главный упор он делал на проблемы «частной нравственности и житейских отношений».1 Однако, по мере назревания революционной ситуации, убеждения Писарева приближаются к взглядам революционных демократов из «Современника». В статье «Схоластика XIX века» (1861) Писарев выступает против реакционно-либеральных журналистов, ополчившихся на философию Чернышевского. В не напечатанных по вине цензуры статье «Пчелы» (1862) и статье-прокламации против Шедо-Ферроти, написавшего несколько клеветнических брошюр о Герцене, Писарев выступает врагом самодержавно-крепостнического строя. В статье-прокламации против Шедо-Ферроти Писарев писал без обиняков:
«Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти.
«То, что мертво и гнило, должно само собой свалиться в могилу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы».2
102
Эту статью Писарев предполагал напечатать в подпольной типографии Баллода. Типографию обнаружила полиция, Писарев был арестован и заточен в Петропавловскую крепость.
Летом 1862 года в Петербурге происходили большие пожары. Жандармерия и реакционная пресса распространяли слух о том, будто бы пожары инспирированы революционными демократами. Царское правительство, напуганное революционными прокламациями и незатихающими крестьянскими волнениями, воспользовалось слухами о пожарах в качестве предлога для расправы с разночинно-демократической журналистикой. Журналы «Современник» и «Русское слово» были приостановлены на восемь месяцев, Чернышевский, как и Писарев, был заточен в Петропавловскую крепость.
Осенью 1861 года умер Добролюбов. Заживо погребенный в Петропавловской крепости и затем на каторге, Чернышевский навсегда потерял возможность активного участия в освободительном движении. С 1861 года начинается разгул реакции, чрезвычайно обострившийся в 1863 году в связи с польским восстанием. Цензура свирепствует. Крестьянские волнения не перерастают в революцию, надеждами на которую жила лучшая часть общества. При таких неблагоприятных условиях возобновляют свою работу «Современник» и «Русское слово» (1863).
В возобновленном «Современнике» (1863, февраль) стихотворным и беллетристическим отделом руководил Н. А. Некрасов, его помощником стал М. Е. Салтыков-Щедрин. Критико-библиографическим отделом заведовал М. А. Антонович, публицистическим — Г. З. Елисеев, научный отдел вел двоюродный брат Чернышевского — Пыпин. Отсутствие Чернышевского и Добролюбова, засилие реакции и цензурные гонения обусловили заметное понижение тона «Современника». Кроме того, Некрасов и Салтыков-Щедрин, стремившиеся сохранить традиции Чернышевского и Добролюбова, далеко не всегда пользовались поддержкой со стороны других членов редакции. У Салтыкова-Щедрина обострились отношения с Антоновичем, Елисеевым, Пыпиным. В 1864 году Салтыков-Щедрин, в связи с возвращением на государственную службу, совсем покидает журнал. Однако и при таких условиях «Современник» всё же оставался лучшим журналом тех лет.
Характерными событиями журнальной жизни этого времени была беспримерная по взаимной резкости полемика «Современника» с новым органом «почвенничества» — «Эпохой» и в особенности с писаревско-благосветловским «Русским словом».
Полемика «Современника» с «Эпохой» в 1864 году не дала ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было высказано этими журналами в 1861—1862 годах.
Несравненно большее значение имела полемика «Современника» с «Русским словом», поскольку это была полемика между идейными единомышленниками. Разногласия «Современника» и «Русского слова» явились результатом изменения общественно-политической обстановки в стране.
К 1864—1865 годам, под влиянием спада революционной волны, перед Писаревым с особенной остротой встал вопрос о перспективах и путях общественных преобразований. Крестьянские волнения не переросли в крестьянскую революцию. Учитывая это обстоятельство, Писарев склоняется к мысли о том, что, за неимением другого выхода, основная задача времени должна состоять не в прямом революционном действии, а в планомерной, упорной подготовке условий для разрешения вопроса «о голодных и раздетых людях». Главную роль в этой подготовке Писарев отводит естественным наукам и пропаганде материалистических взглядов на природу. Пропаганда естествознания становится краеугольным камнем его теории реализма.
103
Свою теорию Писарев рассматривал как результат дальнейшего развития и углубления в новых исторических условиях идей Чернышевского и Добролюбова. В действительности, однако, эта теория не только не представляла собой более высокую стадию развития учения Чернышевского и Добролюбова, но в некоторых очень важных пунктах противоречила ему: прежде всего в вопросе о положительном деятеле современности, о народе, искусстве и философии.

Г. З. Елисеев.
Фотография. 1860-е годы.
По цензурным условиям полемисты не могли быть вполне откровенными при обсуждении предмета спора. Однако удобный выход из положения был найден. Полемика велась под видом анализа идейной проблематики романа Тургенева «Отцы и дети», романа Чернышевского «Что делать?» и пьес Островского.
Первым в полемику вступил «Современник». В январском обозрении «Наша общественная жизнь» за 1864 год Щедрин изобразил несколько своих «разговоров» с «выдающимися нигилистами». «Нигилисты» не были названы собственными именами, а предмет «разговора» с ними изложен был в форме намеков. Однако и при таких условиях ясно было, что Щедрин в своих «разговорах» намекал на различное решение «Русским словом» и «Современником» вопроса о дальнейших путях развития России. «Некоторые из них, — писал многозначительно Щедрин, — уже начинают исподволь поговаривать о „скромном служении науке“, а к „жизненным трепетаниям“ относятся уже с некоторою игривостью, как к чему-то не имеющему никакой солидности...».1 Разумея под «жизненными трепетаниями» революцию, Щедрин квалифицировал такое поведение «нигилистов» как скачок вправо и упрекнул их в том, что они рассуждают «уже слишком приблизительно к „Русскому вестнику“!».2 Щедрин едко подметил «понижение тона» у «нигилистов», саркастически определяя «всю суть» исповедуемой ими «человеческой мудрости» двумя словами: «со временем». Кроме того, Щедрин, имея в виду всё то же «служение науке», посмеялся над «милыми нигилистками», видящими в идеале будушего только беспрепятственную и завидную возможность анатомировать человеческие трупы.
104
Непоименованные «нигилисты» тотчас же узнали себя: на страницах «Русского слова» за февраль 1864 года появилось сразу два ответа Щедрину — В. Зайцева и Писарева.

«Искра». Обложка журнала с карикатурой на биржевых дельцов. 1861.
В. Зайцев1 обрушился на Щедрина за пассаж о «милых нигилистках», видя в нем выпад против романа Чернышевского «Что делать?». В связи с этим Зайцев заявлял о том, что Щедрин якобы только для виду носил «костюм Добролюбова», но что на самом деле он относился к молодому поколению так, как к нему отнесся Писемский в своем романе «Взбаламученное море».
105
Не меньшей резкостью отличался ответ Щедрину в статье Писарева «Цветы невинного юмора». Здесь Писарев писал о Щедрине, что тот сам не знает, «куда хватит его обличительная стрела — в своих или в чужих, „в титулярных советников или в нигилистов“».1 Что же касается основного обвинения Щедрина по адресу нигилистов, то уже по этой статье Писарева можно было судить, насколько своевременно и по назначению оно дошло. По сути дела, Писарев и не пытается защищаться от обвинения Щедрина. Наоборот, он пишет о том, что «если бы Добролюбов был жив», он понял бы запросы жизни в духе писаревских взглядов и занялся бы, пожалуй, популяризацией естествознания. Писарев не отказывается от активной поддержки революции в том случае, если она произойдет, но выражает сомнение в значении ее последствий в условиях 60-х годов. Он пишет: «Народное чувство, народный энтузиазм остается при всех своих правах; если они могут привести к цели быстро, пускай приводят... Если даже чувство и энтузиазм приведут к какому-нибудь результату, то упрочить этот результат могут только люди, умеющие мыслить. Стало быть, размножать мыслящих людей — вот альфа и омега всякого разумного общественного развития. Стало быть, естествознание составляет в настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества».2 Стремясь подкрепить свою мысль убедительным примером, Писарев обращается к тургеневскому Базарову. Начиная с этого момента, Базаров под пером Писарева превращается прежде всего в просветителя, в пропагандиста естественных наук.

Карикатура на цензуру в журнале «Искра». 1863.
В мартовском номере «Современника»3 состоялось второе и последнее выступление Щедрина против «Русского слова». Без всякого труда разбив
106
зайцевские обвинения во вражде к роману «Что делать?», Щедрин обращается к толкам вокруг романа Тургенева. Охарактеризовав реакционно-либеральную критику и беллетристику как явления, наносящие серьезный вред правильному пониманию идей передовой разночинной молодежи, Щедрин перемещает направление удара на «Русское слово», негодуя на то, что это последнее только сгущает «туман», созданный реакционерами и либералами вокруг идей молодого поколения. Щедрин боролся против писаревского стремления привить радикальной молодежи новые понятия о способах решения проблемы о «голодных и раздетых людях».

Карикатура в журнале «Искра», появившаяся
после ареста Н. Г. Чернышевского.
Рисунок Н. А. Степанова. 1862.
Правильность взглядов Щедрина подтвердилась следующими выступлениями Писарева. В статьях «Мотивы русской драмы» («Русское слово», 1864, № 3) и «Нерешенный вопрос» («Русское слово», 1864, №№ 9—11) мысль об изменении общества путем естественно-научной пропаганды получает равернутое обоснование. Писарев не только не отказывается от своих симпатий к «болтунам» типа Базарова (так Щедрин называл Базарова, чтобы подчеркнуть свое отрицательное отношение к писаревской теории «реализма»), но, защищая их, подвергает критике добролюбовскую концепцию образа Катерины. Он противопоставляет ей свое понимание образа Базарова. В протесте Катерины Добролюбов видел предвестие успешной борьбы народа с «темным царством». Мысль Добролюбова состояла в том, что революционные деятели, стремящиеся к уничтожению существующего строя, в своих действиях должны и могут рассчитывать на активную поддержку народных масс. Точка зрения Добролюбова кажется Писареву ошибочной. Протест Катерины он расценивает лишь как порыв бесполезного и случайного отчаяния. По мнению Писарева, только люди типа Базарова, обладающие и волей и знаниями, способны удовлетворительным образом решить проблему о «голодных и раздетых людях». Писарев явно не сошелся с Добролюбовым в понимании роли народных масс в общественных преобразованиях и в представлениях о способах этих преобразований.
Разбирая характер Базарова, Писарев особо останавливается на базаровской формуле: «Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Базаров, по Писареву, тип человека, наиболее плодотворно стремящегося проводить в жизнь принципы реализма и «экономии умственных
107
сил», заключающиеся в том, чтобы устранять из трудовой практики всё, что не способствует увеличению народного благосостояния. Теперь трагизм положения Базаровых Писарев видит не в отсутствии условий для революции (это он утверждал в 1862 году; см. статью «Базаров» — «Русское слово», 1862, № 3), а в том, что косная масса, окружающая Базарова, не способна проникнуться естественно-научным реализмом. Одна из главных причин этого явления — эстетика. «Куда ни кинь, — замечает Писарев, — везде на эстетику натыкаешься».1 Однако увлечение эстетикой, по мнению Писарева, все-таки довольно быстро идет на убыль. В связи с этим он отмечает: «Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глаза на глаз..., то они разошлись бы... на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте».2 Так определилось другое важное отступление Писарева от идей Добролюбова и Чернышевского — по вопросам эстетики.

Г. Е. Благосветлов.
Литография Г. Константинова. 1881.
Против Писарева выступил затем сменивший Щедрина М. А. Антонович. В десятом номере «Современника» за 1864 год появилась статья Антоновича «Вопрос, обращенный к „Русскому слову“», в которой он потребовал от редакции «Русского слова» печатного заявления о ее согласии или несогласии с точкой зрения на «пресловутый роман „Отцы и дети“», высказанной в статье Писарева «Нерешенный вопрос». «Русское слово» дало утвердительный ответ, и Антонович в следующем номере «Современника» перешел к полемике.
Критика Антоновича на роман Тургенева в 1862 году не могла идти ни в какое сравнение с критикой Писарева. В 1864—1865 годах Антонович не сказал о романе ничего нового. Он попрежнему настаивал на том, что «Отцы и дети» — злая и очень слабая в художественном отношении «сатира» на разночинную демократию, а образ Базарова — карикатура. Но полемические выступления Антоновича в 1864—1865 годах были сильны другой своей стороной. Путем сопоставления писаревских идей о «реализме» со взглядами Добролюбова и Чернышевского Антонович настойчиво защищал авторитет «Современника» и его руководителей. Так, например, подчеркивая вульгарно-материалистические тенденции философии Писарева, Антонович разоблачал тем самым реакционные обвинения «Современника»
108
в приверженности идеям вульгарного материализма; значительная доля этих обвинений основывалась на высказываниях Писарева, ошибки которого враги разночинной демократии рекламировали как следствие «порочного» влияния «Современника».
Философские ошибки второго своего противника, В. Зайцева, Антонович умело разоблачил в первой статье «Промахи» («Современник», 1865, № 2). Критикуя неверные представления В. Зайцева о философии Гегеля и Шопенгауэра,1 Антонович в противовес В. Зайцеву подчеркнул философское убожество Шопенгауэра по сравнению с Гегелем. Еще большее значение имело разоблачение Антоновичем ошибочной попытки В. Зайцева представить Шопенгауэра философом, который не только якобы «расходится окончательно» «со всей идеалистической философией»,2 но и, сближаясь с Молешоттом и Фохтом, оказывается в числе идейных союзников молодого поколения. В статьях «Русскому слову (Предварительные объяснения)» («Современник», 1864, № 11—12), «Промахи» (статья 2, «Современник», 1865, № 4), «Лже-реалисты» («Современник», 1865, № 7) Антонович подчеркнул существенное различие взглядов Писарева и Добролюбова на народ и положительного деятеля современности. Наконец, крупной заслугой Антоновича была защита эстетики Добролюбова и Чернышевского от неправильных истолкований ее Писаревым.
В статьях «Цветы невинного юмора», «Мотивы русской драмы» и «Нерешенный вопрос» Писарев не ограничился «разрушением» эстетики. В статьях «Пушкин и Белинский» («Русское слово», 1865, №№ 4, 6) Писарев подверг резкой критике Пушкина, поставил под сомнение справедливость оценки творчества Пушкина в критике Белинского. В статье «Разрушение эстетики» Писарев пошел еще дальше. Он стремился доказать, что сам Чернышевский в трактате «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855) настаивал на необходимости разрушить не только идеалистическую, но и вообще всякую эстетику. Неверно истолковывая эстетические взгляды Чернышевского, Писарев приписывал последнему свою ошибочную мысль о том, что эстетика как наука не существует, что она «исчезает в физиологии и в гигиене».3 Здесь же Писарев осыпал насмешками Антоновича за помещенную в мартовском номере «Современника» за 1865 год правильную рецензию на второе издание «Эстетических отношений искусства к действительности».4
В статье Антоновича «Лже-реалисты» убедительно доказана несостоятельность нападений Писарева на эстетику, опровергнута попытка Писарева обосновать идею о бесполезности и даже вредности искусства с помощью превратно истолкованных эстетических принципов Чернышевского.
Единственным вопросом спора, по которому объективная истина осталась на стороне Писарева, а не Антоновича, был вопрос о конкретном содержании и значении «Отцов и детей». Грубые ошибки и отступления Писарева от идеологии Чернышевского и Добролюбова, проявившиеся при истолковании образа Базарова, ничуть не подтверждают мысли о том, что в тургеневских изображениях разночинной демократии недостатки преобладали над достоинствами. Во-первых, и самого Писарева, несмотря на всё изложенное выше, всё же нельзя рассматривать как идеолога, принципиально
109
чуждого Чернышевскому и Добролюбову. В мировоззрении Писарева было много противоречий и колебаний, однако основа этого мировоззрения все-таки близка системе взглядов вождей революционной демократии. Во-вторых, пропагандируя в 1864—1865 годах свою теорию реализма и опираясь при этом на образ Базарова, Писарев сознательно обходил молчанием то, что было отмечено им уже в 1862 году: революционные убеждения Базарова. Общая оценка романа, данная Писаревым в 1864—1865 годах, оставалась попрежнему справедливой, но образ Базарова в писаревских истолкованиях представал уже в обедненном виде.

Карикатура в журнале «Искра» на цензурный
комитет. 1862.
Венцом полемики были выступления Ю. Г. Жуковского1 и Писарева.2 И Жуковский и Писарев еще раз суммировали сущность спора и заявили о том, что разногласия остаются в силе.
В 1866 году, в связи с каракозовским выстрелом, на «Современник» и «Русское слово» снова обрушиваются гонения. 1866 год — год окончательного запрещения этих журналов. В 1868 году значительная часть сотрудников «Современника» и «Русского слова» обосновывается в реорганизованных «Отечественных записках» и в журнале «Дело».
*
Историческая обстановка шестидесятых годов — обстановка переломного, кризисного времени, большого обострения общественной борьбы — наложила свою печать на всю культурную жизнь страны.
Подъем освободительного движения и переход гегемонии в этом движении к новому слою — разночинно-демократической интеллигенции — во многом определили и масштабы, и направление культурных процессов.
Возглавив борьбу против крепостничества и самодержавия, против всех и всяких крепостнических пережитков, передовой разночинец старался поставить на службу этой борьбе, борьбе за свободу и счастье народа, все формы и средства культурной деятельности. Стремление к глубокому изучению, к объяснению и оценке действительности, к сближению с народом
110
и вовлечению его в движение политической и культурной жизни, стремление возможно лучше, полнее выразить нужды и чаяния масс ярко проявляется в культурно-общественном творчестве передовых элементов интеллигенции.
Общественное возбуждение породило атмосферу приподнятости, повышенной энергии, энтузиазма в различных сферах культурной жизни. Этот энтузиазм не иссяк после поражения, понесенного демократией в ее наступлении на царско-крепостнический режим на рубеже 50-х и 60-х годов. Рост культурного творчества, начавшийся под влиянием полученного тогда толчка, не приостановился, несмотря на крайне неблагоприятные внешние условия, на бесчисленные препятствия, воздвигаемые осмелевшей реакцией. В этом сказывались и неотвратимая сила потребностей экономического развития страны, и настойчивость, упорство, мужество, самоотверженность демократических общественных и культурных деятелей.
Блестящие достижения русской передовой культуры, которыми характерна и славна вторая половина XIX века, не все, понятно, обязаны исключительно рассматриваемому периоду. Но именно к 60-м годам относятся начала, истоки могучего творческого подъема, который вместе с тем уже и на первых порах успел дать во многих отношениях громадные результаты.
Чернышевский и Герцен, Добролюбов и Писарев, Тургенев и Толстой, Щедрин и Некрасов, Островский, Мартынов и Садовский, Перов, Крамской и Репин, Стасов и Мусоргский, Чайковский и Римский-Корсаков, Сеченов и Менделеев, Мечников и Тимирязев, Ушинский и Пирогов и многие, многие другие представители русской литературы и искусства, науки, публицистики и просвещения, прославившие свой народ, связаны с шестидесятыми годами — одни полностью и целиком, другие постольку, поскольку на эти годы приходится начало их деятельности, либо существенный, характерный ее этап.
В 60-е годы укрепились братские связи прогрессивного русского общества с писателями, культурными и общественными деятелями других национальностей России, для которых 60-е годы также явились периодом культурно-общественного обновления и подъема. Наряду с углублением культурного влияния русского народа на остальные народы самой России, та же эпоха ознаменовалась расширением культурных связей передовой России с прогрессивными элементами Запада, значительным усилением и упрочением культурного влияния России во всем мире. Велико было влияние передовых русских идей 60-х годов в славянских странах. В истории роста мирового влияния и воздействия русской культуры 60-м годам и открываемой ими полосе культурного развития принадлежит почетнейшее место.
Сноски к стр. 7
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 439.
Сноски к стр. 8
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 190.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 223.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 158.
Сноски к стр. 9
1 М. Злотников. От мануфактуры к фабрике. «Вопросы истории», 1946, № 11—12 (ср. его же статью в «Каторге и ссылке», 1935, кн. 1). Если считать и очень мелкие промышленные заведения, то рост между 1804 и 1860 годами определится цифрами: 2400 и около 15 000.
2 П. Хромов. Экономическое развитие России в XIX—XX веках. Госполитиздат, 1950, стр. 79, 80.
Сноски к стр. 10
1 А. Тройницкий. Крепостное население в России по 10-й народной переписи. СПб., 1861, стр. 49.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 384.
3 Е. А. Мороховец. Крестьянское движение 1827—1869 годов, вып. I, М., 1931, стр. 31.
Сноски к стр. 11
1 И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. Изд. 3-е, Л., 1925, стр. 331.
2 Я. И. Линков. Крестьянское движение в России во время Крымской войны 1853—1856 гг. М., 1940, стр. 28 и сл.
3 С. Громека. Киевские волнения в 1855 году. «Отечественные записки», 1863, т. 147, № 4, стр. 692.
Сноски к стр. 12
1 К. Д. Кавелин, Собрание сочинений, т. II, СПб., 1898, стб. 33.
2 А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. VII, Пгр., 1919, стр. 397. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XXII, 1919—1925).
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95.
Сноски к стр. 13
1 П. П. Семенов Тян-Шанский. Мемуары, т. I, Пгр., 1917, стр. 249.
2 «Старина и новизна», кн. 19, Пгр., 1915, стр. 207, 227.
3 С. М. Соловьев. Записки. Пгр., б. г., стр. 150.
Сноски к стр. 14
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. VI, М., 1939, стр. 227. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—VI, Гослитиздат, 1934—1941).
2 Н. В. Шелгунов. Воспоминания. ГИЗ, М. — Пгр., 1923, стр. 26.
3 В. С. Аксакова. Дневник. СПб., 1913, стр. 102.
Сноски к стр. 15
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 13.
2 Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XIV, СПб., 1900, стр. 213, 215 (письмо к М. П. Погодину от 30 января 1856 года).
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 554.
4 «Литературный вестник», 1903, т. VI, кн. 6, стр. 120.
Сноски к стр. 16
1 «Колокол», 1858, лист 13, 15 апреля, стр. 101.
Сноски к стр. 17
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 189.
3 Е. А. Мороховец. Крестьянское движение 1827—1869 годов, вып. I, 1931, стр. 123, 132, 146.
4 Цитируется по статье Г. З. Елисеева «Внутреннее обозрение» — «Современник, 1861, № 9, отд. II, стр. 61.
5 Кн. О. Трубецкая. Материалы для биографии кн. В. А. Черкасского, т. I, кн. 1, М., 1901, стр. 167.
Сноски к стр. 18
1 «Литературный вестник», 1903, т. VI, кн. 6, стр. 119.
2 «Современный мир», 1916, № 2, отд. II, стр. 21.
3 «Записки научного общества марксистов», 1927, № 7 (1), стр. 142.
Сноски к стр. 19
1 «Современник», 1861, № 9, отд. II, стр. 61.
2 Ср.: «Современник», 1859, № 9, отд. III, стр. 21, 35.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 13, стр. 216.
Сноски к стр. 20
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.
2 Там же, стр. 65.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 474.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.
Сноски к стр. 21
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 11—12.
2 Там же, стр. 12, 14.
3 Там же, стр. 12.
Сноски к стр. 22
1 Недавно найденные неопубликованные рукописи соратника Герцена — Н. П. Огарева, частью относящиеся ко времени кануна «крестьянской реформы», свидетельствуют о том, что в лондонском эмигрантском центре русской пропаганды обдумывались различные варианты организации тайного общества, целью которого должна была стать деятельная подготовка коренного переустройства всего общественно-политического уклада России на началах свободы и демократического самоуправления (Записка о тайном обществе. — «Литературное наследство», кн. 39—40, М., 1941, стр. 323—327, — публикация Б. Козьмина; ср. Описание рукописей Н. П. Огарева, М., 1952, стр. 69, № 526; Пять революционно-конспиративных документов из бумаг Огарева. — «Литературное наследство», т. 61, 1953, стр. 493—500, — публикация М. Нечкиной).
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.
3 Там же, стр. 15.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 223.
Сноски к стр. 23
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 224.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 15.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 224.
Сноски к стр. 24
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIII, Гослитиздат, М., 1949, стр. 202. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XVI, 1939—1953).
2 Процесс Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1939, стр. 55.
3 При этом он указывал на отсутствие оснований для компенсации.
Сноски к стр. 25
1 В. Княжнин. Добролюбов и Славутинский в их переписке. Сб. «Огни», кн. 1, Пгр., 1916, стр. 67.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 264.
3 Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, М., 1890, стр. 495.
Сноски к стр. 26
1 Руководящие участники Редакционных комиссий.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 554.
3 Журналы и мемории общего собрания Государственного совета по крестьянскому делу, Пгр., 1915, стр. 4.
Сноски к стр. 27
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 395. Автором манифеста 19 февраля был Московский митрополит Филарет, крайний реакционер.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 24.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95.
Сноски к стр. 28
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26—27.
Сноски к стр. 29
1 П. Кованько. Реформа 19 февраля 1861 года и ее последствия с финансовой точки зрения. Киев, 1914, стр. 82.
Сноски к стр. 30
1 Е. А. Мороховец. Крестьянское движение 1827—1869 годов, вып. II, М. — Л., 1931, стр. 17.
2 «Современный мир», 1911, № 3, стр. 171.
3 Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права, ч. I и II, М. — Л., 1949, стр. 145.
4 А. И. Сочалов, Г. Н. Вульфсон. Бездненское восстание 1861 года. Казань, 1948, стр. 64.
Сноски к стр. 31
1 Рост и обострение волнений рабочих (крепостных, частью и «вольнонаемных») заметен уже в предреформенные годы.
Сноски к стр. 32
1 «Современник», 1861, № 3, отд. II, стр. 101—102.
2 Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. Госполитиздат, 1952, стр. 478.
Сноски к стр. 34
1 Чернышевский, как отчасти уже отмечено, располагал довольно значительными связями в офицерской среде, передовая часть которой была охвачена после Крымской войны политическим брожением.
2 Н. В. Шелгунов. Воспоминания. 1923, стр. 303—307.
3 Там же, стр. 308—309.
4 Там же, стр. 287—302.
Сноски к стр. 36
1 «Колокол», 1861, лист 107, стр. 900; лист 109, стр. 913—914; лист 115, стр. 961—963.
2 Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, 1952, стр. 527—536.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 238.
Сноски к стр. 37
1 «Красный архив», 1923, т. IV, стр. 409, 410.
Сноски к стр. 39
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. III, Л., 1934, стр. 54.
Сноски к стр. 40
1 Сборник «Освобождение», кн. 1, Штутгарт, 1903, стр. 20, 21.
Сноски к стр. 41
1 Политические процессы 60-х годов. Материал подготовлен к печати В. П. Алексеевым под редакцией Б. П. Козьмина, М. — Пгр., 1923, стр. 259—269.
Сноски к стр. 42
1 М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. Изд. 2-е, М. — Пгр., 1923, стр. 520—521.
2 Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену, Женева, 1892, стр. 82.
3 Там же.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 30.
5 Там же, стр. 33.
Сноски к стр. 44
1 Е. А. Мороховец. Крестьянское движение 1827—1869 годов, вып. II, М. — Л., 1931, стр. 40.
2 Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел, М. — Л., 1950, стр. 282—285.
3 Е. А. Мороховец. Крестьянское движение 1827—1869 годов, вып. II, стр. 25.
Сноски к стр. 45
1 «Колокол», 1863, лист 164. 1 июня, стр. 1349—1350.
Сноски к стр. 46
1 Надо отметить, что в последующем Н. П. Огарев отстаивал уже более далеко идущую аграрную программу — необходимость признания всей земли «народным достоянием», с тем чтобы помещики, если пожелают, могли получить себе только земельный пай наравне с крестьянами.
2 Влиятельный московский журналист М. Н. Катков (редактор и издатель журнала «Русский вестник», потом и газеты «Московские ведомости»), слывший раньше либералом, в период 1862—1863 годов окончательно повернул «к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 250).
3 Е. А. Мороховец. Крестьянское движение 1827—1869 годов, вып. II, 1931, стр. 52.
Сноски к стр. 47
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 99.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 190; ср. т. 17, стр. 94.
3 И. В. Сталин, Сочинения, т. 1, стр. 206.
Сноски к стр. 48
1 «С.-Петербургские ведомости», 1865, № 1, 1 января, стр. 1.
Сноски к стр. 49
1 В общественно-литературной биографии Писарева это был временный этап. В последние годы жизни Писарев освободился от ряда существенных колебаний и противоречий, проявившихся у него после крушения революционных надежд в начале 60-х годов.
Сноски к стр. 50
1 «Красный архив», 1926, т. IV (17), стр. 127.
2 Покушение Каракозова, т. I, М., 1928, стр. 294.
Сноски к стр. 51
1 «Былое», 1907, № 1, стр. 236—242.
Сноски к стр. 52
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 34, стр. 8.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 8.
3 Там же, стр. 16.
Сноски к стр. 53
1 «Рассвет», 1859, т. III, № 7, отд. II, стр. 23.
Сноски к стр. 54
1 К. Д. Ушинский, Собрание сочинений, т. II, М. — Л., 1948, стр. 557, 566.
Сноски к стр. 55
1 К. Д. Ушинский, Собрание сочинений, т. III, 1948, стр. 363.
2 Д. О. Лордкипанидзе. Педагогическое учение К. Д. Ушинского. Изд. 2-е, М., 1950.
Сноски к стр. 56
1 М. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908, стр. 403.
Сноски к стр. 57
1 Изменение школьных порядков и освежение преподавания совершались с середины 50-х годов явочным порядком под влиянием общественного оживления, пропаганды демократической журналистики и появления новых, молодых учителей (особенно учителей словесности), воспитанных на идеях передовой литературы.
2 Военно-статистический сборник, вып. IV, СПб., 1871, стр. 853.
Сноски к стр. 58
1 Д. И. Писарев. Избранные сочинения, т. II, Гослитиздат, 1935, стр. 102.
Сноски к стр. 59
1 «Общезанимательный вестник», 1857, № 1, стр. 48—49.
2 «Книжный вестник», 1866, № 1, стр. 18, 20, 19.
3 «Современник», 1866, № 3, отд. II, стр. 80, 83.
Сноски к стр. 60
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 9.
Сноски к стр. 61
1 В ряде случаев отклики на литературу марксизма попадали прямо на страницы русской печати. В 1861 году Н. В. Шелгунов в одной из своих работ в «Современнике» («Рабочий пролетариат в Англии и Франции») широко использовал труд Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Вокруг оценки этого же труда в русской печати начала 60-х годов, как известно, развернулась целая полемика.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 14, стр. 346.
Сноски к стр. 62
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
Сноски к стр. 63
1 Н. И. Костомаров, пользовавшийся в 50—60-х годах большой популярностью среди читателей и студентов-слушателей, не раз одобрявшийся Чернышевским и Добролюбовым за свой интерес к истории народного быта, за общий оппозиционный дух, все-таки был по существу своих взглядов лишь умеренным либералом и притом с буржуазно-националистической (украинской) тенденцией.
Сноски к стр. 64
1 Д. Л. Мордовцев. Исторические пропилеи, т. I, СПб., 1888, стр. 56, 57.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
Сноски к стр. 65
1 Б. Г. Кузнецов. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. С предисловием академика Н. Д. Зелинского. Изд. 2-е, М., 1951, стр. 4.
Сноски к стр. 66
1 Л. Ш. Давиташвили. Биография Владимира Онуфриевича Ковалевского. В книге: В. О. Ковалевский, Собрание научных трудов, т. I, М., 1950, стр. 28, 30.
2 Б. Е. Райков. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина, т. I, 1952; т. II, 1951.
3 К. А. Тимирязев, Сочинения, т. VIII, 1939, стр. 164.
Сноски к стр. 67
1 И. И. Мечников. Страницы воспоминаний. 1946, стр. 46.
2 Х. С. Коштоянц. Сеченов. М. — Л., 1945, стр. 71.
3 Впоследствии, с 80-х годов, Мечников перенес свои исследования в другую область — патологию, стяжав себе и там всемирную славу.
Сноски к стр. 68
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 530.
2 Люди русской науки, т. I, М. — Л., 1948, стр. 26.
Сноски к стр. 70
1 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. I, СПб., 1894, отд. I, стб. 521.
2 В. Стасов. Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним. «Северный вестник», 1888, № 10, отд. I, стр. 190.
3 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. I, отд. I, стб. 736, 737, 528.
4 Там же, отд. II, стб. 155, 156.
Сноски к стр. 71
1 В. Кеменов. В. Стасов и русское искусство. «Большевик», 1951, № 17, стр. 74.
2 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. I, отд. II, стб. 85.
3 Там же, стб. 133—134.
4 И. Е. Репин и В. В. Стасов, Переписка, т. II, 1877—1894. Изд. «Искусство», М. — Л., 1949, стр. 402.
Сноски к стр. 72
1 В. Стасов. Лжехудожество и лжехудожники. «Новости», 1905, № 229, 20 ноября, стр. 2.
2 Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. III, М. — Л., 1930, стр. 598.
3 В. В. Стасов. Собрание сочинений, т. I, отд. I, стб. 522.
4 Там же, стб. 537.
5 В. Стасов. Николай Николаевич Ге. М., 1904, стр. 145.
6 Там же, стр. 148, 149.
Сноски к стр. 73
1 Здесь не место останавливаться сколько-нибудь подробно на ошибочных или не вполне правильных стасовских оценках. Отметим лишь, что в ряде высказываний Стасова проявилась недооценка многих явлений русского изобразительного искусства XVIII и первой половины XIX века (в частности, он не сумел определить историческое место К. Брюллова, Венецианова и др.); он не всегда был на высоте при анализе некоторых крупных произведений таких своих современников-художников, как Васнецов или Суриков. Стасов не понял всего величия и значения Чайковского, особенно как композитора оперной и вообще вокальной музыки. Стасов повторял некоторые ошибочные суждения Писарева о Пушкине; из писателей-современников он, например, недостаточно оценил Тургенева.
2 Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Сборник воспоминаний, СПб., б. г. <1910>, стр. 38.
Сноски к стр. 74
1 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. I, отд. I, стб. 541.
2 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. IV, 1906, стр. 216.
Сноски к стр. 75
1 «Искра», 1863, № 38, 4 октября, стр. 530. Искусствовед Н. А. Дмитриева в статьях «Традиции русской революционно-демократической критики» (сб. «Вопросы теории советского изобразительного искусства», М., 1950, стр. 248) и «Из истории русской художественной критики 60—70-х гг. XIX века» («Искусство», 1950, № 2, стр. 88—89) высказывает ряд соображений в пользу принадлежности статьи «Искры» Щедрину. Но в «Искусстве» 1955 г. (№ 6, стр. 66) устанавливается авторство И. Дмитриева.
2 В 1912 году, выступая на съезде художников, И. Е. Репин говорил: «... Академия Художеств помогала мне только стенами, натурой; а душою я всецело питался от горевшего ярким факелом И. Н. Крамского. Да разве я один... всё образованное общество, не чуждое искусству, все давно окончившие курс Академии Художеств художники — все были заинтересованы мнением „Артели“ по всем вопросам искусства. В 17 линии Васильевского Острова <местонахождение артели>... уже народилась новая русская деятельная Академия, и она, а не казенная старушка, вела тогда русское искусство» (Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде, т. III, Пгр., б. г., стр. 90).
Сноски к стр. 76
1 И. Н. Крамской, Письма, т. I, 1937, стр. 334.
2 Там же, т. II, 1937, стр. 289.
Сноски к стр. 77
1 Переписка М. А. Балакирева с В. В. Стасовым, т. I, М., 1935, стр. 159, 96, 178, 271.
Сноски к стр. 78
1 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. III, СПб., 1894, стб. 755, 756.
2 «Музыкальный современник», 1916, № 6, стр. 71.
Сноски к стр. 79
1 А. П. Бородин, его жизнь, переписка и музыкальные статьи. СПб., 1889, стр. 279.
2 Н. А. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. Изд. 4-е, 1932, стр. 38.
3 «Музыкальный современник», 1915, № 2, стр. 93.
4 При всей сложности, противоречивости, отмечавшей пути развития русских консерваторий, опасения «кучкистов» не оправдались; консерватории сыграли в дальнейшем выдающуюся, прогрессивную роль, значительно содействовали росту национальной музыкальной культуры. Один из видных представителей самой «могучей кучки» Н. А. Римский-Корсаков, с начала 70-х годов бывший профессором Петербургской консерватории, вписал славнейшую страницу в историю консерваторского образования.
Сноски к стр. 80
1 М. П. Мусоргский, Письма и документы. Собрал А. Н. Римский-Корсаков, М. — Л., 1932, стр. 251.
2 Там же, стр. 293.
3 Там же, стр. 217.
Сноски к стр. 81
1 Как известно, Чернышевский признавал оперу «полнейшей формой музыки как искусства» (II, 63).
2 «Ежегодник императорских театров», 1909, вып. III, стр. 53.
3 Ц. А. Кюи. Музыкально-критические статьи, т. I, Пгр., 1918, стр. 70.
4 Переписка М. А. Балакирева с В. В. Стасовым, т. I, 1935, стр. 145. Характерны (хотя и сказаны значительно позднее) слова Стасова о заслугах Бетховена: «Бетховен... до корня разрушал... тот ограниченный предрассудок, что „музыка создана для музыки“ (искусство для искусства)... Музыка становилась великим и серьезным делом в жизни человека...» (В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. IV, 1906, стр. 237).
5 М. П. Мусоргский, Письма и документы, 1932, стр. 424.
Сноски к стр. 82
1 Переписка М. А. Балакирева с В. В. Стасовым, т. I, 1935, стр. 114.
2 А. Рубинштейн. Музыка и ее представители. М., 1891, стр. 13.
Сноски к стр. 83
1 Игорь Глебов. Антон Григорьевич Рубинштейн. М., 1929, стр. 4.
2 П. И. Чайковский, Музыкальные фельетоны и заметки, М., 1898, стр. 19.
3 П. И. Чайковский, Переписка с Н. Ф. фон-Мекк, т. III, М. — Л., 1936, стр. 381.
Сноски к стр. 84
1 А. Н. Серов, Критические статьи, т. I, СПб., 1892, стр. 420.
2 А. Н. Серов, Критические статьи, т. IV, СПб., 1895, стр. 1832.
3 Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), 1948, стр. 138—139.
4 А. Н. Серов, Критические статьи, т. II, 1892, стр. 1019.
5 Георгий Хубов. Жизнь А. Серова. М. — Л., 1950, стр. 82.
Сноски к стр. 85
1 В течение 60-х годов были написаны первая и вторая симфонии Римского-Корсакова, первая симфония Бородина, первая симфония Чайковского, симфонические картины Садко» Римского-Корсакова и «Ночь на Лысой горе» Мусоргского и т. д.
Сноски к стр. 86
1 А. Н. Островский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1952, стр. 8.
2 Там же, стр. 204.
3 Михаил Семенович Щепкин. Записки. Письма. М., 1952, стр. 261.
Сноски к стр. 87
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, 1900, стр. 372.
2 Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. Академии Наук СССР, 1952, стр. 268, 186.
3 См.: Протоколы Особого совещания для составления нового устава о печати (10 февраля — 4 декабря 1905 г.), СПб., 1913, стр. 8.
4 «Колокол», 1861, лист 98—99, 15 мая, стр. 830.
Сноски к стр. 88
1 Театральные заметки. — «Заря», 1871, № 1, отд. II, стр. 114.
2 См. в настоящем томе общий обзор драматургии, главы о Добролюбове, Чернышевском, Островском.
3 Дата, впрочем, условная — театр имел большую предисторию.
4 «Правда», 1937, № 264, 24 сентября (передовая «Гордость русского театрального искусства»).
Сноски к стр. 89
1 Заметки Нового поэта. — «Современник», 1857, № 6, стр. 286, 291.
Сноски к стр. 90
1 Сб. «Князь Александр Иванович Урусов», т. I, М., 1907, стр. 55.
2 Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М. — Л., 1936, стр. 151.
3 А. Н. Островский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1952, стр. 207.
4 Там же, стр. 66.
Сноски к стр. 91
1 «Вестник Европы», 1909, № 3, стр. 259.
2 «Советское искусство», 1940, № 59, 17 ноября, стр. 2 (С. Дурылин. Лев Толстой и актеры).
3 А. Н. Островский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1952, стр. 8.
4 В. Стасов, Избранные статьи о музыке, Л. — М., 1949, стр. 316.
Сноски к стр. 94
1 Очень опасно (англ.).
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 263.
Сноски к стр. 95
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVII, стр. 13.
Сноски к стр. 96
1 «Русский вестник», 1861, № 8, стр. 79.
Сноски к стр. 98
1 «Время», 1861, т. V, № 10, отд. IV, стр. 194.
2 «Современник», 1861, т. 90, № 12, отд. II, стр. 179.
Сноски к стр. 99
1 «Современник», 1861, № 12, отд. II, стр. 182.
2 «Время», 1862, № 1, отд. II, стр. 71, 73.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.
Сноски к стр. 100
1 «Литературная газета», 1934, № 101, 10 августа.
2 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 216, 217.
Сноски к стр. 101
1 «Русское слово», 1861, № 5, отд. II, стр. 57.
2 Д. И. Писарев, Избранные философские и общественно-политические статьи, 1949, стр. 127.
Сноски к стр. 103
1 «Современник», 1864, № 1, отд. II, стр. 27.
2 Там же, стр. 28.
Сноски к стр. 104
1 В. Зайцев. Глуповцы, попавшие в «Современник». «Русское слово», 1864, № 2, отд. II, стр. 34—42.
Сноски к стр. 105
1 «Русское слово», 1864, № 2, отд. II, стр. 12.
2 Там же, стр. 42.
3 Наша общественная жизнь. — «Современник», 1864, № 3, отд. II, стр. 27—62.
Сноски к стр. 107
1 Д. И. Писарев, Избранные сочинения, т. II, 1935, стр. 35.
2 «Русское слово», 1864, № 9, отд. II, стр. 36.
Сноски к стр. 108
1 В. Зайцев. Последний философ-идеалист. «Русское слово», 1864, № 12, стр. 153—196.
2 Там же, стр. 166.
3 «Русское слово», 1865, № 5, отд. II, стр. 7.
4 М. Антонович. Современная эстетическая теория. «Современник», 1865, № 3, отд. II, стр. 37—82.
Сноски к стр. 109
1 Итоги. — «Современник», 1865, № 8, стр. 297—332.
2 Посмотрим! — «Русское слово», 1865, № 9, отд. II, стр. 1—78.