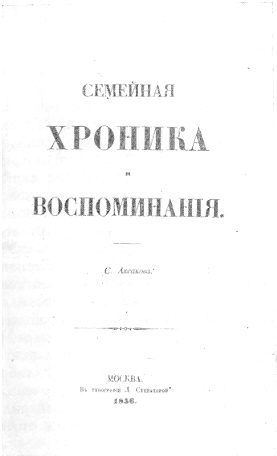- 571 -
Аксаков
1
Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20 сентября (1 октября нов. ст.) 1791 года в Уфе, в дворянской семье, обеспеченной, хотя и небогатой. Семейные воздействия, которым подвергался в детстве будущий писатель, были противоречивы и сложны. Тимофей Степанович Аксаков, отец писателя, был типичный деревенский помещик, воспитанный в степной глуши в патриархальных обычаях и понятиях. Совершенную ему противоположность представляла его жена, Мария Николаевна, в девичестве Зубова, дочь товарища наместника Уфимского края. Она славилась своей красотой и умом, много читала и обладала редкой для женщин того времени образованностью, что не мешало ей, впрочем, разделять светские понятия и предрассудки, обычные для людей ее круга. Выходя замуж, она надеялась перевоспитать мужа и хотя бы отчасти возвысить до своего умственного уровня. Однако ее ум и твердый характер оказались бессильными перед провинциальной патриархально-дворянской стихией, сформировавшей натуру ее мужа. Душевной близости с мужем у нее не установилось, и всю свою любовь Мария Николаевна перенесла на детей, в особенности на старшего сына Сергея Тимофеевича.
Все это наложило свой отпечаток и на личность будущего писателя. Его детство протекло в патриархальной помещичьей обстановке конца XVIII века. Тогда же он вошел в живое общение с природой, которую полюбил до самозабвения, пристрастился к рыбной ловле и к охоте, ружейной и соколиной, к собиранию грибов и ягод, к ловле птиц — словом, к разнообразным видам и формам «охоты» в самом широком значении этого слова.
Крепостной дядька Евсеич, ходивший за молодым Аксаковым с преданностью няньки, был почти единственным представителем крестьянского мира, с которым общался будущий писатель. Общение с Евсеичем, конечно, не прошло для него бесследно, от него получал он первые уроки простонародной русской речи, колоритной и меткой, из разговоров с ним узнавал о тяготах и невзгодах крестьянской жизни.
В поместье отца и деда, в старом Аксакове, впервые соприкоснулся Сергей Тимофеевич с народной поэзией, с народными песнями и святочными играми. Святочные игры Аксаков мог наблюдать только тайком от матери, нарушая ее прямой запрет; простонародные игры и забавы оскорбляли светские понятия и привычки Марии Николаевны, которая делала все от нее зависящее, чтобы отдалить сына от сколько-нибудь тесного общения с дворовыми людьми, с крепостными крестьянами и прочим «подлым людом». Единственное, что она допускала для сына в этом отношении, было сказывание сказок на сон грядущий. Так познакомился
- 572 -
Аксаков в раннем детстве с замечательной крепостной сказочницей Пелагеей, тешившей своим искусством еще его деда. Особенно запомнившуюся ему одну из ее сказок он воспроизвел впоследствии в своем знаменитом «Аленьком цветочке».
Если влияние матери сильно затрудняло знакомство будущего писателя с народной поэзией и крепостным бытом, то воздействия книжной культуры и образованности шли прежде всего от нее. В раннем детстве Аксаков увлекся чтением. Он читал различные переводные книги, вроде «Зеркала добродетели», которое выучил почти наизусть; читал с интересом и «Домашний лечебник» Бухана, с которым не расставалась его мать; из описаний трав и лекарственных снадобий этого лечебника мальчик получал первые сведения по естественной истории.
Важным эпизодом в развитии Аксакова явилось его знакомство с «Детским чтением» Новикова. Это была лучшая по тому времени книга для детей, дававшая молодым читателям XVIII века разнообразный круг знаний о главнейших явлениях природы. Разумеется, все, что касалось природы, Аксаков воспринимал с живым интересом. О «Детском чтении» Новикова с большой похвалой отозвался много лет спустя Белинский, противопоставив в одной из своих статей эту старую книгу пустым детским рассказам его времени.
Сам Новиков видел в составлении этой книги дело большой важности. Он ставил своей задачей прежде всего приучить детей к родному языку и тем воспитать в них патриотическое чувство. К своим юным читателям Новиков обращался с горячими патриотическими словами: «Всякому, кто любит свое Отечество, — писал он, — весьма прискорбно видеть многих из вас, которые лучше знают по-французски, нежели по-русски, и которые, вместо того, чтобы, как говорится, с матерним млеком всасывать в себя любовь к Отечеству, всасывают, питают, возрощают и укореняют в себе разные предубеждения против всего, что только отечественным называется».1
Такого предубеждения у Аксакова никогда не было. Его детское чтение состояло преимущественно из русских книг. Еще в детстве ознакомился он и с произведениями знаменитых русских поэтов XVIII века. «Россиада» Хераскова и трагедии Сумарокова были им усвоены с жадностью и увлечением. Он упивался громкими стихами этих поэтов и приучился вслух читать их в торжественной, общепринятой тогда напевной манере. На русском языке читал он и «Историю о младшем Кире» Ксенофонта и сказки Шехерезады. Сказками вообще и волшебными сказками в особенности зачитывался он до беспамятства и любил пересказывать их, внося в свои вольные пересказы, незаметно для себя, подробности и целые эпизоды собственного сочинения. Домашнее воспитание Аксакова по тому времени было очень основательным; оно как нельзя лучше подготовило его к поступлению в гимназию.
В декабре 1799 года, по совету друзей, родители Аксакова поместили сына в Казанскую гимназию.
Казанская гимназия заметно выделялась среди учебных заведений того времени; это было нечто большее, чем обычная средняя школа, по своему характеру она скорее приближалась к типу лицея. Цель учебного заведения, как было сформулировано в уставе, заключалась в том, чтобы из воспитанников ее «современем можно было получать людей способных более к гражданской жизни и к военной и гражданской службе, нежели
- 573 -
к состоянию, отличающему ученого человека, для которых есть в государстве другие высшие училища».1
Учителя Казанской гимназии были вполне на уровне своего призвания, большинство из них были воспитанниками Московского университета, некоторые учителя были людьми выдающимися, как, например, преподаватель русского языка и словесности Ибрагимов, дававший своим ученикам серьезные знания по грамматике и литературе. Благодарную память о нем сохранили многие воспитанники Казанской гимназии, в том числе и Аксаков, который и в студенческие годы иногда посещал уроки Ибрагимова.
В гимназии Аксаков считался в числе хороших учеников. Сохранившаяся ведомость успехов за 1802 год, в которой по каждому предмету отмечаются сперва успехи, потом поведение, гласит: «Ученик Сергей Аксаков — из арифметики отличен, хорош; из российского отличен, тих; из французского прилежен, тих; из катехизиса не худ, смирен; из рисования слаб, хорош; из музыки прилежен, хорош».
В свои гимназические годы Аксаков жил на квартире у преподавателя математики, впоследствии — профессора университета, Г. И. Карташевского, который взял на себя также и заботы о домашнем воспитании Аксакова. Карташевский выписывал для Аксакова множество книг, русских и иностранных. Среди них были сочинения Ломоносова, Державина, Дмитриева, Капниста, Хемницера. На этих авторах и формировались литературные вкусы молодого Аксакова.
Карташевский принадлежал к числу литературных староверов, и в то время, когда все уже увлекались Карамзиным, он хранил верность своим старым кумирам. Попробовал было увлечься Карамзиным (не прозой его, а поэзией) и Аксаков, но Карташевский сурово охладил его восторг, и Карамзин был изгнан из домашней библиотеки Аксакова. Словом, и патриархальные традиции, вынесенные из родной усадьбы, и влияние Карташевского, — все сошлось к тому, чтобы сделать Аксакова приверженцем старой литературной школы и врагом новых литературных веяний. В своих литературных вкусах Аксаков был одинок в гимназии, все его товарищи были горячими поклонниками Карамзина, и ему пришлось выслушать немало жестоких попреков и язвительных насмешек за свою приверженность к Литературной старине. Зато, когда в 1803 году появилось «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» Шишкова, Аксаков торжествовал: его литературные вкусы получили теоретическую опору.
14 февраля 1805 года в Казани открылся университет, профессорами которого стали некоторые гимназические учителя, студентами же были назначены старшие воспитанники гимназии, в числе их и С. Т. Аксаков. В студенческие годы Аксаков увлекся театром, который еще в гимназическую пору захватил его с такой же силой, как чтение и охота. В университете составилась своя труппа, Аксаков был ее деятельным участником и одно время исполнял даже обязанность руководителя университетского театра. Он выступал во многих спектаклях, причем успех его был так велик, что наиболее горячие поклонники сравнивали его со знаменитым Плавильщиковым.
Много времени и внимания уделял Аксаков в студенческие годы и естественной истории. Под влиянием профессора Фукса вместе со своим другом Александром Панаевым он стал коллекционировать бабочек и, по своему обыкновению, увлекся этим занятием до страсти. Не удовлетворенный
- 574 -
сухостью описаний различных пород бабочек в учебниках, Аксаков поправлял и дополнял эти описания на основании собственных наблюдений.
В 1807 году Аксаков окончил университет, который дал ему скорее общее развитие, чем сколько-нибудь основательные знания. Не вынес Аксаков из университета и передовых общественных идей, да и вообще политические вопросы не занимали его.
С 1808 по 1811 год Аксаков жил в Петербурге, где служил переводчиком в комиссии по составлению законов. Впрочем, служба мало интересовала его, он попрежнему увлекался театром, а завязавшееся в это время близкое знакомство с актером Я. Е. Шушериным воспринималось им как значительный эпизод в его жизни. Шушерин волновал воображение Аксакова своими рассказами о театральной жизни и театральных знаменитостях, к тому же он давал Аксакову практические уроки декламации и актерской игры. В это же время Аксаков познакомился с А. С. Шишковым, запросто бывал у него и много разговаривал с ним о литературе. Однако при всем своем преклонении перед Шишковым Аксаков позволял себе кое в чем с ним не соглашаться, и когда в 1811 году появилась книга Шишкова «Разговоры о словесности между двумя лицами Аз и Буки», то в лице собеседника, обозначенного буквой Аз и выступающего иногда в роли очень наивного вопрошателя, Аксаков с добродушным смехом узнал самого себя.
В 1812 году Аксаков находился в Москве и здесь вошел в круг московских литераторов. В числе его знакомых были С. Н. Глинка, Н. П. Николев, Н. И. Ильин, М. Т. Каченовский, А. Ф. Мерзляков, кн. А. А. Шаховской, кн. И. М. Долгоруков и др. Здесь же жил в то время и актер Я. Е. Шушерин, общение с которым поддерживало давний интерес Аксакова к театру. В Москве застала Аксакова и военная гроза 1812 года, но весь поглощенный литературными и театральными интересами, Аксаков довольно равнодушно встретил великие исторические события. В своих воспоминаниях о Я. Е. Шушерине он откровенно признается в этом. «Всего менее думали о Наполеоне я и Шушерин, — пишет он, — мы думали о будущем его бенефисе, обещанном ему в исходе декабря...» (III, 118).1 И это — далеко не случайный факт в биографии Аксакова. Еще в 1807 году, когда Аксаков был студентом, некоторые его товарищи подали прошения об увольнении из университета и отправились в действующую армию для борьбы с Наполеоном, Аксакову же в голову не приходило «лететь с мечом на поле брани», о чем он «краснея» сознавался впоследствии в своих «Воспоминаниях» (I, 359).
К 1812 году относится и вступление Аксакова в литературу. В этом году он перевел трагедию Софокла «Филоктет» в переложении Лагарпа, предназначая свой перевод для бенефиса Шушерина и снабдив его посвящением знаменитому актеру. Военные события помешали ее опубликованию, и она была издана лишь в 1816 году. В 1814—1815 годах Аксаков жил то в Москве, то в Петербурге. В Петербурге он познакомился с Державиным, которому с увлечением читал его стихи.
В 1816 году Аксаков женился и на несколько лет безвыездно поселился в деревне, намереваясь стать образцовым помещиком. Однако литературные и театральные интересы все время отвлекали его от хозяйственных забот.
- 575 -
В 1819 году Аксаков перевел стихами комедию Мольера «Школа мужей», которая не была напечатана, но ставилась по рукописи на петербургской сцене. В 1820 году он перевел десятую сатиру Буало, поэта, весьма ценимого сторонниками классического направления. За свои переводы Аксаков был вскоре избран в члены «Общества любителей российской словесности».
Приехав в 1820 году на время в Москву, писатель близко сошелся с М. Н. Загоскиным, с водевилистом Д. И. Писаревым и возобновил знакомство с театральными деятелями — кн. А. А. Шаховским и Ф. Ф. Кокошкиным.
В 1821 году Аксаков опубликовал в «Вестнике Европы» «Послание к Вяземскому», написанное в защиту Каченовского, на которого Вяземский язвительно нападал, а также пародийную «Элегию в новом вкусе», направленную против подражателей Жуковского и подписанную псевдонимом «Подражаев». Характерно, однако, что, будучи сторонником классицизма и ненавистником новой поэзии, Аксаков не прошел мимо Пушкина. Стихотворение Аксакова «Уральский казак», помещенное в том же году и в том же журнале, представляет собой подражение пушкинской «Черной шали».
Вернувшись в деревню, Аксаков вновь безвыездно поселился там до 1826 года. Его литературные занятия этого времени не были обширны. Он перевел восьмую сатиру Буало, отрывки из которой были опубликованы в 1828 и 1829 годах, написал рецензию «О переводе „Федры“», выполненном Лобановым (1824), и небольшую статью «Мысли и замечания о театре и театральном искусстве» (1825), представляющую собой ряд технических советов актерам.
События, связанные со смертью Александра I, сильно взволновали Аксакова. Предполагавшееся вступление на престол Константина Павловича, женатого на польке и католичке, не мало его смущало, зато восшествие на престол Николая I совершенно успокоило его. Восстание 14 декабря, конечно, не могло встретить его сочувствия. Нимало не сомневавшийся в законности и незыблемости самодержавной монархии, Аксаков был убежден, что не только помещики, но и помещичьи крестьяне «пришли бы в отчаяние, если б им объявили, что у них не будет царя» (IV, 53).
В 1827 году Аксаков при содействии Шишкова получил должность цензора при Московском цензурном комитете и работал в этой должности до 1832 года, стараясь при этом избегать тех крайностей, на которые охотно шли цензурные мракобесы вроде кн. Мещерского. С ним Аксаков спорил, порицая его совершенно изуверские правила и приемы. С. Т. Аксаков оказался далеко не таким ревностным служакой, какие нужны были николаевскому правительству, и в 1832 году он был уволен по личному распоряжению Николая I. Между прочим, Аксаков цензуровал «Московский телеграф» Н. Полевого, с которым у него уже были свои литературно-политические счеты. Воинствующий разночинец и непримиримый противник классицизма, Н. Полевой сразу же вызвал раздражение Аксакова. К тому же Полевой был в открытой вражде с реакционными театральными деятелями вроде Шаховского или Писарева, с которыми Аксаков поддерживал прочные связи. Естественно, что частые нападки Писарева на Полевого в водевильных куплетах встречали сочувственное отношение со стороны Аксакова.
В 1828 и 1829 годах Аксаков сотрудничал в «Московском вестнике» Погодина и в «Галатее» Раича. В обоих журналах он помещал театральные
- 576 -
рецензии, причем иной раз воспроизводил в них куплеты Писарева, в которых тот издевался над «неблагородным» происхождением Полевого. Когда же Полевой задел кн. Шаховского и лично Аксакова, пренебрежительно отозвавшись о его переводе восьмой сатиры Буало, Аксаков ответил в «Галатее» (1829, № 9) резкой статьей, в которой заявил, что «лицо, представляемое им <Полевым> в нашей литературе, не только смешно, но и вредно...» и что «унижать его литературное лицо — есть долг каждого любителя словесности» (IV, 452).
Борьба Аксакова с Полевым носила реакционный характер. Однако был в этой борьбе один эпизод, в котором Аксаков объективно выступил в прогрессивной роли. Когда Полевой, вначале восторженно приветствовавший Пушкина, затем выступил против него, Аксаков обратился в 1830 году с открытым «Письмом к издателю „Московского вестника“» в защиту Пушкина. Порицая «неумеренные похвалы» Пушкину, раздававшиеся ранее на страницах «Московского телеграфа», Аксаков с еще большим негодованием ополчился против порицателей великого поэта. «Он имеет такого рода достоинство, — писал Аксаков, — какого не имел еще ни один русский поэт-стихотворец: силу и точность в изображениях не только видимых предметов, но и мгновенных движений души человеческой, свою особенную чувствительность, сопровождаемую горькою усмешкою... Многие стихи его, огненными чертами врезанные в душу читателей, сделались народным достоянием!» (IV, 152). Статья эта примечательна тем, что Аксаков отмечает и горячо приветствует именно реализм пушкинского творчества, правильное и точное воспроизведение действительности и внутреннего мира человека.
Надо отметить, что стремление к простоте и жизненной правдоподобности ясно сказывалось у Аксакова и в его театральных рецензиях 1828 и 1829 годов. В своих разборах театральных постановок Аксаков не раз советовал актерам «обратиться к натуре, истине, простоте; изучить искусство представлять на театре людей не на ходулях, а в настоящем их виде» (IV, 396). Сопоставляя Каратыгина, типичного представителя торжественной классической манеры, с Мочаловым, вступавшим уже на путь сценического реализма, Аксаков давал решительное предпочтение последнему, отмечая в его искусстве трудные и высокие «красоты игры простой, истинной... ничто лучше не доказывает самобытности его <Мочалова> таланта, как смелое введение простого разговора на сцене и упорное его продолжение» (IV, 433, 434). Близость к разговорному языку — в устах Аксакова высшая похвала не только актерам, но и драматургам, точно так же как и близость содержания театральных представлений к русским нравам и русскому быту.
Стремление к простоте и реалистической точности описаний пробивается у Аксакова сквозь условные формы классицизма и в «русской идиллии» «Рыбачье горе» (1829), где мы впервые встречаемся у него с изображением рыбной ловли, подготавливающим его позднейшие прославленные описания рыболовного дела. В этой идиллии встречаются точные и живые бытовые детали и эпизоды вроде таких, например:
...шум небольшой будто шопот
Кругом пробежал и затих, и следов не бывало;
Лишь изредка крупная рыба плеснется, как плаха,
И круг, расширяясь, с водой неприметно сольется...Едва половина лесы показалась, и мигом,
Как молонья, прянула вверх аршинная рыба...
Какая ж, не мог разглядеть, задрожали и руки,
- 577 -
И свету не взвидел от страха, что с рыбой не слажу:
Крючок небольшой и леса только в шесть волосочков!
Водить я ее и туда и сюда... присмирела.
Гляжу, разглядел наконец: головлина ужасный!(IV, 193, 194).
В приведенных фактах, обнаруживающих тяготение Аксакова к простоте и жизненной правде в искусстве, сказывалось созревание — на первых порах стихийное и неосознанное — реалистических тенденций. Нет сомнения в том, что этот процесс проходил не без влияния на Аксакова великих завоеваний творчества Пушкина. Однако самым важным фактом в литературной биографии Аксакова, определившим его окончательное вступление на путь реализма, было сближение с Гоголем, перешедшее затем в тесную дружбу, продолжавшуюся с 1832 года до смерти великого писателя. Гоголь стал своим человеком в доме Аксаковых, читал там свои произведения, выслушивал некоторые отрывки из «Семейной хроники» Аксакова, работа над которой тогда еще только начиналась, и поощрял своего старшего друга к писанию воспоминаний. Что же касается Аксакова, то он оценил гениальность Гоголя с первых же его шагов в литературе. Это сразу выделило Аксакова из круга литературных староверов, оставшихся «по сю сторону Гоголя», по позднейшему выражению сына Аксакова, Ивана Сергеевича. Восхищаясь искусством Гоголя, Аксаков трезво понимал пагубность для великого писателя длительного пребывания за пределами России; он отрицательно относился к религиозно-мистической экзальтации, проявившейся у Гоголя в последний период его жизни, и осудил «Выбранные места из переписки с друзьями».
В своем отношении к Гоголю, как и в некоторых других вопросах, Аксаков зависел от старшего сына своего Константина Сергеевича. К. С. Аксаков сблизил своего отца с кругом московских славянофилов и с их идеями, которые Сергей Тимофеевич воспринял как продолжение старого «славянофильства» шишковского типа. Была близка Аксакову и консервативная патриархальность молодых славянофилов, разделял он их тяготение к русской старине и русской одежде. Что же касается философских интересов славянофильства, то они остались Аксакову чужды, а к немецкой метафизике, которой отдали дань славянофилы во главе с Константином Сергеевичем, Аксаков относился с явным нерасположением.
В 1834 году появился небольшой рассказ Аксакова «Буран», написанный на основе действительного случая, которому был свидетелем автор. Аксаков не придавал этому рассказу большого значения и считал его безделицей, написанной за неимением времени сочинить что-нибудь более значительное. Однако именно с этого рассказа начинается тот период литературной деятельности Аксакова, который уже на старости лет принес ему громкую известность. В «Буране» Аксакова уже сказалось несомненное воздействие Гоголя. Безыскусственное, ясное и живое повествование, реалистическая точность описаний, интерес к быту и стремление изображать его правдиво и просто — все это свидетельствовало о вступлении Аксакова на путь реализма.
В 1847 году появились «Записки об уженье рыбы», в 1852 году — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», в 1855 году — «Рассказы и воспоминания охотника», в 1856 году — «Семейная хроника и воспоминания» (отрывки из «Семейной хроники» были напечатаны еще в 1846 году), в 1858 году — «Детские годы Багрова-внука» и «Разные сочинения». В этих произведениях сказалась гоголевская простота повествования,
- 578 -
его интерес «к натуре», стремление правдиво изображать обыденную действительность, словом, все то, что усвоил Аксаков у Гоголя.
Совершился поздний расцвет творчества Аксакова, и он вошел в литературу как крупный писатель 40—50-х годов. Аксаков же — незначительный литератор-дилетант и театральный критик начала века был к тому времени уже прочно забыт.
В это время Аксаков нигде не служил. В 1839 году он оставил должность в Константиновском межевом институте, где работал с 1834 года. Выйдя в отставку, он жил большим барином то в Москве, то в подмосковном имении Абрамцево. Дом Аксаковых славился патриархальным хлебосольством и гостеприимством. Добрый нрав и радушие старика Аксакова привлекали множество гостей, которые наполняли его дом с утра до вечера. Дом этот приобрел еще особое значение как центр славянофильства, его штаб-квартира. У сыновей Аксакова, которые принадлежали к числу главных деятелей славянофильства, постоянно бывали братья Киреевские, Хомяков, Шевырев и другие представители славянофильской мысли.
В конце 40-х годов Аксаков начал хворать. Болезнь глаз заставила его надолго затвориться в темной комнате, но Аксаков не прекратил литературного труда. Даже потеря одного глаза не заставила его отказаться от работы. Тяжело больной, он продолжал писать, а когда это оказалось невозможным, он стал диктовать свои сочинения. Последнюю повесть «Наташа» Аксакову уже не пришлось довести до конца. 30 апреля 1859 года Аксаков умер.
2
Все произведения, принесшие Аксакову громкую известность и оставившие значительный след в литературе, представляют собой воспоминания. Это относится не только к «Семейной хронике» и «Детским годам Багрова-внука», но и к тем охотничьим книгам, которые были новым этапом в развитии писателя. «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника» — это тоже своего рода воспоминания, мемуары старого охотника, составленные отчасти по собственным заметкам, а больше по памяти. Одна из книг этого рода так прямо и названа «Рассказы и воспоминания охотника». Таким образом, Аксаков сознательно отказался от литературной «выдумки», от художественного «вымысла» и ставил своей задачей бесхитростно рассказать читателям то, чему он был в жизни свидетелем. Завет новой литературной школы — сближение литературы с жизнью — он понимает в самом простом и первичном смысле этого слова, отчасти как летописание, отчасти как практическое наставление.
В авторском вступлении к «Запискам об уженье рыбы» сказано, что эти записки написаны «для освежения... воспоминаний», а также и ради пользы, «потому что всякая опытность и наблюдение человека, страстно к чему-нибудь привязанного, могут быть полезны для людей, разделяющих его любовь к тому же предмету» (V, I). Итак, воспоминания, сопряженные с пользой для читателей, — таков был замысел книги.
Однако, кроме элементарной пользы, Аксаков преследует цель принести пользу и более высокую, именно научную. Не претендуя на то, чтобы его книга имела значение «натуральной истории рыб» (V, V), Аксаков надеется в то же время, что его наблюдения могут пригодиться и для ученого-естественника. «Только из специальных знаний людей, практически изучивших свое дело, могут быть заимствованы живые подробности, недоступные
- 579 -
для кабинетного ученого» (V, 193), — писал Аксаков во вступлении к «Рассказам и воспоминаниям охотника».
Эти его надежды оправдались вполне. «Записками об уженье рыбы» заинтересовался известный русский ученый К. Ф. Рулье, который еще до появления знаменитой книги Дарвина и независимо от него развивал идеи эволюции органического мира, превращения видов. К. Ф. Рулье приложил к третьему изданию «Записок об уженье рыбы» специальную научную работу, основанную на некоторых наблюдениях Аксакова.
Так же высоко оценил Рулье и статью Аксакова «Замечания и наблюдения охотника брать грибы» (1856), которую Рулье поместил в «Вестнике естественных наук», издававшемся под его редакцией; в примечании он специально отметил: «С научной точки зрения эта статья чудесно обрисовывает зависимость грибов, этих низших растительных форм, от внешних условий...» (V, 285).
Уже много лет спустя после смерти Аксакова другой ученый — ихтиолог Н. А. Варпаховский снабдил «Записки об уженье рыбы» своими примечаниями и специальной статьей, содержавшей краткое научное описание видов рыб, упоминаемых в книге Аксакова. Все это свидетельствует о том, что охотничьи воспоминания Аксакова действительно принесли пользу русскому естествознанию именно тем, на что Аксаков и рассчитывал, т. е. «живыми подробностями», в них заключавшимися.
Эти «живые подробности», в изобилии разбросанные по охотничьим книгам Аксакова, придают им и несомненное литературно-художественное значение. Уже в «Записках об уженье рыбы» каждая главка заключает в себе своеобразный художественный портрет одного из обитателей водного царства. Автор старается с максимальной точностью передать общий вид той или иной рыбы, ее повадки, ее окраску, различные ее особенности. Он отмечает, например, что у ерша темносиние глаза, что он «весь пестрый, кроме брюшка, но пестрины какого-то темноватого, неопределенного цвета», что «он весь блестит зеленовато-золотистым лоском, особенно щеки», что «хвост и верхние перья» у него «пестроваты», а «нижние перья беловато-серые» (V, 70). Эти подробности и множество других придают описаниям Аксакова удивительную свежесть, реалистическую точность и наглядность. Помимо «портретов», читатель находит в «Записках об уженье» и живые сценки из жизни рыб, так сказать, картины нравов. Изображения, например, алчной хитрости щук, хитрости, доходящей, по словам автора, до «неразумного излишества», приобретали под пером Аксакова характер сюжетных эпизодов, полных напряженного действия. В еще большей степени это относится к разбросанным по книге живым и ярким сценам из охотничьей жизни, рассказам о необыкновенных или редких случаях рыболовной охоты. Во вступлении к «Рассказам и воспоминаниям охотника» Аксаков писал: «Несмотря на увлечение, с которым я всегда предавался разного рода охотам, склонность к наблюдению нравов птиц, зверей и рыб никогда меня не оставляла и даже принуждала иногда, для удовлетворения любопытства, — жертвовать добычею, что для горячего охотника не шутка» (V, 193).
Вот именно эти черты Аксакова — любопытство к живой природе, «склонность к наблюдению» — и сделали его книги не только пособиями для охотников и подсобным материалом для ученых, но и художественными произведениями, реалистическими очерками об охоте, животном мире и русской природе. Аксаков начал печатать свои охотничьи книги в то время, когда писатели натуральной школы ставили перед литературой задачу изучения, исследования жизни, задачу приближения литературы
- 580 -
к науке, когда беллетристический очерк, не претендующий на художественную законченность повести или романа, приобретал особенно большое значение. Книги Аксакова сближались отчасти с «физиологическими очерками». Недаром Тургенев в 1852 году назвал описания птиц в «Записках ружейного охотника» «птичьими физиологиями».1 Содействуя укреплению реалистического метода в литературе, книги очерков Аксакова по духу своему, однако, резко отличались от произведений натуральной школы своим патриархальным тоном, своей отдаленностью от социальных вопросов современности.
Певец охоты и русской природы, Аксаков призывал читателей уйти в деревню, подальше от городской жизни с ее борьбой и противоречиями. «Деревня, мир, тишина, спокойствие! — восклицал он во вступлении к «Запискам об уженье рыбы». — Безыскусственность жизни, простота отношений! Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов; туда же бежать от неугомонной внешней деятельности, мелочных, своекорыстных хлопот, бесплодных, бесполезных, хотя и добросовестных мыслей, забот и попечений!» (V, III). На лоне природы, убеждал Аксаков, «улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды!» (V, III). Природа, по Аксакову, вселяет в человека кроткое отношение к жизни, снисходительность к людям, она служит надежным противоядием против губительной рефлексии, разъедающей людей современного поколения: «Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе. Неприметно, мало-помалу, рассеется это недовольство собою, эта презрительная недоверчивость к собственным силам, твердости воли и чистоте помышлений — эта эпидемия нашего века, эта черная немочь души, чуждая здоровой натуре русского человека, но заглядывающая и к нам за грехи наши» (V, III).
Однако эта проповедь «безмятежности мысли» и «кротости чувства» не определяла собой содержания книг Аксакова об охоте. Их бесспорная ценность — прежде всего в изображении природы. В особенности это относится к «Запискам ружейного охотника». Картины природы здесь еще богаче и разнообразнее, чем в первой охотничьей книге Аксакова. Там содержание книги ограничивало возможности Аксакова в воссоздании русского пейзажа только изображением рек. В «Записках ружейного охотника» к этому присоединяются еще такие мощные стихии русской природы, как лес и степь в различные времена года. В описании внешнего вида и внутренней жизни русских лесов и степей Аксаков неистощим. Он наполняет свою книгу разнообразными картинами, с безукоризненной точностью и простотой воссоздающими образы родной природы в ее величавой красоте и силе. Вот, для примера, изображение реки, протекающей по дремучему лесу: «Берега ее не измяты ничьим прикосновением; изредка забредет на них охотник, но не оставит следов своих надолго: сильная растительность, происходящая от избытка влаги, сейчас поднимает смятые травы и цветы. Свободно и могуче обрастают берега ее широколистной и узкою осокой, аиром, палочником и крупными незабудками; а по всем затишьям — необыкновенной величины темнозеленые, круглые лопухи плавают уединенно на длинных стеблях своих, однообразно двигаясь течением реки» (VI, 107). По поводу этой картины Тургенев заметил с восхищением: «Вот описание лесной реки, от которого не отказался бы любой мастер».
- 581 -
Что касается сцен из жизни животных, то их изображения достигают в книге Аксакова необыкновенного мастерства и отчетливости. Он увлекательно рассказывает, как дикие гуси летают на кормежку, как вьют гнезда журавли, как пасутся конские табуны в башкирских степях, как «токуют глухие и простые тетерева, пищат рябчики, храпят на тягах вальдшнепы, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, заунывно, мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки...» (VI, 242—243).
Аксаков не ставит человека в центр природы, не соотносит явления природы с внутренней жизнью человека, не следит за тем, какое действие производит природа на человека. Его цель заключалась в том, чтобы говорить о природе, о лесе, о степи, о зверях и птицах, как о чем-то, что существует независимо от человека, живет своей стихийной жизнью, хотя и годится на потребу человеку. В этом и была та безыскусственность и простота природной жизни, в которой Аксаков видел исцеляющую силу. В природе кипит вечная борьба, птицы и звери непрерывно истребляют друг друга. Аксаков рассказывает об этом с безмятежным спокойствием. Как отметил Ап. Григорьев, он относится к природе совершенно «спокойно, полновластно, как-то домохозяйно...».1 Изображая быт и нравы животных, Аксаков, по словам Тургенева, «не мудрит, не хитрит, не подкладывает ей <природе> посторонних намерений и целей: он наблюдает умно, добросовестно и тонко; он только хочет узнать, увидеть».2 А знает он так много и точно и видит все так ясно и просто, что Тургенев с восторгом заметил: «Если б тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в том уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал нам г. А—в».3
Реализм аксаковских зарисовок внутренней жизни рек, лесов и степей противостоял романтическому отношению к природе, еще не окончательно изжитому в 40-х и начале 50-х годов. Это опять-таки отметил Тургенев: «...несравненно легче сказать горам, что они „побеги праха к небесам“, утесу — что он „хохочет“, молнии — что она „фосфорическая змея“, чем поэтически ясно передать нам величавость утеса над морем, спокойную громадность гор или резкую вспышку молнии... И оно понятно: ничего не может быть труднее человеку, как отделиться от самого себя и вдуматься в явления природы...».4 Реалистическая простота Аксакова была завоевана в борьбе с романтическим методом изображения природы. «Гремите, не сходя с места, всеми громами риторики, — писал Тургенев, — вам большого труда это не будет стоить; попробуйте понять и выразить, что происходит хотя бы в птице, которая смолкает перед дождем, и вы увидите, как это нелегко».5 Аксаков и пошел по этому нелегкому пути живого наблюдения и реалистического изображения природы, свободного от гиперболизации, риторики, от романтического субъективизма. Он примкнул, таким образом, к тому «положительному и практическому» (по словам Тургенева)6 направлению в изображении природы, которое одинаково было ценно и для укрепления реалистического метода в литературе и для освобождения естественной истории от пережитков романтической натурфилософии. Эту черту в сочинениях Аксакова указал Тургенев в
- 582 -
рецензии на «Записки ружейного охотника», выразив уверенность, что книга Аксакова должна иметь успех у естествоиспытателей, потому что сама естественная наука в последнее время обращена более «на живое наблюдение и изучение природы, чем на составление тех иногда поэтических и глубоких, но почти всегда темных и неопределенных гипотез, которыми Шеллинг вскружил головы в начале нынешнего столетия».1
В утверждении реализма, основанного на изучении и наблюдении действительности и граничащего с научной точностью изображения, и заключалось положительное значение охотничьих книг Аксакова.
В стихотворном послании к одному из своих друзей С. Т. Аксаков писал в 1850 году:
Есть, однако, утешитель,
Вечно юный и живой,
Чудотворец и целитель, —
Ухожу к нему порой...
Ухожу я в мир природы,
Мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И — в свои младые годы!2В эти свои младые годы Аксаков уходил в «Воспоминаниях», в «Детских годах Багрова-внука», вступлением к которым явилась его знаменитая «Семейная хроника», справедливо считающаяся лучшим произведением писателя и наиболее значительной частью его автобиографической трилогии. Написанная по свежим семейным преданиям, хроника Аксакова имела значение мемуарного произведения.
Именно как мемуарное произведение о недавнем прошлом оценил в 1856 году «Семейную хронику» Н. Г. Чернышевский. С его точки зрения интерес, возбужденный книгой Аксакова, основывался не исключительно на ее литературных достоинствах. «Гораздо важнее было другое обстоятельство, — писал Чернышевский, — то, что книга эта удовлетворяла слишком сильной потребности нашей в мемуарах, — потребности, находящей себе слишком мало пищи в нашей литературе... В самом деле, у нас вовсе нет мемуаров, относящихся до близкого к нам времени, относящихся до современной эпохи — решительно нет. А потребность в таких мемуарах очень сильна. Только из одной беллетристики мы можем литературным образом расширять наше знание о том, что недавно делалось или делается вокруг нас. Но дело ясное, что одна беллетристика недостаточна в этом случае».3
Мысль Чернышевского совершенно ясна. В то время, когда крепостническая эпоха шла к своему историческому концу, особенно важны были достоверные свидетельства о крепостнических порядках и нравах; эти свидетельства, если они были действительно достоверны и правдивы, могли лучше всяких публицистических рассуждений свидетельствовать о необходимости ликвидации крепостничества. Вот почему в этой же рецензии в качестве примера таких мемуаров о недавнем прошлом, потребность в которых остро ощущается сейчас, Чернышевский называет вслед за «Семейной хроникой» Аксакова «Губернские очерки» Щедрина.
- 583 -
Какую же картину крепостнических порядков старого века рисовал в своей «Семейной хронике» Аксаков и в какой степени она могла содействовать обличению этих порядков? Разумеется, никакой склонности к обличению у Аксакова не было и быть не могло. Он не был борцом против крепостного права и воспроизводил семейные преданья своего рода не с теми целями, которые имел в виду в своей рецензии Чернышевский.
«Семейная хроника» С. Т. Аксакова.
Титульный лист первого издания. 1856.Рисуя колоритные фигуры представителей старого деревенского барства, Аксаков не выступал против того общественного строя, представителями и хозяевами которого они являлись. Вместе с тем он не защищал этот строй и не идеализировал его, он не скрывал его характерных черт и особенностей, его бытовых жестокостей, крупных и мелких и показывал без утайки всю бытовую сторону крепостного хозяйства и строя.
Так, например, главного героя «Семейной хроники» — старика Степана Михайловича Багрова, своего деда — Аксаков изображает человеком недюжинным, заслужившим уважение не только всех его близких, но также и крестьян, человеком с «чуткой природой», который «безошибочно угадывал зло и безошибочно привлекался к добру» (I, 133). К тому же это не рядовой помещик, а смелый, предприимчивый колонизатор, без страха покидающий родные места ради освоения новых, невозделанных земель в далеком Уфимском крае, населенном башкирами. Вместе с тем, рисуя этого действительно необычного человека, Аксаков дает образ законченного самодура-помещика. Он показывает дикие вспышки его гнева, во время которых Багров обращается в зверя, бьет жену, наводит панический ужас на всех домочадцев. В эти страшные картины Аксаков не вносил никакого обличения; напротив, он не любил говорить о них подробно и старался скорее покончить с ними и идти дальше. В главе «Новые места» он заканчивает рассказ о самодурстве старика Багрова такими характерными словами: «Но я не стану более говорить о темной стороне моего дедушки; лучше опишу вам один из его добрых, светлых дней, о которых я много наслышался» (I, 19).
Однако, во-первых, дело уже сделано и впечатление тяжелого крепостнического самодурства прочно оседает в сознании читателя, а во-вторых, — и это самое главное — читатель видит, что добрый, светлый день Степана Михайловича немногим отличается от его темного и злого дня. Во всяком случае, в изображении Аксакова, если это и светлый день, то светлый день опять-таки самодура-крепостника. Стоило Багрову проснуться в хорошем расположении духа, как «в несколько минут весь дом был
- 584 -
на ногах, и все уже знали, что старый барин проснулся весел» (I, 22). И это хорошее расположение духа Степана Михайловича подавляет всех окружающих не меньше, чем его гнев. Вот характерный пример. Младшая дочь Танюша плохо спала как раз накануне «светлого дня» своего отца; жалеючи дочь, Багров не велит будить ее поутру; тем временем она уже поднялась сама, но узнав о проявленной отцом заботе, «проворно разделась, легла в постель, велела затворить ставни в своей горнице, и хотя заснуть не могла, но пролежала в потемках часа два; дедушка остался доволен, что Танюша хорошо выспалась» (I, 22—23).
Когда Багров в добрый свой день отправлялся в поле, то к самому его возвращению на столе уже должен был стоять обед. «И боже сохрани, — говорит автор, — если прозевают его возвращение и не успеют подать обеда. Бывали примеры, что от этого происходили печальные последствия» (I, 25).
Таков «добрый день» Степана Михайловича, как бы ни расценивал этот «добрый день» сам повествователь.
В один из своих «добрых» дней Багров насильно женил своего крепостного человека на дворовой девушке, которую решил на радостях «наградить» хорошим женихом, и этим составил несчастье насильственно соединенной четы. Аксаков и в этом случае не выходит из душевного равновесия, он только позволяет себе заметить в тоне благодушной и почтительной укоризны: «Жаль, очень жаль! погрешил Степан Михайлович и сделал он чужое горе из своей радости» (I, 172). Однако объективная картина помещичьего произвола от этого не становится менее яркой и менее резкой. Аксаков показывает в своей хронике весь семейный быт и строй, устанавливающийся на почве крепостнического деспотизма. Все домашние Багрова, подавленные и угнетенные суровой рукой деспота-хозяина, приучаются хитрить и лукавить. В багровском доме завязывается глухая борьба, расцветает сложная семейная «дипломатия», возникают хитроумные «махинации». При помощи сплетен и наговоров ведется сложная игра, рассчитанная на то, чтобы обратить самодурство старого Багрова в свою пользу, и весь дом, внешне тихий, спокойный и патриархальный, превращается в настоящий вооруженный лагерь. При этом Степан Михайлович, неограниченный властелин и домовладыка, нередко в ходе борьбы, сам того не замечая, исполняет волю своих трепещущих, но лукавых подданных. Такова парадоксальная логика деспотического управления, какой она вырисовывается перед читателем на страницах «Семейной хроники», и благодушная идилличность повествования опять-таки оказывается не в силах скрыть истинную картину крепостнических порядков, крепостнического бытового строя.
Сам Аксаков знает случаи резкого нарушения бытовой нормы крепостного строя и в сторону вопиющих злодейств. В качестве исключительного явления в хронику вводится образ помещика Куролесова, жестокого истязателя, убийцы, настоящего виртуоза мучительства. Рассказы о его злодейских подвигах Аксаков стремится сократить, как стремился сократить повествование и о темных днях и делах Степана Михайловича. То и дело замечает он: «О более возмутительных насилиях я умалчиваю» (I, 51), или: «Бывали насилия и похуже» (I, 50), но сдержанность автора не изменяет впечатления: образ Куролесова, энергичного, предприимчивого, внешне даже привлекательного, а по существу отталкивающего помещика-злодея, входит в общую картину крепостного строя как необходимая деталь.
Исключительное явление в этой, нарисованной Аксаковым, картине представляет собой Софья Николаевна Зубина (в действительности Мария
- 585 -
Николаевна Зубова), жена молодого Багрова и мать автора хроники, чей образ появляется в «Семейной хронике» и находит дальнейшее развитие в «Воспоминаниях» и «Детских годах Багрова-внука». Красавица и умница, женщина редкой по тем временам образованности, получившая отличное воспитание в светском обществе Уфы, она нимало не напоминает диких степных помещиков вроде Багрова или Куролесова. Никто не равен ей по уму и культурности, даже и ее муж, которого Аксаков изображает как человека, хотя и недалекого, но при всей своей патриархальной простоте и необразованности, не лишенного, однако, душевной чуткости, мягкости и доброты, что несомненно выделяет его из всего багровского семейства. И все-таки, даже по сравнению с ним, не говоря уже о золовках, о свекре и свекрови, о соседях и соседках, Софья Николаевна представляется читателю существом, как бы вышедшим из другого мира. Это человек, живущий содержательной и глубокой душевной жизнью, рисуя которую, Аксаков возвышается до создания сложного психологического портрета. Рассказы о бесконечных и самоотверженных заботах Софьи Николаевны о сыне звучат у Аксакова, как гимн подвижнической материнской любви. Тем более замечательно, что в изображении Аксакова крепостническая сущность натуры Софьи Николаевны сказывается столь же ясно, как и у тех людей, которым она противостоит, хотя сказывается совсем на другой лад. Софья Николаевна не унизится до патриархального рукоприкладства по отношению к дворовым людям; она не будет заводить примитивных интриг; став впоследствии полновластной хозяйкой багровского дома, она не станет вымещать злобу на грубой родне мужа, немало ей в свое время досадившей. Но она так же строит свои расчеты на том, чтобы заслужить расположение Степана Михайловича, только осуществляет эти расчеты более тонкими средствами и приемами. Как и другие члены багровской семьи, она подчиняется самодурству старого Багрова и умеет извлекать из этого самодурства пользу, но делает это не так грубо и прямо, как ее необразованная родня. Подобным же образом ведет она себя и по отношению к богатой тетке мужа, Прасковье Ивановне Куролесовой, от которой ждет богатого наследства.
Что же касается ее отношения к крепостным крестьянам и дворовым людям, то их, по аристократичности своих понятий, Софья Николаевна просто презирает, она брезгает подлым людом и запрещает сыну вступать с ними в какие бы то ни было отношения. Когда мальчик, впервые видя тяжелый труд крестьян, проникается мыслью о святости труда и сам хочет попробовать работать на пашне, мать «с важностью» замечает ему: «...выкинь этот вздор из головы...» (II, 231). Нечего и говорить, что ее раздражают крестьянские песни, игры и забавы. Такова в изображении Аксакова помещичья образованность, культурность, мягкость нравов; все это так же пропитано крепостническим духом, как и помещичье невежество и самодурство.
Таким образом, полюсы крепостных нравов сходятся, и все помещичьи персонажи «Семейной хроники» и других частей автобиографической трилогии образуют единый мир и слагаются в единую картину темного крепостнического царства периода его расцвета.
Картина эта существенно не изменяется, когда в «Детских годах Багрова-внука» и в «Воспоминаниях» появляется новое действующее лицо — Сережа, т. е. сам автор, сперва ребенок, потом подросток. Разумеется, детское сознание отмечает факты социальной несправедливости, и в детской голове начинают бродить недоуменные мысли и вопросы. Так, в Парашине Сережа видит, как дряхлый и сгорбленный старик, выбиваясь из сил, мелет
- 586 -
хлебное ухвостье для засыпки господским лошадям: «...он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость» (II, 36), — отмечает Аксаков. Там же, в Парашине, к отцу Сергея являются крестьяне с разными просьбами и уходят ни с чем, а к матери приходят крестьянские бабы опять-таки с просьбами об оброках, но Софья Николаевна не желает их слушать и ограничивает свои милости только советами больным и лекарствами из дорожной аптечки. Управляющий Мироныч обижает крестьян, потворствуя своей родне и богатым мужикам и, несмотря на это, считается хорошим человеком, и Сережа никак не может примириться с мыслью, «что Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком» (II, 44). Бабушка бьет ременной плеткой крепостную девочку за малую провинность, и мальчик в ужасе бежит из ее комнаты. Таких фактов немало в воспоминаниях Аксакова, но эти случаи, каждый в отдельности и все вместе, не вызывают в нем серьезных душевных потрясений и не влекут к конфликту с крепостнической средой. Напротив, под влиянием старших, под воздействием всего строя общественных отношений, прочно сложившихся и ни в ком не возбуждающих сомнений, юный Аксаков приучается смотреть на все происходящее вокруг него, как на должное, естественное, незыблемое. Недоуменные вопросы, оставаясь без ответа, перестают тревожить его совесть. Он вполне убежден в том, что крестьяне любят его самого, его родителей и вообще господ своих. Аксаков не упускает случая упомянуть о проявлении «любви» крестьян к своим господам всякий раз, когда изображает приезд, отъезд или какой-либо другой случай, предполагающий обязательное изъявление крестьянской «любви». Лишь однажды показывает Аксаков одного «необыкновенно умного мужика», который «как будто хвалил своего господина, и в то же время выставлял его в самом смешном виде» (II, 297). Юный Багров воспринял самую возможность такого отношения мужика к барину как интересное открытие; оно возбудило его любопытство, но не больше того. Уже в раннем детстве укрепилось в нем прочно и незыблемо самочувствие помещика. «Я знал, — рассказывает Аксаков о своих детских годах, — что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда вырасту, буду принадлежать к числу господ и что тогда меня будут слушаться...» (II, 192).
А между тем сам Аксаков по слухам много знал о восстании Пугачева. Среди знакомых его деда со стороны отца (Багрова по хронике) были люди, пострадавшие во время восстания, да и сам Степан Михайлович вынужден был бежать из своего поместья; у деда автора со стороны матери был любимый слуга, по прозвищу и по национальности Калмык, который примкнул к восставшим и «грозился на своего господина и воспитателя» (I, 167). Все это могло бы поколебать и у юного героя мемуаров и у старого их автора представление о крестьянской любви к помещикам. Однако Аксаков продолжает пребывать в своих помещичьих иллюзиях. Было восстание Пугачева, но, говорит автор, «все прошло, все успокоилось, все забылось». В его воспоминаниях все остается на своих местах: господа повелевают, крестьяне повинуются, а если они порой выходят из повиновения, тогда они уже не крестьяне, а «шайка бунтующей сволочи» (I, 167), как называет Аксаков пугачевцев в «Семейной хронике». Если господа бывают порой жестоки, то и в этом для Аксакова нет ничего такого, что возмущало бы душу и взывало к возмездию виновных наказывает бог, люди могут об этом не беспокоиться.
При всем том Аксаков, верный жизненной правде, не скрывает от читателя истинного положения крепостных. Он рассказывает о насильственном
- 587 -
переселении крестьян, о страшных телесных наказаниях, даже о пытках, об отдаче в солдаты провинившихся дворовых и о многом другом в этом роде. Иногда он повествует об этом как о привычном, бытовом явлении, иногда как о злом деле, но всегда говорит об этом с полной правдивостью, хотя и не произносит резких осуждающих слов.
Аксаков вообще не считает возможным судить людей слишком строго за их дурные дела, потому что, с его точки зрения, сама природа человеке далека от совершенства. Оправдывая склоки и дрязги, царившие в багровском семействе, Аксаков замечает: «В человеческом существе скрыто много эгоизма; он действует часто без нашего ведома, и никто не изъят от него; честные и добрые люди, не признавая в себе эгоистических побуждений, искренно приписывают их иным благовидным причинам: обманывают себя и других без умысла. В натурах недобрых, грубых и невежественных обнаруживаются признаки эгоизма ярче и бесцеремоннее» (I, 77). Вот почему у Аксакова нет гнева против Куролесова и ему подобных, не говоря уже о более безобидных представителях крепостных порядков. Что же касается самих этих порядков, то Аксаков и не думает судить или осуждать их: они воспринимаются как нечто совершенно независимое от человеческой воли и человеческого суда.
Вообще Аксакова интересует не история, а быт, не бурные потрясения, а медленное, неслышное течение жизни, ее повседневные, повторяющиеся дела. Исторические события мало задевают его ум и воображение. Смерть Екатерины II не взволновала его в детстве, равно, как и война с Наполеоном — в юности. Он приехал в деревню, где его ждала «весна, охота, природа, проснувшаяся к жизни, и прилет птицы; я не знал его прежде, — говорит Аксаков, — и только тогда увидел и почувствовал в первый раз — и вылетели из головы моей, на ту пору, война с Наполеоном и университет с товарищами» (I, 361). Быв свидетелем грандиозного исторического события — Отечественной войны с Наполеоном, Аксаков едва только упоминает о нем в своих мемуарах, зато первой весне в деревне он посвящает целую главу в «Детских годах Багрова-внука» и рассказывает о наступлении весны как о подлинно историческом событии. «Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд — и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. — С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее!» (II, 212). Весеннее пробуждение природы — это в изображении Аксакова сложный и важный процесс, полный разнообразных событий, постепенно нарастающих с захватывающим драматизмом и доходящих, наконец, до величественного апогея, «когда все переходит в волненье, в движенье, в звук, в цвет, в запах..., когда в воде движенье, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал...» (II, 221, 222).
Только такого рода бурные события признает писатель важными и значительными. Значительность этих событий для Аксакова заключается в их природном, естественном, стихийном характере. В жизни человека Аксаков также знает острые, драматические эпизоды: это любовные волнения, браки, рождения детей, болезни, выздоровления. Но даже и естественные события, раз они выходят из ряда обыкновенных, не определяют для Аксакова существа жизни. Не бурные периоды, не «мятежное время душевных мук и телесных страданий» (I, 192) составляют, по Аксакову, содержание человеческой жизни, а ее мелкие ежедневные обстоятельства. «Мятежные» времена приходят и уходят, «между тем жизнь постоянно
- 588 -
бежит по колее своей, и мелочи составляют ее спокойствие, украшение, услаждение, одним словом, то, что мы называем счастьем» (I, 192).
Эти повседневные мелочи в жизни помещиков старых времен со скульптурной рельефностью живописует Аксаков в своих мемуарах и воссоздает таким образом бытовой уклад этой жизни, стремясь показать со всеми подробностями, как эта жизнь «постоянно бежит по колее своей» и как в условиях этой жизни воспитывается и растет один из ее представителей. Социальная основа и бытовой уклад жизни помещиков обрисованы в «Семейной хронике»; воспитание ребенка, подростка и юноши, вырастающего верным продолжателем семейных и классовых традиций, показано в «Детских годах Багрова-внука» и в «Воспоминаниях».
Видя главное содержание жизни, ее «украшение и услаждение» в повседневных мелочах, Аксаков-художник и сосредоточивает все свое внимание на этих мелочах и подробностях. Он старается не опустить ни одной из них, все они для него важны и дороги. Приезды и отъезды, перемещения из города в деревню, встречи и прощания, забавы и развлечения, занятия охотой и рисованием, чтение книг и посещение театров, знакомство с соседями, факты домашнего обихода — все передает он со скрупулезной точностью, с бездной живых подробностей. «Он дорожил каждою подробностью и записывал ее столько раз, сколько раз она припоминалась», — писал Добролюбов в своей знаменитой статье «Деревенская жизнь помещика в старые годы» (1858), посвященной «Детским годам Багрова-внука» (I, 249).1 В этой статье Добролюбов отметил, что пристрастие к подробностям и добросовестность в их воспроизведении делают мемуары Аксакова иной раз утомительными и однообразными для читателя. «Но зато, — указывает Добролюбов, — тем более доверия внушают рассказы г. Аксакова, тем живее является перед нами эта жизнь, не составленная художественным образом из обломков и лоскутков, а просто изображенная в своей фактической верности» (I, 249). Именно в этой фактической верности и видел Добролюбов «историческое значение записок С. Т. Аксакова». Стремление мемуариста к совершенной и полной точности в воскрешении всех мелочей и деталей, даже на первый взгляд совсем незначительных, обусловило тот «простодушно-правдивый характер» (I, 248), которым отличаются его записки. «Его рассказ, — писал Добролюбов, — постоянно поражает нас безыскусственною, наивною простотою летописи, и это обстоятельство еще более возвышает в наших глазах значение его записок, как несомненного памятника времен минувших» (I, 249).
Аксаков сам также чувствовал себя беспристрастным рассказчиком о временах минувших, но он склонен был считать себя не бытописателем «деревенской жизни помещика в старые годы», а летописцем жизни человеческой, в основах своих одинаковой для всех времен. Обращаясь к героям своей «Семейной хроники», Аксаков говорил в финале этой части своих воспоминаний: «Вы были такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания. Могучею силою письма и печати познакомлено теперь с вами ваше потомство. Оно встретило вас с сочувствием и признало в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили. Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!» (I, 206).
- 589 -
Так пытался Аксаков представить жизнь своих предков как нечто безусловно всеобщее и потому безусловно законное. В этом своем стремлении он мог встретить сочувствие только в той же консервативно-помещичьей среде, к которой принадлежал сам. Именно так, как хотелось Аксакову, истолковал его творчество Шевырев. Он вполне одобрил сочувствие Аксакова «старой жизни», увидев ценность его произведений в том, что писатель смотрит на старую жизнь, «не отлучившись от нее, а заключив в самом себе полноту ее сторон».1 В образе Сергея Багрова реакционному критику было дорого то, что он, Багров, — «натура живая, но тихая, глубокая, внутренняя, зародыш силы скорее зиждущей и охранительной, нежели разрушительной и ломающей».2 Секрет успеха Аксакова Шевырев увидел «в том ненарушимом спокойствии, с каким он смотрит на эту жизнь, обнимая в совокупном воззрении обе ее стороны, и светлую и темную».3 На самом же деле только пристрастный взгляд критика-реакционера мог увидеть светлую сторону в тех крепостнических порядках, картина которых развертывалась в произведениях Аксакова. Как бы ни смотрел на изображаемую им жизнь автор, объективные факты, им приведенные, говорили сами за себя.
Иллюстрация:
«Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова.
Титульный лист первого издания. 1858.Это отметил такой страстный борец против крепостничества и его пережитков, как М. Е. Салтыков-Щедрин. В своей «Пошехонской старине» он нашел нужным для подтверждения правильности созданной им самим картины крепостничества сослаться на объективное содержание «Семейной хроники». «Покойный Аксаков своею „Семейной хроникой“ несомненно обогатил русскую литературу драгоценным вкладом, — писал Щедрин. — Но, несмотря на слегка идиллический оттенок, который разлит в этом произведении, только близорукие могут увидеть в нем апологию прошлого. Одного Куролесова вполне достаточно, чтобы снять пелену с самых предубежденных глаз. Но поскоблите немного и самого старика Багрова, и вы убедитесь, что это совсем не такой самостоятельный человек, каким он кажется с первого взгляда. Напротив, на всех его намерениях и поступках лежит покров фаталистической зависимости, и весь он с головы до пяток
- 590 -
не более, как игралище, беспрекословно подчиняющееся указаниям крепостных порядков».1
Крепостные порядки и отношения одинаково определяли жизнь, быт и поведение помещиков, безразлично — добрых или злых, образованных или невежественных. Поэтому трилогия Аксакова давала материал для суждения обо всем крепостном строе в целом, о самых его основах. Это и позволило Добролюбову сделать разбор произведений Аксакова гневным памфлетом против крепостничества. Добролюбов исходил именно из того, что «крепостные отношения проникали собою всю жизнь старинных помещиков, особенно живущих в деревнях, и обнаруживали свое влияние даже там, где всего менее можно было бы ожидать: в домашних забавах, в родственных отношениях, в воспитании детей помещиков» (I, 271). Сущность же крепостных отношений Добролюбов видел в безграничной власти помещика над трудом и личностью крепостного крестьянина. «Неограниченный произвол, с одной стороны, и полное безгласие — с другой, развивались в ужасающих размерах среди этой беззаботной пышной жизни на трудовые крестьянские гроши» (I, 263). А результатом этого неограниченного произвола, как показывает Добролюбов на материале произведений Аксакова, явились «неразвитость нравственных чувств, извращение естественных понятий, грубость, ложь, невежество, отвращение от труда, своеволие, ничем не сдержанное...» (I, 271).
Из этого общего закона не было изъято и подрастающее поколение. Разумеется, непосредственное чувство ребенка не может не вызывать в нем таких вопросов, которые служат укором взрослым. Однако, как показывает Добролюбов, «круг интересов маленького Сережи долгое время был ограничен только миром внутреннего чувства, и из внешнего мира он обращал внимание только на то, какое ощущение — приятное или неприятное — производили на него предметы... Но пытливого вопроса, наклонности к работе мысли почти вовсе не заметно, точно так, как и в позднейших воспоминаниях автора из периода гимназии» (I, 251).
Шевырев, разбирая книги Аксакова, обращал внимание читателей на «светлые» стороны в жизни помещиков. Добролюбов также отметил, что в жизни, отраженной Аксаковым, «есть одна сторона, отрадная, успокаивающая: это вид бодрого, свежего крестьянского населения, твердо переносящего все испытания» (I, 273).
Таково было объективное содержание трилогии Аксакова, и раскрыться в своем подлинном виде оно могло только с помощью революционно-демократической критики, подходившей к «деревенской жизни помещика в старые годы» с точки зрения современных крестьянских интересов.
Трилогия Аксакова появилась после повестей Григоровича, «Записок: охотника» Тургенева, после «Кто виноват?» и «Сороки-воровки» Герцена, где борьба с крепостничеством представляла сознательную цель писателей, столь различных по мировоззрению, но объединенных общей враждой к крепостному праву. Естественно, что на этом фоне трилогия Аксакова выделялась патриархально-консервативным тоном, отсутствием прямого обличения, ровностью и неторопливым спокойствием повествовательной манеры. В этом отношении трилогия Аксакова стояла особняком. В то же время жизненная правда произведений Аксакова, картины крепостного быта обличали крепостной строй сами по себе, независимо от намерений
- 591 -
автора, и это обличение было тем более убедительным, что основывалось на подлинных фактах, на мемуарных свидетельствах.
Портрет крестьянина. Рисунок из альбома
Аксаковых 1840-х годов.Поэтому и Чернышевский и Добролюбов особенно настойчиво подчеркивали именно мемуарный характер произведений Аксакова. Чернышевский сделал это в «Заметках о журналах» в сентябре 1856 года (его отзыв приведен выше), Добролюбов дважды подробно говорил об этом: в цитированной статье и — с особенным ударением — в рецензии 1859 года на «Разные сочинения» Аксакова, где он прямо противопоставил Аксакова как мемуариста авторам обличительных повестей, притом к невыгоде последних. «В обличительных повестях, — писал Добролюбов, — читатели видели притчу, аллегорию, сборник анекдотов; у г. Аксакова нашли правду, быль, историю. Увлеченные своей основной идеей — карать порок, писатели-обличители делали очень часто ту ошибку, что отбрасывали в своих произведениях все, что казалось посторонним главной их мысли: оттого рассказы их и страдали часто некоторой искусственностью и безжизненностью. У г. Аксакова не было такого одностороннего увлечения; он просто писал прожитую и прочувствованную им правду, и оттого в книге его явилось более жизненности и разносторонности...» (II, 451). И далее в той же рецензии: «„Семейная хроника“ и „Воспоминания“ г. Аксакова ясно и прямо говорили читателю, что это живая быль, а не выдумка, в самом деле, а не нарочно, — преимущество, которого лишена была большая часть обличительных повестей наших» (II, 452).
Так Аксаков в истолковании Чернышевского и Добролюбова выступил как свидетель из круга помещиков-крепостников, чьи показания говорили, однако, в пользу сторонников ликвидации крепостничества. В этом заключалось общественно-литературное значение мемуаров Аксакова.
В качестве мемуариста Аксаков находился в непосредственном соседстве с Герценом и Л. Толстым. Автобиографическая трилогия Л. Толстого публиковалась на протяжении 1852—1857 годов, «Тюрьма и ссылка» Герцена (II часть «Былого и дум») вышла в свет в 1854 году, первая и последующие части «Былого и дум» печатались в «Полярной звезде» с 1856 по 1858 год; трилогия Аксакова была опубликована полностью в 1856 и 1858 годах. Естественно, что в сознании читателей все эти произведения должны были вступить в известные соотношения друг с другом. Все они
- 592 -
разрабатывали вопрос о формировании личности молодого человека, выраставшего в барской среде. Однако по своему общественному значению трилогия Аксакова не могла идти ни в какое сравнение с произведениями Герцена и Толстого. Для передовой общественности громадный интерес представляло формирование личности революционера из дворянской среды, порывающего со своим классом, — тема Герцена. Исключительный интерес представляло также развитие молодого человека, наделенного редкой непосредственностью и чистотой нравственного чувства, ищущего путей к моральному совершенству, — тема Толстого. И, конечно, значительно меньший общественный интерес для передового читателя представляла история развития молодого дворянина, настолько сросшегося со своей средой и настолько равнодушного к общественной жизни, что она почти вовсе не возбуждает в нем «пытливого вопроса, наклонности к работе мысли...» (I, 251). Вот почему Добролюбов ставил «Детские годы Багрова-внука» значительно ниже «Семейной хроники» и ценил эту часть мемуаров Аксакова не как историю развития Сережи Багрова, а опять-таки как картину крепостного быта и нравов.
В этом отношении Аксаков также перекликался с Герценом, у которого в первой части «Былого и дум» была развернута широкая картина крепостных порядков и отношений, только в более позднее время и, конечно, с принципиально иным авторским отношением к изображаемому.
Сходство фактов и различие в отношении к ним бросались в глаза. И. С. Тургенев, только ознакомившись с мемуарами Герцена, напечатанными в «Полярной звезде», сразу же сравнил их с «Семейной хроникой» и «Воспоминаниями» Аксакова. 22 сентября 1856 года он писал Герцену: «Странное дело! В России я уговаривал старика Аксакова продолжать свои мемуары, а здесь — тебя. И это не так противоположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары — правдивая картина русской жизни, только на двух ее концах и с двух различных точек зрения».1 В другом письме, от 17 декабря того же года, откликаясь на продолжение «Былого и дум», прочитанное в рукописи, он писал Герцену о том же, развивая выдвинутую ранее параллель между ним и Аксаковым: «Это в своем роде стоит Аксакова. Я уже, кажется, сказал, что в моих глазах вы представляете два электрических полюса одной и той же жизни — и из вашего соединения происходит для читателя гальваническая цепь удовольствия и поучения».2
Продолжая свои мемуары, Аксаков все дальше отходил от того, что составляло его силу. Его воспоминания о знакомстве и общении с театральными и литературными знаменитостями, частью вошедшие в отдельное издание вместе с «Семейной хроникой» в 1856 году, частью включенные в состав «Разных сочинений» в 1858 году,3 были лишены большого общественного значения. Это же относится и к богатой фактическим материалом незаконченной книге «История моего знакомства с Гоголем», изданной посмертно. Небезынтересные для биографов и историков литературы, они не могли заинтересовать широкого читателя. Дело в том, что круг идейных интересов самого Аксакова в ту пору, когда он вошел в среду литераторов,
- 593 -
был, как мы знаем, чрезвычайно узок. Поэтому глубоко проникнуть в идейную жизнь своего времени он не мог. Вместо картины литературной борьбы первой четверти XIX века читатель находил в очерках Аксакова мелкие бытовые эпизоды, хронику знакомств с разными литераторами и театральными деятелями, иной раз — зарисовки их внешнего быта.
Чувство восторга и благоговения, которое вызывали в нем в свое время почти все литературные знаменитости начала века, было перенесено и в воспоминания, что в условиях 1858 года, когда вышли в свет «Разные сочинения», не только производило впечатление наивного добродушия, но имело еще и тенденциозный смысл восхищения литературной стариной. «Научитесь, юноши, как должно чтить предания!..» (II, 454) — иронически восклицал Добролюбов, отметив в своей рецензии на «Разные сочинения» то «наивное подобострастие», которым проникнуты были воспоминания Аксакова о давно ниспровергнутых авторитетах классицизма.
Правда, и в этой серии воспоминаний попадались такие страницы, которые составляли некоторую аналогию «Семейной хронике». Так во «Встрече с мартинистами» была ярко очерчена отталкивающая фигура реакционного мистика А. Ф. Лабзина, нарисованная хотя и с обычной для Аксакова мягкостью, но во всяком случае без тени добродушного восхищения. В воспоминаниях о Шишкове попадались характеристики, свидетельствовавшие о том, что Аксаков сумел подвергнуть переоценке свои старые представления о «славянофильстве» начала века. Например, о шишковистах он заметил: «Они вопили против иностранного направления — и не подозревали, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски» (III, 172). Характеризуя самого Шишкова, Аксаков также не умолчал о том, что при всей декларативной любви к русскому народу Шишков вместе с тем отказывал ему в просвещении, считая, что мужику грамота не нужна. Любопытен в этом же смысле рассказ о том, как Шишков показывал своим гостям, точно диковинных зверей, приехавших к нему мужиков и многократно заставлял их повторять на людях полюбившиеся ему речи, исполненные «преданности» к «доброму» барину. Аксаков повествует об этом беззлобно, хотя и без сочувствия, с некоторым оттенком снисходительного неодобрения, но объективно весь эпизод получает явно сатирический смысл.
Однако отдельные эпизоды этого рода общего впечатления не меняли. В воспоминаниях о литературных и театральных деятелях на первое место выдвигался сам мемуарист, громко заявлявший о своих реакционных взглядах, умилявшийся минувшими временами, расточавший похвалы Загоскину за религиозность, за «искреннюю горячую преданность к государю» (III, 290), превозносивший повесть того же автора «Кузьма Петрович Мирошев», главного героя которой Аксаков с восторгом характеризовал как «существо тихое, скромное, покорное, по преимуществу доброе и вполне верующее, с благодарностью принимающее от бога и радость и печаль...» (III, 277).
Воспоминания о литераторах и актерах наглядно показали, как отметил Добролюбов, что «талант г. Аксакова слишком субъективен для метких общественных характеристик, слишком полон лиризма для спокойной оценки людей и произведений, слишком наивен для острой и глубокой наблюдательности» (II, 452—453). Общий тон этих воспоминаний Добролюбов иронически определил как «сладкое добродушие» и «нежность» (II, 458), героев воспоминаний он назвал «старосветскими литераторами»
- 594 -
(II, 456), а в самом авторе увидел «представителя и рыцаря» старосветских понятий во всей их «чистоте и кротости» (II, 459).
Эти черты были и в трилогии Аксакова, но там они не имели решающего значения, потому что там речь шла не об идейных интересах, а о бытовом строе жизни, который Аксаков воспроизводил с большой реалистической правдивостью. Сила Аксакова сказывалась в тех произведениях, где стремление к правдивому воспроизведению жизни побеждало классовые пристрастия автора. Аксаков обрел эту силу не сразу, а лишь тогда, когда освободился от сковывавших его ранее традиций, враждебных реализму. Только вступив на старости лет на путь реалистического творчества, Аксаков превратился из безызвестного маленького литератора в большого писателя. В этом поучительность его литературной судьбы. Характерно также, что хотя реалистическое дарование Аксакова с полной ясностью обнаружилось уже в его охотничьих книгах, тем не менее не они ввели его в литературу. Далекие от социальных вопросов, эти книги не могли сделать их автора живым и действенным участником литературной жизни 40—50-х годов. Только обращение к вопросам большой социальной важности — в «Семейной хронике» и связанных с нею произведениях — обеспечило Аксакову прочное место в русской литературе.
Уже при своем появлении трилогия Аксакова представляла преимущественно исторический интерес как свидетельство о временах, уходящих в прошлое. Но вместе с тем она имела и вполне злободневное значение как картина социально-бытовых отношений, в ликвидации которых была заинтересована подавляющая масса русского народа.
Но творчество Аксакова сохранило свое значение и в наши дни. Пережитки крепостничества продолжали существовать в России вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции, и только в результате произведенных ею великих преобразований изображенный Аксаковым уклад жизни окончательно и безвозвратно стал достоянием истории.
Книги Аксакова об охоте и сейчас продолжают укреплять и воспитывать глубокое чувство любви к родной природе. Сказка «Аленький цветочек», отразившая внимание Аксакова к народному творчеству и прославляющая любовь к человеку, до сих пор пленяет нашу детвору.
М. Горький видел большой недостаток дворянской литературы в том, что она «черпала материал свой главным образом в средней полосе России» и совершенно не касалась «„инородцев“, — нацменьшинств».1 Аксаков был свободен от этого недостатка. Для нас важно и ценно, что в художественный кругозор Аксакова входили не только центральные области России, но и обширная Уфимско-Оренбургская окраина со своеобразны» бытовым укладом населявших ее народов — башкир, чувашей, черемисов, татар.
Советский читатель высоко ценит в произведениях Аксакова реалистическое изображение помещичьего строя, долго тяготевшего над русским народом, от лица которого Добролюбов сказал в своей статье об Аксакове замечательные слова, полные патриотической гордости: «Много сил должно таиться в том народе, который не опустился нравственно среди такой жизни, какую он вел много лет, работая на Багровых, Куролесовых, Д. и т. п....» (I, 273).
Живую силу и ценность представляет язык Аксакова, безыскусственный, простой, временами даже простодушный и, вместе с тем, точный и
- 595 -
меткий. Он воспринимается нами как один из классических образцов русской литературной речи, свободной от каких бы то ни было чужеземных влияний. «Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая, — писал И. С. Тургенев, характеризуя язык С. Аксакова. — Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряженного и ничего вялого — свобода и точность выражения одинаково замечательны».1
Как художник-бытописатель и мемуарист, как замечательный мастер русского пейзажа Аксаков находит себе законное место среди крупнейших представителей русской реалистической прозы середины XIX века.
СноскиСноски к стр. 572
1 «Детское чтение для сердца и разума», часть I, М., 1785, стр. 4.
Сноски к стр. 573
1 А. Архангельский. С. Т. Аксаков, «Русское обозрение», № 8, 1895, стр. 499.
Сноски к стр. 574
1 Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: С. Т. Аксаков, Собр. соч., тт. I—VI, изд. А. А. Карцева, М., 1895—1896. Цитирование по другим изданиям оговаривается особо.
Сноски к стр. 580
1 И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, Гослитиздат, М. — Л., 1933, стр. 159.
Сноски к стр. 581
1 Аполлон Григорьев, Собр. соч., под ред. В. Ф. Саводника, вып. 10, М., 1915, стр. 7.
2 И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, 1933, стр. 158.
3 Там же.
4 Там же, стр. 159.
5 Там же.
6 Там же.
Сноски к стр. 582
1 И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, 1933, стр. 159—160.
2 Цитируется по изданию: С. Т. Аксаков, Избранные сочинения, Гослитиздат, М. — Л., 1949, стр. VII.
3 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 699.
Сноски к стр. 588
1 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч. в шести томах, Гослитиздат, 1934—1939. В дальнейшем цитируется по этому изданию.
Сноски к стр. 589
1 С. Шевырев. Детские годы Багрова внука С. Аксакова. «Русская беседа», 1858, № 10, стр. 69.
2 Там же, стр. 79.
3 Там же, стр. 69.
Сноски к стр. 590
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVII, Гослитиздат, Л., 1934, стр. 353.
Сноски к стр. 592
1 И. С. Тургенев, Сочинения, т. XI, изд. «Правда», М., 1949, стр. 141.
2 Там же, стр. 155.
3 Вместе с «Семейной хроникой» появились воспоминания о Я. Е. Шушерине, А. С. Шишкове, Г. Р. Державине. В «Разных сочинениях» — «Литературные и театральные воспоминания», биография М. Н. Загоскина, воспоминания о М. С. Щепкине и Д. В. Мертваго.
Сноски к стр. 594
1 М. Горький. Литературно-критические статьи. Гослитиздат, М., 1937, стр. 422, 423.
Сноски к стр. 595
1 И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, 1933, стр. 160.