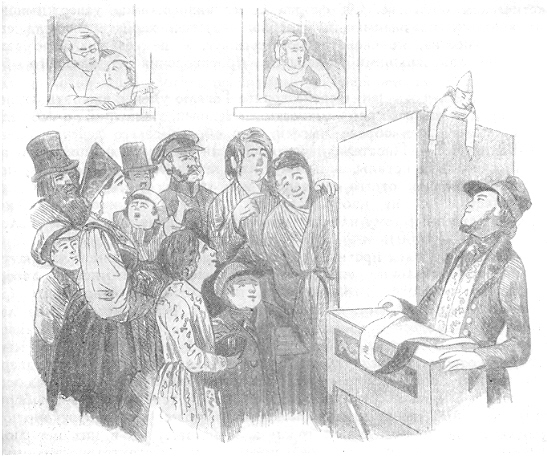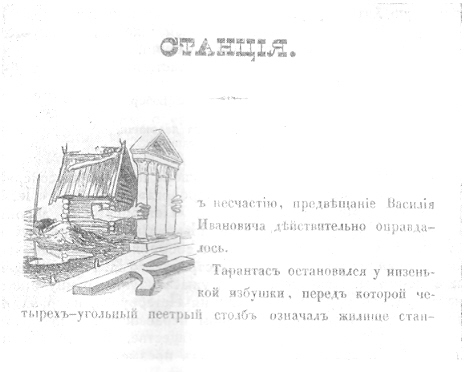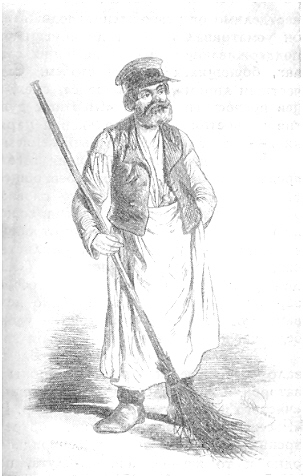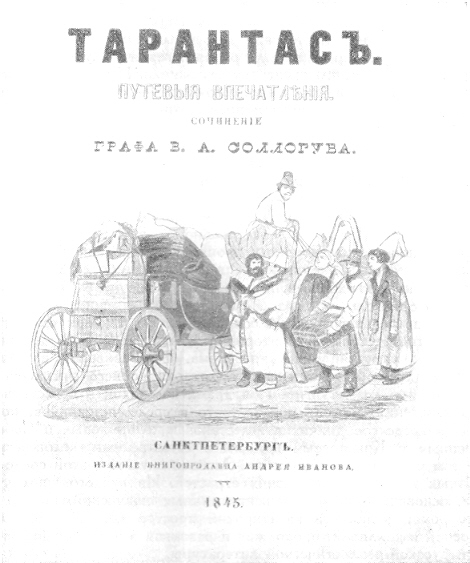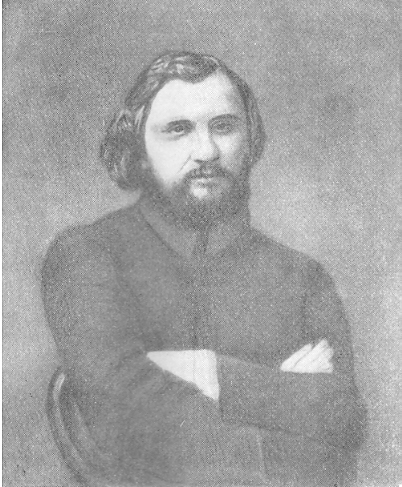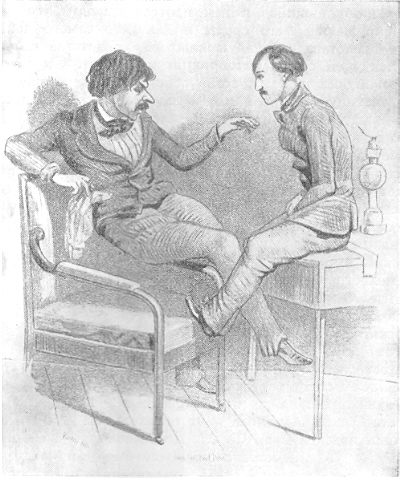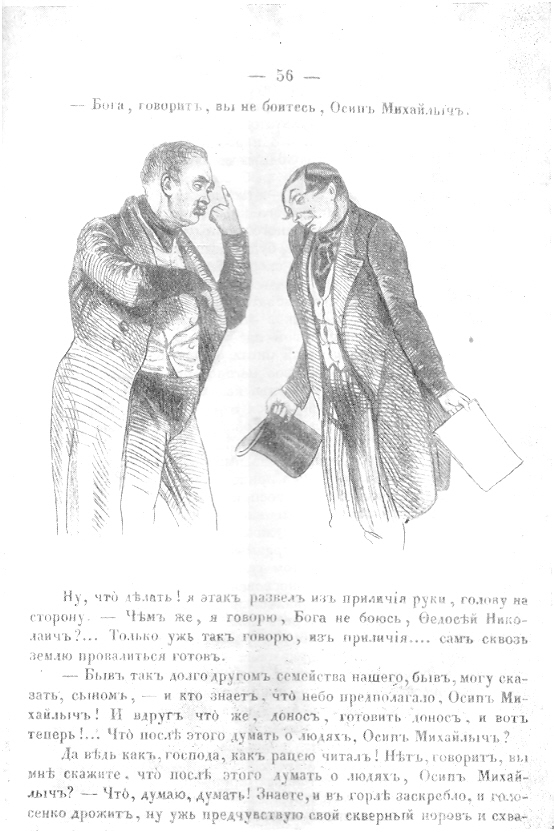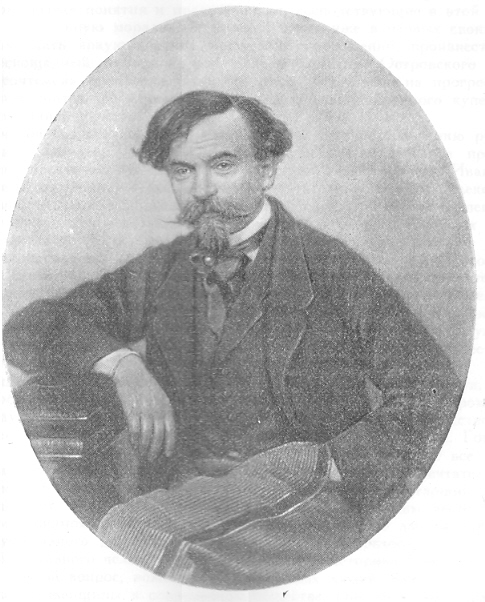- 511 -
Проза сороковых годов
1
Сороковые годы были временем расцвета критического реализма, полной победы реализма в ведущем жанре литературы этого периода — прозе над всеми антиреалистическими течениями и направлениями. Настроения крестьянства, протестовавшего против крепостничества, борьба лучших людей общества за освобождение народа от власти помещиков — нашли свое яркое отражение в литературе, во многом определили ее содержание и способствовали развитию в ней реалистического стиля. Об огромном политическом значении русской реалистической литературы писали Белинский и Герцен; Герцен утверждал, что «литература времен Николая была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавляющего всякое человеческое право».1
Расцвет реализма 40-х годов был подготовлен творчеством Пушкина, Лермонтова и Гоголя и критической деятельностью Белинского.
В 1835 году, в пору, когда Гоголем еще не были написаны «Ревизор» и «Мертвые души», Белинский в статье «О русской повести и повестях Гоголя» определил основные черты творчества писателя и дал оценку значения Гоголя для развития русской литературы. Белинский заявил, что в настоящее время литература должна двигаться по пути критического обличительного реализма, дающего характеристику общества и обличающего современный социальный быт. На этом пути, по мнению Белинского, Гоголь является главой литературы, главой поэтов, великим продолжателем дела Пушкина.
Белинский характеризовал Гоголя как писателя, который «не льстит жизни, но и не клевещет на нее», который «верен жизни до последней степени» (II, 221).2 Критик отметил народность творчества писателя и оригинальность его произведений. Он указал, что реалистическое, правдивое и бесстрашное изображение Гоголем современной действительности, умение рисовать типические образы, демократические устремления писателя, его интерес к жизни «средних сословий» должны оказать мощное воздействие на литературу. Обличительный характер творчества Гоголя, «смех, растворенный горечью», который звучит в его произведениях, отвечает общественной потребности в литературе, проникнутой гражданским пафосом.
- 512 -
Статья Белинского «О русской повести и повестях Гоголя» имела огромное влияние как на развитие русской литературы в целом, так и на дальнейшие судьбы творчества самого Гоголя. Определив место Гоголя в современной литературе, Белинский нанес сокрушительный удар по реакционной критике, травившей писателя, пытавшейся объявить его творчество второстепенным, незначительным явлением, относящимся к «низшему» роду литературы. Белинский привлек внимание всей молодой прогрессивной литературы к творчеству Гоголя, вследствие чего в высокой степени возросло общественное значение произведений писателя. Он показал, какие черты в творчестве Гоголя должны стать предметом особенно пристального изучения молодых писателей, чему должны они следовать.
Вместе с тем Белинский показал и самому Гоголю, на чем основывается его влияние на общество, в чем состоит существо его творчества, каковы особенности его дарования, дающие ему право считаться вождем реалистической литературы на современном этапе ее развития.
Характеризуя впоследствии литературу 40-х годов, Чернышевский писал: «...положение русской литературы существенно изменилось влиянием Гоголя, деятельностью Лермонтова и многочисленных писателей нового поколения, воспитанных отчасти Пушкиным и Лермонтовым, а более всего творениями Гоголя и критикою Белинского».1
Выдвигая в качестве главы литературного периода Гоголя — писателя, в произведениях которого разоблачение крепостнического строя и бюрократического государственного аппарата достигло особенной остроты и сатирическое обличение — особой силы, Белинский и Чернышевский не противопоставляли творчество Гоголя Пушкину. Борясь за утверждение критического реализма в литературе, Белинский постоянно подчеркивал огромное значение деятельности Пушкина как основоположника реалистической русской литературы, предшественника и учителя Гоголя. Критик-революционер раскрыл значение Пушкина — великого художника, давшего широкую реалистическую картину русского быта, поставившего в своих произведениях основные вопросы современности.
Чернышевский указывал, что «Пушкин явился в совершенно новом свете, когда по смерти его обнародованы были произведения, в художественном отношении превышающие все, что было им напечатано при жизни. Гоголь напечатал „Ревизора“. Явились Кольцов и Лермонтов. Все прежние знаменитости померкли перед этими новыми. Явилась новая школа писателей, образовавшихся под влиянием Гоголя. Гоголь издал „Мертвые души“. Почти в одно время явились „Кто виноват?“, „Бедные люди“, „Записки охотника“, „Обыкновенная история“, первые повести г. Григоровича. Переворот был совершенный. Литература наша в 1847 году была так же мало похожа на литературу 1835 года, как эпоха Пушкина на эпоху Карамзина».2
Значение Лермонтова для развития передовой реалистической литературы 40-х годов определялось прежде всего тем, что он в одно время с Гоголем обнажал в своих произведениях наиболее существенные противоречия действительности. Подобно Гоголю, Лермонтов был поэтом отрицания, крепостническая действительность подвергалась в его творчестве беспощадной критике. Писателям-реалистам 40-х годов Лермонтов был близок и как обличитель высшего дворянского общества и как художник,
- 513 -
стремившийся изобразить передовую личность своей эпохи, противостоящую феодально-крепостнической действительности. Проза Лермонтова явилась шагом вперед в разработке психологического анализа. Эта сторона художественного метода Лермонтова имела большое значение для развития реалистической литературы 40-х годов, особенно во второй половине десятилетия.
Иллюстрация:
«Физиология Петербурга». Титульный
лист. 1844.Борьба Белинского за реализм в литературе была частью его борьбы за сближение литературы с освободительным движением, против правительственной политики в области искусства, против попыток подчинить литературу влиянию охранительных идей. Прогрессивные силы общества, выражавшие и защищавшие интересы народа, были заинтересованы в развитии реалистической литературы. Художественные произведения, правдиво изображавшие жизнь со всеми ее темными сторонами, содействовали росту самосознания общества, распространению освободительных идей. Правительство же покровительствовало реакционному романтизму, поощряло и охраняло авторов, пытавшихся противостоять возрастающему влиянию реалистического направления в литературе.
Бороться за расширение и упрочение влияния Гоголя на литературу, организовывать и направлять «гоголевскую школу» Белинскому приходилось в чрезвычайно сложных условиях; борьба носила политический характер. Белинский должен был отстаивать Гоголя не только от явных, открытых врагов писателя, но и от критиков, заявлявших о своем преклонении перед его дарованием и вместе с тем искажавших значение его творчества, пытавшихся толкнуть Гоголя на ложный путь. Важнейшими моментами борьбы Белинского за Гоголя были его выступления по поводу «Мертвых душ» (прежде всего полемика с К. С. Аксаковым) и в связи с появлением «Выбранных мест из переписки с друзьями» (здесь наибольшее значение имело знаменитое зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю от 15 июля 1847 года).
Под знаменем гоголевского направления Белинский объединял писателей, стремившихся к правдивому изображению действительности, разными путями шедших в своем творчестве к реализму.
Белинский боролся за развитие и распространение реализма в русской литературе, за расширение влияния освободительных идей. Он видел, что круг вовлеченных им в орбиту реалистического направления писателей неоднороден, что наряду с литераторами, сознательно идущими по пути
- 514 -
критического реализма, в сборниках гоголевской школы печатают свои произведения и авторы, не последовательные в проведении реалистических принципов, авторы, во взглядах которых проявляются либеральные и даже консервативные тенденции, ограничивающие их творческие возможности.
Замечательный теоретик и организатор литературы, Белинский содействовал росту новых писателей, развитию их художественного дарования и мировоззрения, помогал им вставать на путь реализма, просвещая их политически, ведя упорную борьбу за каждого писателя. В своих критических выступлениях Белинский подвергал всестороннему анализу произведения реалистической литературы, отмечая их общественное значение, раскрывая их объективный смысл, подчас более глубокий, нежели замысел автора. Гоголевская школа 40-х годов явилась кузницей, выковывавшей кадры русской реалистической литературы, лабораторией, вырабатывавшей методы и принципы критического реализма середины XIX века.
Многие писатели, которые приобрели известность еще в 30-х годах, под влиянием Белинского в 40-е годы сблизились с демократической литературой, например В. А. Соллогуб (1814—1882), Е. П. Гребенка (1812—1848), В. И. Даль (1801—1872), некоторые пришли к пересмотру своего творческого метода (И. И. Панаев, 1812—1862), многим Белинский указал путь, помог найти свою дорогу в литературе, стать ведущими или видными ее представителями (Некрасов, Тургенев, Григорович). Белинский дал «смелость оригинальности» творчеству таких писателей, как Салтыков, Островский, Гончаров и др.
Соратником Белинского в борьбе за расцвет критического реализма в русской литературе был А. И. Герцен, своими статьями и художественными произведениями внесший важнейший вклад в развитие освободительных идей и обличительной литературы. Идейная направленность сборников гоголевской школы определялась помещавшимися в них статьями Белинского и Герцена. Сборники «Физиология Петербурга», ч. I и II (1844—1845), «Петербургский сборник» (1846), альманах «Первое апреля» (1846), «Иллюстрированный альманах» (1848), содержавшие реалистические произведения и программные статьи Белинского и Герцена (первые два сборника), воспринимались читателями и критикой как явление принципиально новое, выражающее большие сдвиги в литературе. Рядом со статьями Белинского и Герцена, стихотворениями и прозой Некрасова, Тургенева и других молодых писателей, творчество которых было тесно связано с влиянием Белинского, по-новому прочитывались очерки Даля и Гребенки (в «Физиологии Петербурга») и даже повесть В. Ф. Одоевского (в «Петербургском сборнике»). Читатель особенно чутко отмечал обличительные, реалистические моменты в произведениях, игнорируя подчас черты, свидетельствовавшие о литературном или политическом консерватизме отдельных писателей. В плане традиций гоголевской школы воспринимались и рисунки русских художников, помещавшиеся в альманахах и сборниках в качестве иллюстраций к литературному материалу.
К сборникам гоголевского направления примыкали такие издания, как «Петербургские вершины» Я. Буткова, ч. I и II (1845 и 1846) и книга В. Соллогуба «Тарантас» (1845) с иллюстрациями Г. Гагарина, о которых, как о замечательном явлении реалистического искусства, писал Белинский. «Отечественные записки», а затем и «Современник» Некрасова стали журналами, пропагандирующими реализм и освободительные идеи. В «Отечественных записках» первой половины 40-х годов, наряду с критическими статьями Белинского и философскими работами Герцена, появились «Записки одного молодого человека» и «Еще из записок одного молодого
- 515 -
человека» Герцена, стихотворения Огарева, «Прекрасный человек», «Онагр», «Актеон», «Тля. Не-повесть», «Барышня» и другие произведения И. И. Панаева, пародия на романтическую повесть А. Я. Кульчицкого (1815—1845) «Необыкновенный поединок» и др. После ухода Белинского и Герцена из «Отечественных записок» традиции, созданные ими в журнале, поддерживались некоторое время литераторами-петрашевцами и близкими к ним писателями. В ноябре 1847 года в «Отечественных записках» появилась повесть Салтыкова «Противоречия», в марте 1848 года — «Запутанное дело», в конце 1848 и начале 1849 года здесь были напечатаны «Шалость» и «Дружеские советы» Плещеева, в течение 1847—1849 годов: «Горюн», «Кредиторы, любовь и заглавия», «Новый год», «Темный человек», «Невский проспект, или путешествие Нестора Залетаева» и «Странная история» Я. Буткова. В 1846 году в «Отечественных записках» появилась «Деревня» Григоровича.
Иллюстрация:
«Петербургские вершины» Я. Буткова. Титульный
лист. 1845.«Современник» Некрасова в первый же год своего существования (1847) опубликовал такие произведения, как «Кто виноват?» и «Из сочинений доктора Крупова» Герцена; стихотворения Некрасова: «Тройка», «Псовая охота», «Нравственный человек», «Еду ли ночью» и др.; стихотворения Огарева: «Бывало часто я», «Отъезд», «Монологи»; «Обыкновенная история» Гончарова; «Антон Горемыка» Григоровича; рассказы из «Записок охотника» и «Петр Петрович Каратаев» Тургенева; «Родственники» Панаева; «Полинька Сакс» Дружинина. В последующие годы в «Современнике» публиковались стихотворения Некрасова, рассказы и повести Тургенева, произведения Григоровича, Гончарова, Писемского, Панаевой (Н. Станицкого), М. Михайлова и других писателей гоголевского направления. На страницах «Современника» и в приложении к нему в это время появились такие реалистические, антикрепостнические произведения, как «Сорока-воровка» Герцена (1848), «Бобыль» Григоровича (1848), рассказы из «Записок охотника» (1847—1851), «Муму» (1854), «Постоялый двор» (1855) Тургенева и др.
Теоретические и критические статьи Белинского и в особенности его годовые обзоры, чрезвычайно широко раскрывавшие и обобщавшие явления литературы, приучали читателей распознавать произведения гоголевской школы и тогда, когда они появлялись в журналах «умеренного» или даже «охранительного» направления в окружении идейно и художественно
- 516 -
несоответствующего им литературного материала. Появившиеся в 40-х годах в «Москвитянине» очерки и рассказы И. Т. Кокорева, повесть Писемского и комедия Островского «Свои люди — сочтемся» (1850), так же как и «Картина семейного счастья» и «Записки замоскворецкого жителя», помещенные Островским в «Московском городском листке» (1847), или повесть Плещеева «Протекция», напечатанная в «Санктпетербургских ведомостях» (1848), — воспринимались читателями как произведения гоголевской школы.
Не сближаясь подчас до конца в идейном отношении с вождями гоголевского направления, целый ряд писателей, находившихся под могучим влиянием Белинского и вовлеченных им в движение критического реализма, делал общее дело обличения темных сторон современной действительности, содействовал в меру своих сил и возможностей распространению революционных настроений в обществе.
В зальцбруннском письме к Гоголю Белинский писал:
«Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы... Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно... И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление...».1 Гоголевская школа представляла собой то направление в литературе, которое, по выражению Белинского, защищало общество «от мрака православия, самодержавия» и крепостничества.
Исключительное значение в процессе усиления реалистических тенденций в литературе приобретали последовательно проводимые Белинским его взгляды на беллетристику — художественную литературу, рассчитанную на широчайшие читательские круги. Белинский настаивал на том, что критический, обличительный реализм, созданный Пушкиным и Гоголем, должен стать основным стилем русской беллетристики.
Белинский призывал молодых писателей к борьбе с реакционной беллетристикой путем создания массовой реалистической обличительной литературы. На этом пути — говорил он — беллетристика обретает то общественное значение, которое должно быть свойственно передовой русской литературе, станет средством познания общества и пропаганды освободительных идей.
Белинский настойчиво проводил мысль о том, что изучение жизни России и современного русского общества должно явиться содержанием и целью беллетристических произведений, что основой реалистического изображения действительности в беллетристике должно быть ясное понимание автором тенденций общественного развития.
Только такая беллетристика будет способствовать воспитанию широких слоев читающей публики в духе критического отношения к современным формам общественной жизни.
Стремясь к развитию обличительной беллетристики, Белинский понимал, что всем требованиям, которые он предъявляет к беллетристам-обличителям, будут соответствовать лишь немногие писатели, сознательно сочувствующие революционным идеям. Однако он рассчитывал и на то, что при всем своеобразии мировоззрения и художественного метода ряда писателей гоголевской школы очерки их, правдиво и разносторонне рисующие социальный быт России, будут восприниматься в единстве со статьями критиков демократического лагеря.
- 517 -
Печатая свои статьи рядом с очерками и другими беллетристическими произведениями в сборниках гоголевской школы и журнале «Отечественные записки», Белинский придал некоторым из статей форму, близкую к форме беллетристических очерков. Так, помещенные в «Физиологии Петербурга» статьи Белинского «Петербург и Москва» и «Александринский театр» носят характер очерков. Показательно, что статья «Александринский театр» в сборнике иллюстрирована как беллетристическое произведение.
Тесная связь реалистической демократической литературы с освободительным движением побуждала реакционеров особенно ожесточенно бороться с ней. Вместе с тем им приходилось учитывать и тот факт, что успех обличительной реалистической беллетристики и ее влияние на общество ширились из года в год. Пытаясь воспрепятствовать этому влиянию, беллетристы реакционного лагеря зачастую вынуждены были обращаться к жанрам и темам, важность которых была впервые показана литературой реалистического обличительного направления. Так, например, спекулируя на интересе трудового читателя к повседневному быту города, Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч и другие «беллетристы» этого рода стали подносить публике подражательные произведения, различные переложения французских описаний «на русские нравы» под видом очерков городского быта. Подобные писания они старались противопоставить произведениям обличительной реалистической литературы 40-х годов. Д. В. Григорович вспоминал позже: «...в иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки, под общим названием „Физиологии“; каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описаний служило известное парижское издание: „Французы, описанные сами собою“. У нас тотчас же явились подражатели. Булгарин начал издавать точно такие же книжечки, дав им название „Комары“; в каждой из них помещался очерк типа петербургской жизни».1
Булгарин, понимая наличие буржуазно-охранительных и моралистических элементов в западных буржуазных изданиях подобного рода, решил создать по типу западных физиологии массовую русскую описательно-моралистическую литературу и противопоставить ее обличительному реализму Гоголя. Нравоописательные очерки и сборники, «беспристрастно» описывающие русскую действительность «дагерротипно», без «увлечения и сатиры», должны были, по замыслу Булгарина, победить влияние Гоголя. Булгарин требовал от литературы, чтобы она подчеркивала «случайность», незакономерность и легкую исправимость отрицательных сторон современной общественной жизни. В «физиологическом» роде он издал сборники: «Комары, Всякая всячина, Рой первый» (СПб., 1842); «Петербургские нетайны. (Небывальщина, вроде правды, из записок Петербургского старожила)» («Северная пчела», 1843, №№ 266, 272, 278, 279, 284, 289, 293, 294); «Очерки русских нравов или лицевая сторона и изнанка рода человеческого» (СПб., 1843). Булгарин объявил, что цель его очерков петербургского быта — изображение того, «как можно помочь бедному человеку, защитить безвинного и открыть зло». Центральной идеей очерков Булгарина было утверждение того, что в каждом звании человек может быть счастлив, т. е. утверждение «благополучия» современного общественного строя. Свой ограниченный морализм он противопоставил социальной направленности творчества Гоголя и его школы, заявив, что все темные стороны современной действительности происходят от заблуждений
- 518 -
отдельных лиц и могут быть устранены улучшением «частного человека» — среднего обывателя.
Булгарин был далеко не одинок в этих своих попытках. В 1842—1844 годах Загоскин издает сборник «Москва и москвичи» (М., 1842—1844, Выходы первый и второй). Греч пишет также очерки (см. «Невский пароход», «Картинки русских нравов», кн. 4, СПб., 1842). В 1842 году выходят двенадцать тетрадей предпринятого Кукольником, Гречем и другими писателями охранительного направления издания «Дагерротип». Белинский разоблачал реакционное содержание и литературный консерватизм очерков подобного типа, показывая, что «статейки о нравах для политипажных изданий» лежат за пределами литературы. «Когда картинки плохи, текст читается столько внимательно, сколько это нужно для объяснения картинок; когда картинки хороши (как, например, картинки г. Тимма), текст вовсе не читается» (VIII, 388), — писал критик, явно намекая на текст Булгарина. Белинский подчеркивал, что изображение действительности в очерках писателей охранительного направления неглубоко и беспомощно. Так, об очерке Греча «Невский пароход» Белинский иронически писал: «...главное достоинство этой статейки составляет точность, с какою в ней означены часы прихода и отхода пароходов на Английской набережной. Верность описаний местности также изумительна: Английская набережная помещена сочинителем именно там, где она в самом деле находится; Нева, в статье сочинителя, широка и глубока...» (VII, 397). Кроме этих сведений, ничего правдивого в очерках Греча, по мнению Белинского, не содержится.
Указывая на необходимость создания реалистической беллетристики и на несоответствие этим требованиям «дагерротипических очерков», Белинский следующим образом объяснял причину провала этих очерков: «Причина не одна, их много, но главная из них — отсутствие верного взгляда на общество, которое все эти издания взялись изображать...» (XII, 479).
Развитие реалистической обличительной литературы, рисующей русский быт, наносило сокрушительный удар сборникам очерков булгаринского типа. Это сознавал и сам Булгарин — непримиримый враг передовой русской литературы. Он постоянно нападал на обличительный реализм в целом, на отдельных его представителей, пытаясь опорочить реалистические произведения и сборники гоголевской школы. В одном из своих фельетонов, направленных против «Петербургского сборника», Булгарин впервые употребил термин «натуральная школа» с целью скомпрометировать реалистическое направление, представив его школой, бездумно копирующей «низкую действительность», литературой, чуждой «художественности».
Полемически используя термин «натуральная школа» в применении к критическому реализму 40-х годов, Белинский вкладывал в понятие «натуральная школа» представление о верности объективной действительности.
Читатели Белинского прекрасно понимали мысль любимого критика, как бы скрыто она ни была выражена. В статьях Белинского термин «натуральная школа» приобрел такой определенный смысл, наполнился таким революционным содержанием, что Булгарин испугался последствий своей неудачной попытки дискредитировать гоголевскую школу и счел необходимым выступить с разъяснением относительно того, что он не считает новое реалистическое направление «натуральным». Однако воздействовать на отношение массы читающей публики к произведениям критического реализма 40-х годов Булгарин не мог.
- 519 -
Возникновение термина «натуральная школа» (1846) относится ко времени, когда гоголевская реалистическая школа уже вполне оформилась. Белинский писал, что гоголевская школа обозначилась «немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово: „натуральная школа“» (XI, 82).
Говоря о борьбе Белинского со славянофилом К. С. Аксаковым по поводу «Мертвых душ» Гоголя (1842), П. В. Анненков писал в своих «Воспоминаниях»: «К этому же времени относится и появление в русской изящной литературе так называемой „натуральной школы“, которая созрела под влиянием Гоголя, объясняемого тем способом, каким объяснял его Белинский. Можно сказать, что настоящим отцом ее был — последний».1
2
Идейное оформление гоголевской школы происходило в первой половине 40-х годов, причем огромное значение в этом процессе имела полемика Белинского и Герцена со славянофилами, а также борьба их с либералами-западниками.
В борьбе с идеализмом, романтизмом и всякого рода реакционными теориями и утопиями Белинским и Герценом были сформулированы положения о поступательном историческом развитии общества, значении социальных условий в развитии общественного самосознания, неприемлемости всех форм эксплуатации человека и необходимости революционного переустройства социального быта, о роли литературы в борьбе за общественное переустройство и другие положения, которые легли в основу художественной практики обличительного реализма 40-х годов. Белинский считал, что особенностью современного момента является близость больших общественных потрясений и перемен. В этих условиях к реальным и положительным результатам, по мнению Белинского, может привести только протест, основанный на знании и понимании конкретно-исторической обстановки.
Девятнадцатый век, по мнению Белинского, отличается от всех предыдущих исторических периодов тем, что он является веком сознания по преимуществу, веком «рефлексии, мысли, тревожных вопросов» (IX, 302).
Белинский отмечал, что в настоящее время в России наибольшим успехом пользуются произведения, рисующие современную жизнь России. «И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имеющая глубокий смысл, глубокое основание, — пояснял критик, — в ней выражается стремление русского общества к самосознанию, следовательно, пробуждение в нем нравственных интересов, умственной жизни» (X, 396). Говоря об общественном самосознании, Белинский разумеет здесь революционную сознательность, уменье оценить обстановку и найти пути к изменению действительности. Так же понимал он и «самосознание» в зальцбруннском письме к Гоголю, когда писал, что России нужно пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, и утверждал, что такие писатели, как Гоголь, являются вождями страны «на пути сознания, развития и прогресса». Это воззрение было прямо противоположно теории славянофилов
- 520 -
и их последователей, для которых «познание жизни» всегда означало примирение с ней, «приобщение к ее началам». «Примирение, т. е. ясное уразумение действительности, sine ira et studio, необходимо человеческой душе, и искать его надобно поневоле в той же самой действительности...», — писал несколько позже А. А. Григорьев,1 ставя, таким образом, знак равенства между уразумением действительности и примирением с ней.
Белинский придавал огромное значение литературе в деле развития общественного самосознания. Основой пропаганды революционных идей Белинский считал познание объективной действительности. Реалисты 40-х годов считали необходимым воспроизводить «жизнь и действительность во всей их истине» (Белинский, X, 396). Ограничивая себя задачей изучения и точного изображения какого-либо социального явления, писатели гоголевской школы стремились воссоздать в совокупности своих произведений полную и объективную картину общественного быта. Добросовестное и тщательное изучение действительности они считали необходимым условием литературного труда. Вот как, например, описывает свою работу над очерком, вошедшим затем в сборник гоголевской школы — «Физиологию Петербурга», Д. В. Григорович: «Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение. Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: „и так сойдет!“ — казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в „Шинели“, — повести, которую я с жадностью перечитывал. Я, прежде всего, занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи всё, что видел и о чем слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к писанию».2
На первом этапе развития гоголевской школы, в начале 40-х годов представители ее создавали главным образом очерки, носившие почти документальный, описательный характер и в то же время проникнутые пафосом отрицания изображаемого быта.
Лучшие писатели 40-х годов не скатывались к натурализму, описания в их произведениях носили характер реалистически-обобщенного показа типических явлений, были проникнуты политической тенденцией. Однако широта охвата жизни и сознательность протеста против общественного порядка далеко не у всех писателей гоголевской школы были одинаковы. Так, например, близкие к Белинскому Некрасов и Тургенев касались самых важных вопросов современности в своих очерках, изображавших типичных крепостников-помещиков (например Тургенев — «Помещик», 1845), взяточников, подхалимов и мракобесов-чиновников (например Некрасов — «Чиновник», 1845) и жизнь обездоленной бедноты (Некрасов — «Петербургские углы», 1845, и др.). Существенные черты современного общественного быта нашли свое отражение в очерках И. И. Панаева («Барыня», «Онагр», «Петербургский фельетонист», 1841; «Актеон», 1842; «Литературная тля», 1843; «Барышня», 1844), Григоровича («Петербургские шарманщики», 1845) и других.
- 521 -
В смягченном и несравненно менее обобщенном виде подавались явления современного быта в очерках таких писателей, как Гребенка («Петербургская сторона», 1845), Соллогуб (бытовые очерки в «Тарантасе», 1845) и др.
«Петербургские шарманщики». Рассказ Д. В. Григоровича. Гравюра на дереве
Е. Е. Бернардского по рисунку Е. И. Ковригина. «Физиология Петербурга»,
ч. I.Однако в очерках и этих писателей появлялись черты, характерные для реализма 40-х годов. Давая меткие зарисовки быта и подчас сами того глубоко не осознавая, эти авторы включались в критику современного общественного порядка.
Основным принципом изображения характеров в произведениях учеников Гоголя был принцип зависимости человека от среды, зависимости личности от быта и материальных интересов сословия, представителем которого эта личность является. Белинский высоко ценил, например, Даля за то, что в «очерках лиц разных сословий, он — истинный поэт, потому что умеет лицо типическое сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и глупом значении этого слова, т. е. не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле — воспроизведении действительности во всей ее истине» (X, 116). Так Белинский формулировал мысль о реалистическом обобщении, вскрывающем сущность изображаемых писателем социальных явлений.
В борьбе со славянофилами Белинский развивал положение о том, что современное общество состоит из различных сословий, интересы которых не совпадают, а зачастую и противоположны. В отличие от либералов-западников Белинский усматривал антагонизм социальных групп и в капиталистическом
- 522 -
обществе. Он спорил со славянофилами, утверждавшими, что разделение на взаимно враждебные группы, характерное для европейского общества, не свойственно русскому, и не соглашался с западниками, игнорировавшими кричащие противоречия социального быта Европы.
Белинский высоко ценил свойственное Гоголю уменье выявить социальную природу человеческой личности. «Человек, живущий в обществе, зависит от него и в образе мыслей, и в образе своего действования, — писал Белинский. — Писатели нашего времени не могут не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человека, они стараются вникать в причины, отчего он таков, или не таков, и т. д. Вследствие этого, естественно, они изображают не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдельно взятому, но явления общие...» (VIII, 400).
Белинский боролся против реакционной нравоописательной литературы, изображавшей отдельные «пороки», составляющие, по мнению авторов, «чудачества», исключения в «вечном», незыблемом и «разумном» быте. Критик-революционер настаивал на том, что в реальном обществе люди делятся не на злодеев и добродетельных, как изображают это «нравоописатели», вроде Булгарина, а на представителей разных сословий, мысли и чувства которых зависят от их положения в обществе. Он подвергал резкой критике произведения «нравоописательной» литературы, нападающие «на прически à la moujik, на очки, на лорнеты, на усы, эспаньйолки, бороды и тому подобные невинные принадлежности моды. В них фигурируют и рисуются герои добродетели и герои злодейства... но в них нет людей, нет характеров, которые, в своей простоте и действительности, иногда бывают гораздо лучше всевозможных бумажных героев добродетелей, а иногда, от доброты сердца и без всякой злобы, делают больше зла, чем все на свете неестественные изверги порока» (XII, 477).
Ответственность за уродливые, искаженные характеры людей возлагалась реалистической литературой на общество. Не воздействие на отдельную личность, не исправление «злодеев», а только изменение всего социального строя может изменить и быт отдельных людей — вот вывод, к которому приходил читатель на основе лучших произведений гоголевской школы. Герои этих произведений были отнюдь не злодеями, но их «нормальное», привычное поведение, которое признано «естественным» в современном обществе, бесчеловечно, дико и противоречит законам здравого смысла и неискаженной человеческой морали.
На первом этапе развития гоголевской школы мысль о бесчеловечности современного общества выражалась писателями главным образом путем изображения картин быта и путем характеристики отдельных лиц, представляющих этот быт.
Подчеркивая связь своих героев со средой, с общественным строем, ученики Гоголя тем самым произносили — сознательно или бессознательно — приговор над обществом.
Стремясь описывать социальный быт так, чтобы способствовать «самосознанию» общества и революционному его просвещению, писатели, руководимые Белинским, сближали литературу с наукой об обществе и человеке. Свои беллетристические очерки они называли «физиологическими» очерками. Литераторы гоголевской школы, прежде всего наиболее радикально настроенные из них, ставили перед собой задачу — показать строение общественного организма, объяснить его особенности и вскрыть его «патологию». Белинский заявлял, что литература своими средствами служит тому же
- 523 -
делу изучения действительности, которому служит наука. «В науке отвлеченные теории, априорные построения, доверие к системам со дня на день теряют свой кредит и уступают место направлению практическому, основанному на знании фактов... То же обращение к вопросам, имеющим более близкое отношение собственно к нашей русской жизни, то же усилие разрешить их по-своему, заметно и в изучении современного быта России» (XI, 108).
Белинский указывал, что реакционно-романтическая литература и охранительная беллетристика не заинтересованы в том, чтобы правдиво изображать русский быт. Он отмечал, что результатом деятельности реакционных беллетристов явилось засилие в литературе чуждой интересам русского общества тематики: «В самом деле..., — писал он, — много ли у нас книг, из которых можно было бы не только изучать, но и просто знакомиться с многочисленными сторонами русского быта, русского общества? Скажем более: где у нас эти книги? Их нет. Русская литература представляет едва ли не более материалов для изучения исторического и нравственного быта чужих стран, нежели России» (XII, 476).
Белинский считал, что изучение социального быта должно вестись на основе анализа всего разнообразия конкретных явлений народной жизни. Чем правдивее рисует писатель ежедневную русскую жизнь, чем конкретнее передает он ее социальные черты и национальное своеобразие, тем больше материала дает он читателям для политических обобщений и выводов. Белинский призывал к наиболее точному и полному изображению явлений общественного быта, к тому, чтобы показывать социальные типы в их национальной и бытовой определенности. «Москвичи так резко отличаются сто всех не-москвичей, что, например, московский барин, московская барыня, московская барышня, московский поэт, московский мыслитель, московский литератор, московский архивный юноша: все это — типы, все это — слова технические, решительно непонятные для тех, кто не живет в Москве», — писал критик в статье «Петербург и Москва» (IX, 229).
Писатели-реалисты широко отразили в своих произведениях жизнь Петербурга. Они воспринимали Петербург как город, выражающий творческие силы русского народа, его способность быстро развиваться, осуществлять грандиозные исторические сдвиги. Вместе с тем Петербург вошел в их произведения и как административный центр страны, сосредоточивший в себе все противоречия бюрократической монархии, крепостнического государства, в недрах которого созревают уже капиталистические отношения. В своей трактовке Петербурга, его исторического и современного значения передовые писатели 40-х годов шли по пути, проложенному Пушкиным («Медный всадник»), Гоголем (петербургские повести) и Белинским (статьи: «Вступление» к «Физиологии Петербурга», «Петербург и Москва», «Петербургская литература» и др.). Их интересовал прежде всего быт низших сословий, беднейших слоев населения города. Тургенев набросал перечень сюжетов физиологических очерков из быта Петербурга, причем достойными описания ему представлялись прежде всего картины «петербургских углов», домов и районов города, населенных беднотой — ремесленниками, рабочими, разночинцами, мелкими чиновниками. Этим сюжетам он уделял основное внимание в своем перечне. Тургенев предполагал описать: «1. Галерную гавань или какую-нибудь отдаленную часть города, 2. Сенную со всеми подробностями. Из этого можно сделать статьи две или три», — добавлял он и далее записывал: «3. Один из больших домов на Гороховой и т. д. 4. Физиономия Петербурга ночью (извозчики и т. д. Тут можно поместить разговор с извозчиком). 5. Толкучий рынок
- 524 -
с продажей книг и т. д. 6. Апраксин двор и т. д. 7. Бег на Неве (разговор при этом). 8. Внутреннюю физиономию русских трактиров. 9. Какую-нибудь большую фабрику со множеством рабочих (песельники Жукова) и т. д. 10. О Невском проспекте, его посетителях, их физиономиях, об омнибусах, разговорах в них и т. д.».1
Быт петербургской бедноты стал предметом изображения в физиологических очерках Григоровича, Кокорева, Буткова, Даля и др. Далеко не все эти авторы с равной глубиной вскрывали в своих очерках социальные противоречия, однако само обращение сторонников гоголевской школы к изображению жизни низов общества имело огромное прогрессивное значение.
От «приятных исключений» (по выражению Белинского) авторы физиологических очерков обратились к изучению «толпы», основной массы населения, и к показу характерных ее представителей. Я. Бутков заявлял о том, что в его книге «Петербургские вершины» действуют «люди, составляющие не общество, а толпу; но хотя это и толпа, однако толпа самобытная, не бесстрастная, не бессмысленная...».2 Он полемически замечал, что до последнего времени только небольшая часть петербургского населения, разместившаяся «не сжато, а просторно, удобно, комфортабельно» в срединной линии бельэтажей Петербурга, считалась достойной изображения в литературе: «...несмотря на численную незначительность блаженной частицы, она исключительно слывет Петербургом, всем Петербургом, как будто прочее полумиллионное население, родившееся в его подвалах, на его чердаках, дышащее одним болотным воздухом..., не значит ничего, даже вовсе не существует! и если говорится о единодушном движении Петербурга, о мысли, о мнении, о радости, о скорби, о наслаждениях и заботах Петербурга, то понимаются движение, мысль, радость, скорбь, наслаждения и заботы одной срединной линии, и если книги пишутся — пишутся для срединной линии, и если в книгах описываются люди и действия людей, то люди непременно „под великим штрафом“ должны принадлежать к срединной линии, и действия совершаться в срединной линии, иначе книга будет бестолкова, грязна, и сочинитель книги — мужик, не знающий света и галантерейного обхождения».3
Очерки писателей гоголевской школы рисовали быт отдаленных районов города («Петербургская сторона» Е. П. Гребенки), жизнь заселенных беднотой домов („Петербургские углы“ Некрасова), описывали петербургские дворы, рынки, излюбленные места гуляний и развлечений городской бедноты, кабаки, книжные лубочные лавки и т. д. (очерки Григоровича, Кокорева и др.).
Писатели 40-х годов показывали, что за внешним блеском «фасадной империи» (выражение Герцена) скрывается ужасающая нищета трудящихся масс, создающих всю эту роскошь.
Среди высоко оцененных Белинским иллюстраций Г. Г. Гагарина к «Тарантасу» В. А. Соллогуба находилась заставка — заглавная буква к IV главе. Художник изобразил на ней фасад-колоннаду роскошного здания, выходящего на прямую мощеную улицу, а за этим фасадом он поместил полуразвалившуюся крестьянскую избу, которая своими трудовыми мозолистыми, изнемогающими от напряжения руками держит эту роскошную колоннаду. Рисунок Гагарина выражал мысль, весьма распространенную
- 525 -
в произведениях писателей гоголевского направления. Однако на первом этапе развития гоголевской школы писатели особенное внимание уделяли изображению «изнанки» городского быта, а не жизни крепостной деревни. В борьбе со славянофилами Белинский и близкие к нему писатели ощущали необходимость прежде всего доказать, что промышленное развитие России и расшатывание патриархальных крепостнических порядков не «несчастное уклонение» от «основ» русской жизни, а закономерное, исторически обусловленное и прогрессивное явление. Вместе с тем передовые писатели-реалисты 40-х годов не были склонны идеализировать буржуазные порядки, и в этом отношении реалистическая литература 40-х годов резко противостояла теориям либералов-западников. Тема разоблачения буржуазного хищничества и капиталистических отношений являлась одной из основных тем гоголевской школы. Развивая ее, писатели 40-х годов шли по стопам Пушкина и Гоголя, по пути, указанному Белинским. В произведениях ряда писателей второй половины 40-х годов антибуржуазные тенденции были связаны с влиянием идей утопического социализма. Разоблачение буржуазии в литературе 40-х годов составляло единое целое с критикой крепостнического и бюрократического строя современного общества. Отстаивая необходимость и закономерность развития общества, писатели-реалисты разоблачали те общественные силы, которые содействовали закабалению и эксплуатации народа.
«Тарантас». Повесть В. А. Соллогуба. Заставка. Гравюра на дереве
Е. Е. Бернардского по рисунку Г. Г. Гагарина. 1845.Обращение реалистической беллетристики к демократической тематике было принято в штыки представителями реакционной критики и литературы уже на самых первых порах. «Мелочные подробности, мелочные сцены, мелочные образы, мелочные характеры, мелочные люди, мелочная литература, мелочные писатели. Все мелко!» — писал Булгарин,1 обрушиваясь на
- 526 -
демократическую литературу. Еще более откровенно высказался П. А. Каратыгин в куплетах водевиля «Натуральная школа», содержавшего пасквили на деятелей реалистического направления.
Герой водевиля — представитель реалистической литературы — заявляет:
«Мы, мы натуры прямые поборники,
Гении задних дворов!
Наши герои: бродяги да дворники,
Чернь петербургских углов».1П. А. Каратыгин прямо намекает в своем куплете на содержание первого тома сборника «Физиология Петербурга»: очерки «Петербургские шарманщики» Григоровича («бродяги»), «Петербургский дворник» Даля («дворники»), «Петербургские углы» Некрасова («чернь петербургских углов»). Произведения, вошедшие в этот сборник и вызвавшие такое издевательство со стороны консервативно настроенного П. А. Каратыгина, были далеко не однородны. Некрасов, рисуя ужасающую картину нищеты, которая является уделом трудового населения Петербурга, направлял все внимание читателя на мысль о социальном неравенстве, о несправедливости распределения богатств в современном обществе. Григорович изображал более ограниченную сферу быта. Он делал предметом своего изображения один из «видов» городских ремесленников — шарманщиков. Показывая необеспеченность существования «уличных артистов», Григорович давал понять, какие трудности испытывает бедняк, пытающийся найти работу, как тяжело ему заработать на сколько-нибудь обеспеченное существование. Однако очерк Григоровича не проникнут осознанным протестом в такой мере, как «Петербургские углы» Некрасова. Григорович как бы пугается тех крайних выводов, к которым может привести его очерк. Он специально оговаривается во вступлении к очерку, что не хочет «представлять шарманщика идеалом добродетели» и противопоставлять его обеспеченным людям, он предупреждает, что не собирается изображать шарманщика «злополучнейшим из людей», рассчитывая на сострадание читателей. Свою задачу он ограничивает беспристрастным описанием «частной» и «общественной, уличной» жизни шарманщиков, в которой, по его мнению, «многое достойно внимания».2 Однако нелицеприятное описание быта бедных ремесленников, данное Григоровичем, являлось, помимо воли писателя, обвинительным актом против общества в целом. Идейное воздействие Белинского и Некрасова на Григоровича приводило писателя к стремлению правдиво изображать жизнь беднейших сословий современного общества, а такое изображение само по себе способствовало росту социального протеста.
Более далеким от социально-политического протеста, нежели Григорович, был В. И. Даль, автор очерка «Петербургский дворник». Рисуя типические черты быта петербургских дворников, показывая их бесправие и бедность, Даль, однако, особенное внимание сосредоточивает на «диких понятиях» своего героя, пытаясь объяснить это «предрассудками», свойственными низшим сословиям, темным и некультурным. Иронически рассказывает Даль о том, как лечился дворник Григорий, принимая натощак «квас с огурцами» и золу с солью, а затем, рассудив, «что не худо после этого поберечься», довольствовался «легким постным столом, то-есть: квашеной
- 527 -
капустой, огурцами, тухлой рыбой и фонарным маслом». При этом темнота и некультурность Григория не связывались с бедностью или бесправием народа в целом. Сообщая о грязи, которая царит в жилище дворника, о его полотенце, «упитанном и умащенном разнородной смесью всякой всячины» до того, что собакам оно кажется съедобным, Даль объясняет это всецело нечистоплотностью Григория. Однако упоминание о квартальном надзирателе, который тиранил дворника придирками по поводу чистоты улицы до такой степени, что последнему «опротивела» чистота, и брошенное вскользь замечание о том, что только в своем подвале Григорий чувствовал себя свободным от полицейской опеки, наталкивали на мысль об ответственности, которая ложится на общество за положение в нем бедняка-крестьянина, ушедшего на заработки в город. Впоследствии Белинский точно сформулировал эту мысль, выступая против книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»: «А выражение: ах ты неумытое рыло! да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые, и без того, потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей?»1 — писал Белинский Гоголю, подчеркивая, что темнота и бескультурье являются прямым следствием всего крепостнического строя.
В. И. Даль.
Рисунок неизвестного художника.
1830—1840-е годы.Показывая «типичные предрассудки» петербургского дворника, Даль не отдавал себе полностью отчета в том, что «укоренившиеся понятия» Григория основаны на беззакониях, которые царят в обществе, и на бесправии крепостного крестьянина.
Однако читатель «Физиологии Петербурга» делал для себя именно подобные выводы из произведений, помещенных в сборнике, в том числе и из «Петербургского дворника». Сообщая достоверные факты из жизни своего «героя», Даль давал основания для таких выводов. Как бы возражая своим собственным рассуждениям о «чудачествах» и «предрассудках» Григория, автор «Петербургского дворника» замечал: «Плох ли он был, хорош ли, честен по-своему, или по-нашему, много ли, мало ли зарабатывал, а кормил дома, в деревне, семью». И далее писатель рассказывал о причинах, заставивших Григория бросить свое хозяйство и идти на заработки в город, — о безземелье, высоком оброке и налогах, подчеркивая массовость этих явлений: «И он, как прочие, рассказывал о быте своем все одно и то же: „Вишь, пора тяжелая, хлеба господь не родит, земли у нас
- 528 -
малость — а тут подушное, оброк, земство... за отца плати, потому что слеп..., и за деда плати, потому что и дед еще жив... — да еще за двух малых ребят, за одного покойника, да за одного живого“».1
Изучая и стремясь представить в своих произведениях русское общество в его типичных чертах, писатели-реалисты 40-х годов особое внимание уделяли характеристике разных сословий и социальных групп. Отдельный человек — «герой» — появляется в их очерках главным образом как представитель своего сословия, кровно и неразрывно с ним связанный. В этом отношении показательны самые заглавия большинства очерков: «Петербургские шарманщики», «Уличный гаер» — Григоровича; «Денщик», «Петербургский дворник», «Ямщик» — Даля; «Чиновник» — Некрасова; «Помещик» — Тургенева; «Русский барин», «Помещик», «Купцы», «Чиновники» — Соллогуба (названия глав-очерков в «Тарантасе»); «Петербургский фельетонист», «Барыня», «Барышня» и другие — Панаева; «Фактор» — Гребенки; «Извозчики, лихачи и ваньки», «Кулаки и барышники», «Старьевщики», «Кухарка» — Кокорева и т. д.
Социальный тип, представитель определенного сословия, занял в этих произведениях центральное место, сменив героя романтической литературы, противостоящего массе людей — «толпе» — и вступающего с ней в непримиримый конфликт. Истинным героем этой новой литературы является общество, социальная среда, сословие. Это обстоятельство вызвало энергичные нападки со стороны врагов критического реализма. Булгарин обвинял писателей гоголевского направления в неумении показать исключительные, особенные характеры, раскрыть «историю сердца человеческого». Ю. Самарин утверждал, что физиологическая литература «не допускает глубоко постигнутых и резко отмеченных личностей; личностей в этом смысле, — писал он, — мы вовсе не находим: это — все типы...».2
Отрицая реалистический метод типизации и требуя изображения «резко отмеченных личностей», Самарин отстаивал романтический метод обрисовки характера.
Выступления славянофилов и представителей охранительной литературы против реалистического обобщения были выражением политической борьбы реакционных сил против передовой общественной мысли, против литературы критического реализма.
Писатели-реалисты указывали на ответственность господствующих классов за тяжелое положение народа. Ю. Самарин возмущался тем, что литература гоголевского направления, изображая быт, провинциальный и крестьянский, сосредоточивает все внимание на его противоречиях: «Лица, в нем действующие, с точки зрения наших нравоописателей, подводятся под два разряда: бьющих и ругающих, битых и ругаемых; побои и брань составляют как бы общую основу».3 Такая трактовка взаимоотношений высших сословий и народа была неприемлема для славянофилов, пытавшихся идеализировать отношения, существующие между помещиками и крестьянами. Славянофилы стремились по-своему истолковать творчество Гоголя. К. С. Аксаков, например, утверждал, что дух последовательного отрицания не свойствен Гоголю там, где он говорит о помещиках, что Гоголь любовно относится к своим героям и, в конечном счете, приемлет крепостническую действительность. Белинский полемизировал с подобной
- 529 -
точкой зрения, отстаивая последовательно критическое направление литературы, выражавшее протест широчайших народных масс против крепостного права. Анненков рассказывал о позиции Белинского в его полемике с К. Аксаковым: «Он <Белинский> как бы считал своим жизненным призванием поставить содержание „Мертвых душ“ вне возможности предполагать, что в нем таится что-либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго-обличающих, какие прямо из него вытекают».1
«Петербургский дворник». Рассказ В. И. Даля
(Луганского). Гравюра на дереве О. Неттельгорста
по рисунку В. Ф. Тима в сборнике
«Физиология Петербурга», ч. I.По мнению Белинского, комизм истинно художественных реальных произведений современного искусства основан на комизме нелепой действительности, не сообразной «с здравым смыслом и справедливостью» (выражение из зальцбруннского письма Белинского к Гоголю) и порождающей неестественных комических героев — носителей всех отвратительных черт и характеризующих общество в целом. Исходя из этого убеждения, Белинский возражал К. Аксакову, который пытался «реабилитировать» гоголевских героев. «Говоря о полноте жизни, — писал Белинский, — в которой изображает Гоголь свои лица, и которая действительно удивительна, автор брошюры не точно выразился, сказав, будто „Гоголь не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения“: надо было сказать — иногда не лишает каких-нибудь человеческих движений, или что-нибудь подобное. А то, чего доброго! окажется, что и дура Коробочка, и буйвол Собакевич не лишены ни одного человеческого чувства... Напрасно также автор брошюры вздумал смотреть с участием на глупую и сентиментальную размазню Манилова, когда тот идиотски мечтает... Признаемся, мы читали это со смехом и без всякого участия к личности Манилова...» (VII, 288—289).
Белинский заявлял, таким образом, что, заостряя, подчеркивая отрицательные черты своих героев, Гоголь вскрывает социальную сущность помещиков, произносит приговор художника-реалиста над ними как над реакционнейшей силой общества.
Отрицание современных общественных условий было для Белинского
- 530 -
неотделимо от утверждения положительного идеала. Положительное начало он усматривал не в среде помещиков и представителей других сословий, поддерживающих и отстаивающих современный социальный строй, а в силах, борющихся с этим строем. Смех, который являлся «единственным честным лицом» в «Ревизоре», смех, который разил помещиков — владельцев крепостных душ в «Мертвых душах», непримиримое негодование против крепостнических порядков и царящего в стране произвола и беззакония, — все это было уже выражением положительного идеала.
На первом этапе развития гоголевской школы «маленький человек», представитель угнетенных слоев общества, не является еще героем литературы в точном смысле этого слова; литература не ставит еще вопроса о конкретных формах развития сознательного протеста в среде «бедных людей», наиболее страдающих от общественных противоречий. Однако уже в начале 40-х годов писатели-реалисты ставили вопрос о положении народных масс и вслед за Пушкиным («Станционный смотритель») и за Гоголем (петербургские повести, в особенности «Шинель») показывали, как зарождается мысль о протесте, о неизбежности возмездия, как над головами людей, «срывающих цветки удовольствия», встает тень обездоленного бедняка, который потребует отчета за все свои обиды.
Преобладание критического элемента в литературе 40-х годов вызывало особенные нападки со стороны славянофилов и западников, консерваторов и либералов, а впоследствии и со стороны эстетов, сторонников «чистого искусства». Так, например, Никитенко писал о гоголевской школе: «Рассыпчатые нравоописания, портретистики, везде стоят на одной точке зрения — на точке зрения беспорядков и противоречий... Вы всегда видите одно и то же — чиновника-плута, помещика-глупца. Все провинциальное сделалось обреченною жертвою нашей юмористики...».1
В 50-х годах сторонники «чистого искусства», выступая против гоголевского направления, обвиняли его представителей в том, что они якобы огульно отрицают все общественные явления, которые попадают в поле их зрения.
А. В. Никитенко и Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков и А. В. Дружинин, А. А. Григорьев и Ф. В. Булгарин сходились в этом обвинении, предъявляемом гоголевской школе, и все они заявляли, что литература должна быть «объективной» и изображать наряду с плохими помещиками, чиновниками, купцами добродетельных представителей этих сословий. Такое требование врагов критического реализма являлось формой борьбы с революционной идейностью, борьбы, проводимой под маской проповеди «объективности» и защиты «положительного начала» русской жизни.
Писатели-реалисты ставили перед собой задачу последовательного разоблачения всех общественных сил, заинтересованных в угнетении и эксплуатации народа, в сохранении крепостничества и бесправия широких народных масс. Их произведения показывали, как современный общественный порядок искажает личность, превращая человека в тунеядца или хищника. Литература, правдиво изображавшая отвратительные образы «существователей», имела большое общественное значение. Она отвечала на вопросы, волнующие передовых людей, произносила приговор над социальным строем общества.
«Тем-то и велико создание „Мертвые души“, что в нем сокрыта и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочам этим придано общее значение, —
- 531 -
писал Белинский. — Конечно, какой-нибудь Иван Антонович, кувшинное рыло, очень смешон в книге Гоголя и очень мелкое явление в жизни; но если у вас случится до него дело, так вы и смеяться над ним потеряете охоту, да и мелким его не найдете... Почему он так может показаться важным для вас в жизни — вот вопрос!.. Гоголь гениально (пустяками и мелочами) пояснил тайну, отчего из Чичикова вышел такого рода „приобретатель“; это-то и составляет его поэтическое величие...» (VII, 444).
«Петербургский дворник». Рассказ В. И. Даля
(Луганского). Гравюра на дереве по рисунку В. Ф. Тимма
в сборнике «Физиология Петербурга», ч. I.Гоголь представлялся Белинскому истинно народным писателем потому, что «Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность» и показал, что современное общественное устройство должно быть отрицаемо и что сила народа проявляется в силе этого отрицания. Отрицание современной действительности — залог светлого будущего народа.
В преобладании «отрицательного» направления реалистической литературы Белинский усматривал и «ту пользу», что «привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически» (X, 397). Таким образом, Белинский указывал, что «отрицательная» литература имеет объективно революционный смысл, что отрицание неразрывно связано с утверждением новых явлений.
Наибольшей силы критическое направление достигло в произведениях писателей, являвшихся непосредственными носителями революционных идей. Эти писатели были последовательны в критике господствующих классов и выражали в своих произведениях положительный идеал передовых
- 532 -
людей 40-х годов. Положительный идеал революционно настроенных кругов русского общества выразился в произведениях Герцена, Некрасова, Салтыкова. Уже в своей ранней повести «Записки одного молодого человека» Герцен ставил вопрос о воспитании демократических настроений и революционного мировоззрения, о формировании нового человека. Эта же тема в сочетании с проблемой борьбы за последовательное, практическое осуществление своих идеалов прозвучала и в романе «Кто виноват?».
В этом романе Герцен противопоставил положительные образы людей, так или иначе связанных с народом (дочь крепостной, из прихоти воспитанная чуждой ей семьей помещиков Негровых, Любовь Александровна, бедняк и принципиальный демократ доктор Крупов и др.), помещикам-угнетателям и тунеядцам: Негровым, Хрящевым и пр. Замечательный положительный образ прекрасной, талантливой женщины, крепостной актрисы был дан Герценом в «Сороке-воровке». Выступая во всех своих произведениях с резкой, последовательной критикой основных устоев крепостнического общества, Герцен одновременно указывал на силы, которые подрывают основы этого общества, противостоят им. Он ратовал за новые отношения между людьми, такие отношения, которые возникли между артистом, от лица которого ведется рассказ в «Сороке-воровке», и непокоренной, протестующей, хотя и замученной крепостником-меценатом актрисой. Их связывают презрение и ненависть к тиранам-помещикам, свободолюбие, чувство собственного достоинства, любовь к своему искусству и труду.
Изображение новых отношений, возникающих между людьми, намечено и в стихотворениях Некрасова 40-х годов, таких, как «Когда из мрака заблужденья...», «Ты всегда хороша несравненно...» и др. Некрасов создает обаятельные образы людей из народа в стихотворениях «Огородник», «Тройка». Отражение переживаний, настроений и мыслей носителей революционных взглядов, изображение сильных духом, прекрасных людей из народа были неразрывно связаны в творчестве Некрасова с разоблачением крепостничества, бюрократии, буржуазного хищничества.
Салтыков сочетал показ общественного зла с изображением пробуждения революционного протеста («Запутанное дело»), с борьбой за воспитание реально относящихся к жизни и последовательно протестующих личностей («Противоречия»).
Рост антикрепостнических настроений в обществе сказался в творчестве ряда писателей 40-х годов. Тургенев в своих повестях и очерках 40-х годов показал типичных помещиков-тунеядцев и хищников, противопоставляя им светлые поэтические образы талантливых и трудолюбивых представителей народа. Григорович в своих произведениях 40-х годов не вывел ни одного эпизода, который служил бы к оправданию помещиков, ни одного положительного образа представителя эксплуататорских классов. Источником положительного начала в жизни страны ему представлялась крестьянская масса, источником зла и несправедливости — помещики и выполняющие их волю лица. Вот почему именно в произведениях 40-х годов Григорович достиг наибольшей в своем творчестве силы критического реализма. Наоборот, писатели, положительные идеалы которых шли вразрез с истинными интересами народа, большей частью были неспособны идти до конца в обличении социального зла. Характерен в этом отношении «Тарантас» Соллогуба. Белинский высоко оценил эту книгу за правдивые зарисовки быта различных сословий, и прежде всего дворянства, и особенно за реалистически показанный и разоблаченный в ней образ славянофила Ивана Васильевича — дворянина-романтика, который за выспренними рассуждениями
- 533 -
о народе и его судьбах скрывает стремление всячески добиваться укрепления «высокой, тайной, святой связи» между крестьянами и помещиками, выражающейся в крепостном праве. Этот образ Белинский использовал в борьбе со славянофилами, подчеркнув его типичность в статье о «Тарантасе». Характеризуя образ Ивана Васильевича, черпавшего свои взгляды на русский народ из толков в парижских салонах и писаний модных европейских публицистов, Белинский показал антинародный характер славянофильских теорий.
Положительные идеалы Соллогуба — либерального аристократа, не свободного от влияния славянофильских и либерально-западнических идей, вызывали едкую иронию Белинского. Особенно явственно выразились эти идеи Соллогуба в заключительной главе книги «Сон», где писатель, очевидно, отправляясь от знаменитого лирического отступления о тройке в конце первой части «Мертвых душ» Гоголя, переносит своего героя на превратившемся в птицу тарантасе в Россию будущего. Однако в этой России будущего Соллогуб находил место и для помещиков-крепостников, и для аристократов, и для купцов. Им он отводил командные должности в государстве. Описывая достаток и довольство крестьян государства будущего, Соллогуб добавляет: «Кое-где над деревнями возвышались дома помещиков... Эти дома, казалось, стояли блюстителями порядка, залогом того, что счастие края не изменится, а благодаря мудрой заботливости просвещенных путеводителей, все будет еще стремиться вперед...».1 Движение общества вперед, по мнению Соллогуба, высказанному устами «князя» — жителя государства будущего, осуществляется следующим образом: «Дворяне шли вперед, исполняя благую волю божьего помазанника; купечество очищало путь, войско охраняло край, а народ бодро и доверчиво подвигался по указанному ему направлению».2
В прямом противоречии с этими идеалами Соллогуба находился ряд эпизодов «Тарантаса», изображавших современное общество, характеризовавших типичных дворян-помещиков Ивана Васильевича и Василия Ивановича, аристократа-князя, проживающего все доходы со своих имений за границей и приезжающего в Россию только за тем, чтобы во время неурожаев взимать недоимки. В главе «Русский барин» Соллогуб рисует выразительный образ типичного представителя барства — космополита, презирающего свой народ и свою страну, эксплуататора, жестоко обирающего крестьян. Со своими крепостными он разговаривает следующим образом: «Я пятьсот палок вам, канальи. Выдрать прикажу, чтоб помнили. Русский народ! cara patria!.. Без палки ни на шаг».3
Однако этому хищнику и паразиту Соллогуб отводит почетное место в будущем страны, сохраняя за ним все привилегии, которыми он пользуется в сословно-крепостническом государстве, и только заставляет его «исправиться», отказаться от увлечения европейскими модами, надеть древнерусский кафтан и собирать галерею картин не итальянских, а арзамасских мастеров. Этот идеализированный «князь будущего» излагает в последней главе «Тарантаса» мысли о пользе, которую он приносит стране, служа заседателем: «...выгоды мои, как значительного владельца, тесно связаны с выгодами моего края. Наконец, находясь сам на службе, я не отвлекаю от выгодного занятия или ремесла бедного человека, который бы должен был занимать мою должность. Таким образом, правительство не
- 534 -
содержит нищих невежд или бессовестных лихоимцев. Охранение законов не делается источником беззаконности».1 Устами этого князя Соллогуб высказал свои идеалы, которые с еще большей ясностью выступили впоследствии в его нашумевшей либеральной пьесе «Чиновник», сурово осужденной революционно-демократической критикой.
Рисуя правдивый образ беспочвенного мечтателя-славянофила, барского сынка, не знающего своей родины, чуждого народу, никчемного Ивана Васильевича, Соллогуб временами соглашается с его рассуждением и склонен к частичной реабилитации своего героя.
Чернышевский отметил эту непоследовательность Соллогуба: «Автор „Тарантаса“, — писал он, — очевидно, подсмеивается во многих случаях над Иваном Васильевичем; но столь же очевидно, что во многих случаях он выставляет его суждения, как основательные и справедливые..., на одних страницах „Тарантаса“ выставляется нелепым то самое, что на других представляется глубокою мудростью».2
Подробно рассказывая о нравах среды, воспитавшей патриархального помещика Василия Ивановича, о его диких понятиях и косности, об узости его интересов, Соллогуб затем в главе «Помещик» сочувственно рисует этого крепостника, который торопится домой потому, что на крестьян «надо и прикрикнуть и по зубам съездить». Василий Иванович рассуждает о преданности мужиков, которые якобы считают, что «после де бога и великого государя, закон велит служить барину...»,3 и о преимуществах крепостного труда над вольнонаемным. Соллогуб солидаризуется с мнением своего героя и характеризует его как «практически дельного человека».
Так идеалы Соллогуба, сочетавшего аристократический либерализм с консервативными воззрениями, ограничивали его реализм, не давали писателю быть до конца правдивым в изображении современной ему социальной действительности.
Передовые писатели 40-х годов умели обнажать и обличать самые отвратительные черты и проявления общественной жизни и выражать свой идеал, свои чаяния и надежды через типические образы современной действительности. Этому во многом способствовала школа работы в очерковом жанре, которую большинство из них прошло в начале 40-х годов. Стремясь всесторонне изобразить общество в своих произведениях, писатели-реалисты зорко наблюдали действительность и сознательно обращались к изображению характерных явлений социального быта. «Анатомируя» общество, разлагая его на элементы и подвергая анализу каждый из этих элементов, очеркисты 40-х годов интересовались прежде всего обществом в целом.
Типические образы, создававшиеся ими, соответствовали сущности социально-исторических явлений, которые изображались в их произведениях. Описание обстановки жизни представителей разных сословий, характеристика их быта, рассказ о судьбе отдельных представителей той или иной группы населения, даже описания одежды и внешности отдельных людей — все это давалось писателями 40-х годов постольку, поскольку оно могло содействовать характеристике быта данного сословия и, в конечном счете, общества в целом. Писатели-очеркисты давали в своих произведениях яркие зарисовки типов и характеров той или иной социальной среды. Наглядности созданных ими образов и картин способствовали талантливые иллюстрации, сопровождавшие очерки.
- 535 -
Одновременно с развитием критического реализма в литературе подобные процессы происходили и в смежных искусствах, прежде всего в живописи. Реалистическое течение в графике выдвинуло таких замечательных мастеров, как Г. Г. Гагарин, В. Ф. Тимм, А. А. Агин, Р. К. Жуковский, И. С. Щедровский, Е. И. Ковригин, П. А. Федотов. Их рисунки дополняли содержание очерков, иллюстрируя произведения Даля, Соллогуба, Григоровича, Некрасова, Тургенева, Гребенки и других, а часто имели и самостоятельное значение.
«Тарантас». Повесть В. А. Соллогуба. Обложка первого издания.
Гравюра на дереве Е. Е. Бернардского по рисунку Г. Г. Гагарина.
1845.Художники — Г. Г. Гагарин, А. А. Агин, П. А. Федотов и другие — стремились подчеркнуть социальную природу изображаемых ими лиц и тем самым дать наиболее конкретную и полную характеристику быта отдельных сословий,
В своих замечательных иллюстрациях к «Мертвым душам» Гоголя Агин создал яркую галерею образов помещиков и чиновников. Художник В. С. Садовников сделал в 40-х годах ряд набросков, изображающих представителей различных социальных групп. Всевозможные виды извозчиков: лихач, легковой извозчик, ломовик, водовоз; фигуры солдат и офицеров;
- 536 -
разносчики: огородник, крестьянин, продающий птицу, рыбак с рыбой, старьевщик, пирожник; мастеровые и ремесленники: трубочисты, каменщики, маляры, шарманщики, посыльные из магазинов; купцы и «господа» — все это делается предметом зарисовок художника. И. С. Щедровский зарисовывает с натуры сцены из народного быта — работу мастеровых: бондарей, столяров, труд дворников и прачек, типы мелких торговцев, ремесленников, купцов и нищих.
Литература вела за собой другие области искусства, оказывая на них могучее и прогрессивное воздействие.
Реалисты 40-х годов, вслед за основоположниками критического реализма Пушкиным и Гоголем, боролись против традиционного «любовного сюжета», культивировавшегося эпигонами романтизма. Устами «второго любителя искусств» Гоголь в «Театральном разъезде» настаивал на том, что основой завязки литературного произведения должна быть типическая ситуация, типический общественный конфликт. «Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» — задавал вопрос Гоголь и завязкой «Ревизора», «Женитьбы», «Игроков», «Мертвых душ» показывал, как в современном обществе естественные человеческие чувства отступают на второй план перед жаждой наживы, честолюбием, духом спекуляции и карьеризма. В «Ревизоре» и «Женитьбе» Гоголь высмеял «любовную» интригу, которая до него считалась чуть ли не необходимой в драматургии. И в драматических и в повествовательных своих произведениях Гоголь показал, что в среде чиновников, помещиков и купцов, в среде городничих и Хлестаковых, Маниловых и Собакевичей, Подколесиных и Кочкаревых нет места естественным человеческим чувствам, в том числе и чувству любви. Любовь служит в этой среде прикрытием темных инстинктов и низких страстей. Из «узкого ущелья частной завязки», основанной на изображении личных отношений, Гоголь выводит комедию, роман и повесть на широкий простор коренных общественных противоречий и коллизий, продолжая и развивая в этом отношении лучшие традиции русской реалистической литературы.
В начале 40-х годов, наряду с физиологическим очерком, одним из распространеннейших жанров литературы становится сатирический рассказ.
В этих рассказах высмеивался социальный быт, нравы и понятия привилегированных сословий, демонстрировалась нелепость современного общественного устройства. Так, Григорович сатирически показывал нравы чиновничьей среды в рассказах «Лотерейный бал» и «Соседка», изобразив типично чиновничьи коллизии: попытку ловкого чиновника угодить начальнику и разжиться за счет сослуживцев путем устройства лотереи; неудачное волокитство молодого чиновника-карьериста, делающее его соперником начальника и разбивающее его карьеру. В ряде своих рассказов Я. П. Бутков (ум. 1856) изображал своеобразные чиновничьи мелкие радости и горести. Так, в рассказе «Ленточка» чиновник Иван Анисимович «десять лет провел в одном чине за одним занятием», так как отличался крайней неспособностью и никогда не мог понять смысла переписываемых бумаг. Внезапно в жизни чиновника происходит радостное событие: директор решает использовать то обстоятельство, что Иван Анисимович не понимает содержания бумаг, которые он переписывает, и делает его своим секретарем, ведущим секретную переписку: «Я извлеку из вашей способности все полезное и возможное!» — восклицает директор.1 Иван Анисимович получает
- 537 -
за проявленные им «способности» повышение по службе и награду.
Писатели гоголевской школы охотно обращались в своих произведениях к сюжету, изображающему случайное перемещение человека из одной общественной среды в другую: внезапное богатство, резкое повышение по службе и т. п. Этот сюжет давал возможность путем сатирического показа внезапных перемен, которые происходят в человеке и в отношении к нему, демонстрировать зависимость человека от его общественного и материального положения. Сюжет о мгновенном обогащении или быстрой карьере давал возможность показать, что на высшие ступени общественной лестницы восходят хищники, бессердечные карьеристы, растленные влиянием господствующих классов, вполне проникшиеся их звериной моралью.
Отвечая впоследствии на обвинения в том, что в комедии «Свои люди — сочтемся», написанной в традициях гоголевской школы, «торжествует порок», Островский заявлял: «Подхалюзин приводил меня несколько в затруднение: его преступление неблагодарность; перед судом официальным Подхалюзин может оправдаться: он не давал никаких документов ни отцу, ни стряпчему; но не уйти ему от суда публики...».1 Герой Островского действует согласно морали купеческой среды, он «не дает документов» и, несмотря на то, что присваивает имущество тестя, обманывает и обирает всех окружающих, остается «честным купцом», официально оправдываемым и уважаемым в среде купечества за капитал. «Суд публики», к которому апеллирует Островский, должен осудить не только Подхалюзина, но и воспитавшую и оправдывающую его среду, буржуазное, официально узаконенное хищничество. Объяснение, данное Островским образу Подхалюзина, может явиться комментарием к целому ряду очерков, рассказов и повестей 40-х годов. В стихотворной форме Некрасов рассказал о «нравственном человеке», который, «живя согласно с строгою моралью», совершал подлость за подлостью и преступление за преступлением («Нравственный человек»). Панаев в рассказе «Прекрасный человек» показал, как принесший в жертву своей карьере отца и мать, благополучие родителей и счастье сестры молодой чиновник «выходит в люди» и слывет «прекрасным человеком».
В сборнике «Петербургские вершины» Бутков специально останавливается на обличении «неестественных понятий», которыми руководствуются люди в современном обществе:
«Нужно ли распространяться о том, — иронически замечал он, — что каждый бедняк, каждый глупец — одно и то же, — каждый бесталанный горемыка чародейственною силою рублей превращается в весьма хорошего человека, даже в весьма разумного человека, благородной наружности, внушающей уважение, и даже в человека с отличными дарованиями и интересною наружностью, в которой есть что-то такое особенное, этакое!.. Ясно, что разум и дарования заключаются в самых рублях, а рубли сообщают свои качества тем, у кого они в руках».2
В «Театральном разъезде» Гоголя «ядовитого свойства господин» заявлял: «...нравственность всякий меряет относительно к себе. Один называет нравственностью сниманье ему шляпы на улице; другой называет нравственностью смотренье сквозь пальцы на то, как он ворует; третий! называет нравственностью услуги, оказываемые его любовнице... Тут если
- 538 -
и явится у кого-нибудь в три года два дома, так ведь это отчего? Всё от честности...».1
В рассказе Я. П. Буткова «Почтенный человек» рассказчик, узнав о нечестных аферах своего приятеля Пачкунова, восклицает: «Судя по твоим подвигам, если ты их не сочинил, ты не меньше как порядочный человек!
«— Сам ты порядочный человек, отвечал мне Лука Сидорович, видимо обиженный. Неужели ты не понимаешь, что порядочный человек в состоянии только сорвать банк, или занять у приятеля без отдачи; но кто возвысился до социальной благотворительности, самоотвержения из любви к ближнему, кто публично, безнаказанно облегчал участь страждущего человечества, тот — внимай, профан, тот уже сущий абсолютный, почтенный человек».2
Гоголь, а вслед за ним и писатели 40-х годов, сатирически заостряли типические образы представителей привилегированных сословий и в своих произведениях показывали ущербность, искаженность сознания героев, демонстрируя своеобразие их речи, искажение слов и понятий общенародного языка в их речи.
Реалистическая литература 40-х годов проявляла живой интерес к изучению народного разговорного языка. Исследуя быт разных сословий, писатели обогащали литературный язык за счет широкого введения в него новой лексики, заимствованной из разговорной речи, из словесного обихода разных слоев общества.
Белинский высказывался против засорения литературного языка провинциализмами, вульгаризмами, жаргонными выражениями. Так, например, некоторое увлечение провинциализмами Белинский заметил в «Записках охотника». Он отрицательно отнесся к этой черте стиля Тургенева и предостерегал молодого писателя от подобных «излишеств». Увлечение провинциализмами и профессиональной терминологией сказывалось в произведениях Даля, Кокорева и других писателей.
Однако прочно вошли и утвердились в литературном языке 40-х годов лишь те слова и выражения разговорного языка, введение которых было необходимо ввиду расширения проблематики и круга изображаемых литературой социальных явлений. Писатели 40-х годов чутко отмечали жаргонные искажения общенародного языка в речи господствовавших классов и, подчеркивая это явление, давали понять читателю, как далеки эксплуататоры от народа и свойственных народу представлений и взглядов.
3
Вторая половина 40-х годов характеризовалась обострением классовой борьбы, ростом общественных противоречий. Политическая и идейная борьба этих лет внесла некоторые новые черты в реализм, привлекла внимание писателей к новым социальным вопросам, способствовала тому, что проблемы, стоявшие и прежде в литературе гоголевского направления, зазвучали с новой силой.
В середине 40-х годов и в России и на Западе растет волна революционного движения. На Западе происходит накопление сил молодого пролетариата и подготовка революции 1848 года, в России — рост крестьянских
- 539 -
восстаний, усиление борьбы с крепостничеством. Если с 1840 по 1844 год имело место 138 крестьянских волнений, то с 1845 по 1849 год произошло 221 восстание крестьян. В 1846—1847 годах разнесся слух о скорой отмене крепостного права, говорили, что Николай I, испуганный подъемом крестьянского движения, заявил о своем намерении осуществить реформу. Белинский и его друзья были взволнованы подобными слухами, строили всевозможные предположения, надеялись, что начинается новый этап революционной борьбы за освобождение народа.
В 1847 году Белинский писал Анненкову: «Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение... Обманутое ожидание ведет к решениям отчаянным...». Белинский сообщал далее, что крестьянские головы настроены «к мыслям о свободе».1
В обстановке середины 40-х годов со всей силой встал вопрос о роли народа в истории, о соотношении передовой интеллигенции и народа и о своеобразии современного положения России — роли в ней многомиллионных масс крестьянства.
Герцен и Белинский вели последовательную борьбу со славянофилами по вопросам о значении народа в истории, об особенностях русского национального развития, о роли крестьянства в современном обществе.
Белинскому были чужды и реакционные утопии славянофилов и ограниченность взглядов западников, искажавших перспективу исторического развития России. Белинский утверждал огромное значение особенностей национального развития: «Что личность в отношении к идее человека, то народность в отношении к идее человечества. Другими словами: народности суть личность человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения», — писал он в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (X, 408), направляя острие своих суждений против теории западников. Белинский заявлял, что, отказываясь от конкретного анализа действительности, пытаясь судить о будущем России на основании своих представлений о Западной Европе, западники не могут понять ни прошлого, ни настоящего, ни будущего страны. «Но один из величайших умственных успехов нашего времени, — писал Белинский, — в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, нисколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с нею общего, европейских народов» (X, 390—391).
От взгляда теоретиков — «европеистов», по мнению Белинского, ускользала та «таинственная Психея народной жизни», тот дух народа, хранителем которой является народная масса. Корнем русской жизни, ее стержнем, ее основанием Белинский считал в это время «простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком» (X, 464).
Белинский боролся со славянофильской легендой о пассивности и покорности русского народа. В понимании отличия России от других стран и русского народа от других народов ярко сказалось различие взглядов Белинского и славянофилов. Славянофилы считали специфической особенностью русской жизни «душу» крестьянина, якобы покорного и консервативного, а также патриархальность крестьянской общины. Белинский заявлял, что подобного рода свойства народа и его быта являются
- 540 -
реакционным измышлением славянофилов, и коренную особенность русской жизни видел в том, что даже и при наличии крепостного права и огромной силы подавления крестьянство все же оказывает мощное сопротивление своим угнетателям. Этот протест крестьянской массы Белинский считал выражением революционной сущности народа.
В статьях Белинского этой поры все яснее и яснее выступает мысль о низших сословиях как существенном элементе нации (наиболее близком к национальной сущности) и определяющей силе национальной истории. «Удивительное существо — народ! Почти всегда невежественный, грубый, ограниченный, слепой — он непогрешительно истинен и прав в своих инстинктах; если он иногда обманывается с этой стороны, то на одну минуту — не более...», — замечает Белинский в десятой статье о Пушкине (XII, 162).
В знаменитом письме к Гоголю из Зальцбрунна Белинский, не стесненный цензурой и полицейской опекой, со всей определенностью высказал свой взгляд на русский народ. Именно низшие сословия, а не дворянство и духовенство представляют лучшие черты русской нации.
Настоящий выразитель народных интересов тот, кто способствует просвещению народа, пробуждению в нем сознания. Рост антикрепостнических настроений в среде крестьянства создает условия для просвещения народа, и в этом залог лучшего будущего страны. «Чем больше разовьется человек..., тем труднее будет его уверить, что белое — черно, что все естественное — преступно, что все, доставляющее истиннее наслаждение, должно быть избегаемо», — писал в своем дневнике А. И. Герцен.1
Полемизируя со славянофильской идеализацией патриархального консерватизма, Белинский указывал, что черты, которые приписываются народу реакционными идеологами, не свойственны русскому крестьянству или воспитываются в нем его угнетателями: «...бородатые русские мужички ничего не жалеют для обучения детей своих грамоте и достигают иногда этой цели при всевозможной бедности в средствах. Да, эта любовь к свету, выразившаяся в пословице: ученье — свет, не ученье — тьма, составляет одно из лучших и благороднейших свойств русского народа, — и это-то свойство до сих пор не признано в нем его близорукими восхвалителями и льстецами, которые, взамен того, навыдумывали для него множество похвальных качеств, или не бывалых в нем, или составляющих еще его темную сторону» (X, 446).
Со второй половины 40-х годов литература обращается к изображению крестьянства. В «Деревне» (1846), «Антоне-Горемыке» (1847) и других деревенских повестях Григоровича, в «Записках охотника» Тургенева (1847—1852), в повести «Сорока-воровка» (1846) и романе «Кто виноват?» (1847) Герцена образы прекрасных русских людей — крестьян — противопоставлены звероподобным ликам их владельцев-помещиков.
В повести «Сорока-воровка» Герцена гениальная русская актриса, крепостная женщина — человек огромного таланта, богатой души, высокого ума — не хочет покориться своему барину, цинику и селадону, предпочитая смерть позору рабской покорности. Автор всячески подчеркивает превосходство крепостной актрисы над ее господином.
В замечательном рассказе Тургенева «Хорь и Калиныч» помещик Полутыкин приглашает рассказчика к своему крестьянину Хорю, который в интеллектуальном, нравственном и даже физическом отношении оказывается бесконечно выше своего господина. Все ничтожество своего барина он
- 541 -
видит насквозь. В этом очерке изображаются два крестьянина: поэтическая натура — Калиныч и «положительный, практический, административная голова, рационалист»1 — Хорь. Тургенев особо отмечает в Хоре деятельность его натуры, любовь к родине и сравнивает его характер с характером Петра I. Образ «администратора» и «преобразователя» по натуре Хоря противопоставлен тем фантастическим мужикам, которые фигурировали в писаниях славянофилов, образам мужиков, стремящихся свято сохранить старинные обычаи и установления. «Хорь, с его практическим смыслом и практическою натурою, с его грубым, но крепким и ясным умом..., — по мнению Белинского, — тип русского мужика, умевшего создать себе значащее положение, при обстоятельствах весьма неблагоприятных» (XI, 138).
Иллюстрация:
«Записки охотника» И. С. Тургенева.
Титульный лист первого издания. 1852.Высоко оценил Белинский и образ Калиныча. В рассказе «Касьян с Красивой Мечи» Тургенев раскрыл черты подобного типа в образе Касьяна. Устами Касьяна Тургенев выражает отношение народа к своей стране и ее природе. Касьян проникнут любовью к родине, ее природе и людям. Он поэтизирует бесконечные просторы страны, ее богатство и красоты. Вся страна в его представлении населена только простыми людьми — крестьянами, жизнь представителей высших сословий не интересует его и глубоко ему, чужда.
В легендах, песнях, сказках, в устной поэзии, бытующей в крестьянской среде, Тургенев видит выражение тех же народных черт, которые он усматривал в независимых взглядах и трезвом уме Хоря, в поэтической любви Касьяна к родине.
В рассказе «Певцы» Тургенев передает мысли и чувства, которые возникали от песен, исполнявшихся народным певцом: «Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос... в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны... Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо-широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль».2
- 542 -
Тургенев, как и другие наиболее близкие к Белинскому в 40-е годы писатели, беспощадно разоблачал навязанные народу его угнетателями, воспитанные крепостным рабством черты. Так, в рассказе «Два помещика» Тургенев с возмущением показывает забитость, покорность крепостных помещика Стегунова, которых до семидесяти лет называют Юшками, Мишками, Васьками и Палашками и которые после порки благодарят барина за «науку». В этом же рассказе Тургенев отмечал, что подобная «патриархальность» отношений между помещиками и крестьянами, к счастью, уже становится редкостью, что покорность крестьян барину воспринимается как остаток старины.
В ряде рассказов Тургенев рисовал растущие и углубляющиеся противоречия между крестьянами-бедняками, несущими на своих плечах весь гнет крепостного права, и сельскими богатеями-бурмистрами, старостами и управляющими, поддерживающими власть помещиков и использующими бесправие крестьян в своих интересах («Бурмистр»).
Белинский отмечал, что в попытке Григоровича в повести «Деревня» «показать глубокую натуру в загнанном лице его героини видна его симпатия и любовь к простому народу» (XI, 38).
Григорович стремился в образе простой деревенской девушки — сироты Акулины — представить все богатство, всю одаренность натуры простых русских людей. Писатель показал, что Акулина гибнет не только от непосильной работы, не только от произвола помещиков, насильно выдавших ее замуж, но и от жестокого обращения с ней богатой семьи мужа, ненавидящей девушку за то, что она бедна и не принесла в дом приданого, и безнаказанно избивающей ее до смерти. В душе Акулины зреет протест не только против помещиков, но и против самодуров-богатеев, в семью которых она попала. Это обстоятельство особенно возмущало славянофилов, которые не могли примириться с тем, что Григорович разрушает иллюзии о «патриархальной семейственности» как основе современного крестьянского быта.
Значение повести Григоровича «Антон-Горемыка» Белинский видел в том, что писатель сумел сделать истинно трагическим героем простого, нехитрого мужика, возбудив сочувствие и «мысли грустные и важные» (XI, 139) рассказом о его судьбе. Грустные и важные мысли, о которых говорил Белинский, были мысли о крепостном праве. Григорович показал в своих ранних повестях и рассказах тяжесть положения бесправного, стоящего, по сути дела, вне закона крепостного крестьянина. В повести «Антон-Горемыка» Григорович поднялся даже до изображения возмущения народа против эксплуатации и издевательств крепостников. Повесть оканчивалась восстанием крестьян, поджогом барского дома и убийством управляющего. В печати повесть появилась с искаженным по требованию цензуры концом.
Григорович показывает в своем произведении, что крестьяне глубоко человечны и исполнены чувства собственного достоинства в противоположность помещикам, их ставленникам-управляющим и деревенским богатеям, сдирающим с крестьянина последний армяк.
Белинский подчеркивал, что истинно любит свой народ тот, кто любит низшие сословия, прежде всего крестьянство, чутко замечая в них те черты, которые приведут народ к освобождению, кто сам содействует освобождению народа.
Тургенев отмечает в «Записках охотника», что свирепый крепостник Пеночкин не прочь потолковать «об отличных качествах русского мужичка» в похвалу своему бурмистру, обирающему крестьян. Барское «народолюбие»,
- 543 -
Иллюстрация:
«Хорь и Калиныч». Рассказ И. С. Тургенева. Журнальный текст.
«Современник». 1847.
- 544 -
за которым скрывается эгоизм и бессердечие сытых эксплуататоров, было разоблачено и Григоровичем в «Деревне», «Бобыле» и в других повестях и рассказах 40-х годов.
Устами однодворца Овсянникова и крестьян («Однодворец Овсянников») Тургенев разоблачает помещиков-славянофилов как крепостников, теории которых прекрасно уживаются с эксплуататорской практикой:
«Растолкуйте мне, пожалуйста, что̀ за чудеса такие? Ума не приложу, — говорит Овсянников. — Его же <помещика-славянофила> мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики: что̀ за диво? ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така̀ шапонька мудреная, и лицо такое мудреное: пьян, не пьян, а и не в своем уме. „Здорово“, говорит, „ребята; бог вам в помощь“. Мужики ему в пояс, — только молча: заробели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать: „я-де русский“, говорит, „и вы русские; я русское все люблю... русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская...“. Да вдруг, как скомандует: „а ну, детки, спойте-ка русскую, неродственную песню!“. У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели... Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился... А вместо того вышло — как вам доложить?.. В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул, а мужики к Василью Николаичу подступиться не смеют: боятся».1
Помещик-славянофил, пытающийся внушить крестьянам, что он русский, что у него «русская душа», остается их врагом и притеснителем.
Писатели 40-х годов показывали, что человек, действительно близкий к народу, не может не страдать от крепостнических порядков и не вступить в противоречие с носителями их — помещиками и чиновниками. Герой рассказа Тургенева «Петр Петрович Каратаев» — образец «характера чисто русского», по определению Белинского (XI, 138; в первоначальном заглавии рассказа Тургенев сам назвал своего героя «Русаком»), относится к крепостным крестьянам, как равным себе людям. Он любит настоящей, большой любовью крепостную девушку и пытается отстаивать ее человеческое достоинство и право на счастье. Крепостники обрушивают свой гнев на «вольнодумца» и губят самого Каратаева и его возлюбленную.
Не может ужиться с крепостником-меценатом и артист-рассказчик в «Сороке-воровке». Оказавшись в обстановке крепостного театра, он сразу проникается ненавистью к его хозяину и отказывается от первоначального намерения поступить к нему на службу. В романе «Кто виноват?» Герцена показано, что все люди, близкие к народу, связанные с ним и принимающие его интересы к сердцу, ненавидят крепостное право. Плебей доктор Крупов возмущает помещиков и чиновников тем, что считает своей обязанностью сперва оказать помощь опасно больной крепостной женщине, а затем лишь идет к истеричной барышне. Мать Бельтова ненавистна окружающим помещикам потому, что по своему происхождению она — крепостная крестьянка, и потому, что она гораздо лучше, морально выше и образованнее своих соседок-помещиц. Ненавидят помещики и Любоньку Круциферскую — дочь крепостной, женщину сильной воли и самостоятельного ума, и Владимира
- 545 -
Бельтова, «обреченного уморить в себе страшное богатство сил и страшную ширь понимания».1
Иллюстрация:
«Антон-Горемыка». Повесть Д. В. Григоровича. Первопечатный
текст. «Современник». 1847.Передовые люди самым своим существованием напоминают о том, что крепостничество не вечно, что в обществе растут силы, которым предстоит вести борьбу с ним.
Рисуя таким образом положение передового, мыслящего человека-протестанта в помещичьей среде, Герцен развивал традиции, идущие от творчества Лермонтова.
Писатели-реалисты во второй половине 40-х годов широко ставили вопрос о передовых людях, о воспитании последовательных, теоретически подготовленных и сочетающих революционную теорию с практикой политических борцов. Еще в 1840 году Герцен в «Записках молодого человека» пытался показать, как зарождается социальный протест в сознании представителя
- 546 -
молодого поколения. Критика беспринципности, безволия, ренегатства играла огромную роль в борьбе за воспитание передовых людей в демократическом и революционном духе. В 1847 году И. И. Панаев в повести «Родственники» изобразил молодого человека, члена московского кружка «идеалистов», мечтавшего о «разумной действительности». Оказавшись в обстановке крепостной деревни, герой Панаева Григорий Алексеевич возмущается «безобразием деревенской жизни», говорит «о необходимости ясного практического взгляда на жизнь» и о своем стремлении «переделать» действительность. Однако первое же столкновение с реальными жизненными противоречиями обескураживает, пугает его и заставляет, смирившись, отказавшись от борьбы, покинуть поле боя.
Не сознавая вполне всего значения темы, разработанной им в повести «Родственники», во многих чертах предвосхитившей тургеневского «Рудина», Панаев в числе других писателей-реалистов 40-х годов содействовал все же этим произведением борьбе Белинского и Герцена за воспитание последовательных революционеров. Пафос разоблачения безволия, непоследовательности и беспринципности с гораздо большей силой, чем у Панаева, прозвучал в произведениях писателей, мировоззрение которых носило революционный характер (см., например, стихотворение «Я за то глубоко презираю себя...» Некрасова и повесть «Противоречия» Салтыкова-Щедрина).
Особенно широко и полно ставится вопрос о положении протестующей личности в современном обществе в романе Герцена «Кто виноват?». Развивая творческие принципы гоголевского направления, Герцен по-новому поставил вопрос о зависимости человека от среды. Помимо прямого воздействия социальной среды, которая воспитывает человека и с которой он связан, Герцен показывает, какое значение для развития личности имеет воздействие на нее передовых, революционных идей, воспринимаемых через книги, газеты, журналы, общение с людьми демократических убеждений. Герцен подчеркивает активность личности, показывает, что человек может в свою очередь влиять на общество, если действия его будут основаны на понимании общественных законов и согласованы с требованиями времени.
Рисуя в лице Бельтова выдающегося человека, личность, резко выделяющуюся из окружающей среды, Герцен дает этому образу четкую социально-историческую характеристику: герой его — дворянский революционер-протестант последекабрьского периода. Бельтов является типическим представителем общества, «в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию» (Белинский).1 Наделенный недюжинными способностями, проникнутый передовыми идеями века, Бельтов стремится к активной деятельности, но в условиях николаевской реакции и крепостнического гнета не находит применения своим силам. Герцен показывает все трудности, с которыми принужден сталкиваться в современной России человек, стремящийся к полезной общественной деятельности. Однако Герцен не приходит к пессимистическим выводам. Он требует от передового человека преодоления этих трудностей и указывает пути их преодоления. Для того чтобы вести борьбу в столь сложных условиях, следует прежде всего хорошо знать окружающую действительность, реально представлять себе обстановку, свои задачи и возможности. Герцен подвергает беспощадному разоблачению «мечтательность», черты романтизма и идеализма в своем
- 547 -
герое, его склонность к отвлеченному теоретизированию, недооценку им важности изучения конкретных условий, в которых приходится действовать. Герцен показывает, что учет исторических и национальных особенностей общества является необходимым для тех, кто призван в нем действовать. Величайшей бедой Бельтова является его воспитание. Он — «чужой дома, чужой и на чужбине».1 Воспитатели Бельтова «сделали все, чтоб он не понимал действительности: они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь, передали ему блестящие идеалы...».2 Бельтов пугался противоречий жизни. «У него недоставало того практического смысла, который выучивает человека разбирать связный почерк живых событий; он был слишком разобщен с миром, его окружавшим...».3
Бельтов бесконечно выше окружающих его помещиков и чиновников. Он не может разделять ни их буден, ни их праздников, жизнь их вызывает у него отвращение и протест. Однако, руководствуясь своими отвлеченными представлениями об обществе, он не находит пути к борьбе с этим миром. С юных лет Бельтов воспитывался в окружении, не совсем обычном для молодого дворянина. Мать его, в прошлом крепостная крестьянка, была чужда миру помещиков и всей душой сочувствовала крестьянам. Бельтов не впитал с детства сословных предрассудков и веры в незыблемость помещичьих привилегий, поэтому ему легче, чем многим его товарищам, было стать «человеком XIX века по убеждениям», т. е. передовым человеком. Однако Бельтов не мог до конца порвать с эксплуататорской средой, к которой он принадлежал. Осуждая хандру и пессимизм, в которые впадает зачастую Бельтов, доктор Крупов упрекал его: «...вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенное занятие, да отними она у вас Белое Поле, вы бы стали работать, — положим, для себя, из хлеба, — а польза-то вышла бы для других...».4
«Ничто не вызывало его деятельности; она была вовсе не нужна и обусловливалась только его личным желанием», — пишет Герцен5 и показывает, как обеспеченность и независимость Бельтова препятствует его сближению с народом, воспитанию его в духе последовательного и самоотверженного служения народу. Критикуя уязвимую сторону дворянских революционеров 40-х годов, Герцен воспитывал последовательных политических борцов, способных действовать и в условиях подпольной революционной работы, и при обстоятельствах открытой борьбы. Положительный образ революционера, который возникал в сознании читателя романа «Кто виноват?», стал типическим явлением действительности в последующую эпоху и нашел свое отражение в знаменитом романе Чернышевского «Что делать?», изображавшем «новых людей», в лице дворянина-революционера Рахметова. Рахметов порывает со средой, из которой он вышел. Он умеет действовать практически на пользу революции, соединяя теоретические познания и интересы с политической борьбой. Деятельность его плодотворна, так как основана на знании жизни. Он стремится упрочить свои связи с народом, интересы которого защищает.
Роман Герцена «Кто виноват?» сыграл значительную роль в воспитании революционеров. На нем воспитывался Чернышевский, революционно-демократическое
- 548 -
мировоззрение которого сформировалось в конце 40-х годов, влияние романа испытали на себе многие революционеры 40—60-х годов.
Герцен придал политический характер и разоблачению обывательского романтизма, показав в лице Круциферского, как уход от жизни в область «мечты» и романтического утопизма постепенно приводит человека к примирению с гнусной крепостнической действительностью. Пытаясь замкнуться в рамках семейной жизни, Круциферский, в свое время возмущавшийся социальной несправедливостью, произволом крепостников, становится мирным членом провинциального общества, прекрасно уживающимся с местными помещиками и чиновниками. Герцен показывает, что попытка устроить свое личное счастье в стороне от решения общественных вопросов обречена на неудачу. Если временно, в виде исключения, и может возникнуть «оазис» семьи, людей, довольных собой и своим существованием, то при первом соприкосновении их с противоречиями жизни (а в это соприкосновение рано или поздно они вступят) искусственно созданное равновесие будет нарушено. Счастье отдельного человека может быть достигнуто только на путях борьбы за счастье всего народа.
Против романтического ухода от жизни, ведущего к непониманию законов действительности и неизбежному примирению с миром угнетения и социальной несправедливости, была направлена и повесть Салтыкова «Противоречия». Герой этой повести, обращаясь к своему приятелю и подразумевая многих людей одного с ним направления мысли, заявляет: «Через шесть лет по выходе из школы оставаться всё тем же студентом, всё тем же пламенным поклонником икса, говорить только о человечестве и забывать о человеке — глупо, не только глупо, но и подло. Нет!.. Пора нам стать твердою ногою на земле, а не развращать себя праздными созданиями полупьяной фантазии; пора объяснить себе эту стоглавую гидру, которая зовется действительностью, посмотреть, точно ли так гнусна и неумыта она, как описывали нам ее учители наши, и если это так, то какие причины этой разрозненности частей целого, и нет ли в самой этой борьбе, в самой этой разрывчатости смысла глубокого и зачатка будущего... Неужели всю жизнь сочинять стихотворения, и не пора ли заговорить простою, здоровою прозою?».1
Разоблачение романтических иллюзий, отрыва от действительности, всякого рода реакционных утопий имело огромное значение в 40-е годы.
Говоря в повести «Доктор Крупов» о предрассудках, заблуждениях, косности людей и нелепости их социального быта, как о «душевных болезнях», Герцен, скрывшийся под маской «чудака» — доктора Крупова, заявлял: «...не легко перерабатывается в душе человеческой родовое безумие; большие усилия надобно употреблять для малейшего шага. Вспомните романтизм — эту духовную золотуху, одну из злотворнейших психических эпидемий, поддерживающую организм в беспрерывном и неестественном раздражении, поселяющую отвращение ко всему действительному, практическому и истощающую страстями вымышленными».2
В своей борьбе с реакционными утопиями славянофилов и с отвлеченными теоретизированиями западников Белинский и Герцен опирались на достижения передовой художественной литературы, которая в 40-х годах вскрыла связь такого рода утопий с помещичьим бытом и со всем укладом
- 549 -
жизни дворян, оторванных от трудовой деятельности и мечтающих о сохранении существующего порядка вещей.
Огромная заслуга в деле разоблачения всяческих иллюзий в 40-е годы принадлежала И. А. Гончарову, показавшему истинное лицо патриархального крепостнического быта («Сон Обломова», 1849). Гончаров установил, что паразитическая жизнь помещиков, эксплуатировавших крестьянский труд, являлась почвой, которая порождала так называемый «дворянский романтизм». В «Сне Обломова» и «Обыкновенной истории» (1847) он показал, как обстановка поместья, обеспеченность и тунеядство, наличие крепостных рабов, «взятых в дворню», чтобы удовлетворять барские прихоти, способствуют воспитанию беспочвенных мечтателей. Молодой дворянин-романтик сначала как бы пытается противопоставить себя среде, он наделен какими-то неопределенными порывами. Однако эти порывы, при первом же столкновении с действительностью, сменяются апатией и бездеятельностью. Романтик отказывается от своих мечтаний, примиряется с окружающим его миром и погружается в приобретательство, тунеядство, в котором он чувствует себя, как в родной стихии.
Разоблачение романтика-протестанта, погрязающего в бездеятельности и паразитизме, содержалось и в произведениях А. Ф. Писемского (1821—1881), прежде всего в его повести «Тюфяк» (1850). Ряд своих ранних повестей и рассказов Писемский посвятил изображению несостоятельности «слабых натур» в борьбе с пошлостью окружающего их помещичьего общества («Нина», 1848; «Богатый жених», 1851—1852, и др.).
Писатели гоголевской школы во второй половине 40-х годов уделяли много внимания вопросу о губительном воздействии социального быта их времени на психологию отдельного человека, особенно человека угнетенного, подавленного, обездоленного. Проблема «маленького человека», материально и духовно подавленного, непосредственно была связана с освободительными идеями. Вопрос о «маленьком человеке» вставал прежде всего как вопрос о социальном неравенстве и праве обездоленных на протест и отстаивание своих интересов. Литература 40-х годов, показывая все тяготы, выпадавшие на долю бедного труженика в городе и крепостного крестьянина в деревне, звала к изменению действительности, она требовала от «маленького человека» активного отношения к действительности, борьбы с угнетателями. Белинский считал, что истинно гуманно то произведение искусства, которое пробуждает в «униженных» и «бедных людях» чувство собственного достоинства, желание изменить условия своего бытия. Такая гуманность должна была, по мысли великого критика, стать основой современного искусства. «Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием», — это «страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом, и еще больше без умысла» (XI, 116). «Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважают в других человеческого достоинства, и еще более оскорбляется и страдает, когда человек сам в себе не уважает собственного достоинства», — писал Белинский (XI, 118).
«Маленький человек» представлялся передовым идеологам второй половины 40-х годов не просто предметом изучения и описания, а главной силой, которой надлежит действовать в обществе. Писатели гоголевского направления, изображавшие быт беднейших и бесправных слоев населения, создавали свои произведения с ориентацией на демократического читателя. Они рисовали жизнь бедняков с позиций защиты их интересов и прямо обращались к людям, «кровно связанным» с изображаемыми слоями населения. Белинский подчеркивал принципиальную чуждость и враждебность
- 550 -
гуманистической литературы 40-х годов реакционному читателю, представителю господствующих классов: «В самом деле, представьте себе человека обеспеченного, может быть богатого; он сейчас пообедал сладко, со вкусом (повар у него прекрасный), уселся в спокойных вольтеровских креслах..., тепло и хорошо ему, чувство благосостояния делает его веселым, — и вот берет он книгу, лениво переворачивает ее листы, — и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован... И есть от чего! книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо как он, что есть углы, где под лохмотьями дрожит от холоду целое семейство..., что есть на свете люди, рождением, судьбою обреченные на нищету... И нашему счастливцу неловко, как будто совестно своего комфорта. А все виновата скверная книга... Прочь ее! „Книга должна приятно развлекать...“, восклицает он. — Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, голодный свой голод... Представьте теперь, в таком же положении другого любителя приятного чтения. Ему надо было дать бал, срок приближался, а денег не было; управляющий его, Никита Федорыч, что-то замешкался высылкою. Но сегодня деньги получены, бал можно дать... и от нечего делать руки его лениво протягиваются к книге. Опять та же история! Проклятая книга рассказывает ему подвиги его Никиты Федорыча... И ему-то, незнакомому ни с каким человеческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов... Скорее прочь ее, скверную книгу!..» (XI, 92—93).
Реалистическая литература второй половины 40-х годов, ставя в центр своего внимания «маленького человека», в целом ряде случаев принципиально отказывалась от изображения дворянства — среды, привлекавшей почти исключительный интерес писателей в предшествующие периоды. О своем намерении заняться изображением «грубых мужиков» и пренебречь героями, принадлежащими к «высшему классу людей», заявлял Григорович в повести «Деревня». Бутков писал о своих героях, что это люди, «которых скорби и радости определяются таксою на говядину, которых мечты летают по дровяным дворам, надежды сосредоточиваются на первом числе...».1
Мысль о праве всех людей на счастье, о ценности человеческой личности, угнетенной и поруганной в эксплуататорском обществе, явилась основой психологизма, который получил широкое развитие в демократической литературе второй половины 40-х годов. Писатели стремились проникнуть в психологию бедного человека, показать его внутренний мир, передать его стремления, мечты, чаяния. И здесь в изображении психологии человека из народа ярко сказались имевшие место расхождения между писателями различных политических убеждений. Главным вопросом, способствовавшим выявлению этих разногласий, была проблема отношения «маленького человека» к окружающему обществу. Писатели демократического лагеря, развивая гоголевскую традицию, придавали гоголевскому гуманизму революционный характер, в то время как писатели, в мировоззрении которых намечались расхождения с передовой литературой, подвергали решительной ревизии эти принципы.
В рассказе «Сто рублей» Бутков рисует тяжелую судьбу бедного чиновника Авдея, который никак не мог найти себе «ваканции» и вынужден был поступить в контору купца Щетинина. Авдей униженно заверял хозяина, что может «работать не хуже... да, ей богу, не хуже крепостного, не только вольного!». «Его характер был уже образован, точнее — измят
- 551 -
обстоятельствами „ваканции“, и душа его уже не была способна к энергии, к упругости, свойственной людям стальной натуры»,1 — писал о своем герое Бутков. Авдей сходит с ума, выиграв в лотерею сто рублей, так как мысль о возможности хотя бы временно выйти из положения страшной нужды не укладывается в его сознании. Рядом с Авдеем Бутков изобразил другого бедняка Михея. Несмотря на сходство обстоятельств их жизни, Михей, в противоположность Авдею, не покорился судьбе. Он «чувствовал себя обиженным несправедливо, жаждал мести, той мести, потребность которой рождается в сердце человека, оскорбленного условиями, отношениями, обстоятельствами, и которая часто совершается не над одним отдельным лицом, но над великою личностию общества и человечества. Эта жажда мщения одушевляла его в борьбе с обстоятельствами; он не упадал духом, не покорялся ни ваканции, ни судьбе».2 Бутков сочувствует духу протеста, который свойствен «ершу» (прозвище Михея), однако он показывает, что герой его уклоняется от правильного пути. Не видя возможности иным способом бороться за свои права, Михей начинает присматриваться к способам, которыми обогащаются «хозяева жизни», и приходит к решению поживиться за счет богачей таким же образом, каким наживались они сами.
Бутков показывал, как сила и настойчивость, законное чувство негодования на несправедливость общественного порядка расходуются в неправильном направлении, как развращает общество бедняка. Писатель критиковал покорность «маленького человека» и беспощадно разоблачал влияние идеологии господствующих классов на угнетенных и обездоленных людей. Ограниченность Буткова состояла в том, что он склонен был подчас преувеличивать забитость маленького человека и не замечать роста сознательного сопротивления разночинной среды. В повести Буткова «Невский проспект или путешествие Нестора Залетаева» (1848) изображалась робкая попытка «маленького человека» протестовать, причем писатель подчеркивал доходящую до болезненности запуганность своего героя.
Тургенев, творчество которого в 40-х годах несло на себе явные следы влияния Белинского, показывал в своих произведениях этой поры и тяжелое положение угнетенных «маленьких людей» и возникавшие в народной среде настроения протеста. Вместе с тем он подвергал критике проявления покорности, слабости, трусости, неверия в собственные силы. Тургенев отмечал, что обиженные, обездоленные люди, испытавшие на себе несправедливость общественного строя, тяжело переживают свое бессилие в борьбе в тех случаях, когда они оказываются перед необходимостью «смириться».
Герой Тургенева, Петр Петрович Каратаев, вместо рассказа о своей жизни и судьбе любимой им крепостной девушки, декламирует монолог Гамлета, выражающий чувства недовольства своей слабостью в борьбе с торжествующим злом.
Однако рядом со «слабым» Каратаевым Тургенев стремился изобразить в «Записках охотника» сильных духом и способных к борьбе крепостных крестьян. Тургенев намечал, например, в одном из своих рассказов показать «бунт» крестьян, отомстивших помещику, разорявшему их («Землеед»). Замысел этот не был осуществлен, так как автору стало ясно, что рассказ не пропустит цензура.
Герцен, Некрасов, Григорович и другие писатели создали в 40-х годах образы бедняков — «маленьких людей», защищающих свое человеческое
- 552 -
достоинство и вступающих в конфликт с представителями господствующих классов. Писатели эти критиковали черты забитости, придавленности, покорности, воспитанные в представителях низших сословий угнетением, бесправием, нищетой.
Иначе подходил к вопросу о положении «маленького человека» и об отношении его к обществу Ф. М. Достоевский. Первое, прославившее автора, произведение Достоевского «Бедные люди» было опубликовано в «Петербургском сборнике» и высоко оценено Белинским. Произведение это создавалось под несомненным влиянием идей Белинского и революционного кружка петрашевцев, однако уже и в этой повести проявились черты, которые, развиваясь в дальнейшем, привели к разрыву писателя с передовой общественной мыслью.
Сильной стороной повести Достоевского было правдивое изображение беспросветной нужды и бесправия «маленьких людей». Достоевский пытался не противопоставлять угнетенного бедняка власть имущим. Он изображал «доброго генерала», начальника Девушкина, однако повесть его с потрясающей убедительностью доказывала мысль о том, что все общественное устройство предопределяет неизбежность несчастий и гибели «маленького человека». Сто рублей, «пожертвованные» генералом Макару Девушкину, не спасут его от унижений и нищеты, выигранное в суде дело Горшкова не спасет от гибели семью Горшковых, разоренных и лишенных кормильца, которого убили несправедливость и беспросветная нужда. «Благодеяния» хозяев жизни тяжелы для бедных людей, они означают, в конечном счете, еще большее закабаление бедняка. Так, решив жениться на опозоренной им Вареньке, помещик Быков принуждает девушку, пользуясь ее тяжелым материальным положением, согласиться на брак с ним. Женившись на Вареньке, он как бы покупает ее в вечное рабство. Браком этим он причиняет ей еще больше зла, чем своим первым гнусным поступком, лишившим ее доброго имени.
Достоевский показывает смирение и униженность своего героя, и хотя автор далек от мысли, что его герой Девушкин способен на протест и сопротивление, сама повесть заставляет негодовать не только на общество, угнетающее бедного человека, но и на само рабское смирение бедняка. Вот почему Белинский считал «Бедные люди» Достоевского гуманным произведением.
Цитируя письмо Девушкина, содержащее рассказ о происшествии, которое случилось с ним в департаменте, о гневе и затем жалости к нему генерала, Белинский комментирует этот эпизод: «Такая страшная сцена может не потрясти глубоко только душу такого человека, для которого человек, если он чиновник не выше 9-го класса, не сто̀ит ни внимания, ни участия... И сколько потрясающего душу действия заключается в выражении его благодарности, смешанной с чувством сознания своего падения и с чувством того самоунижения, которое бедность и ограниченность ума часто считают за добродетель!..» (X, 213).
Достоевский не понимал, что покорность и самоунижение бесправного бедняка, являясь следствием его угнетенности и бедности, в свою очередь приносит вред «маленькому человеку». Углубляясь во внутренний мир своего героя, стремясь показать его чувства и мысли, Достоевский «преклонялся» перед забитым человеком, умилялся не только действительно высокими чертами — трудолюбием, человечностью, чувством товарищества, бескорыстием, которые усматривал он в среде бедняков, но и возникшими вследствие долгих лет бесправия и нужды приниженностью, верой в «милосердие» начальников, боязнью всякой свободной мысли. Достоевский
- 553 -
солидаризуется со своим героем в его требовании, чтобы литература «утешала» «маленьких людей», не обнажая перед ними трагизма их положения. Он вступает к полемику с Гоголем, показавшим беспросветность бытия Акакия Акакиевича и иронически отнесшимся к покорной приниженности бедного чиновника.
И. С. Тургенев.
Отпечаток с дагерротипа 1848 года.За видимой полемикой Достоевского с Гоголем в «Бедных людях» содержалась скрытая, но ясно ощутимая полемика его с продолжателями гоголевских традиций — Белинским и его учениками.
Продолжая традиции, идущие от таких произведений Гоголя, как петербургские повести, писатели реалистического направления вскрывали несознательность «маленьких людей», встающих на сторону своих угнетателей, разоблачали стремление чиновников, в том числе и мелких, к подавлению всякой свободной мысли и всякого протеста в обществе. В стихотворном очерке «Чиновник» Некрасов высмеивал чиновника «средней руки», рьяно поддерживающего «установленный порядок». «Благонамеренность» чиновника вызывала особенную иронию Некрасова. Некрасов разоблачал чиновников как опору реакции и правительственной политики. О герое своего очерка Некрасов писал:
Был с виду прост, держал себя сутуло,
Смиренно всё судьбе предоставлял,
- 554 -
Пред старшими подскакивал со стула
И в робость безотчетную впадал,
С начальником, ни по каким причинам —
Где б ни было — не вмешивался в спор,
И было в нем всё соразмерно с чином —
Походка, взгляд, усмешка, разговор.
Внимательным, уступчиво-смиренным
Был при родных, при теще, при жене,
Но поддержать умел пред подчиненным
Достоинство чиновника вполне;
Мог и распечь при случае (распечь-то
Мы, впрочем, все большие мастера)...По службе быв всегда благонамерен,
Он прочее другим предоставлял.Зато, когда являлася сатира,
Где автор — тунеядец и нахал —
Честь общества и украшенье мира,
Чиновников, за взятки порицал, —
Свирепствовал он, не жалея груди,
Дивился, как допущена в печать,
И как благонамеренные люди
Не совестятся видеть и читать.
С досады пил (сильна была досада!)
В удвоенном количестве чихирь
И говорил, что авторов бы надо
За дерзости подобные — в Сибирь!..1На одной странице с этими стихами в альманахе «Физиология Петербурга» помещена картинка: чиновник указывает перстом на заголовок повести Гоголя «Шинель» вверху страницы раскрытой книги.
Несомненно, в какой-то связи со стихотворением Некрасова находятся следующие рассуждения Девушкина о «Шинели» Гоголя: «Позвольте, маточка: всякое состояние определено всевышним на долю человеческую, — начинает свою аргументацию Макар Девушкин. — Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться... Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен...». И далее Девушкин рассуждает: «...так как разные чины бывают, и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный; — это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас другого распекает».2 Сравните у Некрасова: «И было в нем всё соразмерно с чином» и «мог и распечь».
«Служишь-служишь, ревностно, усердно, — чего! — и начальство само тебя уважает..., — продолжает Девушкин, — и вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того, ни с сего, испечет тебе пашквиль... Но я всё-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили, и за себя не вступились... Да и как вы то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варинька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник.
- 555 -
Да ведь после такого надо жаловаться, Варинька, формально жаловаться», — заканчивает Макар Девушкин свое письмо.1
Некрасов и Панаев. Карикатура Н. А. Степанова.
«Иллюстрированный альманах», запрещенный цензурой. 1848.Вкладывая в уста Девушкина слова сатирической поэмы Некрасова, Достоевский полемически оправдывал «ограниченность» и своеобразие психики героя. Он рассматривал темные стороны характера своего героя, воспитанные в нем канцелярской службой, как свойства человеческой души вообще. Таким образом, от «всепрощающей» любви к «маленькому человеку», доходящей до оправдания его слабостей, в творчестве Достоевского намечался путь к неверию в духовные силы человека, сомнению в возможности разумного устройства отношений между людьми. Реалистическая трактовка характера человека, искалеченного средой, подменялась подчас у Достоевского уходом в психологический анализ, оторванный от анализа социального. Развитие этих тенденций в творчестве Достоевского привело писателя к отвлеченному психологизму «Хозяйки» (1847) — произведения, которое глубоко разочаровало Белинского, и к порочной концепции повести «Двойник» (1846), в которой Достоевский, следуя в своей тематике за «Записками сумасшедшего» Гоголя, по существу вступает в резкое противоречие с Гоголем, даже в прямую полемику с ним.
Гоголь рассказывает о том, как под влиянием возмущения против социальной несправедливости Поприщин перестает ощущать себя «титулярным
- 556 -
советником». Пробудившийся в нем протест выводит его из круга привычных для окружающей его среды и для него самого понятий. Вполне отказаться от представлений, внушенных ему с детства и внушаемых постоянно окружающей средой, Поприщин не может. Он не может также согласовать возникшее в нем чувство собственного достоинства с тем, что признается за истину в канцеляриях и ведомствах. Им овладевает безумие. Гоголь показывает, что в смятении чувств и понятий, в своем безумии Поприщин гораздо более человечен и разумен, чем в то время, когда он был благонамеренным чиновником. В последнем своем монологе Поприщин забывает о своей маниакальной идее, о Фердинанде VIII. Безумный Поприщин выражает чувства ненависти к окружающему злу, чувства любви к родной земле, матери и т. д. Протест освобождает мысль забитого чиновника от страха перед сильными мира сего, восстанавливает истинно человеческие чувства, пробуждает высокие мысли, чистые побуждения.
Достоевский в повести «Двойник», углубляясь в психологию сходящего с ума мелкого чиновника Голядкина, представляет его безумие как результат бунта «темных сил» души своего героя. Недовольство маленького человека обстоятельствами своей жизни, отношением к нему начальства Достоевский изображает как результат свойственных природе человека повышенной амбиции, эгоизма, карьеризма, мнительности и т. д.
Отход Достоевского от Белинского и руководимой им группы передовых писателей-реалистов не оказал заметного влияния на литературу 40-х годов, однако несколько второстепенных писателей пытались пойти вслед за Достоевским. Из числа этих писателей известным литературным дарованием был наделен брат Ф. М. Достоевского — М. М. Достоевский. В творчестве М. М. Достоевского отсутствовали элементы критики социальной действительности, столь характерные для произведений его брата. М. М. Достоевский пытался сосредоточить свое внимание на психологии «маленького человека» и ограничивал сферу своего творчества изображением семейных дел и личных отношений «малых мира сего», отвлекаясь от их социальной природы («Дочка», 1848; «Два старичка», 1849). Он сочувственно рисует ограниченность, пошлость, умственное убожество своих героев, подчеркивает их смирение, кротость, даже умиляется ими. В повести «Господин Светелкин» (1848) М. М. Достоевский рассказывает о чиновнике, который, соблюдая крайнюю бережливость, к сорока годам скапливает некоторый капитал, несмотря на абсолютную честность и незначительность должности, им занимаемой. Кротость и аккуратность в исполнении служебных обязанностей снискивают ему любовь сослуживцев и уважение начальства. Накопив деньги, Светелкин женится на любимой им девушке, причем добивается ее расположения благодаря тем же чертам своего характера: кротости, всепрощению, смирению. Такое изображение общества и человека означало, конечно, полный отход от гоголевских традиций и от принципов реалистического отношения к действительности вообще.
Иное отношение к «маленькому человеку» имеет место в повести писателя-демократа Салтыкова «Запутанное дело» (1848). Салтыков показывает, что только мысль о восстании, которая западает в душу обездоленного бедняка Мичулина во время представления «Вильгельма Телля» в театре, придает ему силу и веру в жизнь:
«Снова целый гром на сцене, снова всё волнуется и колышется, и слышатся Ивану Самойловичу и выстрелы, и стук сабель, и чуется ему дым...
«С волнением смотрит он во все глаза на сцену; с судорожным вниманием следит за каждым движением толпы; ему и в самом деле кажется,
- 557 -
«Ползунков». Рассказ Ф. М. Достоевского. Гравюра на дереве по рисунку
П. А. Федотова. «Иллюстрированный альманах». 1848.
- 558 -
что вот, наконец, всё кончится; он хочет сам бежать за толпою и понюхать заодно с нею обаятельного дыма...».1
Только революционный народ может принести освобождение угнетенным и обездоленным. Поверив в возможность народного восстания, ясно и отчетливо осознав, что народ может выступить как сплоченная сила, защищающая свои права, Мичулин чувствует прилив сил, бодрости, непреодолимое желание принять участие в борьбе. Освобождение маленького человека может быть только результатом упорной и жестокой борьбы, и Салтыков выражает веру в то, что народ победит в этой борьбе:
«— Мама! Когда же убьют голодных волков?» — спрашивает в повести Салтыкова ребенок, уверенный, что хлеб бедняков поедают волки.
«— Скоро, дружок, скоро...», — отвечает ему мать.
«— Всех убьют, мама? ни одного не останется?
«— Всех, душенька, всех до одного... ни одного не останется...
«— И мы будем сыты? У нас будет ужин?
«— Да, скоро мы будем сыты, скоро нам будет весело... очень весело, друг мой!».2
Сравнивая Гоголя с его последователями, в частности с Салтыковым, Чернышевский отмечал, что Салтыков отличается от своего учителя сознательностью протеста, революционной идейностью, которая является основанием его реализма. Чернышевский писал о Гоголе: «... его поражало безобразие фактов, и он выражал свое негодование против них; о том, из каких источников возникают эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, он не размышлял много».3
Размышления над вопросом о взаимосвязи различных социальных явлений и причинах социального зла приводили лучших передовых представителей критического реализма к восприятию идей утопического социализма. В повести Салтыкова они и нашли свое отражение. Пропагандой этих идей деятельно занимался кружок петрашевцев, идейно связанный с Белинским. Собрания кружка петрашевцев посещались многими писателями гоголевской школы. В «Святом семействе» Маркс следующим образом сформулировал мысль о соприкосновении революционного гуманизма и материализма XIX века с социалистическими идеями: «Не требуется большого остроумия, чтобы усмотреть связь между учением материализма о прирожденной склонности к добру, о равенстве умственных способностей людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних обстоятельств на человека, о высоком значении индустрии, о нравственном праве на наслаждение и т. д. — и коммунизмом и социализмом. Если человек черпает все свои знания, ощущения и проч. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек познавал в нем истинно-человеческое, чтобы он привыкал в нем воспитывать в себе человеческие свойства. Если правильно понятый интерес составляет принцип всякой морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами... Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства
- 559 -
человечными. Если человек, по природе своей, общественное существо, то он, стало быть, только в обществе может развить свою истинную природу, и о силе его природы надо судить не по отдельным личностям, а по целому обществу».1
Иллюстрация:
«Петербургский сборник». Титульный лист. 1846.
Говоря о нелепости современного социального устройства в повести «Доктор Крупов», Герцен критиковал общество с социалистических позиций. Устами своего героя писатель заявлял: «В нашем городе считалось пять тысяч жителей; из них человек двести были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи семьсот человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые денно и нощно работали, не вырабатывали ничего, а те, которые ничего не делали, беспрерывно вырабатывали и очень много».2
Герцен как бы развивал мысль петербургских повестей Гоголя, особенно «Записок сумасшедшего», о безумии общества, о ненормальности отношений, которые признаны в современном обществе за «норму», и вместе с тем его повесть резко отличалась от повестей Гоголя. В отличие от Гоголя, Герцен стоял на позициях революционера, он был социалистом и видел возможность исправления общества революционным путем.
Влияние социалистических идей было столь широко, что оно подчас сказывалось и в произведениях писателей гоголевской школы, не проникшихся глубоко освободительными идеями и революционными настроениями. Так, например, отзвуки почерпнутых из произведений социалистов-утопистов представлений о будущем человечества ощущаются в концовке очерка «Тля» И. И. Панаева.
С идеями утопического социализма была связана развернувшаяся в литературе 40-х годов критика капиталистических отношений. Писатели-реалисты правдиво показывали в своих произведениях нового хищника-капиталиста, торговца и дельца, вскрывая те бедствия, которые несет капитализм трудящимся массам. Тема разоблачения буржуазного хищничества становилась одной из основных тем реалистической литературы. Характерно, что в повести Салтыкова «Запутанное дело», пронизанной
- 560 -
социалистическими идеями, с особенной силой разоблачается власть денег над людьми.
В «Петербургском сборнике» был помещен очерк И. И. Панаева «Парижские увеселения», по своей направленности резко противостоявший писаниям либеральных западников. Панаев показывал нищету и обездоленность парижского трудового населения, голод и бесправие, разврат и продажность, которые являются результатом власти денежного мешка. Он рисовал мрачные картины беспросветной нужды, нищенства, за которое закон осуждает на тюремное заключение женщину, пытавшуюся спасти от голодной смерти своего ребенка, картины растления нравов, эпизоды, свидетельствующие о падении культуры и искусства, вынужденных угождать вкусу буржуа.
Реалистическая литература 40-х годов отобразила рост капитализма в России, она показывала, как возрастает экономическая мощь нового капиталистического хищника, вторгавшегося во все области жизни, оттеснявшего старого эксплуататора-дворянина и в деревне и в городе.
В повестях «Онагр» и «Актеон» Панаев нарисовал образ миллионера-спекулянта Бобынина: «...у него в квартире дорогие мебели и бронзы; у него щегольские лошади: он дает щегольские вечера и обеды, он ведет большую игру; он важное лицо в благородном собрании и ему хочется попасть в английский клуб; его вы встретите на всех торгах и аукционах; к нему ездит генералитет, с ним под ручку прогуливаются капиталисты... В задушевном словаре этого человека немного слов. Вот почти все они: купил, перекупил, продал, запродал, обработал...».1
К концу второй повести («Актеон») Бобынин «чудно обрабатывает» «актеона» — помещика, прибрав к рукам все его значительное поместье и обогатившись за счет его разорения. Н. А. Некрасов в стихотворениях 40 — начала 50-х годов с потрясающей силой показал разлагающее влияние страсти к наживе на человеческую личность (например «Ростовщик», 1844; «Влас», 1854; «Секрет (Опыт современной баллады)», 1855).
Бутков прямо формулировал мысль о власти денег в современном обществе: «Есть в мире предметы благоговения всеобщего, безусловного... есть сила, своенравно, деспотически располагающая жребием человеческим, — те предметы — рубли, то величие — рубли, та сила — в рублях!
«Человек без рублей, хотя бы то был и чиновник, ничего не значит, ни к чему не годится и ничего не сто́ит. Человек с рублями, хотя бы то и не был чиновник, имеет значение всюду, годится ко всему, и сто́ит той суммы рублей, которою он обладает».2
Власть денег давит на «маленького человека», увеличивая его бесправие. Сверх гнета общественной пирамиды феодально-бюрократического государства (образ из повести Салтыкова «Запутанное дело») на плечи бедняка обрушивается еще гнет капиталистической эксплуатации.
В деревенских повестях и рассказах Тургенева и Григоровича созданы образы кулаков — сельских богатеев, кабатчиков, бурмистров, обирающих и угнетающих крестьян не меньше помещиков. В ряде случаев писатели отмечали, что сельские богачи оттесняют помещиков и официально или неофициально овладевают их деревнями (например «Бурмистр» Тургенева).
Особое место среди писателей-реалистов 40-х годов, разоблачавших буржуазию, занимали А. Н. Островский и И. А. Гончаров. Огарев видел особую заслугу Островского в том, что он разоблачил русское купечество,
- 561 -
И. И. Панаев.
Фотография. Конец 1850 — начало 1860-х годов.
- 562 -
- 563 -
ударил по быту «этой буржуазии, не доросшей до касты, но уже вместившей в себе всю безнравственность понятий и лицемерия, с ней нераздельную...».1
Анализируя в сценах «Картина семейного счастья» (1847) и комедии «Свои люди — сочтемся» (1850) семейный быт и деловую практику купечества, раскрывая понятия и представления, господствующие в этой среде, обличая ее звериную мораль, Островский сумел уже в первых своих произведениях дать яркую картину буржуазных отношений, произнести над ними беспощадный приговор. Вот почему комедия Островского «Свои люди — сочтемся» произвела такое огромное впечатление на прогрессивно настроенных читателей и вызвала такое негодование крупного купечества и высшего чиновничества.
Гончаров сознательно не стремился к полному разоблачению русской буржуазии. Напротив, в «Обыкновенной истории» он пытался противопоставить практического дельца буржуазного типа Петра Ивановича Адуева его племяннику — беспочвенному мечтателю-романтику Александру Федоровичу Адуеву. Белинский высоко оценил образ Адуева-старшего. Он указывал положительное значение «практицизма» людей, подобных Петру Ивановичу Адуеву, в борьбе с романтизмом в литературе и быту, в разрушении патриархальной замкнутости, в разоблачении крепостнического паразитизма. Вместе с тем Белинский отдавал себе отчет во всех темных сторонах деятельности буржуазных хищников и отрицал буржуазное стяжательство с позиций защиты интересов народа. Иначе относился к этому вопросу либерально настроенный Гончаров. Он рассматривал буржуазного дельца как положительное явление русской жизни, пытался возвести его в идеал.
Однако художественный метод Гончарова — великого реалиста, правдиво изображавшего действительность, привел к тому, что под пером писателя Адуев-старший обнаружил все свое нравственное убожество, всю ограниченность своего духовного мира, все свое корыстолюбие. Гончаров показал, что черствый эгоизм Адуева-старшего сушит и губит все живое, что попадает в сферу его влияния. Разрушив барскую мечтательность племянника и его паразитическую непрактичность, Адуев-старший взамен этого наделяет его лишь жаждой стяжательства, мелким честолюбием, черствым эгоизмом. «Обыкновенная история» не только давала типичный образ буржуазного деятеля, но и способствовала разоблачению самого идеала буржуазного человека. В «Обыкновенной истории» Гончаров затрагивал и другой вопрос, волновавший передовых людей 40-х годов, вопрос о положении женщины в современном обществе. Писатель показывал, что женщина особенно остро чувствует на себе ложь и бесчеловечность отношений, царящих в буржуазной среде. Он изображал, как в обстановке стяжательства, карьеризма, грубой расчетливости и циничной погони за наживой разрушаются мечты молодой женщины о честной, справедливой и содержательной жизни, как бесплодно гибнут ее хорошие задатки, способности, устремления. Жена преуспевающего Петра Ивановича Адуева глубоко несчастлива. Практицизм и цинизм мужа возмущают ее, жизнь ее загублена, ею овладевает тупое отчаяние, которое пугает даже ее равнодушного ко всему, кроме денежных интересов и чинов, мужа.
Обратившийся от романтических мечтаний к делячеству и буржуазному практицизму, Александр Федорович Адуев женится на богатой невесте,
- 564 -
заключая брак как финансовую сделку. Он не дает себе труда узнать до свадьбы о том, любит ли его невеста, и откровенно признается, что сам не питает к ней никаких чувств, однако он прекрасно осведомлен о состоянии ее родителей, о приданом, которое дают за нею, и о денежных перспективах, которые открывает перед ним брак. Гончаров дает понять читателю, что жена Адуева-младшего будет так же несчастлива, как и его тетка.
Вопрос о положении женщины занимал видное место в русской литературе 40-х годов. Однако разрабатывали и решали писатели этот вопрос далеко не в одном направлении. В отличие от славянофильских теоретиков, идеализировавших патриархальный семейный быт и пытавшихся узаконить рабство женщины в семье и обществе, в отличие от представителей «светской» литературы, не видевших и не желавших видеть возможности другого быта и других интересов для женщины, нежели те, в которые замыкает ее современное общество (Е. Ростопчина, Е. Тур), литература реалистического направления пропагандировала идею эмансипации, освобождения женщин. Однако и среди писателей-реалистов не было единообразия в решении этого вопроса. Писатели, наиболее близкие к Белинскому и его окружению, связывали вопрос о положении женщины с вопросом о положении народа в целом. Борьба за освобождение женщины представлялась им частью общей борьбы за освобождение народа. В «Запутанном деле», изображая судьбу бедной девушки и женщины, Салтыков со всей определенностью давал понять, что женщина будет освобождена от нужды и бесправия только тогда, когда уничтожат всех до единого «волков» — эксплуататоров и угнетателей народа. Герцен, Некрасов, Тургенев и Григорович показывали, что крепостное право особенно тяжело сказывается на судьбе женщины. На женщину падал двойной гнет: бесправие в обществе и бесправие в семье. В «Сороке-воровке» и «Кто виноват?» Герцена, «Петре Петровиче Каратаеве» и других рассказах из «Записок охотника» Тургенева, в стихотворении «В дороге» Некрасова, в «Деревне» Григоровича вопрос о положении женщины ставился как часть вопроса о крепостном праве.
В ряде произведений («Кто виноват?» Герцена, стихотворения Некрасова и др.) уже намечалось изображение новых отношений между мужчиной и женщиной — любви, уважения и товарищества, основанных на общности убеждений, на готовности плечом к плечу участвовать в общей борьбе. Изображение равенства мужчин и женщин в борьбе, труде и личной жизни как типического явления среди революционеров и прообраза отношений, которые станут нормой в общественной жизни будущего, в дальнейшем было развернуто в знаменитом романе Чернышевского «Что делать?». В ином плане решал вопрос о борьбе за равноправие женщины А. В. Дружинин (1824—1864), принадлежавший в 40-х годах к гоголевскому направлению, но уже и в это время обнаруживавший явное расхождение с Белинским. Наиболее близка к передовым явлениям реалистической литературы 40-х годов повесть Дружинина «Полинька Сакс» (1847). Белинский положительно оценил эту повесть, рисующую результаты светского воспитания девушки, уродующего ее, убивающего в ней способность мыслить, трудиться и глубоко чувствовать. Путь перевоспитания современной женщины, развития ее интеллекта Дружинин усматривал в предоставлении ей прав на свободу чувства. Писатель пытался найти возможность освобождения женщины в узком кругу семьи и личных отношений. Носителем нового, подлинно гуманного отношения к женщине в его повести является не крестьянин и не разночинец — бедняк и протестант, отрицающий устои современного общества, как в стихотворениях Некрасова
- 565 -
И. А. Гончаров.
Фотография С. Л. Левицкого. 1856.
- 566 -
- 567 -
или повестях Герцена, а крупный чиновник либерального типа — Сакс. Сакс стремится вызвать у жены интерес и сочувствие к своей служебной деятельности, сделать ее своим помощником и другом. Однако в конце повести писатель вынужден признать, что Сакса постигла «пиррова победа» в борьбе за свободу чувств и развитие личности Полиньки. Полинька умнеет, начинает больше понимать и глубже чувствовать, но свобода, которую предоставил ей муж, приводит ее к гибели. Дружинин не отдавал себе отчета в том, что правдивая концовка повести, помимо его воли, доказывала, что не такие люди, как Сакс, и не такими путями, какими шел он, могут добиться действительного освобождения женщины. В произведениях, следующих за «Полинькой Сакс», — «Лола Монтес» (1848) и «Жюли» (1849), — Дружинин окончательно замыкает своих героинь пределами семьи и ограничивает их интересы исключительно любовными и семейными отношениями. Такое понимание проблемы эмансипации женщины и борьбы женщины за свои права уводило Дружинина от методов критического реализма, сближая его творчество с традициями светской и романтической повести.
Передовая реалистическая литература второй половины 40-х годов обнажала зависимость личных и семейных отношений от социальных условий бытия человека. Тема любви, отодвинутая на задний план в литературе первой половины 40-х годов, обретает здесь новое значение. История любви отдельного человека рисовалась писателями-реалистами как результат сложного переплетения общественных связей, вне которых не может решаться судьба каждого человека. Конфликт, тяжело отзывавшийся на судьбе героя, завязывался, как правило, не в сфере его личных отношений. В произведениях писателей-реалистов судьба человека отражала судьбу целой социальной группы. Личная трагедия, трагедия неудачной любви выступала как отражение трагических общественных противоречий.
Общественная коллизия разделяет влюбленных. Сюжет произведений писателей-реалистов нередко трактовал тему неравного брака и любви представителей разных сословий. Теме трагической любви людей разных сословий посвящен ряд стихотворений Некрасова, например: «В дороге», «Огородник» и др. Рассказ о своей любви и ее трагическом завершении герой стихотворения Некрасова «Огородник» заканчивает словами:
Постегали плетьми, и уводят дружка
От родной стороны и от лапушки прочь
На печаль и страду!.. Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!1Герой рассказа Тургенева «Петр Петрович Каратаев» — небогатый помещик, полюбил крепостную девушку и этим погубил и свою и ее жизнь. Герой другого рассказа Тургенева «Уездный лекарь» — скромный разночинец, провинциальный врач, полюбил свою пациентку-дворянку. Умирающая девушка тоже создала себе иллюзию любви. «Скажу вам без обиняков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила что ли, меня... или нет, не то, чтобы полюбила...», — рассказывает герой новеллы Тургенева. «Нет, — продолжал он с живостью: — какое полюбила! Надо себе, наконец, цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться».2 Герой не обольщается никакими иллюзиями насчет своей любви:
- 568 -
«...понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, — не подумала бы она обо мне; а то, ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она с отчаянья, хоть за меня ухватилась».1 Герой Тургенева и в любви чувствует свою униженность, свою бедность, свою нужду. Предсмертная любовь девушки из высшего сословия напоминает ему о том, что в другое время и в другой обстановке она никогда бы не обратила на него внимания. Герой страдает вдвойне — и от того, что любимая им девушка умерла, и от сознания пропасти, которая неминуемо возникла бы между ними, если бы смертельная болезнь не стерла преград, воздвигаемых между людьми обществом.
Завязка и развязка большинства произведений писателей-реалистов определялась большими, значительными общественными явлениями. Белинский отмечал, что в «Антоне-Горемыке» Григоровича «все верно основной идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа все вертится на пропаже мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антон — мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он лицо трагическое, в полном значении этого слова» (XI, 139).
Социальный трагизм положения Антона основан на бесправии крепостного крестьянина, эксплуатируемого помещиком, разоряемого управляющим, обираемого кабатчиком. За него никто не заступится, ибо бюрократический аппарат крепостнического государства рассчитан на подавление крестьянства, а не на защиту его интересов.
Белинский указывал также, что «Антон-Горемыка» и «Деревня» Григоровича «идут гораздо дальше физиологических очерков» (XI, 138). Оба эти произведения — повести, причем «Антон-Горемыка» по значительности своего содержания, по широте обобщения явлений быта, по глубине анализа характера героя приближается к роману.
Во второй половине 40-х годов физиологический очерк отступает на задний план. Ведущим жанром становится реалистическая психологическая повесть, рисующая социальный быт и положение представителей угнетенных низов. Эта повесть, проникнутая настроениями протеста и передающая внутренний мир «маленького человека», оказала сильнейшее влияние и на другие области искусства.
Замечательный представитель русской реалистической живописи П. А. Федотов в конце 40-х — начале 50-х годов наряду с картинами, дающими сатирические зарисовки быта («Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора»), создает произведения, каждое из которых представляет собой как бы момент, выхваченный из исполненной драматизма повести о жизни «маленького человека» («Вдовушка», «Анкор, еще анкор», «Бедной девушке краса — смертная коса»).
Влияние гоголевских традиций сказалось и на развитии русской музыки, прежде всего на творчестве Даргомыжского, а в конечном счете и на формировании творческих принципов «могучей кучки».
Обличительная реалистическая литература явилась мощным средством распространения передовых идей, играла немалую роль в борьбе за освобождение народа. Вот почему в 1848 году, когда правительство, напуганное ростом крестьянских волнений и революциями в странах Западной Европы, обрушило реакционный террор на передовые силы общества, литература критического реализма оказалась в сфере особого внимания самого царя и
- 569 -
его чиновников. Специально созданный Николаем I для проверки деятельности журналов комитет, заседавший под председательством генерал-адъютанта Меншикова, в конце марта 1848 года рассмотрел деятельность «Современника». Журналу было предъявлено обвинение в пропаганде принципов обличительного реалистического направления в литературе. В качестве примеров, свидетельствовавших о «вредном» направлении журнала, обследовавший «Современник» граф Строганов ссылался на статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и Герцена «Об историческом развитии чести», а также на произведения Григоровича «Антон-Горемыка» и «Бобыль». Редакторам прогрессивным журналов Краевскому («Отечественные записки») и Никитенко (официальный редактор «Современника») было сделано предупреждение, что в случае, если они впредь будут действовать в том же направлении, их будут считать государственными преступниками. Правительственное «внушение» произвело такое впечатление на либерала Никитенку, что он вскоре отказался от участия в редактировании «Современника».
А. В. Дружинин.
Гравюра на стали Ф. А. Брокгауза. Лейпциг. 1865.Передовые представители литературы и общественной мысли подверглись репрессиям. Вождя русских революционеров 40-х годов, главу и теоретика
- 570 -
реалистического обличительного направления в литературе — Белинского, только смерть спасла от заключения в крепость. Самое имя Белинского надолго стало запретным для печати.
С июня 1848 года тайная царская полиция следила за деятельностью находившегося за границей Герцена и собирала обвинительный материал. Обстановка в России принудила Герцена отказаться от возвращения на родину и стать политическим эмигрантом.
В 1849 году был разгромлен кружок петрашевцев. Члены кружка были приговорены к смертной казни, которую царь, в виде особой «милости», заменил каторжными работами. В сложной политической обстановке конца 40-х годов ясно обозначались позиции каждого общественного деятеля и литератора. Либеральные писатели, примыкавшие к гоголевскому направлению, а зачастую и лично дружившие с Белинским или Герценом, спешили засвидетельствовать свою «благонамеренность». Уже в первом номере «Современника» за 1849 год П. В. Анненков поместил «Заметки о русской литературе прошлого года», в которых он сделал попытку ревизовать оценки произведений реалистической литературы, данные Белинским, и затушевать политическое значение повестей и рассказов Герцена, Тургенева, Григоровича.
Теоретики либерального западничества открыто пошли по этому пути, стремясь увлечь за собой и заставить отойти от традиций передовой реалистической литературы 40-х годов писателей, мировоззрение которых носило либеральный характер.
В 1850-х годах Дружинин в «Письмах иногородного подписчика» выступил против заветов Белинского, заявив, что слабость русской беллетристики за последние пять или шесть лет зависит от следующих причин: «...первое, что сатирический элемент... не способен быть преобладающим элементом в изящной словесности, а второе, что наши беллетристы истощили свои способности, гоняясь за сюжетами из современной жизни», и провозгласил: «...долой преобладание сатирического элемента, долой повести из современной жизни».1
Хранителями и продолжателями наследия Белинского явились революционные демократы и, в первую очередь, Некрасов, Чернышевский и Добролюбов. Некрасов собирал в «Современнике» силы демократической реалистической литературы и, не имея возможности сразу порвать со своими сотрудниками — либеральными критиками, постепенно подготовлял почву для их удаления из журнала. В конце 1853 года Некрасов привлек в «Современник» Чернышевского, который вскоре стал ведущим критиком журнала. Чернышевский выступил на борьбу за сохранение наследия Белинского, за осуществление его заветов. Идея необходимости продолжения и развития традиций критики Белинского и художественной практики гоголевской школы проходит через «Очерки гоголевского периода русской литературы», печатавшиеся в «Современнике» в конце 1855 и в 1856 году, а также в ряде других статей великого критика за эти годы.
Чернышевский, а за ним Добролюбов считали, что русская литература может развиваться, лишь следуя заветам Белинского, отстаивая, упрочивая и расширяя замечательные достижения русского критического реализма 40-х годов.
Сноски1 А. И. Герцен. Избранные сочинения, Гослитиздат, 1937, стр. 426.
2 Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., тт. I—XI (1900—1917) под редакцией С. А. Венгерова, тт. XII—XIII (1926—1948) под редакцией В. С. Спиридонова.
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 194.
2 Там же, стр. 181.
1 «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 578.
1 Д. В. Григорович, Полн. собр. соч., т. XII, СПб., 1896, стр. 266.
1 П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1928, стр. 370.
1 А. Григорьев. Полн. собр. соч., под редакцией В. Спиридонова, т. I. Пгр., 1918, стр. 126.
2 Д. В. Григорович, Полн. собр. соч., т. XII, СПб., 1896, стр. 266—267.
1 М. К. Клеман. Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества, Гослитиздат, Л., 1936, стр. 35.
2 Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым, кн. I. СПб., 1845, стр. XIV.
3 Там же, стр. VIII—IX.
1 «Северная пчела», 1847, № 81.
1 П. А. Каратыгин. «Натуральная школа». Шутка-водевиль в одном действии. СПб., 1847, стр. 38—39.
2 Физиология Петербурга, ч. I, 1845, стр. 140.
1 «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 575.
1 В. Луганский. Петербургский дворник. «Физиология Петербурга», ч. I, СПб., 1845, стр. 129.
2 Ю. Ф. Самарин. О мнениях «Современника». Сочинения, т. I, изд. Д. Самарина. М., 1900, стр. 86.
3 Там же, стр. 85.
1 П. В. Анненков. Литературные воспоминания. 1928, стр. 369.
1 А. Никитенко. О современном направлении русской литературы. «Современник», 1847, т. I, отд. II, стр. 69, 70.
1 В. А. Соллогуб. Тарантас. СПб., 1845, стр. 270.
2 Там же, стр. 277.
3 Там же, стр. 121.
1 В. А. Соллогуб. Тарантас. 1845, стр. 279.
2 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III. 1947, стр. 269—270.
3 В. А. Соллогуб. Тарантас. 1845, стр. 145, 146.
1 Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым, кн. I. 1845, стр. 72, 75.
1 А. Н. Островский, Полн. собр. соч., т. XIV, Гослитиздат, М., 1953, стр. 16.
2 Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым, кн. I. 1845, стр. 13.
1 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. V, Изд. Академии Наук СССР, 1949, стр. 164.
2 Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым, кн. I. 1845, стр. 107—108.
1 Белинский. Письма, т. III. 1914, стр. 316—317.
1 А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. III, СПб., 1919, стр. 366.
1 И. С. Тургенев, Сочинения, т. I, ГИЗ, М. — Л., 1929, стр. 14.
2 Там же, стр. 214.
1 И. С. Тургенев. Сочинения, т. I, ГИЗ, М. — Л., 1929, стр. 64—65.
1 А. И. Герцен, Полное собр. соч. и писем, т. IV, 1919, стр. 332.
1 «Литературное наследство», кн. 56. 1950, стр. 578.
1 А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. IV, 1919, стр. 299.
2 Там же, стр. 272.
3 Там же, стр. 297.
4 Там же, стр. 328.
5 Там же, стр. 285.
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. I, М., 1941, стр. 92.
2 А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. V, 1919, стр. 106—107.
1 Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым, кн. I. 1845, стр. XIV.
1 Там же, стр. 144, 154.
2 Там же, стр. 151—152.
1 Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. I, 1948, стр. 193, 198.
2 Ф. М. Достоевский, Полное собрание художественных произведений, т. I, ГИЗ, Л., 1926, стр. 56, 57.
1 Там же, стр. 57—58.
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. I, М., 1941, стр. 265—266.
2 Там же, стр. 241—242.
3 Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, 1948, стр. 632.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. III, стр. 160.
2 А. И. Герцен, Избранные сочинения, М., Гослитиздат, 1937, стр. 111.
1 И. И. Панаев, Полн. собр. соч., т. II, СПб., 1888, стр. 84—85.
2 Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым, кн. I. 1845, стр. 133.
1 Русская потаенная литература XIX столетия. С предисловием Н. Огарева, Лондон, 1861, стр. LXXXIX.
1 Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. I, 1948, стр. 25.
2 И. С. Тургенев, Сочинения, т. I, М. — Л., 1929, стр. 42.
1 И. С. Тургенев, Сочинения, т. I, М. — Л., 1929, стр. 45.
1 «Современник», 1850, т. XXI, отд. VI, стр. 81.