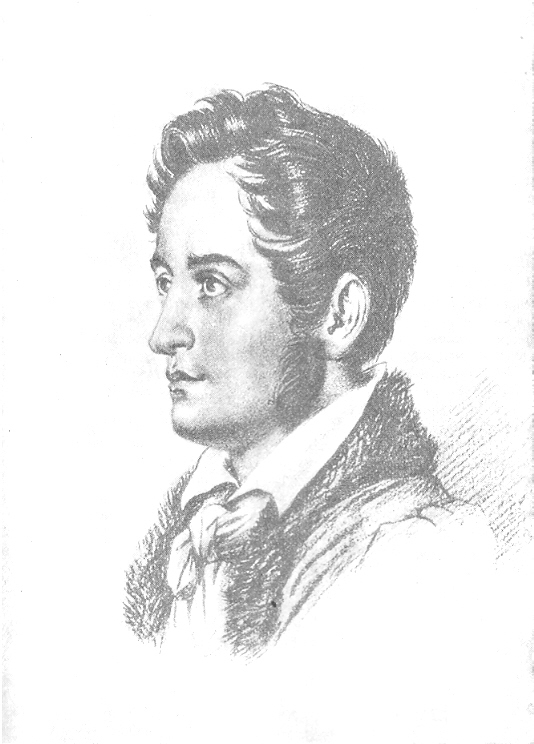- 407 -
ГЕРЦЕН
- 408 -
- 409 -
Художественное творчество Герцена неотрывно от его общественно-политической деятельности как одного из великих представителей русского освободительного движения, корифеев русской передовой мысли.
Ленин назвал Герцена писателем, сыгравшим «великую роль в подготовке русской революции».1 Эти ленинские слова имеют основополагающее значение для понимания политической и идейной целеустремленности и всего характера герценовского литературного творчества.
1
Александр Иванович Герцен родился 25 марта (6 апреля нов. ст.) 1812 года в Москве. Он был сыном богатого и знатного барина Ивана Алексеевича Яковлева. Матерью Герцена была уроженка Германии Луиза Гааг.
Чрезвычайно рано пробудились у юного Герцена политические интересы. Высокие патриотические стремления, связанные с традициями Отечественной войны 1812 года, знакомство с запрещенными стихотворениями Пушкина и Рылеева, а также с проникнутыми освободительными идеями произведениями западноевропейской литературы, картины крепостнического гнета, сближение с дворовыми, страдавшими под его игом, наконец «ложное положение», в котором Герцен ощущал себя в отцовском доме, — все это питало ту «непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу»,2 которая зародилась в нем еще в отроческие годы.
В. И. Ленин писал о Герцене: «Герцен принадлежал к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века... Восстание декабристов разбудило и „очистило“ его».3
В «Былом и думах» Герцен вспоминал:
«Рассказы о возмущении <т. е. о восстании декабристов>, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьма и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души» (БиД, 32).
В июле 1826 года Герцен присутствовал на торжественном молебствии в Кремле в честь воцарения Николая I. «Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем,
- 410 -
оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем...» (БиД, 32).
К 1827 году относится знаменитая клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах, их торжественное обещание отдать жизнь на борьбу с самодержавием и крепостничеством.1
В 1829 году Герцен поступил на физико-математическое отделение Московского университета. Здесь вокруг него складывается дружеский революционно настроенный кружок. Университетские годы стали для Герцена периодом необычайно быстрого духовного роста. От беспорядочного чтения он перешел к накоплению действительно глубоких и многосторонних знаний. Расширялось его философское образование, углублялся интерес к естественным наукам, крепли революционные устремления.
Первые же философские работы «О месте человека в природе» (1832) и «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» (1833) обнаруживают стремление Герцена к глубокому решению основных проблем познания. Правда, он еще только ищет верный философский путь, мировоззрению его присущ в это время очень неустоявшийся характер, но он уже подвергает критике как немецкий идеализм (в нем «всю природу подталкивают под блестящую гипотезу и лучше уродуют ее, нежели мысль свою» — I, 81),2 так и метафизический материализм (в нем «все идеальное, духовное исчезло, мышление истолковалось домашними средствами из особого расположения органов» — I, 78).
Колебания Герцена в решении основного философского вопроса наиболее ясно отражаются в мысли о том, что человек умозрением узнал законы природы, «сбегающиеся с законами его мышления» (I, 75—76).
Таким образом, Герцену представляется, что законы сознания и законы бытия, имея те и другие свои собственные истоки, «сбегаются», т. е. обладают внутренним единством, как бы «встречаются» между собою.
Итак, Герцен еще оставляет место идеалистическому объяснению законов природы, хотя в этой формулировке уже видно начало того трудного пути, идя по которому, он позднее в «Письмах об изучении природы» пришел к последовательно материалистическому утверждению о том, что «законы мышления — сознанные законы бытия» (IV, 19).
В работе «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника», явившейся кандидатским сочинением Герцена, он уже намечает проблемы «синтеза» «эмпирии» и «идеализма», «методы эмпирической» и «методы рациональной» (I, 92). Герцен стремится к такому философскому методу, который смог бы опереться на материалистические естественнонаучные знания, а с другой стороны — дал бы возможность раскрыть «общие многообъемлющие начала» природы (I, 92).
Как пишет Д. И. Чесноков, Герцен «в 30-х годах... еще не сумел преодолеть идеализм, но уже тогда стал в оппозицию не только к Шеллингу, но и к Гегелю».3
Уже в университетские годы для Герцена передовая наука и революционная пропаганда были неразрывны. Герцен и его друзья были уверены в том, что «из этой аудитории <т. е. из аудитории Московского университета> выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней» (БиД, 62).
- 411 -
Июльская революция во Франции и польское восстание произвели на Герцена и его кружок огромное впечатление и укрепили их революционные надежды. Утверждение же буржуазного порядка во Франции толкнуло Герцена к идеям утопического социализма, в особенности Сен-Симона. Сен-симонизм подтверждал убеждение Герцена в том, что мир стоит накануне коренного переустройства, которое должно затронуть все стороны человеческой жизни, социальные и политические отношения, культуру, мораль.
Но в идейном развитии Герцена рано сказались трезвость, ясность, положительность русской передовой мысли. Герцен критиковал мистические черты сен-симонизма и, в отличие от западноевропейских утопических социалистов, не усомнился в целесообразности политической борьбы.
В 1833 году Герцен кончает университет.
Все более упорными становятся его раздумья о выборе «поприща деятельности». Литературная работа, к которой Герцен рано почувствовал призвание, не могла полностью удовлетворить его. Не случайно в статье о Гофмане (1834) он иронически говорит, что «беспорядочная фантазия Гофмана не могла удовлетворяться немецкой болезнью — литературой» (I, 142). Герцен критиковал отрыв немецкой интеллигенции от интересов общественной практики, политики.
Вместе со своими друзьями Герцен составляет в начале 1834 года план исторического, литературного и философского журнала. Герцен обосновывает энциклопедический характер предполагавшегося издания и тем самым характеризует и основы своего мировоззрения. «...Нераздельное представляет нам литература и политический быт. Гражданское состояние есть воплощенное слово, и, обратно, литература, как слово народа, есть выражение его быта. Но изучение слова и деяний человека еще недостаточно; человек — часть природы, он ее принадлежность, она его обусловливает, она подчиняет его своим законам; следственно, чтоб понять человека, надлежит понять природу» (I, 135).
Слова эти свидетельствуют об усилении материалистических тенденций в мировоззрении Герцена, хотя, как мы сейчас увидели, он еще далеко не преодолел тех колебаний, которые заметны в его первых философских сочинениях.
Программа журнала, который замыслил Герцен, существенна и для понимания его эстетических воззрений. Значение, которое он придает проблемам эстетики, определяется указанием на то, что «человечество развивается в двух направлениях: в мире гражданском и в мире эстетическом, в мире дела и в мире слова» (I, 135).
В области эстетики Герцен стоит на философских позициях, в значительной мере определяющихся ранее высказанным положением о том, что законы бытия и законы сознания «сбегаются». В плане журнала говорится: «Гражданское состояние есть воплощенное слово, и, обратно, литература, как слово народа, есть выражение его быта» (I, 135).
В плане чувствуется (разумеется, эзоповски прикрытое) стремление Герцена увидеть в литературе соратницу передовой политической мысли и политического революционного действия: «...нераздельное представляет нам литература и политический быт» (I, 135).
В ночь на 21 июля 1834 года Герцен был арестован, но у властей не было доказательств, которые позволяли бы предъявить Герцену обвинение в распространении или хотя бы высказывании мыслей, «противных правлению в России».
- 412 -
Из-за недостаточности улик следствие шло медленно и растянулось почти на 9 месяцев. Лишь в самом конце марта 1835 года Герцену и другим арестованным по этому делу был объявлен приговор. Герцен был сослан в Пермскую губернию, с тем чтобы он был там определен на службу. Пермь, как место ссылки, была через две недели по прибытии туда Герцена заменена Вяткой.
Ссылка обогатила Герцена знанием народной жизни.
До ареста представления Герцена о характере самодержавно-крепостнического гнета и его проявлениях в повседневной жизни русского народа были очень отвлеченными. В Вятке Герцен впервые столкнулся со страшной системой деспотического произвола. Знакомству с положением крестьян способствовали и занятия Герцена по статистике края, — губернское начальство вскоре поручило ему эту работу как одному из немногих образованных чиновников.
Из материалов губернской канцелярии и благодаря собственным наблюдениям во время ревизий и поездок по губернии Герцен узнавал и о крестьянских бунтах, в которые выливался народный протест, и в следовавших за этими бунтами кровавых усмирениях. Герцен указывал впоследствии, что именно ссылка помогла ему лучше узнать жизнь крестьянства.
Ненависть Герцена к царизму не угасала никогда. В одном из вятских писем к Н. А. Захарьиной, ставшей позднее его женой, Герцен, несколько прикрывая свою мысль, говорит: «Последние годы нашей жизни похожи на историю римских цезарей, где ряд злодеев наследовал друг другу...» (I, 384). Далее намеками Герцен сопоставляет Николая I с Тиверием и Нероном.
Именно ненависть к существующему строю, стремление отдать свою жизнь борьбе за светлое будущее родного народа и всего человечества остаются наиболее устойчивым элементом и наиболее действенной движущей силой мировоззрения Герцена и в период вятской ссылки. То углубление в личные переживания, которое характеризует собою его переписку с Натальей Александровной, а тем более религиозная фраза, нередко в этих письмах встречающаяся, не определяют собою столбового пути духовного развития Герцена.
Испытания ссылки привели Герцена к осознанию наиболее характерной черты его призвания как художника: положение политического ссыльного «колодника» давало Герцену право писать о себе, рассказать о своей жизни. Он пришел к выводу, что именно автобиографический жанр наиболее соответствует особенностям его литературного таланта. Но Герцен: не хотел быть только писателем. Автобиографическая литература привлекала его как раз потому, что она не могла быть создана чисто литературным путем. Он хотел жить жизнью, достойной автобиографического воспроизведения. Герцен мечтает стать создателем такой автобиографии, которая сливалась бы с «биографией человечества».
Эстетические искания и литературные замыслы Герцена той поры были уже вдохновлены большой идеей, стремлением внести красоту в жизнь, воплотить ее образы в искусстве: «Неужели, — писал Герцен в 1838 году, — животворная мысль творчества не сойдет на землю, изрезанную железными дорогами, и неужели памятниками нашему веку будут казармы, магазейны, экзерцир-гаузы?» (II, 78).
Уже здесь становится очевидным, что для Герцена решение эстетических и художественных задач неотделимо от борьбы со всем тем, что уродует жизнь и человека в окружающей действительности.
- 413 -
В письме 1839 года к своему товарищу по ссылке, известному архитектору Витбергу, Герцен, оспаривая идеалистические взгляды последнего, утверждает, что «области искусства принадлежит вся вселенная, вся история и все лица» (II, 258). Герцен стремится к искусству, ставящему вопросы всемирноисторического значения.
Переезд во Владимир (1838), а затем снятие полицейского надзора (1839), пребывание в Москве и жизнь в Петербурге в 1840—1841 годах дают Герцену возможность принимать непосредственное участие в общественно-литературной жизни России.
В 40-е годы деятельность Герцена достигает блестящего расцвета. «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени».1
В. И. Ленин в своей работе «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» писал: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории...».2 Герцен вместе с Белинским и стоял во главе этих поисков. По словам Герцена, Белинский и он искали «фарватера», ведущего к революции, социализму и материализму. Герцен, в частности, приступил к глубокому критическому изучению философии Гегеля. Герцен, по его собственному признанию, «в поте мозга завоевывал Гегеля». Он, как сказал Ленин, усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет «алгебру революции».3
По словам А. А. Жданова, Гегель «пытался воздвигнуть философское здание, подминающее под себя все остальные науки, втискивая их в прокрустово ложе своих категорий, и, рассчитывая разрешить все противоречия, впал в безвыходное противоречие с диалектическим методом, им же самим угаданным, но не понятым и поэтому неверно применённым».4 Подлинно верное понимание диалектики дал лишь марксистский диалектический метод, но одна из крупнейших философских заслуг Герцена заключается как раз в критике им неверного понимания и применения диалектического метода Гегелем. Как писал Герцен в «Былом и думах», Гегель «оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека» (БиД, 218).
Герцен был прав, когда заявлял, что «исключительно умозрительное направление совершенно противоположно русскому характеру» (БиД, 216). Герцен стремился к такому мировоззрению, в котором революционные убеждения, усвоенные им с юности, священные для него традиции декабристов получили бы глубокое развитие и философское обоснование. Как указал Чернышевский, «сильнейшие из друзей г. Огарева <Чернышевский имеет в виду именно Герцена>... возвели свои убеждения к общим философским принципам...» и увидели, «как много выигрывают оттого их идеи и в прочности и в стройности...».5
Вместе с тем в 40-х годах Герцен отдает много сил художественному творчеству, создавая такие замечательные произведения, как «Кто виноват?», «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов».
- 414 -
В 1841—1842 годах Герцен по ничтожному поводу подвергся новой ссылке, на этот раз в Новгород.
Произвол царизма не сломил Герцена, он заявлял в письме к Огареву: «...в борьбе с властью „князя тьмы“ я могу быть побежден, но не покорюсь...» (II, 417). В это время у Герцена появляется первая мысль об эмиграции.
Революционная устремленность Герцена и получает выражение в его философских и художественных работах 40-х годов, которыми он занят в Новгороде и затем в Москве в 1842—1847 годах.
Герцен в 40-х годах был, по определению Ленина, «демократом, революционером, социалистом».1 Но в эти годы Герцен «не видел революционного народа и не мог верить в него».2 Как писал Герцен впоследствии, вспоминая 30—40-е годы, «мы не знали народа» (XX, 88). Герцен в 40-х годах был дворянским революционером и демократом, в мировоззрении которого революционно-демократические элементы всё больше росли и укреплялись. Все с большим вниманием прислушивается он к немногим, доносившимся до него отзвукам крестьянского движения, крестьянских бунтов. Вместе с Белинским ведет Герцен борьбу против самодержавия и крепостничества и всех идеологических прислужников царизма. В ряде острых полемических статей и фельетонов («Ум — хорошо, а два — лучше», «„Москвитянин“ и вселенная», «„Москвитянин“ о Копернике» и др.) Герцен бичевал и высмеивал реакционную печать, ее сервилизм, духовную бедность и невежество. Следует, однако, отметить, что борьбу против славянофилов Герцен до середины 40-х годов вел менее последовательно, чем Белинский, поддаваясь порой личным симпатиям и принимая за чистую монету демагогические фразы некоторых славянофилов, особенно К. Аксакова. Но в 1844 году Герцен порвал с ними все отношения. Он записывает в дневнике в ноябре 1844 года, имея в виду славянофилов: «...если бы материальная власть была их, то нам бы пришлось жариться где-нибудь на Лобном месте» (III, 361).
И в философских сочинениях, и в художественных произведениях, и в своем обширном и столь богатом содержанием дневнике 1842—1845 годов Герцен настойчиво ставит вопросы революционного переустройства общества, революционной теории, соединения народа и передовой мысли, духовной закалки передовых людей.
Большой интерес представляет историческая концепция, развитая Герценом в «Дневнике» и получившая более подробное обоснование в «Письмах об изучении природы» и «С того берега». Герцен считает, что буржуазное общество, в частности в том виде, как оно осуществилось в Соединенных Штатах, принципиально, качественно от феодального общества не отличается. «Царство среднего сословия, — пишет Герцен в своем дневнике, — было все же продолжение феодального социализма <Герцен, очевидно, употребляет здесь слово «социализм» для обозначения совокупности социальных отношений эпохи феодализма>, которого высшее развитие в Америке...» (III, 116).
Разумеется, такая концепция, игнорирующая экономическую сущность данного общественного устройства, носит идеалистический характер. Однако она помогала Герцену, как и другим утопическим социалистам, проповедывать ненависть к капиталистической эксплуатации, разоблачать апологетов буржуазного общества.
- 415 -
В воззрениях Герцена сложно переплетались революционно-просветительские и утопически-социалистические идеи.
Герцену, борцу против самодержавия и крепостничества в России, были идейно близки традиции французского просветительства и якобинства, он видел в событиях Великой Французской революции рост исторической активности народных масс.
Вместе с тем Герцен разделял глубокое разочарование западноевропейских утопических социалистов, вызванное утверждением господства буржуазии в Западной Европе, и давал себе отчет в исторически обусловленной ограниченности просветительства.
Но Герцен замечал отвлеченность и надуманность представлений западноевропейских утопических социалистов о путях к социалистическому будущему и пытался — хотя еще далеко не последовательно — в самой действительности, в историческом развитии общества найти элементы, ведущие вперед.
В своей первой большой философской работе «Дилетантизм в науке» (1842—1843) Герцен писал, что передовому человеку «мало блаженства спокойного созерцания и видения; ему хочется полноты упоения и страданий жизни; ему хочется действования, ибо одно действование может вполне удовлетворить человека» (III, 216). Наука должна стать достоянием народных масс, ибо «все дело философии и гражданственности — раскрыть во всех головах один ум. На единении умов зиждется все здание человечества» (III, 170). Герцен мечтает, таким образом, о том, чтобы передовое мировоззрение объединило собой народ и передовых людей.
В осуществлении этого всемирноисторического дела, в претворении выводов науки в общественной практике и народной жизни Герцен особую роль отводит русской передовой мысли. Он основывается при этом на некоторых особенностях исторического развития России, в сущности больше всего на стремительном росте русской культуры: «...может, тут раскроется великое призвание бросить нашу северную гривну в хранилищницу человеческого разумения; может, мы, мало жившие в былом, явимся представителями действительного единства науки и жизни, слова и дела» (III, 220).
Герцен стремился к практической переделке мира на основе выводов передовой науки, но самая переделка эта не представлялась ему в 40-х годах зависимой от материального уровня развития общества. Герцен понимал необходимость политической борьбы, но не отдавал еще себе отчета в громадной роли, которую в этой переделке должны сыграть историческая активность и инициатива народных масс. Герцен придавал слишком большое значение революционной пропаганде и был далек от вывода, что «великие вопросы в жизни народов решаются только силой».1 Порой ему казалось, что достаточно придти к верному и глубокому теоретическому выводу для того, чтобы иметь возможность претворить его в жизнь.
Философское слово Герцена было большим политическим делом. Оно воспитывало молодое подрастающее поколение в духе материализма, демократизма и социализма.
Глубоко и остроумно критиковал Герцен в «Дилетантизме в науке» дилетантов разных толков, от западников-космополитов до славянофилов-романтиков, а также цеховых кабинетных ученых и правоверных гегельянцев как представителей отсталого идеалистического мировоззрения, как людей, мирящихся с господством самодержавия и крепостничества.
- 416 -
Очень большой интерес представляет «Дилетантизм в науке» для характеристики эстетических воззрений Герцена начала и середины 40-х годов. Вторая статья этого цикла, «Дилетанты-романтики», содержит анализ исторического развития искусства от античности до начала XIX века. Герцен характеризует эстетический идеал, воплощенный в античном искусстве, его пластическую мощь и грацию и вместе с тем его ограниченность с точки зрения духовного идейного содержания.
Эстетику средневекового романтизма Герцен рассматривает как реакцию на античное искусство, видя в ней, однако, не только отступление к идеализму, иррациональности и пессимизму, отказ от сильнейших сторон классического идеала, но и известный шаг вперед в художественном развитии человечества. Романтизм, по мнению Герцена, вносит в это развитие более глубокое отражение духовной жизни в ее богатстве и противоречиях.
Новым же высшим эстетическим успехом человечества Герцен считает искусство эпохи Возрождения, принесшей победу реализму, как наиболее синтетическому, многостороннему и глубокому изображению и воплощению жизни и человека, его телесной красоты и духовного богатства в их неразрывном единстве, которое русский мыслитель понимает материалистически. Литература и искусство этого времени являются в понимании Герцена основой для дальнейшего мощного подъема.
В творчестве Шекспира Герцен видит «гениальное раскрытие субъективности человеческой во всей глубине, во всей полноте, во всей страстности и бесконечности, смелое преследование жизни до заповеднейших тайников ее и обличение найденного...» (III, 187). Герцен противопоставляет при этом творчество Шекспира романтизму средневековья, подчеркивая реалистический характер его мироощущения, совершенно чуждого стремлению уйти от земной жизни, и отмечая вместе с тем, что великий гениальный английский писатель «затворяет романтическую эпоху искусства...» (III, 187).
Отдельные эстетические определения и оценки Герцена могут быть сопоставлены с соответствующими высказываниями Гегеля, но в целом герценовская методология и понимание им процесса мирового художественного развития коренным образом противоположны гегелевской концепции.
В то время как для Гегеля отдельные этапы художественного развития человечества представляют собою лишь последовательные формы осуществления идеи прекрасного, у Герцена исторические изменения искусства выступают как следствия изменяющихся потребностей общества, тесно связанные с развитием общественной мысли, философии. Следует вместе с тем иметь в виду, что, остановившись перед историческим материализмом, Герцен не был в состоянии научно объяснить закономерности исторической эволюции искусства. Он учитывал, по преимуществу, лишь факторы духовного, политического, психологического, физиологического порядка.
Коренная противоположность воззрений Герцена эстетической концепции Гегеля совершенно отчетливо выступает и в отношении к такой кардинальной проблеме, как вопрос о будущем искусства, о перспективах, перед ним открывающихся.
Известно, что для Гегеля стремление реализма к изображению прозы жизни было признаком начинающегося распада, ухода в мелочи и случайности.
С другой стороны, рост идейности искусства представлялся Гегелю как усиление элементов произвольной субъективности, также знаменующее собою падение искусства.
- 417 -
Совершенно иначе оценивает эти явления Герцен. Еще в 1839 году в цитированном выше письме к А. Л. Витбергу Герцен отстаивал право искусства, касаясь самых возвышенных тем, отражать вместе с тем черты жизненной повседневности. В «Дилетантизме в науке» Герцен говорит, что реалистическое искусство изображает тот «занимающийся материальными улучшениями, общественными вопросами, наукой» век, которому чужды мертвенные реакционно-романтические идеалы и их носители. Именно этот мир Герцен называет «кипящей, благоухающей жизнью» и приветствует «веселую песню жизни современной» (III, 192—193).
В художественном развитии человечества Герцен, в отличие от Гегеля, видел сложный и противоречивый, но в конечном счете поступательный и восходящий процесс. Опыт мировой литературы и искусства вел Герцена к выводу о том, что именно идейное обогащение его свидетельствует о новых успехах художественного развития. В этом отношении очень показательно отношение Герцена к Гёте. Он ценил немецкого гения особено высоко как писателя-мыслителя.
В 1844—1846 годах Герцен выступает со своим классическим философским произведением «Письма об изучении природы».
Критикуя идеализм, с одной стороны, и метафизический материализм — с другой, Герцен рассматривал в «Письмах об изучении природы» вопрос о взаимоотношениях философии и естествознания.
«Письма об изучении природы» пронизаны мыслью о том, что только единство опытного исследования и широких теоретических обобщений, опыта и «умозрения» может способствовать плодотворному познанию природы. Герцен заявляет, что «философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии» (IV, 3).
Как писал В. И. Ленин в 1912 году: «Первое из „Писем об изучении природы“, — „Эмпирия и идеализм“, — написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом».1
В «Письмах об изучении природы» Герцен рассматривает проблему отношения «знания к предмету, мышления к бытию, человека к природе» (IV, 6). На этот основной философский вопрос Герцен отвечает материалистически. По словам Герцена, необходимо понять, что «разумение человека — не вне природы, а есть разумение природы о себе, что его разум есть разум в самом деле единый, истинный, так, как все в природе истинно и действительно в разных степенях, и что, наконец, законы мышления — сознанные законы бытия, что, следственно, мысль нисколько не теснит бытия, а освобождает его...» (IV, 19).
В противовес метафизическому материализму Герцен подчеркивает активную роль человеческого сознания: «...мышление делает не чуждую добавку, а продолжает необходимое развитие, без которого вселенная не полна, — то самое развитие, которое начинается со стихийной борьбы, с химического сродства и оканчивается самопознающим мозгом человеческой головы. Хотят ум сделать страдательным приемником, особого рода зеркалом, которое отражало бы данное, не изменяя его, то есть во всей его случайности, не усваивая тупо, бессмысленно; а данное, сущее во времени и пространстве, хотят сделать деятельным началом, — это прямо противоположно естественному порядку» (IV, 14).
- 418 -
Эта мысль Герцена имеет также большое принципиальное значение для его эстетических воззрений. В великих произведениях русской литературы и искусства Герцен видел не только отражение типических черт настоящего, но и умение в этом настоящем различать, пусть еще мало заметные, зародыши светлого будущего. В критике настоящего, в стремлении к будущему Герцен видел проявление действенной роли искусства, его вмешательства в жизнь.
Так, в «Мертвых душах» «сквозь туман нечистых, навозных испарений» он почувствовал «удалую, полную силы национальность» (III, 29), почувствовал веру Гоголя в будущее России. Собственные наблюдения Герцена над русской жизнью как бы перекликались с лирическими отступлениями Гоголя. Герцен всегда верил в великое будущее русского народа.
В своих работах 40-х годов Герцен рассматривает также проблемы морали, семьи, положения женщины.
В статьях «По поводу одной драмы» (1843), «По разным поводам» (1845) и «Новые вариации на старые темы» (1847), впоследствии включенных в цикл «Капризы и раздумье», Герцен стремится свои революционные и материалистические взгляды распространить на «сферу личных отношений», на «психологический быт», на вопросы морали и этики.
Герцен считает необходимым «расчистку человеческого сознания от всего наследственного хлама» (IV, 396), от предрассудков и ошибочных воззрений, воспитанных крепостническим и буржуазным обществом.
Защищая полноту, свободу человеческих чувств от угнетения и произвола, борясь за расцвет человеческой личности, за подъем чувства собственного достоинства, за идейный рост человека, Герцен в этом своем цикле постепенно из области семейных и личных отношений переходит к вопросу о роли личности в обществе, о духовной цельности и последовательности человека.
«Капризы и раздумье» — свидетельство идейной и моральной требовательности Герцена; вместе с тем здесь сказываются присущие ему тогда утопические и просветительские взгляды на характер «обновления» общественной жизни и «частного быта».
Несмотря на то, что Герцен в 40-е годы достиг большого идейного влияния и популярности, он оставался неудовлетворенным своей жизнью и деятельностью.
В дневнике 1844 года сохранилась одна чрезвычайно важная запись, указывающая на характер устремлений Герцена: «...жизнь для полного развития требует событий; в ином хранится бездна возможностей, о которых он и не подозревал и которые никогда не дойдут до одействотворения, не будучи вызваны внешними условиями; наоборот, теоретически можно увериться в таких силах своих, которых вовсе нет. Беда нашего века в расторжении теоретической жизни и практической, ...деятельность теоретическая недостаточна» (III, 354—355).
Герцен искал «истинных всепоглощающих занятий», он мечтал об; «одействотворении» заложенных в нем возможностей публициста, политического писателя, о таком художественном творчестве, которое теснейшим образом было бы связано с революционной деятельностью.
К Герцену, как и многим другим деятелям русского освободительного движения, могут быть отнесены следующие ленинские слова:
«Нам, русским, особенно в тяжелые для революционеров времена, во времена тяжелой, продолжительной, иногда мучительной и непомерно долгой подготовки революции, нам приходилось больше всего страдать от расхождения между теорией, принципами, программой и делом, нам приходилось
- 419 -
чаще всего страдать от чрезмерного погружения в теорию, оторванную от непосредственного действия.
«История русского революционного движения в течение многих десятилетий знает мартиролог людей, преданных революционному делу, но не имевших возможности найти практического применения своим революционным идеалам».1
Все более неотступно думая о заграничной поездке, Герцен связывал с ней свои надежды на «деятельную жизнь». За границей он надеялся работать на благо России, русского народа, используя для революционной деятельности те возможности, которых не было на родине.
В январе 1847 года Герцен выехал во Францию.
Впервые непосредственно столкнувшись с социальными противоречиями Западной Европы, Герцен остро поставил в «Письмах из Avenue Marigny» (вошедших впоследствии в состав «Писем из Франции и Италии») вопрос, который уже и ранее, в середине 40-х годов, вызывал разногласия в кружках русской интеллигенции, — вопрос об отношении к западноевропейскому буржуазному порядку и его культуре. Герцен резко критически, с отвращением и презрением охарактеризовал и высмеял французскую буржуазию, так откровенно и цинично господствовавшую при июльской монархии. Герцен приходил к выводу, что критика буржуазного порядка обязательна для передовых русских людей, борющихся против самодержавия и крепостничества. Герцен утверждал, что русский передовой человек должен осознать себя демократом и социалистом и стремиться к тому, чтобы Россия стала передовой страной и по сравнению с буржуазной Европой.
Герцен, по словам Ленина, «был тогда демократом, революционером, социалистом. Но его „социализм“ принадлежал к числу тех бесчисленных в эпоху 48-го года форм и разновидностей буржуазного и мелкобуржуазного социализма, которые были окончательно убиты июньскими днями».2
Остановившись перед историческим материализмом, Герцен не видел и не знал исторических закономерностей, которые обусловливают конец господства буржуазии. Свою веру в будущее торжество демократии и социализма он пытался тогда обосновать по преимуществу моральной и психологической невозможностью дальнейшего господства буржуазии. Герцен не различал сколько-нибудь ясно материальных экономических основ буржуазного общества. Свои надежды на будущее Герцен основывает на убеждении, что буржуазный строй унижает Францию, недостоин французского народа, его революционных традиций. Естественно, что этот оптимизм Герцена, не предвидевшего приближавшихся острейших классовых боев, должен был потерпеть крах после июньских дней.
Вместе с тем уже пребывание во Франции в 1847 году заставило Герцена особенно напряженно задуматься над исторической ролью западноевропейского пролетариата. Проезжая по пути в Италию через Лион, где в 1831 году произошло рабочее восстание, Герцен, как о том свидетельствует первое из «Писем с Via del Corso», увидел в трагических судьбах этого города отражение «иной борьбы» — «борьбы работников с хозяевами, с фабрикантами». Герцен отмечает враждебность пролетариату разного рода буржуазных политиков, в частности либералов. Но буржуазные иллюзии в социализме не были еще изжиты Герценом.
- 420 -
После путешествия в Италию он становится в Париже свидетелем июньских дней 1848 года. По словам Маркса, июньское восстание рабочего класса в Париже было первой великой битвой «между обоими классами, на которые распадается современное общество».1 Герцен увидел эту битву, зверский террор французской буржуазии.
Герцен, еще недавно полагавший, что социалистическая пропаганда способна перестроить мир, был потрясен июньскими событиями, — они повергли его в глубокий скептицизм и пессимизм. По определению Ленина, «духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848-го года был крахом буржуазных иллюзий в социализме».2
Скептицизм Герцена Ленин противопоставлял скептицизму либералов, который являлся формой «перехода от демократии к либерализму, — к тому холуйскому, подлому, грязному и зверскому либерализму, который расстреливал рабочих в 48 году, который восстановлял разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III и который проклинал, не умея понять его классовой природы, Герцен».3
В книге «С того берега» (1850) Герцен заявляет, что в жизни народа Франции он глубоко сочувствует «одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей» (V, 387). Он увидел беспощадность классовой борьбы. Для того чтобы познать пути к будущему, Герцен призывает уяснить себе стремления народа, тенденции развития народной жизни, подлинное направление исторического развития. Он мечтает о том времени, когда не будет «толпы», чуждой передовой мысли, когда исчезнет противоположность между «безличной массой» и передовыми людьми.
Но Герцен бессилен указать те движущие силы действительности, которые способны вести борьбу за светлое будущее, бессилен найти законы общественного развития. Остановившись перед историческим материализмом, Герцен не смог понять историческую роль революционного пролетариата. Он недооценивал рост исторической активности народных масс. Он не нашел правильной революционной теории, способной вооружить народ.
Однако, отдавая себе отчет в том, что он не может наметить конкретных путей, ведущих вперед, Герцен тем не менее вновь и вновь ищет их.
Так, в 1847 году в великих произведениях итальянского искусства эпохи Возрождения он увидел не только памятник славному прошлому, но и обещание светлого будущего. Художественные шедевры искусства укрепляли его тогда в историческом оптимизме. В творениях Микель-Анджело, Рафаэля Герцен видел отражение творческой силы и красоты человека.
Передавая свои впечатления от Рима, Герцен указывал, что великой стороной этого города является «обилие изящных произведений, той гениальной оконченности, той вечной красоты, перед которой человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел, и примиренный со многим, — так, как это было со всеми людьми в самом деле, приходившими со всех концов мира на поклонение изящному в Ватикане, в Капитолии... и так, как это будет со всеми людьми грядущих веков до тех пор, пока время пощадит эти великие залоги человеческой мощи» (VI, 17).
В книге же «С того берега», заявляя, что буржуазная Европа «изживет свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии», Герцен в будущем социальном взрыве склонен видеть такой переворот, который не сохранит
- 421 -
ценности прошлого и поэтому хотя и поведет к созданию новой культуры и искусства, но будет вынужден начать с варварства младенчества с его дикой, свежей мощью (V, 486—487).
Чрезвычайно мрачно оценивая перспективы общественного развития Западной Европы, Герцен не терял глубокой веры в великое будущее своего народа и попрежнему упорно искал практического приложения своих сил. Эта вера явилась отправной точкой всей дальнейшей деятельности Герцена как русского революционера.
В обращении к русским друзьям «Прощайте!» 1 марта 1849 года Герцен уже четко определил позиции революционера-эмигранта, а 1 мая того же года он формулирует конкретные задачи вольной русской печати.
В сентябре 1850 года постепенно назревавшее решение Герцена об эмиграции привело его к прямому отказу подчиниться требованию царских властей о немедленном возвращении в Россию. Герцен окончательно стал эмигрантом.
Герцен обращается теперь к западноевропейскому читателю как деятель русского революционного движения.
В глазах большинства западноевропейской демократии Россия отождествлялась с представлением о царизме. Западная Европа не имела тогда сколько-нибудь отчетливого представления о русском революционном движении, о русской передовой мысли, о литературе.
Герцен указывает в статье «Россия» (1849): «Никто... не знает, что такое эти русские..., — что такое народ, мощную юность которого Европа могла оценить по борьбе, из которой он вышел победителем» (V, 333—334; Герцен имеет в виду Отечественную войну 1812 года).
Но Герцен не удовлетворился тем, что высказал свое убеждение в великом всемирноисторическом будущем русского народа. Залог будущего торжества социалистических идеалов Герцен пытался найти, если использовать его позднейшие выражения, в элементах «преемственного быта» (IX, 66). Русская сельская община явилась в его представлении таким элементом — «живительным принципом русского народа». Герцен увидел в общине «представительницу социального единства» — «земля принадлежит общине, а не отдельным ее членам в частности» (V, 342, 343). Он считал невероятным социальное расслоение внутри общины, а «в силу этого сельский пролетариат невозможен» (V, 343).
Ленин писал о народнических взглядах Герцена: «...в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве — вплоть до полинявшего народничества теперешних „социалистов-революционеров“ — нет ни грана социализма. Это — такая же прекраснодушная фраза, такое же доброе мечтание, облекающее революционность буржуазной крестьянской демократии в России, как и разные формы „социализма 48-го года“ на Западе».1
В 1851 году на французском и немецком языках вышло классическое сочинение Герцена «О развитии революционных идей в России». В этой книге Герцен дает краткий очерк истории России и русской культуры с точки зрения зарождения и развития в русском обществе революционных идей. Центральную часть книги составляют главы, в которых Герцен прослеживает рост и развитие русской общественной мысли и литературы от эпохи Пушкина и декабристов до 40-х годов.
Исторический анализ переплетается здесь с непосредственными, глубокими и зоркими наблюдениями активного участника русского общественного движения 30—40-х годов.
- 422 -
Иностранному читателю книга Герцена впервые открывала вовсе неизвестный ему мир русской передовой мысли и литературы.
Две основные цели преследовал Герцен в этой работе: во-первых, указать на великое революционное будущее России и, во-вторых, рассказать о том, как передовая русская интеллигенция, глубоко самостоятельно, творчески воспринимая идейный опыт человечества, выражает в своей политической, философской и литературной деятельности потребности родного народа, им самим еще не осознанные, но все более назревающие и стремящиеся обнаружиться. Тем самым Герцен утверждал всемирноисторическую роль русской мысли и литературы.
Герцен решительно опровергал распространенное тогда на Западе представление о России как о стране, в которой революционного движения нет вовсе, а революционные настроения интеллигенции наносны, случайны и лишены корней в народе.
Герцен утверждал, что назревающее движение в народных массах России приобретает мировое значение. Правда, при этом Герцен в значительной степени исходил и из своих народнических иллюзий, из убеждений в том, что русскому крестьянству присуще «естественное стремление к социалистическим учреждениям» (VI, 401). Но самые эти иллюзии свидетельствовали о вере Герцена в неизбежный подъем освободительного движения в России.
В своей книге Герцен характеризует отличительные особенности русского освободительного движения: последовательность и трезвость русской передовой мысли, все растущее, настойчивое и энергичное стремление русских передовых людей сблизиться с народными массами. Герцен подчеркивает революционизирующее значение и национальную самобытность русской передовой литературы, ее теснейшую связь с освободительным движением. При этом он дает ряд замечательных по глубине и тонкости характеристик русских писателей и их творчества.
Подобно Белинскому, Герцен отводит огромную роль в развитии русского общественного самосознания «национальной войне» 1812 года, сопровождавшейся «безмолвным единением всех классов». Герцен даже заявляет, что «истинная история России начинается только с 1812 года» (VI, 311). Но победоносный исход войны ни в чем не улучшил положения народных масс. Бедный мужик, — по словам Герцена, — «вернулся в свою общину, к своей сохе и к своему закрепощению. Для него ничто не изменилось...».1 Характеризуя далее возникновение и развитие революционного движения, Герцен показывает, как остро перед русскими революционерами встал вопрос о пробуждении сознательности и революционной активности народных масс.
Мысль Герцена, пронизывающая собою книгу «О развитии революционных идей в России» и безусловно совпадающая с мыслью Белинского в его знаменитом письме к Гоголю, заключается в том, что в глубинах самих народных масс России растет протест против гнета царизма и крепостничества. Когда этот протест сольется с революционной теорией, зреющей в среде «образованного меньшинства», тогда русский народ сбросит гнет царизма и пойдет вперед к светлому будущему.
Герцен указывает на особую роль, которую литература играет в общественной жизни России:
«Литература у народа, политической свободы не имеющего, — единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик
- 423 -
своего негодования и своей совести». Поэтому в России «влияние литературы на общество... приобретает размеры, давно утерянные литературой других стран Европы».1
Герцен раскрывает далее связь передовой русской литературы с народной жизнью. Так, характеризуя общественно-политическую борьбу после 1825 года, Герцен писал о Пушкине: «Поэзия Пушкина была залогом и утешением. Поэты, живущие во времена безнадежности и упадка, не поют подобных песен: они нисколько не подходят к похоронам.
«Вдохновение Пушкина его не обмануло. Кровь, прилившая к сердцу, пораженному ужасом, не могла остановиться...».2
И Герцен рисует картину дальнейшего литературного развития, определяемого именами Белинского, Лермонтова, Гоголя.
Поступательное развитие русской литературы Герцен, так же как и Белинский, рассматривал как отражение роста русского человека и народа, как все более богатое и многостороннее раскрытие русского национального характера. Герцен, так же как и Белинский, говорил о трезвости и ясности русского ума, о требовательности и суровом критицизме русской передовой мысли как об особенностях, откладывающих свой отпечаток на все национальное развитие.
Прогресс нации Герцен рассматривал как рост народных масс, овладевающих передовой культурой. Он мог бы повторить слова Белинского: «прогресс... совершается национально. Иначе нет прогресса» (X, 409).3
Книга Герцена произвела огромное впечатление в демократических кругах Запада. Так, например, французский мелкобуржуазный историк Мишле под влиянием герценовской книги коренным образом изменил свой взгляд на роль и значение русских передовых людей в жизни их родины. Он признал национальный, народный характер их деятельности.
В августе 1852 года, после пребывания во Франции, Италии и Швейцарии, пережив тяжелую семейную драму, Герцен после смерти жены приехал в Лондон. Здесь он приступил к созданию вольной русской печати.
21 февраля 1853 года датировано литографированное объявление Герцена об организации вольного русского книгопечатания в Лондоне, составленное в форме обращения — «Братьям на Руси». Герцен начинает с указания на то, что «время печатать по-русски вне России, кажется нам, пришло... Дома нет места свободной русской речи, — она может раздаваться инде...» (VII, 186).
Герцен был полностью прав. Эта мысль выражала национальную, народную потребность. Герцен рассматривал свободное, «открытое слово» как «переход к действию». Он заявлял: «Я первый снимаю с себя вериги чужого языка и снова принимаюсь за родную речь» (VII, 186), — и прямо отвечал при этом на самый трудный вопрос: «Но для кого печатать по-русски за границей? как могут расходиться в России запрещенные книги?».
Как подлинный революционер, Герцен видит единственный путь в преодолении препон и преград, поставленных царизмом, в революционной активности. Герцен обращался ко «всем свободно мыслящим русским», обещая, что «все, писанное в духе свободы, будет напечатано». «Быть вашим органом,
- 424 -
вашей свободной бесцензурной речью — вся моя цель» (VII, 186—188).
Герцен с энтузиазмом окунулся в практическую организацию этого большого революционного дела, идею которого он так долго вынашивал. В мае 1853 года Вольная русская типография была создана.
В июле 1853 года вышла напечатанная в Вольной русской типографии прокламация, озаглавленная: «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству».
Обращаясь к русскому дворянству и призывая его приступить к упразднению крепостного права, Герцен, однако, предупреждает: «Нам кажется умнее, расчетливее уступить, нежели ждать взрыва» (VII, 251).
Уже в этой прокламации Герцен прямо говорит о том, что, если его надежды на дворянство не оправдаются, он обратится к народу, к крестьянским массам непосредственно.
В августе 1853 года Герцен выпускает свою брошюру «Крещеная собственность», направленную против крепостного права. Резкими штрихами рисует Герцен порядки и нравы русского крепостнического общества, произвол царизма и помещиков. В брошюре немалую роль играет народническая идеализация сельской общины как воплощение «неразвитого коммунизма», но иллюзии эти не могут заслонить прикрытой ими демократической сущности взглядов Герцена, его веры в великое будущее русского народа.
Сначала, выпуская русские издания, Герцен почти не находил им сбыта. Напечатанные брошюры лежали в подвалах издателя. В 1853—1854 годах продажа даже одного экземпляра того или иного издания радовала Герцена. Но он продолжал работу русской типографии, глубоко уверенный в том, что в русской жизни скоро должны произойти такие перемены, которые откроют его изданиям путь на родину. После смерти Николая I Герцен почувствовал, что этот момент наступил.
Герцен решает издавать русский альманах под названием «Полярная звезда». «Это было заглавием одного альманаха, редактировавшегося Рылеевым и уничтоженного Николаем... Тучи проходят, звезды остаются» (VIII, 165) — объяснял Герцен Мишле. Название и профили пяти казненных декабристов на обложке альманаха были выражением преемственности русской революционной традиции. О том же говорил эпиграф из «Вакхической песни» Пушкина на титуле: «Да здравствует разум!».
В «Полярной звезде» русские читатели впервые находили прямую постановку острых политических проблем эпохи, прежде всего упразднения крепостного права, отмены телесных наказаний и ведения свободы слова и печати. Там же были обнародованы такие произведения русской потаенной литературы, как письмо Белинского к Гоголю, как «Вольность» и «Деревня» Пушкина, стихи Лермонтова и Рылеева.
Очень велико было значение опубликованных в «Полярной звезде» глав из знаменитой автобиографии Герцена «Былое и думы».
История развития русской мысли 40-х годов, изложенная в «Былом и думах», помогала формировать мировоззрение нового революционного поколения.
Однако «Полярная звезда» не могла удовлетворить назревшую потребность в издании газетного типа. С приездом Огарева в Лондон Герцен приобретал надежного помощника, и такое издание могло быть практически осуществлено. 13 апреля 1857 года было выпущено объявление о предстоящем издании «Колокола»; 1 июля того же года датирован первый номер газеты.
- 425 -
«Колокол» дал возможность широко и ярко проявиться новой стороне дарования Герцена — таланту публициста и памфлетиста, умеющего немедленно и по-боевому откликаться на все злободневные события.
Герцен в «Колоколе» говорил от лица народа и имел на то право. «Колокол» отвечал потребности роста русского народа, тому «кипению вперед» (IX, 459), которое Герцен чувствовал в русской жизни с конца 50-х годов. «Колокол» был наполнен острым и злободневным для русского читателя материалом. Впервые русская печать систематически стала разоблачать злодеяния царской бюрократии и крепостников-помещиков, полицейский произвол, безнаказанные убийства и насилия помещиков над своими крепостными, хищения сановников. Герцен создал в «Колоколе» своеобразный публицистический жанр — сжатые, метко бьющие в цель, острые и гневные заметки-памфлеты. В «Смеси» «Колокола» краткое изложение того или иного вопиющего факта правительственного или помещичьего террора и грабежа или публикация соответствующих документов и материалов, присланных из России, сопровождались гневными, саркастическими обличениями публициста-трибуна.
Иллюстрация:
Альманах «Полярная звезда», издававшийся
А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне.
Обложка. 1855.Преследование и разоблачение царской бюрократии и помещиков-крепостников он вел всегда с величайшей последовательностью революционного трибуна.
Ленин, характеризуя значение возникновения вольной русской печати, писал:
«Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга. „Полярная Звезда“ подняла традицию декабристов. „Колокол“ (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено».1
«Колокол» производил в России ошеломляющее впечатление. Напечатанные на тонкой бумаге листы его легко перевозились через границу и
- 426 -
получали в стране широкое распространение (до двух тысяч пятисот экземпляров, как сообщал сам Герцен — см. БиД, 757).
Ленин в своей работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма» указывает на «распространение по всей России „Колокола“»1 как на одну из характерных черт политической обстановки 60-х годов.
Ленин неоднократно подчеркивал огромную роль, сыгранную революционной политической агитацией «Колокола». По словам Ленина, «Герцен развернул революционную агитацию».2
Герцен стремился к решительному обновлению русской жизни в духе демократизма. Его сарказм и ирония были направлены против основ политических и социальных порядков крепостнической России. Его критика была проникнута горячим патриотизмом: «Одна горячая любовь к России, одно глубокое убеждение, что наш обличительный голос полезен, заставляет нас касаться страшных ран нашего жалкого общественного быта...» (IX, 53).
В первом листе «Колокола» герценовская программа-минимум, этот «первый необходимый, неотлагаемый шаг», определена так: «Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян от помещиков! Освобождение податного состояния от побоев!» (VIII, 525).
Надеясь на мирное осуществление этих требований, Герцен в «Колоколе» не раз апеллировал к Александру II, высказывая надежду, что царь даст крестьянам свободу и землю. В. И. Ленин так оценивал эти слабые стороны политической деятельности Герцена: «...Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к „верхам“. Отсюда его бесчисленные слащавые письма в „Колоколе“ к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения. Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму».3 В 50-х годах Герцен еще поддерживал связи с либералами, в частности со славянофилами, занимавшими тогда либеральные позиции. Герцен, как показывает его статья «Very dangerous!!!» (1859), выступал против резкой критики либерализма и дворянской интеллигенции со стороны революционной демократии. Однако, как установил Б. П. Козьмин,4 статья эта одновременно была направлена против эстетов из либерального лагеря, защитников «чистого искусства».
Но политический опыт 50-х годов многому научил Герцена. В 60-х годах его мировоззрение и деятельность поднимаются на новую, высшую ступень. Его преувеличенные надежды на дворянскую интеллигенцию не устояли перед уроками классовой и политической борьбы 50—60-х годов, в особенности революционной ситуации 1859—1861 годов.
Теперь Герцен до конца осознал враждебность правительства Александра II народу, отдал себе ясный отчет в предательстве и подлости дворянского либерализма, окончательно признал историческую правоту поколения революционеров-разночинцев как ведущей силы русского освободительного движения.
- 427 -
Иллюстрация:
«Колокол». Газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым.
- 428 -
В 1866 году в одной из самых замечательных публицистических работ своих «Порядок торжествует!» Герцен так определял историческую роль Чернышевского, его «сильной личности»: «Стоя один, выше всех головой, середь петербургского брожения вопросов и сил... Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся что им делать... Пропаганда Чернышевского... дала тон литературе и провела черту между в самом деле юной Россией и прикидывавшеюся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической» (XIX, 128).
Герцен увидел теперь, что Чернышевский и Добролюбов были правы, когда критиковали его за либеральные отклонения от демократизма. Как писал Ленин, «при всех колебаниях Герцена между демократизмом к либерализмом, демократ все же брал в нем верх».1
В 60-х годах Герцен увидел революционный народ в России. В 1862 году «Колокол» писал об «очнувшемся народе» (л. 134). В статье «VII лет» (1864) Герцен указывает на «снизу закипающий, свирепствующий океан народа» (XVII, 298). В «Былом и думах» Герцен рассказал о том, что верил в 60-х годах в «возможность военно-крестьянского восстания в России» (БиД, 754). Герцен и Огарев были связаны с революционной организацией 60-х годов «Земля и Воля».
Пытаясь найти основание своим социалистическим убеждениям, Герцен развивал теорию «русского социализма», народничества. Он полагал, что Россия через освобождение крестьян с землей придет, благодаря общине и минуя буржуазный период развития, к социализму. В общине Герцен видел зародыш социализма.
На самом деле освобождение крестьян с землей привело бы не к социализму, а к все более широкому развитию капитализма, к все более быстрому разложению общины.
Однако народническое учение Герцена, полное субъективных иллюзий и несбыточных надежд, объективно отражало революционные стремления русского крестьянства. Это была, по словам Ленина, «формулировка революционных стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения».2
Народническое учение Герцена зародилось в тот исторический период русской жизни, когда еще невозможно было увидеть, что революционной силой в России, так же как и на Западе, явится пролетариат, когда все надежды передовых русских людей связывались с крестьянскими массами, с их духовным ростом.
Русское крестьянство было тогда к тому же еще очень мало дифференцированным. Если народнические теоретики 70-х годов — и чем дальше, тем все более упорно — закрывали глаза на факты, указывавшие на процессы дифференциации крестьянства, на рост капиталистических элементов в деревне, то Герцену эти факты сначала вовсе были неизвестны, а позднее, уже к концу его жизни, вызвали с его стороны пристальное внимание. Поэтому Герцен оставался чужд народническому субъективизму и романтизму.
Народнические воззрения сочетались у Герцена с революционным демократизмом. Ленин писал, что, когда Герцен в 60-х годах увидел революционный народ в России, «он безбоязненно встал на сторону революционной
- 429 -
демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем».1
Действительно, в 60-х годах позиция «Колокола» по всем основным вопросам принимает революционно-демократический характер. Либеральные колебания и тенденции теперь уже не играют в нем сколько-нибудь существенной роли.
Когда в 1861 году в Лондон пришли царские законы об «освобождении» крестьян, «Колокол» писал о «новом крепостном праве», о том, что «народ царем обманут» («Колокол», л. 101). Герцен клеймит «всекаемое освобождение» (XI, 162). «Колокол» выдвигает требование передачи крестьянам всей без исключения помещичьей земли (л. 134).
После того, как посланцы царя широко стали применять расстрелы крестьян, Герцен в своей статье «Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ», напечатанной в «Колоколе» в августе 1861 года и представляющей собою прямое обращение к народным массам, учит народ революционной сознательности. Эту статью Герцена Ленин цитировал в своей работе «Памяти Герцена».
Здесь Герцен говорит крестьянину — «отцу убитого юноши в Бездне... сыну убитого отца в Пензе»: «Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя и и архиерея... Не верь им!» (XI, 194).
Большую роль сыграл «Колокол» в связи с польским восстанием 1863 года. Ленин писал:
«Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все „образованное общество“ отвернулось от „Колокола“, Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии».2
Защищая Польшу, Герцен отстаивал интересы передовой революционной России. Он заявлял:
«Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих» (XVI, 151).
Чем последовательнее Герцен становился на сторону русской революционной демократии, тем больше места стала занимать в «Колоколе» критика буржуазного порядка и проповедь социалистических идеалов.
Последовательность и резкость герценовской критики буржуазного порядка особенно наглядно проявляются в его отношении к общественному строю Соединенных Штатов Америки. В статье «Россия и Польша» (1859) и других своих выступлениях Герцен характеризует Соединенные Штаты как типическое буржуазное государство, подчеркивая иллюзорность буржуазных «свобод»: «В Северо-Американских Штатах перехватывают письма и журналы, секут граждан на площадях и продают с аукциона вольных негров... Мир, основанный на римском праве собственности и на гражданском праве личности, может бросить голодному хлеба, но признать его право на хлеб не может...» (X, 244—245).
А в «Mortuos plango...» (1862) Герцен указывает: «До Северо- и Юго-Американских Штатов было рабство и крепостное состояние, неправая война и неправое стяжание, но этот цинизм, эта наглость, эта преступная
- 430 -
простота, это бесстыдное обнажение, — это ново и принадлежит Америке» (XV, 5).
Одной из существеннейших сторон революционной деятельности и важной темой публицистики Герцена как издателя «Колокола» явилась борьба за русскую демократическую культуру.
В соответствии с общим изменением своих идейных позиций Герцен по-новому оценивает теперь и важнейшие проблемы русской культуры и литературы. Если раньше, в статье «О романе из народной жизни в России» (1857), Герцен мечтал о соединении дворянской интеллигенции и народа, то теперь, в статье «Новая фаза русской литературы» (1864), Герцен видит строителей «новой России» и новой, демократической культуры в поколении революционеров-разночинцев. Этот слой, представителями которого являются Белинский, Чернышевский, занимает «промежуточное положение между растущей бесплодностью верхов и некультурной плодовитостью низов», он «призван спасти цивилизацию для народа».1 Герцен критиковал Тургенева за то, что он, повинуясь дворянско-либеральным симпатиям, недостаточно подчеркнул сильные положительные стороны Базарова — передового человека своего времени. В этой же статье Герцен указал на беспримерную в мировой литературе идейную последовательность и критическую беспощадность литературы русской.
Рассматривая будущую демократическую русскую культуру как результат соединения передовой науки, культуры с народом, Герцен всегда подчеркивал две стороны этой культуры: ее передовое революционно-демократическое содержание и силу ее национальных традиций.
Герцен был убежден, что именно наиболее полное и глубокое развитие всех лучших национальных черт и традиций приведет народ к овладению передовыми общечеловеческими идеалами, к осуществлению их в действительности, к тому, чтобы та или иная нация сыграла великую, подлинно плодотворную всемирноисторическую роль.
Глубоко веря в будущую демократическую Россию, в то, что русский народ один из первых осуществит в своей жизни идеалы передовой демократии, Герцен, естественно, непоколебимо был убежден в той огромной всемирноисторической роли, которую призвана сыграть русская демократическая культура.
Эта исходная позиция Герцена, занятая им в вопросах развития русской культуры и искусства, объясняет нам мотивы его полемики как против воззрений западников-либералов, с их рабским преклонением перед буржуазной цивилизацией, так и против взглядов славянофилов, боровшихся против русской революционно-демократической культуры с откровенно реакционных крепостнически-поповских позиций.
В цикле очерков-статей «Концы и начала» (1862), являющемся по своему содержанию одним из наиболее замечательных произведений Герцена, а по форме — одним из наиболее ярких образцов его лирико-философской и публицистической прозы, он исходит из того представления о характере развития русской жизни, русского народа, которое является краеугольным камнем всего его мировоззрения. Это прежде всего ощущение быстроты русского общественного развития.
Мещански ограниченному «быту европейских бельэтажей» Герцен противопоставлял жизнь России, как «водоворот, искупающий все неустройство свое пророчествующими радугами и великими образами, постоянно стремящимися вырезаться из-за тумана, который постоянно не могут победить».
- 431 -
Русское искусство и было для Герцена воплощением этих «пророчествующих радуг» и «великих образов». Падение же искусства в Западной Европе Герцен связывал с сущностью буржуазного общества: «Искусству не по себе в чопорном, слишком прибранном, расчетливом доме мещанина, а дом мещанина должен быть таков; искусство чует, что в этой жизни оно сведено на роль внешнего украшения, обоев, мебели, на роль шарманки; мешает — прогонят; захотят послушать — дадут грош, и квит...» (XV, 247).
Иллюстрация:
«За пять лет (1855—1860)». Политические
и социальные статьи А. И. Герцена и
Н. П. Огарева. Обложка. 1860.Важнейшим определяющим качеством нового, подлинно творческого искусства Герцен считал предвосхищение и отражение им назревающих потребностей народной жизни.
Указывая, что художественные произведения способны выразить и воплотить такие черты и тенденции развития, которые еще в неясной, зачаточной форме сказываются в народной жизни, Герцен, естественно, приходил к выводу о громадной воспитательной, формирующей человеческую психологию, роли искусства. В этом отношении чрезвычайно содержательно позднейшее замечание Герцена в статье «Еще раз Базаров» (1868), указывающее на значение романа Чернышевского «Что делать?»: «Странная вещь — это взаимодействие людей на книгу и книги на людей. Книга берет весь склад из того общества, в котором возникает, обобщает его, делает более наглядным и резким и вслед за тем бывает обойдена реальностью. Оригиналы делают шарж своих резко оттененных портретов, и действительные лица вживаются в свои литературные тени... Русские молодые люди, приезжавшие после 1862, почти все были из „Что делать?“, с прибавлением нескольких базаровских черт» (XXI, 226).
Для Герцена передовой художник и писатель «не только наблюдатель и следователь, а вместе с тем и участник общественной жизни».
Нельзя, однако, забывать того, что пессимистическая оценка творческих сил западноевропейского пролетариата, долгое время свойственная Герцену, вызывала у него длительные сомнения в том, станет ли прекрасное, красота достоянием народной жизни, по крайней мере, в Западной Европе. Эти сомнения сказались, в частности, в «Концах и началах».
В «Концах и началах» Герцену кажется, что «красота, талант вовсе не нормальны, это — исключение, роскошь природы, высший предел или
- 432 -
результат больших усилий целых поколений... В самой природе, можно сказать, бездна мещанского; она очень часто останавливается на середке на половину, — видно, дальше идти духу не хватает. Кто тебе сказал, что у Европы хватит?» (XV, 249). Заключительная фраза ясно указывает на теснейшую связь этих эстетических выводов Герцена с его пессимизмом и скептицизмом в целом.
Но постепенно Герцен этот пессимизм изживал. Этому в особенности способствовала его глубокая вера в великое будущее русского народа, русского человека. В родном искусстве, в поэтических созданиях таких великих его представителей, как Пушкин, Мочалов, Щепкин, Александр Иванов, Глинка, Герцен чуял отражение «сокровенных сил и возможностей русской натуры» (БиД, 774).
Пессимистическим выводам Герцена в области эстетики противоречила и его собственная художественная практика, столь ярко воплотившая силу и красоту передовых людей, революционной мысли и народных стремлений.
В 1863 году в статье «1831—1863», содержащей чрезвычайно высокую оценку Белинского и поколения революционеров-разночинцев, Герцен делает заявление, вносящее принципиально новую оптимистическую ноту в его эстетические воззрения: «Люди гораздо больше поэты и художники, чем думают» (XVI, 187).
Тем самым Герцен отказывается от мысли об исключительном характере поэтического дарования, «таланта», красоты.
Пройдя искус пессимизма и скептицизма, эстетическая мысль Герцена в 60-х годах углубляет те выводы о поступательном развитии искусства, об идейном его обогащении, которые содержались, как мы видели, в статье «Дилетанты-романтики» из цикла «Дилетантизм в науке».
Герцен называл Миланский собор «безумно-прекрасным, бесцельно-возвышенным» и писал в 1867 году Тургеневу: «Я смотрю на эту мраморную беловежскую чащу здешнего собора. Такого великого, изящного вздора больше не построят люди» (XX, 116, 117).
Герцен был убежден в том, что растет и закаляется идейность искусства и литературы, что их развитие неотрывно от судеб передовой революционной мысли.
Существенным моментом развития эстетических взглядов Герцена являются высказывания его в известном философском письме к сыну, относящемся к июлю — августу 1868 года. Здесь Герцен указывает на то, что развитие искусства может быть объяснено лишь его конкретно-историческими, социальными корнями, а не с позиций естественнонаучного материализма. Герцен пишет, что физиология «оканчивается началом сознания, она останавливается у порога истории. Социальный человек ускользает от физиологии...
«Все явления исторического мира... основываются на физиологии, но идут дальше ее. Возьмем, например, эстетику. Прекрасное, разумеется, не составляет исключения из законов природы: невозможно воспроизвести его без вещества, невозможно почувствовать его без органов. Но ни физиология, ни акустика не могут дать теории художественного творчества» — (XXI, 6—7). Тем самым Герцен должен был сделать вывод о том, что коренное изменение общественного строя способно привести к расцвету культуры и искусства.
Важнейшим свидетельством идейной эволюции Герцена являются письма «К старому товарищу» (1869).
Идейная сущность этого предсмертного произведения Герцена исчерпывающе охарактеризована Лениным:
- 433 -
«У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий „надклассового“ буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата».1
Письма «К старому товарищу» свидетельствуют о резком переломе в воззрениях Герцена. Герцен к концу жизни понял историческую правоту Маркса, с которым он раньше неоднократно полемизировал. В письмах «К старому товарищу» Герцен говорит о решающем значении изменения материальных условий жизни общества для его социалистического преобразования. Рост массового рабочего движения убедил теперь Герцена в том, что передовая мысль, революционный авангард способен повести за собой стихийное движение народных масс.
«Народное сознание так, как оно выработалось, представляет естественное, само собой сложившееся, безответственное, сырое произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных инстинктов и столкновений — его надобно принимать за естественный факт и бороться с ним, как мы боремся со всем бессознательным, — изучая его, овладевая им и направляя его же средства сообразно нашей цели».2
Герцен выступает против анархистской проповеди «распущения государства», указывая, что «государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции и революции, тому, с чьей стороны сила...».3 Он критикует также анархистскую недооценку культурного наследия; «так как в руках правительства и капитала все: богатство, машины, войско, суд, то, — пишет Герцен, — наше дело вырвать ее <науку> из вражьих рук, освободить ее от них; а не в том, чтоб ее давить за услуги им».4
Ленин дал следующее определение идейного значения и содержания писем «К старому товарищу»: «Герцен рвет с анархистом Бакуниным. Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласие в тактике, а не пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с „проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину“. Но все же-таки, разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к Интернационалу, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс, — к тому Интернационалу, который начал „собирать полки“ пролетариата, объединять „мир рабочий“, „покидающий мир пользующихся без работы“!».5
Герцен не сомневается теперь в желании народа во главе с рабочим классом овладеть передовой мыслью, осуществить в своей жизни передовые идеалы: «Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, с своей македонской фалангой работников, ищут слова и понимания — и с недоверием смотрят на людей, проповедующих аристократию науки...».6 Герцену была чужда теория «героев» и «толпы», пропагандировавшаяся позднейшими народниками.
Герцен уверенно смотрит в будущее, видя в пролетариате, в «македонской фаланге работников», могучую историческую силу, единственно способную сохранить и развить великие культурные художественные ценности,
- 434 -
созданные прошлыми поколениями человечества. Он убежден теперь в том, что будущий социалистический строй сохранит все прекрасное, все то, что «достойно спасения» на гибнущем корабле старой цивилизации.
Последние месяцы своей жизни Герцен провел главным образом в Париже. Теперь он ждал нового подъема революционного движения в той самой Франции, которая еще недавно казалась ему безнадежно придавленной бонапартистским режимом.
Но Герцену не суждено было стать свидетелем событий Парижской Коммуны. В Париже он заболел воспалением легких и 21 января 1870 года скончался.
2
Художественное творчество Герцена тесно связано с его революционной биографией.
Общественно-политические интересы и революционные настроения молодого писателя оказали глубокое воздействие на его первые литературные опыты. Произведения Герцена 30-х годов пронизаны передовыми освободительными идеями своего времени. Путь Герцена, при всей противоречивости творческого развития писателя, вел его от романтики к ярко выраженному реалистическому стилю.
В романтически приподнятых, возвышенных образах начинающего писателя, порою в наивной, условной форме, находила свое воплощение идейная жизнь передовой дворянской молодежи 30-х годов.
Художественным отражением ранних утопических воззрений Герцена была повесть «Легенда», написанная в Крутицких казармах в феврале 1835 года и затем переработанная в Вятке. Она открывалась вступлением автобиографического характера от лица рассказчика-арестанта. Этот личный элемент в «Легенде» Герцен хотел потом развить, «прибавить новый опыт своей души», но не исполнил намерения, не удовлетворенный воплощением своего замысла. «Мысль ее хороша, но выполнение дурно» (I, 331; письмо от 29 сентября 1836 года) — в этом отзыве Герцена ярко проявилось внутреннее противоречие «Легенды» между риторически-витиеватым стилем, которым излагает писатель древнее житие св. Феодоры, и общественной направленностью содержания.
Повесть утверждает «жизнь для идеи» как «высшее выражение общественности» (I, 239). Герцен развивает свою мысль на религиозном материале, однако в результате исследований рукописи повести было установлено, что под образами церковной легенды писателем подразумевалась борьба вокруг учения утопических социалистов — последователей Сен-Симона.1 Так, произведение, которое раньше считалось «исполненным мистицизма», оказывалось связанным, несмотря на свою мистическую оболочку, с наиболее передовыми устремлениями Герцена. Религиозная форма «Легенды» была, конечно, неслучайна и отражала настроения Герцена вятского периода. В дальнейшем противоречивость условной, аллегорической формы и передового, тесно связанного с жизнью содержания особенно болезненно будет ощущаться Герценом. «Я писал аллегории тогда, когда дурно писал, — говорит он в письме от 9 февраля 1838 года. — Что хочешь сказать, говори прямо — Крутицы» (II, 75). Однако в том же 1838 и 1839 годах, т. е. уже во Владимире, Герцен создает новые своеобразные «аллегории» — «Из римских сцен» («Лициний») и «Вильям Пен».
- 435 -
Публикуя «сценарии» своих «драматических опытов» в томе III лондонского издания «Былого и дум» (1862), Герцен писал: «В них ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно перерабатывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм» (II, 206). В сценах из жизни древнего Рима или из эпохи борьбы официальной церкви с английскими квакерами («Вильям Пен»), написанных, по выражению писателя в «Былом и думах», «в социально-религиозном духе» (стр. 154), Герцен пытался решить вопросы, глубоко волновавшие самого писателя и его современников. А. В. Луначарский справедливо видел в герое «римских сцен» Лицинии отражение переживаний передовых русских людей 30-х годов, «трагизм пробуждения одиночек, которые не могут опереться ни на какую силу».1 Драма Лициния — это драма людей каждой переходной эпохи, занятых страстными поисками идеала. Лициний горько обличает «одряхлевший Рим»: «Истинный Рим построен был не из камня, он был в груди граждан, в их сердцах; а теперь его нет, остался его остов, каменные стены, каменные учреждения» (II, 219). Сознавая социальную несправедливость в мире сегодняшнего дня, Лициний полон «трепета перед будущим, неизвестным, но близким». Его монолог, обращенный к «другим поколениям», явным образом перекликается с признаниями Герцена в письмах и дневниковых записях 30—40-х годов.
Бессилие Лициния состоит в его одиночестве и отчуждении от народа. В образе реалиста-язычника Мевия Герцен показывает недостаточность одних романтических мечтаний. В этом, несомненно, отразились критические настроения писателя по отношению к утопическим теориям социализма. Но других, более действенных, путей борьбы он в то время не знал. Не указал их Герцен и в диалогах «Вильяма Пена», развивавших в иных исторических обстоятельствах ту же тему столкновения двух миров.
Герцен был недоволен своими сценами. «Я решительно сожгу этот неудавшийся опыт», — написал он на рукописи «Вильяма Пена» (II, 276). По признанию Герцена, сурово осудил их и Белинский (см. II, 205—206). Условно-романтическая форма драматических сцен Герцена и материал, привлеченный им, не могли не оттолкнуть великого критика, звавшего писателя к реализму.
Освобождению Герцена от романтических влияний способствовал рано пробудившийся интерес молодого писателя к автобиографическому повествованию. Неизменно — и письма это наглядно показывают — литературным начинаниям Герцена был присущ, в той или иной степени, автобиографический элемент. «Все яркое, цветистое моей юности я опишу отдельными статьями, повестями, вымышленными по форме, но истинными по чувству», — писал Герцен Н. А. Захарьиной (письмо от 29 июня 1836 года; I, 302). Вместе с тем Герцен, будучи еще далеким от величайшей обобщающей силы своих будущих мемуаров, сознавал недостаточность простого рассказа только «о себе». Он осложняет свои воспоминания романтическим вымыслом, но тем лишь ослабляет, а не усиливает их художественное значение. Попытка соединить в повести «Елена» (1836—1837) автобиографические зарисовки с сюжетным романтическим рассказом окончилась неудачей.
Мемуарные жанры сохраняют главенствующее значение в творчестве писателя на протяжении всех 30-х годов.
- 436 -
Одним из первых известных нам опытов Герцена мемуарного характера был отрывок «День был душный...» (см. I, 110—113). В этом раннем наброске, вызванном знаменитой клятвой Герцена и Огарева на Воробьевых горах, писатель еще целиком под влиянием романтических образов. Волнующий эпизод революционной биографии Герцена и его друга описан в исключительно высоких, торжественных тонах. Вместе с тем именно мемуарный характер отрывка позволял Герцену вносить в повествование, при всей его традиционно-романтической форме, яркие реалистические детали: «...там судья продает совесть и законы; там солдат продает свою кровь за палочные удары; там будочник, утесненный квартальным, притесняет мужика; там купец обманывает покупщика, — покупщика, который желал бы обмануть купца; там бледные толпы полуодетых выходят на минуту из сырых подвалов, куда их бросила бедность» (I, 112).
Очерк «Первая встреча» («Германский путешественник», 1834—1836) Герцен долго считал лучшей из написанных им «статей» (I, 388; письмо от 15 февраля 1837 года). «Я люблю его, — писал он в январе 1838 года. — В нем выразился первый взгляд опыта и несчастья, взгляд, обращенный на наш век... эта статья имеет большую важность, как начальный признак перелома» (II, 36).
В гостиной «путешественник» рассказывает о своей встрече с Гёте. Творец «Фауста» разочаровал рассказчика при встрече. Глухой и откровенно безразличный к бурной общественной жизни эпохи французской революции, Гёте «пишет комедии в день лейпцигской битвы», «не занимается биографией человечества» (I, 297). С большой силой Герцен подчеркивает в очерке необходимость активного участия писателя в освободительной борьбе. «Великий человек живет общею жизнью человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных» (I, 295). Это была своего рода программа деятельности самого Герцена, ценившего в своем очерке прежде всего «мысль чисто политическую» (II, 37). Герцен призывает не подменять абстрактными построениями деятельной борьбы за воплощение своих стремлений. «Не должно удаляться от людей и действительного мира, — писал он Н. А. Захарьиной 27 апреля 1836 года, незадолго до за вершения «Первой встречи», — это старинный германский предрассудок) (I, 271).
Опубликовать «Первую встречу» Герцену, несмотря на его попытки не удалось, но, работая над «Записками одного молодого человека», он вспомнил о ней и широко использовал в эпизоде с Трензинским. Очерк Герцена «Вторая встреча» (или «Человек в венгерке», март 1836 года) впоследствии послужил писателю материалом не только для «Записок одного молодого человека», но и для «Былого и дум», где пермская встреча Герцена с польским ссыльным Цехановичем описана в XIII главе II части. Романтический образ «человека в венгерке», в глазах которого «было что-то от пламени молний», его страстная, патетическая исповедь, полная литературных сравнений, но мало говорящая о взглядах и убеждениях незнакомца по существу, — сменились в мемуарах строгим, выразительным портретом самоотверженного борца за свободу Польши.
Однако романтичность в описании встречи с Цехановичем составляла всего лишь одну сторону художественного своеобразия раннего очерка Герцена. Во «Второй встрече» сильнее, чем где-либо, сказались реалистические черты его крепнущего литературного таланта. Недаром Герцен в «Записках одного молодого человека» использовал из этого очерка описание «большого обеда» у одного богача. Эти страницы «Второй встречи»,
- 437 -
полные иронии и сарказма, он называл «уликой пошлой жизни» (II, 22). В зародыше в них виден бытовой фон будущего «Кто виноват?». В дальнейшем сатирическое дарование Герцена развернется в полной мере — в повестях 40-х годов, в «Былом и думах», на страницах «Колокола», но впервые отчетливо сказалось оно именно во «Второй встрече».
Неизвестными остались для нас другие статьи Герцена той поры — «Третья встреча» (1836—1837), «I Maestri» (1837), «Симпатия» (1837—1838), но многочисленные упоминания о них в переписке позволяют причислить их к этому же циклу ранних мемуарных очерков, завершившемуся большой, также затерявшейся впоследствии, автобиографической повестью «О себе» (1837—1838), первоначальной редакцией «Записок одного молодого человека» («Отечественные записки», 1840—1841).
«Записки одного молодого человека» и особенно их страницы, посвященные описанию Малинова и «малиновцев», представляли собой значительное достижение художественной мысли Герцена. Белинский, который, по его признанию, «давно уже... не читал ничего, что бы так восхитило» его,1 писал в обзоре русской литературы за 1841 год, что «Записки» «заинтересовали общее внимание», называл их полными «ума, чувства, оригинальности и остроумия» (VII, 59). В «Записках» сказалось не только освобождение писателя от влияний абстрактно-романтического стиля, но также плодотворное развитие Герцена как художника в направлении реализма. Зачатки реалистического изображения действительности, имевшиеся уже во «Второй встрече», здесь впервые определили весь стилевой характер произведения.
Первые главы «Записок» рисовали, насколько это позволяли цензурные условия, широкий круг духовных интересов молодого Герцена — первые впечатления жизни, встречи с людьми, глубокое воздействие прочитанных книг. Из «романтической страстности» и торжественности, переходящей порой в высокопарную риторичность, из «хронической восторженности», которую потом будет высмеивать сам Герцен, на наших глазах возникает трезвое, остро критическое восприятие жизни в ее конкретной повседневности. Затем писатель переносит своего «героя» на «берег реки Оки». «А на том берегу ничего для меня: ни желания ступить на него, ни воли не ступать» (II, 439—440), — прозрачно намекает Герцен на ссыльное положение «молодого человека». Характер повествования постепенно меняется. Сатирическая мысль писателя беспощадно разоблачает убогое, пошлое существование города Малинова и «малиновцев», всей российской провинции. Спустя несколько лет патриархальный Малинов воскреснет в крутогорских нравах и типах «Губернских очерков», и вполне возможно предположить воздействие ранней повести Герцена на обличительный пафос сатиры другого вятского ссыльного — Салтыкова-Щедрина.
Картины пошлой жизни провинциальной чиновничье-помещичьей среды, открывавшиеся перед «молодым человеком», служили в повести Герцена суровым разоблачением всего «Малиновского» строя самодержавно-крепостнической России. Впоследствии, в «Письмах к будущему другу» (1864), Герцен вспоминал, как создавались «Записки...»: «Сначала я писал весело, потом мне сделалось тяжело от собственного смеха, я задыхался от поднятой пыли и искал человеческого примирения с этим омутом пустоты, нечистоты, искал выхода хоть в отчаянии, но только в разумном, сознательном...». «Ничего не найдя», — признается Герцен, — он «наклепал на Малинов Трензинского...» (XVII, 98).
- 438 -
В Трензинском преобладает скептицизм неудачника, «скептицизм жизни, убитой обстоятельствами, беспредельно грустный взгляд на вещи» человека, полного силы (II, 467). Герцен не выполнил своего намерения рассказать со временем всю жизнь его, и история Трензинского смутно представляется читателю. Мы знаем ее конечный результат — одиночество большого, умного человека, уединившегося от общества, «от всего человеческого», ревностно занимающегося хозяйством и находящего в этом утешение от незаслуженных ран и оскорблений. Трензинский бессилен перед жизнью, его скептицизм бесплоден. Он откровенно презирает «малиновцев», из всех жителей города только один доктор бывает у него, единственный «человек образованный и с душою, на 300 верст кругом» (II, 455). Но отрицание Трензинского пассивно. Герцен пишет, что «рядом бедствий» этот человек «дошел до неуважения лучших упований своей жизни» (II, 467), вместо борьбы он просто отказался от них. Крайне важно, что, вложив в уста Трензинского рассказ «германского путешественника» о встрече с Гёте, Герцен опустил призыв «путешественника» к активной общественной деятельности: такой вывод противоречил бы всему облику Трензинского. В прошлом он мог осуждать Гёте, но теперь другим путем, по-своему, сам примирился с жизнью. Так в эпизоде с Трензинским Герцен начинал характерную для его беллетристики полемику со своим героем-скептиком.
В 1870 году «Записки одного молодого человека» были напечатаны в вышедшем в Москве анонимном сборнике произведений Герцена «Раздумье (Разные вариации на старые темы)». В статье «По поводу одной книги» (1870), посвященной этому сборнику, выдающийся революционный публицист Н. В. Шелгунов высоко оценил повесть молодого Герцена, подчеркнув в ней те стороны воспитания Герцена, которые способствовали формированию его свободолюбивых, революционных настроений.
Действительно, в обличении «Малиновского» строя гневным и страстным пером художника-реалиста нельзя не видеть будущего Герцена — эмигранта и революционера-демократа, Герцена «Полярной звезды», «Колокола» и «Былого и дум».
3
Сороковые годы характеризуются в художественном творчестве Герцена преобладанием повествовательных форм. «Успех „Малинова“ заставил меня приняться за „Кто виноват?“» (IV, 196; предисловие к лондонскому изданию «Кто виноват?», 1859). Именно в это время им были созданы такие значительные произведения, как роман «Кто виноват?» (1841—1846), повести «Сорока-воровка» (1846) и «Доктор Крупов» (1846). Написанные под сильным воздействием могучей проповеди реализма и народности русской литературы в статьях Белинского, беллетристические произведения Герцена 40-х годов, наряду с творчеством Некрасова и Салтыкова-Щедрина, представляли самое демократическое крыло гоголевского направления в русской литературе.
В статье «От какого наследства мы отказываемся?» (1897) В. И. Ленин указывал, что в период от 40-х до 60-х годов, когда писали наши просветители, «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками».1 Пафос борьбы с крепостным правом, как основным социальным злом русской действительности, составляет
- 439 -
А. И. Герцен.
С рисунка А. Витберга 1836 года.
- 440 -
- 441 -
подлинное содержание романа Герцена «Кто виноват?». Все остальные проблемы, затрагиваемые в разной степени писателем, — проблема семьи и брака, положение женщины, вопросы русской интеллигенции, идея защиты личности и т. д., — служили лишь частными формами преломления этой основной темы произведения.
Первые же страницы произведения, негодующее изображение крепостнических порядков в доме помещика Негрова, резко выделяли роман Герцена на фоне тогдашней беллетристической литературы, в той или иной мере затрагивавшей тему крепостного права. Острота протеста Герцена против крепостного строя приобретает в романе подлинно революционное звучание. С большой силой это проявилось в выразительных намеках писателя на полное бесправие народа в условиях крепостнического строя. Разумеется, именно здесь прежде всего сказалось цензурное вмешательство. Когда Герцен писал: «Губернатор возненавидел Круциферского за то, что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика» (IV, 217), — цензура заменила эту яркую, правдивую деталь крепостного быта бессмысленным указанием на «какое-то дело»,1 не замечая, что читателю оставалась абсолютно непонятной следовавшая далее фраза о маленьком Мите как о «единственно наказанном в деле о найденном теле кучера» (IV, 217). Было выброшено также упоминание о «продаже парней в рекруты, не стесняясь очередью» (IV, 260), и т. д. И все-таки картины тяжелой жизни народа, прежде всего крепостного крестьянства, с которыми знакомился читатель в романе, производили сильное, гнетущее впечатление. Рисует ли Герцен трагическую судьбу Дуни Барбаш или трудный, тернистый путь крепостной интеллигентки Софи, показывает ли бесчеловечное обращение помещиков со своими рабами, касается ли он жизни городской бедноты, — везде мы чувствуем гневное, обличительное перо писателя-демократа и гуманиста.
Внимание писателя привлекают различные формы проявления борьбы крепостных масс русского крестьянства против своих угнетателей. В главе «Биография их превосходительств» Герцен замечает: «Приказчик и староста были... довольны барином; о крестьянах не знаю, — они молчали» (IV, 204). По цензурным условиям Герцен не мог привести какого-либо эпизода народного возмущения, но в этом «молчании» крепостного люда таилась могучая сила крестьянского гнева и протеста.
Рисуя образ угнетенного народа, Герцен продолжал лучшие демократические традиции русской литературы XVIII — первых десятилетий XIX века. В то же время тема борьбы с крепостным правом поднялась в творчестве Герцена на новую ступень, приобрела новые идейные качества, соответственно уровню развития освободительного движения в России в 40-х годах XIX века.
Было бы неправильно ограничивать обличительную силу романа «Кто виноват?» намеками на произвол и жестокость помещиков, разбросанными по всему роману и лишь частично пропущенными цензурой. Роман Герцена всем ходом своего повествования произносил суровый обвинительный приговор самой системе самодержавно-крепостнических порядков.
Революционера и материалиста Герцена особенно интересует процесс формирования человека и его мировосприятия под воздействием окружающей социальной среды. Как бы ни было эпизодично то или иное действующее лицо романа, Герцен стремится познакомить читателя с факторами, которые обусловили общественный облик и взгляды этого человека.
- 442 -
На «биографиях» своих героев Герцен показывает, как крепостнический строй уродует сознание и жизнь людей — внизу общественной лестницы и на верхних ее ступенях. В этом была могучая обличительная сила романа Герцена.
Стремясь всюду проследить воздействие «среды» на выводимые им образы, Герцен сознательно подчеркивает зародыши положительных качеств даже в некоторых отрицательных типажах романа, добиваясь тем самым большой силы в характеристике общественного строя как целого. Отсюда предположение автора о Негрове, что «жизнь задавила в нем не одну возможность» (IV, 203) и т. д. Насилие над личностью, жестокость, произвол крепостников и чиновников выступают в романе не как частная, личная особенность психологии отдельных людей, а как социальный признак класса и строя в целом.
Обращает на себя внимание настойчивость, с которой Герцен указывает на типическое значение образов и отдельных эпизодов романа. Писатель рисует жизнь в ее обыденном, повседневном виде, — нет ничего из ряда вон выходящего в этих Негровых, уездных предводителях, всей галерее NN-ских чиновников, средних людях своего класса, который незримо стоит за ними и беспощадно уродует человеческие жизни, унижает достоинство людей, губит лучшие задатки талантливого народа. Крупов как бы мимоходом говорит Круциферскому: «Дом Негрова, поверьте мне, не хуже... признаться, и не лучше всех помещичьих домов» (IV, 222). В следующей главе Герцен снова «случайно» обронит: «Изредка наезжал какой-нибудь сосед, — Негров под другой фамилией...» (IV, 226). В NN, подчеркивает Герцен в начале второй части, у помещиков и чиновников «были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое общественное мнение, свои обычаи, — общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам всей империи» (IV, 299). Наконец, знакомство Бельтова с чиновным миром NN завершается предельно выразительным обобщением: «Когда мало-помалу это почтенное общество лиц отступило в голове Бельтова на второй план, и все они слились в одно фантастическое лицо какого-то колоссального чиновника, насупившего брови, неречистого, уклончивого, но который постоит за себя, Бельтов увидел, что ему не совладать с этим Голиафом...» (IV, 297).
Сознательно подчеркивая типический характер своих картин и образов, Герцен смело ставит вопрос о социальных причинах, которые обусловливают трагические судьбы героев романа. Он был далек от той философии фаталистической обреченности, которую приписал ему в своем отзыве о «Кто виноват?» А. Григорьев. «Основную мысль» романа Григорьев увидел в том, что «виноваты не мы, а та ложь, сетями которой опутаны мы с самого детства». Из книги следует, — писал Григорьев Гоголю в ноябре 1848 года, — что «никто и ни в чем не виноват, что все условлено предшествующими данными и что эти данные опутывают человека, так что ему нет из них выхода... Одним словом, человек — раб, и из рабства ему исхода нет».1 Социальное зло Григорьев подменял отвлеченной, моральной категорией «предшествующих данных», безысходным рабом которых объявлялся человек. По этому пути, кстати, пошла вся реакционная критика романа, настойчиво, но не без успеха убеждавшая читателя, что в бедствиях человечества Герцен винит «судьбу», а отнюдь не «людей» и не
- 443 -
людские отношения. В действительности роман Герцена, изобличая виновников социальной несправедливости на конкретном материале русской жизни, конечно, не допускал такого ложного толкования.
Иллюстрация:
«Кто виноват?». Роман А. И. Герцена.
Обложка первого издания. 1847.Зарисовки быта и нравов, «житья-бытья» «их превосходительств» Негрова и его супруги, рассказ о жизни семейства дубасовского уездного предводителя, который Белинский причислял к лучшим страницам романа (XI, 118), образы чиновников в NN — показывают силу сатирического таланта Герцена.
Восприняв обличительные традиции гоголевского смеха, как это неоднократно отмечалось в литературе, Герцен в то же время значительно целеустремленнее и определеннее в своем отношении к объекту сатиры. Речь идет при этом не только о постоянных авторских обращениях к читателю. Иногда в мелкой, несущественной, на первый взгляд, детали заключается уничтожающий сатирический намек. Острые, смелые сравнения писателя, как правило, содержат в себе социальную оценку явлений. Так, будочник для Герцена — «паук, возвращающийся в темный угол, закусивши мушиными мозгами» (IV, 294), и т. д. Множество лиц, биографий, эпизодов проходит перед читателем, но сатирическое, обличительное начало объединяет все действие романа в единую широкую картину русской крепостнической действительности.
Трудно в этом мире жить разночинцам Круциферским; Негровы стоят на пути к счастью Любоньки, в их среде беспомощными и лишними становятся даже люди, несомненно одаренные, полные внутренних творческих сил. Таков Владимир Бельтов — один из самых ярких образов, созданных Герценом-беллетристом.
Бельтов — в характеристике Герцена — жертва своего тяжелого времени, уродливых социальных условий, в бессильном отрицании которых он тщетно тратит лучшие порывы своего сердца и самые чистые побуждения незаурядного ума. Герцен подробно рассказывает о жизненном пути своего героя, раскрывает условия, которые формировали его отношение к действительности и в итоге привели Бельтова к глубокому внутреннему краху. В Бельтове отразился сложный процесс идейных исканий дворянской молодежи после разгрома декабристского восстания. Для Герцена образ Бельтова был важен как отрицание тягостного, разлагающего влияния пошлой помещичьей среды, политического гнета реакции конца 20—
- 444 -
30-х годов. Сила Бельтова ярко раскрывалась в его антагонизме с чиновничье-помещичьим окружением; Бельтов действительно был протестом, каким-то обличением жизни, каким-то возражением на весь порядок ее (IV, 299).
Для понимания образа Бельтова важное значение имеют слова Герцена из письма к сыну, написанные полтора десятилетия спустя. «Что общего в твоем существовании и положении Бельтова? — спрашивал сына Герцен (очевидно, тот в не дошедшем до нас письме проводил такую аналогию, — Ред.). Бельтов оттого бросался из угла в угол, что его социальная деятельность, к которой он стремился, находила внешнее препятствие. Это — пчела, которой не позволяют ни делать ячейки, ни отлагать мед...» (XV, 208; письмо от 14 июня 1862 года).
В 40-х годах драма Бельтова также рассматривалась Герценом преимущественно в плане его конфликта с окружающей средой, «внешним препятствием». Белинский пытался поправить писателя: «Мы думаем, что при этом автор мог бы еще указать слегка и на натуру своего героя, нисколько не практическую и, кроме воспитания, порядочно испорченную еще и богатством» (XI, 114).
Герцен не согласился с критиком. Ему был дорог этот образ, он наделяет его некоторыми автобиографическими чертами, ищет оправдания его «бесполезности» для общества в той свинцовой тяжести, с которой давил на мыслящую Россию «Голиаф» николаевской реакции. Бельтова Герцен воспринимает как человека своего поколения, недаром через несколько лет будет писать о поколении «Онегиных, Чацких и нас всех» (VII, 463). Если для Белинского источник поражения Бельтова таился в значительной мере в «натуре» самого героя, и поэтому критик более требователен и строг к нему, то Герцен, в силу своей близости в ту пору к передовой дворянской интеллигенции, пытается примирить читателя с одним из ее представителей. Образ Бельтова приобретает сложный, порою противоречивый характер. Герцен настойчиво подчеркивает в нем стремление к общественной, «социальной» деятельности, и в то же время Бельтов фактически самоустраняется от жизни, отказывается от борьбы: «Моя жизнь не удалась, — по боку ее. Я, точно герой наших народных сказок... ходил по всем распутьям и кричал: „есть ли в поле жив-человек?“. Но жив-человек не откликался... мое несчастие!.. а один в поле не ратник... Я и ушел с поля...» (IV, 337).
Одно из писем Герцена к Огареву, написанное в Париже летом 1847 года, ярко показывает, что сам Герцен оценивал тип Бельтова как положительного героя романа с точки зрения потенциальных возможностей его развития. «Цель не Бельтов, — писал Герцен, — а необходимость подобного воздействия не на из рук вон сильного человека, но на прекрасного и способного человека» (V, 47; письмо от 3 августа 1847 года). По мысли Герцена, в известных условиях, при определенном «воздействии», Бельтовы могут стать «практическими» людьми (как он выразился в том же письме; вспомним слова Белинского о «непрактической натуре» Бельтова), нужными и полезными обществу. В воспитательном «воздействии» образа Бельтова Герцен видит свою цель писателя.
В герценовском понимании исторической роли Бельтовых для своего времени была заключена немалая доля правды. Если в последующие десятилетия передовая молодежь нашла себе более широкое поле общественной деятельности, а затем и открытой революционной борьбы, то в условиях 40-х годов отрицание Бельтовыми действительности имело
- 445 -
в себе несомненно прогрессивное начало. Однако был прав Белинский, когда отмечал некоторые черты идеализации в образе Бельтова.
Обратим внимание, что те главы романа, в которых впервые появляется Бельтов (т. е. отрывок «Владимир Бельтов» в кн. IV «Отечественных записок» 1846 года), встретили горячее одобрение Белинского. Именно в связи с этим «интермессо» к роману критик писал Герцену: «Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества».1 Именно отрывок «Владимир Бельтов» вызвал у Белинского знаменитую характеристику художественной «натуры» Герцена и пророческое предсказание: «Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, ты — большое имя в нашей литературе, и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина».2 В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский писал, что Бельтов интересен тогда, «когда мы читаем историю его превратного и ложного воспитания, и потом историю его неудачных попыток найти свою дорогу в жизни» (XI, 118). Однако дальнейшее развитие образа Бельтова Белинский признал ошибкой Герцена. «Во второй части романа, — писал критик в той же статье, — характер Бельтова произвольно изменен автором» (XI, 114). Далее Белинский поясняет: «...в последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какой-то высшею, гениальною натурою, для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща... Это уже совсем не тот человек, с которым мы так хорошо познакомились прежде; это уже не Бельтов, а что-то вроде Печорина» (XI, 115).
Если драма Бельтова, как понимал ее Герцен, объяснялась его духовной силой, обреченной на бездействие, то образ Круциферского от начала до конца выдержан в плане пассивного примирения с жизнью.
Герцен в условиях 40-х годов не мог правильно оценить историческую роль и значение разночинной интеллигенции. Круциферский полон «страха перед будущим» (IV, 306), он беспомощен в жизненной борьбе и выглядит мелким и жалким в сравнении с Бельтовым. Писатель сочувствует своему герою-разночинцу, но это сочувствие полно снисхождения. Позднее, в «Былом и думах», упомянув случайно о своей «старой повести», Герцен сравнит «благородную искренность» Бельтова со «слезливым самоотвержением» Круциферского (БиД, 486). Автор «Кто виноват?» не видит в плебее Круциферском новой активной социальной силы: «Кроткий от природы, он и не думал вступить в борьбу с действительностью, — он отступал от ее напора, он просил только оставить его в покое...» (IV, 329).
Во второй части романа Герцен снова указывает, что «Круциферский далеко не принадлежал к тем сильным и настойчивым людям, которые создают около себя то, чего нет» (IV, 330). Он невольно покорился «энергической сущности» Бельтова (IV, 331), который, как тонко заметил Белинский, был «подле бедного Круциферского настоящим колоссом подле карлика» (XI, 115).
Яркое художественное воплощение «новых людей», революционных разночинцев, исполненных веры в свои силы, и сознание, что будущее принадлежит
- 446 -
им, русская литература обрела впоследствии, в новых исторических условиях, с романом Чернышевского «Что делать?».
Большим художественным достижением Герцена в «Кто виноват?» явился образ Любоньки Круциферской. По словам Горького, это — «первая женщина в русской литературе, поступающая как человек сильный и самостоятельный».1 Круциферская погибает в неравной борьбе за свое счастье, но сознание духовной силы этой женщины, ее превосходства над мужем и над Бельтовым не оставляет читателя.
Характер Круциферской намечен автором при первом же знакомстве с ней читателя. «Она должна была понять, — замечает Герцен о судьбе маленькой Любоньки, — всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бель-этаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа...» (IV, 214). Белинский, находя, что Круциферская «гораздо интереснее в первой части романа, нежели в последней», ставил в заслугу Герцена, что им «резко было очерчено ее положение в доме Негрова. Там она хороша молча, без слов, без действий. Читатель угадывает ее, хотя не слышит от нее почти ни слова» (XI, 115). Развитие образа показано Герценом меткими, четкими штрихами. Записи дневника Любоньки рисуют ее глубокую, серьезную натуру; «...она бежала в самоё себя, — объясняет Герцен возникновение «журнала», — она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли...» (IV, 234). Читатель ждет от Любоньки решительных шагов, смелых и беззаветных действий, подвига. «Она тигренок, который еще не знает своей силы», — говорит о ней Крупов (IV, 250).
Однако силы Круциферской не находят применения. Они наглухо заперты в условиях бесправия женщины, на которое обрекает ее несправедливый общественный строй. Встреча с Бельтовым создала иллюзорную надежду для выхода из тупика. Именно потому Любонька переоценивает Бельтова — ей хотелось, чтобы он был таким, каким описывала она его в своем дневнике: «Это такой сильный человек, что я не могу не любить его. Это человек, призванный на великое, необыкновенный человек; из его глаз светится гений» (IV, 350), «его огненная, деятельная натура, беспрестанно занятая, трогает все внутренние струны, касается всех сторон бытия» (IV, 353). Но в действительности Бельтов бессилен. Добролюбов справедливо заметил, что Круциферская «выше Бельтова».2 Последний сам признается Крупову: «Изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо! Как это сделалось в ней, что те результаты, за которые я пожертвовал полжизнью, до которых добился трудами и мучениями и которые так новы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто выработанное, были для нее простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновенны» (IV, 369—370).
В идейном комплексе романа это поражение Бельтова перед Круциферской имеет немаловажное значение как свидетельство поисков Герцена подлинно положительного героя в направлении, наиболее близком революционным разночинцам конца 50—60-х годов. В Любоньке можно видеть предвестие женских образов Чернышевского, Слепцова и других писателей-демократов. Дочь крепостной, Любонька ближе к народной жизни, чем кто-либо другой из героев романа. Она записывает в своем дневнике: «...видно, крестьянская кровь моей матери осталась в моих жилах!.. Не могу никак понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей,
- 447 -
которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их, а, ведь, те учились и все — помещики, чиновники, а такие все противные...» (IV, 233).
Для Герцена 40-х годов образ Любоньки еще не мог стать источником социального оптимизма, но именно здесь намечалось дальнейшее расширение и углубление взгляда писателя на передовые силы русского общества.
Богатство проблем и образов романа Герцена, контрасты его содержания определили художественное своеобразие произведения и прежде всего резкие взаимопереходы различных стилевых приемов писателя. Сатирические страницы о Негровых (гл. I и II) сменяются историей семьи Круциферских (гл. III), и Герцен, чьи злые, острые сарказмы только что бичевали врага, находит теплые, проникновенные слова для серьезного и сосредоточенного рассказа о жизни бедных тружеников. Сатира и тонкий лиризм идут в романе рядом и часто в пределах одной и той же главы. Так построена, например, глава «Житье-бытье»: «О, ненависть, тебя пою!» — восклицает Герцен (IV, 235); описание дня и всей «тучной жизни» Негровых пронизано этой ненавистью за внешней насмешливостью и вереницей легких, блестящих острот. Но Герцен переходит к истории любви Круциферского, и весь тон рассказа меняется, становится задумчивым, сдержанным.
Новаторство Герцена сказалось и в языке романа. Реакционная критика подвергла язык «Кто виноват?» ожесточенному обстрелу за мнимое нарушение литературных норм. В действительности Герцен обогащал русский литературный язык, вводя в роман многие народные выражения, создавая неологизмы, обильно используя литературные цитаты и намеки («чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек» — IV, 227; «Софья Алексеевна поступила с почтмейстером точно так, как знаменитый актёр Офрень с Тераменовым рассказом...» — IV, 289) или библейские образы в неожиданно сниженном, прозаическом значении («Ситец был превосходный; на диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сара грозилась; на креслах с правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сары, а с левой — их головы» — IV, 216). Яркое впечатление оставляет неожиданное употребление слов — «сестра, оседлая и довольно богатая» (IV, 210), «саранча босых, полуголых и полусытых детей» (IV, 225), — или непривычные сравнения, например: «Лишенные верхушек своих, липы, с торчащими к небу ветвями, сбивались на колодников, которым обрили полголовы в предупреждение побега» (IV, 341).
Роман Герцена явился событием большого общественного значения. А. Григорьев недаром писал о нем, как о книге, «наделавшей чрезвычайно много шуму...».1 Роман вызвал самые противоречивые опенки на страницах журналов и в литературных кругах, и это было лучшим доказательством жизненности и политической актуальности поставленных Герценом вопросов.
Мы уже видели, что Белинский одним из первых отозвался о «Кто виноват?» как о замечательном произведении большой художественной силы. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский справедливо определил «Кто виноват?» как роман, написанный «в духе, который наиболее нравился Белинскому».2
- 448 -
В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский значительное место уделил всесторонней характеристике романа. Анализ основных образов и художественных особенностей «Кто виноват?» позволил великому критику с глубоким проникновением в сущность и своеобразие таланта Герцена-писателя определить ведущие черты и идейную направленность всего герценовского творчества. Оценки и суждения Белинского, вызванные повестями Герцена 40-х годов, оказались целиком приложимы и к его позднейшим произведениям. До наших дней страницы статей и писем Белинского, посвященные Герцену, остаются лучшими в критической литературе о писателе.
Белинский причислял Герцена к тем поэтам, для которых «важен не предмет, а смысл предмета». «Поэтому, — продолжал критик, — доступный их таланту мир жизни определяется их задушевною мыслию, их взглядом на жизнь» (XI, 112). Главную силу таланта Герцена Белинский видел в «могуществе мысли». «У Искандера, — пишет критик, — мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительною верностию сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произвести суд» (XI, 135).
Следует помнить, что «могущество мысли» в беллетристических произведениях Герцена нередко истолковывалось как слабость его художественного дарования. Так, Вал. Майков в статье о «Петербургских вершинах» Я. Буткова, опубликованной в июльской книжке «Отечественных записок» за 1846 год, рассматривал беллетристику Герцена как «средство выражения его идей в самой популярной форме, возводимой иногда наблюдательностью до художественности...». «В повестях своих, — пишет критик о Герцене, — он несравненно более поражает умом, чем художественностью».1 Это ложное представление, укоренившееся впоследствии в работах либеральных и реакционных историков литературы, ничего общего не имеет с мыслью Белинского о роли и месте передовых идей в художественном творчестве Герцена.
«Хотят видеть в искусстве, — писал Белинский, — своего рода умственный Китай, резко отделенный точными границами от всего, что не искусство в строгом смысле слова...» (XI, 111—112). Герцен был близок критику-демократу, именно тем, что его творчество было тесно связано с борьбой передового русского общества против самодержавно-крепостнического строя, социальной несправедливости, лживой морали.
Несмотря на цензурные препятствия, Белинский пытается определить характер этой высокой идейности, присущей творчеству Герцена. Он называет его «по преимуществу, поэтом гуманности» и определяет «задушевную мысль Искандера» как «мысль о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, невежеством, и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным добровольным искажением самого себя» (XI, 113).
Характеристика Белинским этой демократической направленности, «гуманности» беллетристики Герцена содержала подлинную программу общественного поведения человека. Трудно было в подцензурной статье более четко и определенно передать демократический пафос романа.
Белинский ценил в Герцене-писателе «глубокое знание изображаемой им действительности» (XI, 135) и отмечал своеобразие его реализма: «Он может изображать верно только мир, подлежащий ведомству его задушевной мысли; его мастерские очерки основаны на врожденной наблюдательности
- 449 -
и на изучении известной стороны действительности... выводимые им лица не суть чистые создания фантазии, это скорее мастерски обделанные, а иногда и вовсе переделанные материалы, целиком взятые из действительности» (XI, 119).
Это было написано в связи с «Кто виноват?» и «Доктором Круповым» и задолго до первых глав «Былого и дум».
Литературная деятельность Герцена вызвала озлобленную критику на страницах реакционной печати.
Борьба реакции с Герценом-беллетристом шла по всем линиям — от фальсификации идейного содержания романа и повестей писателя до злобных нападок на язык и стиль автора «Кто виноват?». В статьях «Сына отечества», «Москвитянина», «Северной пчелы» реакционная критика начинала создавать легенду об отсутствии художественного начала в творчестве Герцена, легенду, в основе которой лежала вражда ко всей деятельности одного из крупнейших представителей русской демократической литературы середины прошлого столетия.
Шевырев еще в 1846 году писал в «Москвитянине» в связи со статьей «Капризы и раздумье», опубликованной в «Петербургском сборнике», что мысль Герцена «зачалась в сфере чистого отвлечения» и «отреклась от жизни»,1 «от нечего делать она будет бесплодно заботиться о том, как бы перестроить домашнюю жизнь людей, как будто бы эта жизнь может вытечь из какого-нибудь отвлеченного процесса, как будто бы она может быть разрешена, как философская тема».2 Тем самым Шевырев пытался убедить читателя в незыблемости крепостнического уклада, в бессилии революционных идей поколебать устои самодержавного строя. «Насилие должно быть обезоружено и побеждено любовью страдания», «не время уж в жертве возбуждать ненависть...».3
Шевырев, таким образом, отчетливо формулировал политический смысл литературного творчества Герцена как «возбуждение ненависти». Булгарин в марте 1846 года лакейски доносил Дубельту о первых главах романа Герцена: «Тут изображен отставной русский генерал величайшим скотом, невеждою и развратником... Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девкой — образцы добродетели...».4 «Я нахожу всю повесть предосудительною», — написал на доносе Булгарина Дубельт.5
Реакционный журнал «Сын отечества» пытался «обезвредить» эти опасные и «предосудительные» «социальные идеи» романа. «Кто виноват?» якобы понравился критику журнала, но под лицемерной беспристрастностью и видимым расположением к роману и его автору в действительности чудовищно искажался идейный замысел Герцена. «Заглавие романа спрашивает: „Кто виноват?“, — пишет журнал. — Тронутый до слез читатель отвечает: одна судьба!.. Слава богу, что виноваты не люди, а судьба!». Убеждая читателя, что именно в этом состоит главная мысль романа, рецензент объявляет «лишним» все, что в какой-то мере противоречит его утверждению. Критик «не понимает» «ужасной идеи: всегда представлять быт провинциальных жителей только с грязной, низкой,
- 450 -
отвратительной стороны». «Главная идея романа, — говорит «Сын отечества», — решительно отстраняла от себя такие лица, которые имеют только право проситься в „Мертвые души“». «Если автор — пишет далее журнал, — хотел дать более простору своему роману, поместить в нем широкую картину русского житья-бытья, то надлежало бы, по главной идее романа, выводить такие лица, которые бы не были похожи на героев „Мертвых душ“». Противопоставляя Герцена Гоголю, «Сын отечества», однако, не может не считаться с явным влиянием Гоголя на роман Герцена и горько сетует по сему случаю: «...подражание Гоголю, в иных местах, есть важнейший грех книги... Из любви к изящному просим автора не подражать никому, всего менее Гоголю! Автор наш такой оригинальный, такой блистательный талант, который должен идти и развиваться своим собственным путем».1
Красочность и неповторимое своеобразие герценовского стиля казались реакционной критике «исчадием современной беллетристики». При этом критики типа Шевырева весьма откровенно признавались, чем были продиктованы их резкие оценки языка и стилевых особенностей романа. В «Очерках современной русской словесности» Шевырев писал: «Существа, которые выводит Искандер в своем романе „Кто виноват?“ из черного мира жизни, безобразны», критик «уличает» Герцена в «тайном сочувствии искусства с той низкой действительностью, которую оно изображает». «Это сочувствие выражается упадком самого же искусства, порчею во вкусе, искажением всех его благородных и прекрасных стремлений».
Шевырев обвинял «современную личность», что она «из самой себя хочет... почерпнуть всю жизнь, все содержание, все воззрение на мир, даже самый язык...». «Г. Искандер, — продолжал Шевырев, — развил свой слог до чистого голословного искандеризма, как выражения его собственной личности».2 Для пущего уличения ненавистного «исчадия» Шевырев в том же номере журнала печатает свой «Словарь солецизмов, варваризмов и всяких измов современной русской литературы», открывая его «искандеризмами». Выпад «Москвитянина» подхватывает «Северная пчела», Булгарин полностью разделяет ученое негодование собрата по поводу «217 нелепостей, безграмотностей, выражений, чуждых духу и грамматике русского языка».3
Для нового читателя герценовские неологизмы давно утратили свой необычный характер — лучшее доказательство, что они не противоречили законам языка, а, наоборот, обогащали его. Шевырев называет «искандеризмами» такие выражения и термины, как: «он унаследовал от отца удачу», «попадья была непроходимо глупа», «он занимался бессистемно», «возбужденность мысли», «распущенность», «требовательность» и т. д. Даже самого придирчивого читателя вряд ли смутят сейчас подобные «вольности» — так вошли они в наш литературный язык. И, конечно, прав был Белинский, когда на последних страницах статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал, что «придираться к таким мелочам, значит обнаруживать больше нелюбви к противнику, нежели любви к русскому языку и литературе» (XI, 149).
Конечно, реакционные домыслы продажных журналистов не могли ослабить большого общественного влияния романа Герцена. Белинский метко писал в связи с этим о Шевыреве, что тот грозит «издалека своему
- 451 -
противнику шпилькой или булавкой, когда нет возможности достать его копьем» (XI, 149).
Широкие круги русских читателей, вслед за Белинским, встретили роман Герцена с восторгом. Герцен, — писал впоследствии Н. И. Сазонов в статье, предназначенной для иностранного читателя (1860), — «стал одним из любимейших писателей молодежи».1
Огарев, который познакомился с началом «Кто виноват?» еще в дни своего приезда в Новгород (март 1824 года) и, видимо, тогда не был полностью удовлетворен им, в январе 1846 года писал Герцену: «Несколько слов о повести: ведь, я тебе говорил, что она исправима и может быть очень хороша».2 Грановский отзывался о «Кто виноват?» как о «повести, исполненной ума, живости и метких замечаний».3
Влияние «Отечественных записок» и в них — повестей Герцена, наряду с критикой Белинского, испытывал в 40-х годах молодой Салтыков-Щедрин, о чем он сам писал в своей автобиографии 1878 года.4 Упоминание о «Кто виноват?» встречается в дневнике Чернышевского в 1848 году.5 В сохранившемся в архиве Добролюбова «Реестре прочтенных книг» в записи от 4 июня 1850 года указано: «„Отеч. зап.“, 1846, т. 45. „Кто виноват“. Вл. Бельтов, эпизод между 1-й и 2-й частями — Искандера». «Эпизод очень занимательный», — добавляет при этом 74-летний Добролюбов.6
Роман, как и вся беллетристика Герцена, сохранил свою популярность и для читателей последующих десятилетий. Агент III Отделения в середине 50-х годов доносил, что, по словам книгопродавцев, «решительно нельзя найти ни одного полного экземпляра (исключая разве в одних только частных домашних библиотеках) „Отечественных записок“ и „Современника“... где помещены повести Искандера... все они вырезаны и вырваны и ходят по рукам особенными книжками».7
Имеется немало других свидетельств, показывающих широкое распространение романа Герцена в 50-х и 60-х годах, несмотря на долгое отсутствие новых изданий в России (лондонское издание романа 1859 года было доступно, разумеется, весьма ограниченным кругам русских читателей). Наиболее красноречивым свидетельством непрекращавшегося интереса к «Кто виноват?» в среде русских читателей следует считать постоянное обращение в литературно-критических статьях, публиковавшихся в журналах той поры, к образу Бельтова. Правда, оценки Бельтова в условиях сурового цензурного режима и запрета имени Герцена для печати были почти единственной легальной возможностью русской критики высказать свое суждение о творчестве Герцена, что имело особенно большое значение для революционно-демократической критики 50—60-х годов. Однако нельзя не признать показательным для дальнейшей судьбы романа это настойчивое возвращение к его главному герою, предполагавшее несомненное
- 452 -
знакомство широких кругов читателей с фактически запрещенным произведением.
Особенно остро тема Бельтова всплыла на страницах русских журналов в связи с полемикой вокруг так называемых «лишних людей», вызванной романом Гончарова «Обломов» (1859). Но еще раньше, в первой книжке «Отечественных записок» за 1857 год, в статье Дудышкина о повестях и рассказах Тургенева, делалась попытка рассматривать Бельтова как предшественника Рудина, без какого-либо намека на своеобразие и отличительные качества Бельтова в веренице «лишних людей» — намека, который, как мы видели, уже содержался в высказываниях Белинского и получил дальнейшее развитие в передовой критике второй половины XIX века.
В февральской книжке «Современника» за 1857 год в заметках о журналах Чернышевский, сравнивая Бельтова с Печориным и Онегиным, писал, отвечая Дудышкину: «Надобно ли говорить, что Бельтов совершенно не таков, что личные интересы имеют для него второстепенную важность? Но Бельтов еще не находит никакого сочувствия себе в обществе и мучится тем, что ему совершенно нет поля для деятельности».1 Чернышевский подчеркивал разницу между Рудиным и Бельтовым. Через несколько лет Писарев в статье «Пушкин и Белинский» (1865), в свою очередь, категорически будет утверждать, что «Бельтов так же далек от Онегина, как творец Бельтова далек от Пушкина». Бельтов, по мысли Писарева, изображает собою «мучительное пробуждение русского самосознания. Это люди мысли и горячей любви».2
Такое отношение к образу Бельтова особенно показательно в свете резкого осуждения, которому подвергся самый тип «лишнего человека» как воплощение русского либерала, со стороны передовой русской критики конца 50—60-х годов, прежде всего — в статье Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» и в статье Добролюбова «Что такое обломовщина?».
Рассматривая в целом Бельтова в ряду «обломовцев», Добролюбов, вслед за Белинским, впервые обратившим внимание на то, что Бельтов лучшими своими чертами отличается от Печорина, выделяет героя «Кто виноват?» в галерее «лишних людей» как «гуманнейшего между ними».3 Характеристика Бельтова как человека «с стремлениями действительно высокими и благородными», который не только не мог «проникнуться необходимостью», но даже не мог «представить... страшной, смертельной борьбы с обстоятельствами», давившими его,4 также соответствовала оценке этого образа Белинским.
Высокая оценка романа Герцена революционными «шестидесятниками» находила косвенное отражение в непрекращавшейся борьбе против «Кто виноват?» со стороны царской цензуры. В 1866 году В. Ковалевскому удалось издать роман в Петербурге («говорят, было нарасхват куплено» — писал Герцен сыну 10 февраля 1866 года; XVIII, 330), но предпринятое им в 1871 году переиздание было полностью конфисковано властями. Даже в 90-х годах цензор Коссович рассматривал «Кто виноват?» как «знамя протеста»5 и предпринимал все меры, чтобы не допустить новых изданий
- 453 -
знаменитого романа, давно признанного широкими кругами русских читателей классическим произведением русской литературы.
4
Повестями «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов» Герцен собирался принять участие в задуманном Белинским альманахе. К концу января 1846 года была закончена «Сорока-воровка» (повесть датирована 26 января), к 10 февраля Герцен завершает «Доктора Крупова».
Но замысел альманаха, в силу разных причин, вскоре отпал, и повестям было суждено долго ожидать возможности увидеть свет. Разумеется, решающим обстоятельством при этом были трудности цензурного порядка.
На основе сюжета, заимствованного из устных рассказов великого русского артиста М. С. Щепкина (выведенного в лице «известного художника»), Герцен создал в «Сороке-воровке» глубоко волнующий рассказ о полном бесправии народа в условиях помещичьего произвола, о гнусных издевательствах, которым подвергается русское крестьянство со стороны крепостников.
«Сорока-воровка» была напечатана в февральской книжке «Современника» за 1848 год. В письме к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 года Белинский сообщал, что, несмотря на цензурные изменения в повести, «мысль ярко выказывается» и «„Сорока-воровка“ имела большой успех».1
Повесть «Сорока-воровка» нередко рассматривалась исследователями в узком кругу произведений, в той или иной мере затрагивающих тему о крепостном интеллигенте, как, например, романтические повести «Художник» Тимофеева, «Именины» Н. Ф. Павлова и др. Между тем, вопрос о жизни крепостной интеллигенции для Герцена был неразрывно связан с судьбой всего крепостного крестьянства; подобно известному эпизоду из «Путешествия» Радищева (гл. «Городня») и «Дмитрию Калинину» Белинского, «Сорока-воровка» была прежде всего посвящена проблеме крепостного права в целом. Именно так оценивал ее Горький, когда говорил, что «Герцен первый в 40-х годах в своем рассказе „Сорока-воровка“ смело высказался против крепостного права».2 В потрясающей истории «крепостной актрисы — затравленной и замученной барином»,3 Горький справедливо увидел общую трагедию русского народа в условиях самодержавно-крепостнического строя.
Тот факт, что в основу «Сороки-воровки» был положен эпизод, быть может, действительно имевший место в труппе владельца крепостного театра в Орле графа С. М. Каменского, отнюдь не снижает громадной обобщающей силы повести. Развратный и жестокий крепостник под маской «просвещенного» мецената, князь Скалинский — не хуже и не лучше других представителей своего класса. На эту типичность образа помещика в «Сороке-воровке», искусно и тонко обходя цензуру, впервые обратил внимание еще Белинский. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» он отмечал, что Герцен «изображает преступления, не подлежащие ведомству законов и понимаемые большинством, как действия разумные и нравственные». «Злодеев у него мало..., — продолжал далее Белинский, — только в одной „Сороке-воровке“ выведен злодей, да и то такой, которого и теперь многие готовы счесть за самого добродетельного и нравственного
- 454 -
человека» (XI, 118). Убийственная ирония критика разоблачала лицемерные понятия дворянского сословия о добродетели и нравственности, вместе с тем она подчеркивала типическое значение образа. Князь жестоко расправляется с «великой русской актрисой», потрясающей зрителей своей игрой, — только за то, что она, крепостная раба, осмелилась на протест против надругательства над ее достоинством женщины и элементарными человеческими правами. «Я, дескать, актриса, нет, ты моя крепостная девка, а не актриса...» — кричит на нее князь (в тексте «Современника» эти слова были опущены по цензурным условиям). Он бросает на месяц в «сибирку» актера за перехваченную «записочку», оттуда несчастного Матюшку приводят на сцену — играть лордов. Видимо, в труппе князя это считается еще небольшим наказанием: «Да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, — говорит управляющий, — я тебя не так угощу: забыли о Сеньке?» (V, 197). Так раскрывается подлинное значение эпиграфа к повести о «ласковом душою хозяине»! И оказывается, с точки зрения морали «многих», князя вовсе не за что осуждать. Напротив, они, эти «многие», даже могут принимать его за образец поведения. В одной фразе Белинский с исключительной остротой показал силу обличительного пафоса повести Герцена.
Интересно сопоставить с отзывом Белинского другой печатный отзыв о «Сороке-воровке» — П. В. Анненкова из его статьи «Заметки о русской литературе прошлого года», опубликованной в № 1 «Современника» за 1849 год (без подписи автора). Анненков стремится представить повесть Герцена произведением, в котором «все резкое и угловатое» «осторожно обойдено». «С каким уважением к эстетическому чувству читателя, — пишет он, — рассказано происшествие, которое под другим пером легко могло бы оскорбить его!».1 Либерала и критика-эстета Анненкова пугает одна возможность сделать темные стороны действительности предметом художественного рассказа. Если Белинский подчеркивал революционное значение повести, то Анненков, напротив, стремился ослабить те выводы, которые при всех цензурных искажениях напрашивались читателю «Сороки-воровки». В то же время Анненков понимал, что повесть Герцена в силу ее объективного содержания никак не может быть выдана за произведение «чистого искусства». Вот почему его «похвалы» Герцену завершались резким и неожиданным, на первый взгляд, выводом: «Если во всем этом нет чистого художества, то есть художническая, так сказать, изворотливость, всего лучше доказывающая всегдашнее присутствие мысли, беспрестанно отыскивающей для себя необходимый исток».2
Повесть Герцена проникнута безграничной верой писателя в неиссякаемые творческие силы и талантливость русского народа. Много лет спустя в статье, посвященной памяти Щепкина, Герцен причислял его и Мочалова к «тем намекам на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России» (БиД, 774). Таким же «намеком», отражавшим связи демократа Герцена с народными массами России, был трагический образ крепостной актрисы.
В ее протесте Герцен еще не видит исторически действенной активной силы, горькая исповедь актрисы вызывает у рассказчика тягостное раздумие: «Бедная артистка!.. что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить весть страшную, подавляющую?
- 455 -
Иллюстрация:
«Сорока-воровка». Повесть А. И. Герцена. Первопечатный текст.
«Современник». 1848.
- 456 -
Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя...» (V, 203). Однако образ героини повести не оставляет впечатления слабости; это — гордый и мужественный характер, мятежная, бунтующая душа. Неслучайно она с таким вдохновением играет именно Анету в «Сороке-воровке»: образ Анеты на сцене дополняет характеристику самой актрисы, глубже и полнее раскрывает ее. Образ актрисы в жизни и на сцене сливается воедино, утверждая нравственную силу и красоту человека из народа.
В знаменитом письме к Гоголю Белинский указывал на необходимость пробуждения в народе «чувства человеческого достоинства».1 Повесть Герцена в одно и то же время свидетельствовала о росте народного самосознания и призывала передовые силы русского общества всеми средствами способствовать этому росту.
Важнейшим звеном в идейном содержании повести следует признать разговор о театре и русской женщине-актрисе, которым начинается «Сорока-воровка». Спор между собеседниками ведется вокруг вопроса о возможности появления в России великой актрисы, «которая бы вполне удовлетворила всем... требованиям на искусство» (V, 190), но по существу значение разговора гораздо шире. Речь идет о борьбе Герцена со взглядами западников и славянофилов на общие условия развития русской культуры и русского искусства. «Славянин» откровенно утверждает, что место славянской женщины — «дома, а не на позорище. Незамужняя — она дочь, дочь покорная, безгласная; замужем — она покорная жена. Это естественное положение женщины в семье, если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов» (V, 185—186). Космополит-«европеец» также считает, что на русской сцене не может быть актрисы, «которая была бы не хуже Марс, Рашель», но причину этого он видит в национальной ограниченности русской культуры: «...если мы и перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтоб глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как сыграет русская актриса Деву Орлеанскую?» (V, 189).
Герцен, мысли которого в разговоре выражает «молодой человек, остриженный под гребенку», спорит и с тем, и с другим, по существу одинаково отрицающими духовные богатства, стремление к независимости и сознание достоинства человеческой личности, таящиеся в русской народной жизни. Для него неприемлемы и славянофильская проповедь патриархальной покорности, и барское пренебрежение либерала-западника к русскому национальному искусству.
Тяжелые условия жизни русского народа под ярмом крепостников не дают ему возможности в полной мере выявить и развить свою внутреннюю одаренность — таков глубокий вывод, к которому подводит читателя рассказ «известного художника», ответ Герцена на поставленный в начале повести вопрос: «не без причины же это».
Среди произведений 40-х годов, посвященных вопросу о крепостном праве, — повестей и рассказов Григоровича, Тургенева и других писателей, — «Сорока-воровка» выделяется исключительной остротой и резкостью характеристики положения русского крепостного крестьянства. Герцен выступает в ней как убежденный реалист и демократ, сознательно устремляющий все художественные средства, которыми он располагает, на разрешение больших идейных задач, поставленных им в своем творчестве. Художественное своеобразие стиля Герцена получает в «Сороке-воровке»
- 457 -
яркое выражение. Герцен тесно переплетает в повести публицистику с художественным повествованием. Сочетание публицистического и художественного слова останется одним из основных положений всей эстетической системы писателя.
«Сорока-воровка» — повесть резких контрастов. На одном ее полюсе — князь со своим окружением; с первых же упоминаний об этом мире показного блеска и внутреннего ничтожества становится очевидным, что рассказчику он тяжел и неприятен. И все же художник даже не предполагает, какое насилие и произвол господствуют за кулисами крепостного театра, не догадывается об истинном лице этого аристократа, в труппу которого он собирался поступить. «Мы остались, кажется, довольны друг другом», — говорит он о первой встрече с князем (V, 192). На спектакле рассказчик случайно взглянул на князя: «...он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой! Он, верно, умел вполне ценить такую актрису, подумал я» (V, 194). Постепенно, от эпизода к эпизоду, у художника, а вместе с ним и у читателя, открываются глаза на подлинный смысл и значение событий. Он сталкивается с дикими порядками, установленными князем для своих актеров, случайно становится свидетелем расправы с крепостными артистами — «и желание идти в княжескую труппу начало остывать» (V, 197). Своего кульминационного пункта разоблачение князя достигает в рассказе актрисы, окончательно срывающем с крепостника его лживую маску. Так сложно, по многим пересекающимся линиям и направлениям, строится в небольшой повести Герцена образ князя.
Светлым, при всей трагической судьбе своей, выступает на этом фоне образ героини повести — крепостной актрисы. Читатель знакомится с ним сначала через Анету в «Сороке-воровке», потом — непосредственно, но всюду рассказ о великой русской актрисе ведется Герценом в взволнованных, несколько торжественных тонах. Портрет ее в передаче художника (см. V, 198—199) исключительно выразителен; действительно, как говорит рассказчик: «К этим чертам, к этому лицу прибавлять много не было нужды: несколько собственных имен, несколько случайностей, чисел; остальное было высказано очень ясно» (V, 198). Впечатлениями художника от ее игры в спектакле и этим портретом читатель подготовлен к трагической исповеди актрисы; «скажу вам откровенно, — признается художник, — я бы мог вам рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого ни слова... Я ее знаю» (V, 199). Может показаться, что Герцен при такой композиции образа ослаблял значение самого рассказа героини, но в действительности именно теперь этот рассказ ожидается с наибольшим напряжением. История актрисы должна была оправдать тот образ, который уже сложился у читателя, — и Герцен блестяще решает эту задачу. Рассказ актрисы, служивший, как было отмечено, важнейшим звеном в характеристике князя, стал идейным средоточием всей повести; неудивительно, что именно эти страницы «Сороки-воровки» подверглись особенно значительным цензурным искажениям.
Рассказ актрисы глубоко эмоционален. Романтическая взволнованность отразилась в самом строе ее речи: «Итак, все кончено — и талант, и жизнь... прощай, искусство, прощайте, увлечения на сцене!» (V, 202). Всего на нескольких страницах Герцен раскрывает мучительную драму женщины и большого таланта — жертвы крепостнического строя.
«Сорока-воровка» — повесть большого социального значения, свидетельство пристального изучения писателем-революционером русской
- 458 -
действительности, выдающееся произведение критического реализма в русской классической литературе.
Две недели отделяют «Сороку-воровку» от другой повести Герцена — записок доктора Крупова, создателя оригинальной теории о «родовом безумии человечества» («Современник», 1847, кн. IX).
«Доктор Крупов» — яркое сатирическое произведение Герцена. Старый врач-материалист, Семен Иванович Крупов был знаком читателям еще по роману «Кто виноват?». Но в главах первой части романа, написанных раньше «Доктора Крупова», и в их продолжении образ Крупова был выдержан преимущественно в бытовом плане. Скептицизм Крупова в романе не принимает формы законченного теоретического обобщения. Напротив, записки старого доктора почти полностью посвящены его теории; исключение составляют лишь страницы, отведенные воспоминаниям о детских годах, но и они непосредственно примыкают к основному содержанию повести — изложению концепции Крупова. При этом образ Крупова отнюдь не стал отвлеченным выражением определенных взглядов автора, сохранив в полной мере свою яркую реалистическую убедительность.
Из многолетнего опыта своей лечебной практики в маленьком провинциальном городке, из наблюдений над жизнью окружавших его людей и над историей человеческого общества Крупов делает заключение, что человечество больно безумием, и его история — это «автобиография сумасшедшего».
Крупов последовательно показывает признаки «безумия» в жизни различных социальных слоев — чиновников, помещиков и др. На «повреждении» основаны отношения людей между собой, их семейный быт, свойственное им чинопочитание, принимавшее, как у помещика-скряги, патологические формы, и т. п.
Герцен прозрачно намекает, что истоки «повального безумия» людей лежат в самом социальном строе, в общественном неравенстве людей. По словам Горького, Герцен в «Докторе Крупове» «едко обрисовал крепостное право».1
Примеры тяжкой душевной болезни Крупов в большом количестве находит в истории человеческого общества, начиная с древнего мира: «...везде вас поразит, что вместо действительных интересов, всем заправляют мнимые, фантастические интересы...» (V, 104). Он склонен отрицать закономерный и прогрессивный характер развития общества. Крупов призывает не выставлять «после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий». В то же время памфлет Герцена решительно разоблачал реакционную фальсификацию исторического процесса, служившую обоснованием «разумности» буржуазного общества. Сатира Герцена повертывается также и против капиталистического строя на Западе: буржуазная Европа обнаруживает «очень удовлетворительные симптомы» «безумия» — «и в ирландском вопросе, и в вопросе о пауперизме, и во многих других» (V, 105).
Эти строки отсутствовали в тексте «Современника»; по всей вероятности, они были дописаны Герценом на основе собственных впечатлений от жизни Западной Европы при переиздании повести в 1854 году (сб. «Прерванные рассказы»).
Постепенно Крупов убеждается, что так называемые «сумасшедшие» — быть может, самые нормальные люди в этом больном мире: они, «в сущности,
- 459 -
и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже можно сказать — гениальнее тех» (V, 93—94). Люди, например, считают полоумным Пономарева сына Левку, но Крупов рассказывает, сколько обаяния и непосредственности чувства было в этом больном деревенском мальчике, каким преданным и самоотверженным выступает он в дружбе, как трогательно любит природу.
Рядом сопоставлений Крупов доказывает, что «все остальные — юродивые, только на свой лад, и сердятся, что Левка глуп по-своему, а не по их» (V, 88). Говорят, например, «зачем Левка не работает?», но «все остальные на селе работают без всякой пользы, работают целый день, чтобы съесть кусок черствого хлеба, а хлеб едят для того, чтобы завтра работать, в твердой уверенности, что все выработанное не их. Здешний помещик Федор Григорьевич один ничего не делает, а пользы получает больше всех... Жизнь его, сколько я знаю, проходит в большей пустоте, нежели жизнь Левки...» (V, 88).
Крайне важно заметить, что среди «повально поврежденных» у Герцена почти отсутствуют крепостные крестьяне, хотя «болезнь» оказывает свое разлагающее влияние на людей из простого народа, вроде кухарки Матрены, и даже на детей. Народ выступает в повести жертвой этого всеобщего безумия, и именно в его среде зреет протест против несправедливого устройства жизни. В одном из эпизодов повести Герцен глухо намекает, что народ не всегда покорно терпит угнетение. Один помещик, например, почему-то предпочитает жить в городе: «...не служит, процессов не имеет, деревня в 50-ти верстах, а живет в городе. Были, правда, слухи, — рассказывает далее Крупов, — что один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил: он так испугался его взгляда, что очень ласково отпустил мужика, а сам на другой день перебрался в город» (V, 102).
Однако в крестьянском движении Герцен в 40-х годах еще не видел «средства лечения» крепостнических порядков. Крупов называет другие меры: «Во-первых, — истина, во-вторых, — точка зрения, в-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только» (V, 107).
Разумеется, именно цензурные условия принуждали Герцена быть предельно кратким и осторожным в этом вопросе. Но несомненно горячее убеждение писателя, что человечество неизбежно пойдет по пути прогресса, что рано или поздно передовое общественное движение (т. е. «истина», «точка зрения») как в России, так и на Западе «исцелит» этот мир насилия и несправедливости. Некоторые стороны мировоззрения Герцена безусловно отразились в пессимизме и скептических парадоксах Крупова, но Герцен шел дальше своего героя и никогда не терял веры в светлое будущее народа.
Художественный строй повести разнообразен. В нем сочетаются сатира и мягкий, задушевный юмор, публицистичность и тонкий лиризм. Зрелость художественного мастерства Герцена проявилась в композиции «Доктора Крупова», при которой философская теория Крупова заключала его наблюдения над действительностью. Творческой удачей Герцена был образ Левки, с характеристики которого начинается повесть. Замысел Герцена был необычен — показать человеческие качества в их естественном развитии на примере больного, умственно отсталого мальчика. Несмотря на гротесковый характер самого противопоставления Левки «повальному» безумию, писатель создал по-настоящему привлекательный, жизненно правдивый образ.
- 460 -
Картины провинциального быта ярко характеризуют ту реальную основу, на которой возникает система взглядов Крупова. Чем более утверждается Крупов в своем убеждении, тем резче и сатиричнее становятся его зарисовки, тем беспощаднее его выводы. Лирическая струя в повести, связанная с Левкой и детскими впечатлениями, исчезает, сменяясь нарастающим протестом против уродливых общественных отношений. Последние страницы повести — это боевой публицистический памфлет, художественно подготовленный всем развитием действия.
Глубокий и проникновенный психологический анализ, философские обобщения и социальная заостренность повести делают ее подлинным шедевром герценовского художественного творчества. Белинский при первом же знакомстве с повестью отозвался о ней как о «превосходной вещи»,1 а в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал о «превосходном рассказе» Искандера: «В нем автор ни одною чертою, ни одним словом не вышел из сферы своего таланта, и оттого здесь его талант в большей определенности, нежели в других его сочинениях. Мысль его та же, но она приняла здесь исключительно тон иронии, для одних очень веселой и забавной, для других грустной и мучительной, и только в изображении косого Лёвки — фигуры, которая бы сделала честь любому художнику, — автор говорит серьёзно. По мысли и по выполнению, это решительно лучшее произведение прошлого года...» (XI, 119).
Образ Крупова впоследствии неоднократно вспоминался Герценом. Широкая популярность повести позволяла ему одним упоминанием своего героя зло высмеивать политических противников «Колокола». В статье, посвященной выступлению графа Панина, одного из руководителей подготовки крестьянской реформы, Герцен, например, писал: «...хороши и мы, — забыли нашего старика Крупова. Какого же смысла доискиваемся в словах больного... О, Крупов, прими его, возьми его, облей его холодной водой... еще... еще и еще немного!» (X, 289). Недаром реакционные круги спустя много лет причисляли повесть Герцена к числу его наиболее революционных выступлений в 40-х годах. В гнусной «Заметке для издателя» «Колокола», открывшей озлобленный поход реакции против Герцена, Катков писал: «он остался все тот же, каким был, когда с доктором Круповым исправлял мозги человечества».2
Своеобразным развитием «психиатрической теории д-ра Крупова» явилось одно из последних произведений Герцена — «Aphorismata», опубликованное в «Полярной звезде» на 1869 год (кн. VIII). «Сочинение прозектора и адъюнкт-профессора Тита Левиафанского» ставило своей целью теорией Крупова оправдать основанный на «повальном безумии» общественный строй. Блестяще пародируя тяжелую семинарско-претенциозную речь церковных «философов», Герцен заставляет Левиафанского полемизировать со своим учителем. Как Крупов мог усомниться «в... вечной необходимости <безумия> для истории и прогресса?». «Без хронического, родового помешательства прекратилась бы всякая государственная деятельность..., с излечением от него остановилась бы история» (XXI, 221). Оно есть незыблемый закон жизни: «...все зовет к безумию, все жило и живет им», — провозглашает Левиафанский (XXI, 223). В безумии он видит основу общественной жизни, единственно возможное объяснение ее законов. Памфлет Герцена тем самым разоблачал социальные
- 461 -
отношения, основанные на несправедливости и насилии. Призывая круповскую теорию безумия на службу господствующему строю, «афоризмы» Левиафанского еще более усиливали остроту этой сатиры Герцена.
Повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов» стали известны русскому читателю, когда Герцен уже находился за границей. Революционный патриотизм великого русского писателя и демократа привел его к необходимости покинуть Россию и в эмиграции продолжать борьбу за свободу родного народа.
5
Новый период литературной деятельности Герцена открыли собой «Письма из Avenue Marigny» (так называлась улица, на которой Герцен жил в Париже), содержавшие, по его словам, «врасплох остановленные и наскоро закрепленные впечатления» (V, 109) от жизни Парижа эпохи июльской монархии.
Несмотря на иронический и шутливый фельетонный тон большей части «Писем из Avenue Marigny», основой их является идейно-целеустремленное и воплощенное в живых и остроумных зарисовках общественного быта и нравов противопоставление буржуазного Парижа — Парижу трудящихся. Именно французские «работники», а вовсе не буржуа, походят, по словам Герцена, на «порядочных людей», они отличаются чувством собственного достоинства. Им Герцен противопоставляет «буржуа, проприетера, лавочника, рантье» — «Париж, за ценз стоящий» (V, 131). Буржуа «выдумали себе нравственность, основанную на арифметике, на силе денег, на любви к порядку» (V, 134). Оборотной стороной этой буржуазной нравственности являются «развратик втихомолку», «сальные намеки», «пристрастие к двусмысленностям и непристойностям» в искусстве, в частности в театре (V, 136).
Со страниц «Писем...» встает облик морально растленной, безидейной французской буржуазии, которая «смеется над самоотвержением; приносили людей на жертву идеям, — буржуазия принесла идеи на жертву себе» (V, 167).
Герцен дает злую характеристику эксплуататорской сущности буржуазного строя, формального буржуазного «равенства». Буржуазная политическая экономия, восхваляющая капиталистический порядок, «совершенно последовательно говорила неимущему: „не женись, не имей детей, поезжай в Америку, работай 12 часов или умирай с голоду!“, прибавляя к этим советам поэтическую сентенцию, что не все приглашены жизнью на ее пир, и бесчеловечную иронию..., что „нищий пользуется теми же гражданскими правами, как Ротшильд“» (V, 165).
Герцен выразительными образами иллюстрирует историческую эволюцию буржуазии, превращение «хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цырюльника и дворецкого» Фигаро, который был «вне закона» до революции, в «Фигаро-законодателя» июльской монархии. Фигаро теперь «обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством» (V, 132).
Театр июльской монархии представляет собою, по словам Герцена, «зрелище двадцати зал, в которых набились битком люди с шести часов вечера для того, чтоб до двенадцати восхищаться глупыми пьесами, сальными фарсами, и это всякий вечер» (V, 136).
- 462 -
Герцен глубоко чувствовал силу и обаяние передовой французской культуры, ее лучших национальных традиций.
Герцен любил смех Вольтера, его волновал плебейский протест Жан-Жака Руссо и привлекали вольные песни Беранже. В «Письмах из Avenue Marigny» замечательные страницы посвящены творчеству Расина, которое Герцен определяет как особый художественный мир, имеющий «свои пределы, свою ограниченность, но имеющий и свою силу, свою энергию и высокое изящество» (V, 150). Силу и обаяние образов Расина на сцене «Французской комедии» Герцен связывает с ясным, проникнутым изяществом, величавым пафосом французской культуры XVII—XVIII веков.
В столь ценимой им передовой французской художественной культуре Герцен видит выражение лучших традиций и стремлений народа Франции. Именно «работник», парижский пролетарий воплощает в себе, по убеждению Герцена, лучшие черты национального характера и революционные традиции Франции. Народ ненавидит и презирает буржуазию, которая предпочитает на сцене и разыгрывает в жизни «пошлые и тяжелые фарсы» (V, 154). «Самая... непростительная сторона в буржуазии, это — ее полное сознание; она очень хорошо знает, что уронила Францию в глазах Европы, в глазах народа» (V, 168).
«Письма из Avenue Marigny» сыграли большую положительную роль в русской общественной жизни и литературе.
Сквозь многообразие беглых, но красочных и живых зарисовок парижской жизни, в которых сказывались как острота мысли, так и художественная чуткость и мастерство, проступал образ автора «Писем...» в напряженности, богатстве и целеустремленности его духовной жизни.
Перед читателями вставал русский передовой человек, вглядывающийся в жизнь страны, в которой, по его выражению, «все худое и хорошее, что делается здесь, точно делается на сцене, а в партере сидит все человечество» (V, 162).
Этот человек не растерялся перед богатством и увлекательностью открывавшегося перед ним зрелища, не разменялся на мелочи. За его оценками чувствуется смелость и гибкость русского ума, обнаруживается высокая требовательность, критическая проницательность, свойственные передовой русской мысли.
«Письма из Avenue Marigny» вызвали острую реакцию. Они подействовали, как лакмусовая бумажка, — способствовали усилению размежевания буржуазно-дворянского либерализма, с одной стороны, и революционного демократизма, — с другой. Наиболее откровенными выразителями либерально-буржуазных настроений явились В. П. Боткин и «Отечественные записки» Краевского. Боткин писал Анненкову: «Вы меня браните за то, что я защищал bourgeoisie; но ради бога, как же не защищать ее, когда наши друзья со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, губительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в человечестве?».1 Далее Боткин полемизирует с Герценом, не соглашаясь с его характеристикой «развратного влияния буржуазии на сцену» и «лицемерства французского общества». Боткин, с его прекраснодушием и философическим фразерством, был типичным и ограниченным буржуазным западником; экономические и моральные устои буржуазного общества были в его представлении незыблемыми.
- 463 -
Белинский же был, конечно, на стороне Герцена. Он свидетельствовал: «Эти письма, особенно последнее, писались при мне, на моих глазах, вследствие тех ежедневных впечатлений, от которых краснели и потупляли голову честные французы, да и мошенники-то мигали не без замешательства».1
Примечательны художественные особенности «Писем...». Впервые Герцен получил здесь возможность широко использовать форму писем-фельетонов, которая, начиная с этого момента, станет одним из его излюбленных литературных жанров.
Форма эта в высшей степени отвечала тяготению Герцена к свободному, не стесненному какими-либо строгими рамками изложению и языку. Впоследствии Герцен скажет, что для «всякой всячины... форма письма самая широкая, она свободна, как женская блуза: нигде не шнурует и нигде не жмет» (XVII, 75). При этом «Письма...» проникнуты напряженной, ищущей мыслью. Сам Герцен называл свою переписку «какой-то движущейся, раскрытой исповедью» (X, 32). Такой «исповедью» были не только его личные, интимные письма, но и его публицистические, очерковые выступления, фельетоны-«письма».
Итальянские впечатления Герцена 1847—1848 годов получили отражение в «Письмах с Via del Corso». Письма эти чрезвычайно живо передают поэтическую атмосферу итальянского национально-освободительного движения, которая так увлекла Герцена. Зарисовки политических событий, народных сцен, ярких и характерных фигур, выдвинутых этим движением, сменяют в письмах друг друга, сопровождаемые оживленным комментарием автора, окрашенным в светлые, а порой и торжественные тона.
Однако эти торжественность, энтузиазм, красочность, свойственные народным движениям в Италии, во многом заслонили от Герцена важнейшие социально-экономические особенности страны.
Если «Письма из Avenue Marigny» являются наиболее ярким отражением настроений Герцена в период до июньских событий 1848 года, то его знаменитая книга «С того берега» представляет собою хотя скорбную и мрачную, но мощную и обладающую большим и значительным идейным содержанием картину той духовной драмы, которую он пережил после этих событий.
Читая «С того берега», следует помнить характеристику, которую сам Герцен дал этой своей книге. В одном из писем 1850 года он говорит о ней: «...элемент лирический, так сказать, и совершенно субъективный преобладает в ней..., в ней чувствуются бешенство и слезы за сомнением...».2
Действительно, нельзя получить правильного представления об этой книге Герцена, если не иметь в виду ее своеобразного «лирического» характера. Поражение революции привело Герцена к «духовному краху», по определению В. И. Ленина. «С того берега» отражает сознание автора, потрясенное этими событиями, во всех тех противоречиях и сомнениях, которые, мучили тогда его. В этой книге перед нами встает человек, откровенно и беспощадно открывающий читателю всю свою душу, свою духовную жизнь, искания своей мысли.
«С того берега» — искренняя, страстная идейная исповедь одного из самых сильных и передовых умов эпохи революции 1848 года.
- 464 -
«С того берега» — вместе с тем беспощадный пламенный памфлет против буржуазного порядка с его эксплуатацией человека человеком, против буржуазной реакции, обагренной кровью народа, против сладкоголосого и лицемерного либерализма, защищающего и идеализирующего буржуазный строй.
«С того берега» — это призыв к «отваге знания», к смелому и трезвому взгляду на действительность, к разоблачению разного рода иллюзий, мешающих такому взгляду. Безнадежно пытаться отыскать в этой книге какую-либо стройную и строгую систему взглядов. Вырывая и тенденциозно подбирая отдельные высказывания Герцена, нетрудно использовать их для ошибочной, односторонней характеристики его взглядов. По этому пути и пошли некоторые реакционные литераторы, тщетно пытавшиеся именно на основе книги «С того берега» изобразить Герцена противником революции и социализма. В. И. Ленин писал о рыцарях «либерального российского языкоблудия, которые прикрывают теперь свою контрреволюционность цветистыми фразами о скептицизме Герцена».1 Разумеется, особенно недопустимо отождествлять со взглядами Герцена пессимистические высказывания, вложенные в уста тому или иному участнику диалогов, в форме которых написаны три главы «С того берега». Сложность и внутренняя противоречивость этой книги не должны скрыть от нас побеждающую в ней и ведущую вперед тенденцию идейного развития Герцена.
Книга «С того берега» проникнута страстным, полным презрения и гнева отрицанием буржуазного порядка. Герцен здесь приходит к выводу: «Государственные формы Франции и других европейских держав не совместны, по внутреннему своему понятию, ни с свободой, ни с равенством, ни с братством, всякое осуществление этих идей будет отрицанием современной европейской жизни, ее смертью» (V, 422—423).
Сатирическим резюме наблюдений Герцена над буржуазным обществом Европы и Америки звучит здесь его знаменитое суждение: «...каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменения одного и того же людоедства» (V, 424). Герцен изобличает контрреволюционных либералов, идеологов и защитников буржуазного строя, палачей июньских повстанцев.
Книга «С того берега» впервые вышла в немецком переводе, сделанном под диктовку Герцена, повидимому, в самом начале 1850 года. По опубликованным до настоящего времени материалам представляется затруднительным установить точную дату выхода книги. Это первое издание имело иной вид, чем последующее второе (первое русское) издание 1855 года, в основном повторенное в позднейших переизданиях. С одной стороны, в первое издание были включены две статьи о России, впоследствии изъятые из книги. С другой — это первое издание не содержало тех статей Герцена, которые появились позднее в журналах и затем вошли в последующие издания книги «С того берега» в качестве глав: «Эпилог 1849», «Доносо-Кортес...», «Omnia mea mecum porto» («Всё мое ношу с собой»).
Первое издание «С того берега» имело остро злободневное значение. Герцен рассматривал здесь вопрос о том, какие уроки международная демократическая интеллигенция и русские передовые люди должны извлечь из поражения революции 1848 года. Это издание книги было, в основном, обращено к западноевропейскому читателю и представляло собой непосредственный отклик на недавние революционные события. Книга вышла
- 465 -
анонимно, — Герцен, в это время уже вызывавший к себе пристальный интерес в кругу проживавшей в Париже эмигрантской демократической интеллигенции, не обладал, однако, еще широкой известностью в Западной Европе. В первом издании своей книги Герцен не столько решает те или иные вопросы, сколько с подчеркнутой и даже вызывающей остротой ставит их. Герцен сам оттенил такую свою задачу, объединив диалогические главы «С того берега» в особый раздел книги под общим заглавием «Кто прав?», предпослав этому отделу многозначительный эпиграф из Гёте. В этом эпиграфе Герцен намекнул на критическое отношение автора к безысходному пессимизму некоторых участников диалогов:
Иль думал ты,
Что я возненавижу жизнь,
Бегу в пустыню потому,
Что сны цветущие не все
Созрели в яви?К тому же в первое издание «С того берега» Герцен включил две статьи о России, где он, как русский человек, говорил о родном народе, столь плохо известном тогда западноевропейскому читателю, высказывал свое патриотическое убеждение в его великом всемирноисторическом будущем, впервые развивал свои народнические взгляды и видел в борьбе с самодержавием основную задачу передовой русской интеллигенции.
Таким образом, и первое издание «С того берега» отнюдь не приводило к безнадежно-скептическим выводам. В этой книге, так же как и в примыкающих к ней по проблематике и идейной направленности последних «Письмах из Франции и Италии», прежде всего выражено разочарование Герцена в буржуазной революции, в революционности буржуазной Демократии, в идеях буржуазного и мелкобуржуазного социализма.
Герцен сам еще в 1850 году разъяснял, как нужно понимать «С того берега» и какие выводы следует из этой книги и, в частности, из статьи «Omnia mea mecum porto» сделать.
В письме к Маццини от 13 сентября 1850 года Герцен говорит, ссылаясь, в частности, на эту последнюю статью: «То, что я требую, что я проповедую, это — полный разрыв с неполными революционерами: от них на двести шагов несет реакциею. Нагромоздив целый ряд ошибок, они еще стараются оправдать их, и это — лучшее доказательство, что они их снова повторят» (VI, 143). В писаниях буржуазных демократов он находит «ужасающую пустоту» (VI, 143).
Герцен возражает против попыток истолковать его выступления как проповедь пассивности: «Не думайте, что с моей стороны это — предлог отказа от дела. Я не сижу сложа руки, у меня еще слишком много крови в жилах и энергии в сердце, чтобы мне нравилась роль пассивного зрителя. С 13-ти лет и до 38-ми я служил одной и той же идее, имел одно только знамя: война против всякой установленной власти, против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности» (VI, 144).
Разумеется, такой автокомментарий не позволяет забыть о том, что в герценовской книге отразилась его духовная драма, его духовный крах, неумение увидеть в Европе те социальные силы, которым принадлежало будущее. Однако столь же несомненно, что уже тогда пессимизм и скептицизм Герцена были пронизаны стремлением найти правильные пути революционной мысли и борьбы.
В данной связи значительный интерес представляет обращение Герцена к образам римских философов первых веков нашей эры.
- 466 -
Еще в «Письмах об изучении природы» Герцен касался исторической роли этих мыслителей. Он упоминал здесь о том, «какие страшные слова вырываются иногда у Плиния, у Лукана, у Сенеки... Какая усталь пала на душу людей этих, какое отчаяние придавило их!» (IV, 104).
Эта характеристика была связана с встречающейся у Герцена еще в 30-х годах аналогией между двумя историческими моментами, которые он считал переломными и эпохиальными.
Герцен имеет в виду разложение Рима и появление христианства в первые века н. э. и разложение буржуазного общества и рост социалистических учений в 30—40-е годы XIX века.
Но если в годы работы над «Письмами об изучении природы» Герцен ожидал скорого и легкого торжества социализма, то в книге «С того берега» отразилось крушение этих надежд. Поэтому существенным образом и меняется отношение его к тем римским философам начала н. э., пессимизм которых Герцен резко осудил в «Письмах». В заключении главы «Consolatio» Герцен подчеркивает проницательность их пессимизма — «они не испугались истины» (V, 468).
Эти слова вложены здесь в уста скептику-доктору. Однако из письма Огареву от 10 июня 1849 года видно, что характеристика эта выражает и собственную точку зрения Герцена.
Но, в отличие от доктора-скептика, Герцену, как показывает вышецитированное письмо к Маццини, чужд вывод о том, что в данных исторических условиях пассивность в общественных делах неизбежна.
Включение же самой пессимистической главы «С того берега» — «Omnia mea mecum porto» — в лондонское издание «С того берега» (1855), а также помещение здесь глав-диалогов без объединявшего их ранее заголовка «Кто прав?», отнюдь, разумеется, не означало какого-либо поворота Герцена к беспросветному пессимизму. Теперь духовная драма, пережитая Герценом в 1848—1851 годах, в значительной степени для него отошла уже в прошлое. Книга появилась за подписью Искандера как произведение русского революционера-эмигранта, создававшего вольную русскую печать и боровшегося с царизмом. Свою книгу Герцен рассматривал теперь как «памятник борьбы», как призыв остаться на «том берегу» — берегу революции, и сохранить «отвагу знания» (из посвящения сыну, датированного 1855 годом).
Чтобы создать такую книгу, как «С того берега», нужно было быть и великим мыслителем и великим художником. В этом произведении нет сюжетного, фабульного развертывания действия в том смысле, в каком эти понятия обычно применяются в отношении беллетристики, но «С того берега» обладает и внутренним драматизмом и художественным единством.
Все главы книги, одни из которых могут быть названы очерками и памфлетами, другие — исповедью и призывами, третьи — диалогами, объединены, если употребить выражение Герцена, изображением его «логического романа». Герцен спрашивает в очерке «После грозы:» «Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования и как она захватывала потом более и более и дотрагивалась до святейших достояний души?» (V, 414—415).
Подлинный герой «С того берега» — мысль Герцена, и драматизм книги определяется исканиями этой мысли, ее «романом» с истиной. Высказывая в книге те или иные идеи, Герцен дает их в неразрывном единстве с лирическим повествованием о своих духовных исканиях, с художественным изображением их психологического воздействия, вызванных
- 467 -
ими эмоций, ассоциаций, воспоминаний, в тесной связи с важнейшими историческими событиями.
В книге «С того берега», особенно в таких главах, как «После грозы» и «Эпилог 1849», рельефно выступает сложное сочетание художественных и публицистических элементов, столь характерное для герценовского стиля. Неразрывная органическая связь мыслителя и художника проявляется здесь именно в том, что действительность в равной степени служит автору отправной точкой и для художественного творчества и для теоретических обобщений.
Зарисовки июньских дней Герцен дает как художник, в конкретных индивидуализированных образах, и вместе с тем исторический опыт этих событий он анализирует и обобщает как публицист.
Самые искания своей мысли Герцен делает предметом художественного лирического рассказа, органически соединяя его с прямыми философскими отступлениями.
Книга Герцена произвела огромное впечатление как в России, так и в Западной Европе и сыграла значительную роль в идейной жизни и борьбе эпохи.
В России списки глав «С того берега» (Герцен посылал московским друзьям копии глав русского оригинала, сделанные близкими к нему людьми) ходили по рукам. В письме к С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 года А. Н. Плещеев отмечал: «Рукописная литература в Москве в большом ходу. Теперь все восхищаются письмом Белинского к Гоголю, пьеской Искандера „Перед грозой“...».1
В кругах русской передовой интеллигенции она была воспринята прежде всего как полное истинного драматизма и проникнутое скорбной, пессимистической, но выстраданной мыслью отражение событий всемирноисторического значения, политического опыта Европы. В письме к Тургеневу 12 сентября 1848 года Некрасов говорил: «Я плакал, читая „После грозы“ — это чертовски хватает за душу».2
В отзывах Т. Н. Грановского (1851)3 и Н. И. Сазонова (1860)4 чувствовалось и опасение, что книга может быть воспринята как скептический призыв к общественной пассивности и вместе с тем признание того, что горькое разочарование Герцена в утопических иллюзиях и надеждах внутренне оправдано и оказывается не бесплодным как для самого автора, так и для развития передовой мысли.
«С того берега», как произведение непреходящего духовного и художественного значения, чрезвычайно высоко ценил Л. Н. Толстой. В своем дневнике он записал 12 октября 1905 года: «Читал... Герцена „С того берега“ и тоже восхищался... Следовало бы написать о нем — чтобы люди нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их».5
Однако, как свидетельствует письмо Толстого к В. В. Стасову от 18 октября 1905 года, его восхищение «С того берега» объяснялось и тем, что он в этой книге нашел созвучное собственным настроениям отрицание
- 468 -
целесообразности кровавой революционной борьбы. Герцен же, преодолевая в дальнейшем такого рода воззрения, вызванные поражением революции 1848 года, июньскими днями, шел к пониманию неизбежности и необходимости революционного насилия.
Следует иметь в виду (на что указал М. Горький), что «прославление человеческой личности», столь характерное для «С того берега», приобретало в обстановке самодержавно-крепостнической России значение протеста против политического гнета. В книге Герцена Горький видел прекрасно разработанное учение «о ценности личности — в стране рабов это учение необходимо должно было явиться...».1
Что касается реакционных кругов, то их представителями были сделаны попытки использовать книгу Герцена как доказательство гибельных результатов атеизма (Н. В. Елагин. «Голос на клик: „С того берега“» в анонимно изданном в Берлине в 1859 году памфлете «Искандер-Герцен»). Прикрываясь лицемерными уверениями в «высочайшем уважении» к Герцену, Н. Страхов в 1870 году стремился доказать, что «С того берега» является полным отречением от идей революции и социализма.
Произведение Герцена имело шумный успех среди демократической интеллигенции Западной Европы, в особенности Германии. В 1872 году в либеральном журнале «Neue Zeit» отмечалось, что «знаменитая книга „С того берега“... произвела в Германии глубокое впечатление». Непосредственное и восторженное чувство, вызванное книгой Герцена, получило отражение в мемуарах М. Мейзенбуг («Воспоминания идеалистки», ч. II, гл. III).
О том, что книга «С того берега» вызвала «отзывы, больше нежели лестные», таких виднейших в то время представителей радикальных и республиканских кругов, как Фребель и Якоби, писал сам Герцен в предисловии к книге. С другой стороны, за свой пессимизм она подвергалась дружеской критике как в некоторых органах демократической печати, так и в письмах к автору. Однако ни сторонники, ни противники книги из лагеря буржуазной демократии не могли уяснить себе ее истинного значения. Правильно вскрыть слабые стороны «С того берега» можно было лишь с позиций научного социализма.
6
Герцен уезжал из России в расцвете своей славы писателя-беллетриста. Только что вышедший полным изданием роман «Кто виноват?» и еще не опубликованные, но получившие широкую известность в литературных кругах повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов» выдвинули его в число выдающихся русских писателей 40-х годов.
Повесть «Долг прежде всего» (1847—1851), написанная и изданная за границей (сб. «Прерванные рассказы», 1854), примыкает к беллетристическим произведениям Герцена 40-х годов, опубликованным в России. Картины разложения помещичьего быта, морального оскудения русского дворянства, жизнь крепостного крестьянства, забитого и бесправного, нашли свое яркое отражение и в этом произведении.
Пять глав повести, законченных Герценом, содержат историю феодально-крепостнического рода Столыгиных, начиная с середины XVIII века. Они должны были служить своеобразным вступлением к рассказу о центральном персонаже повести — Анатоле. В хронике помещичьего
- 469 -
рода Столыпиных Герцен стремился раскрыть условия, под влиянием которых формировался его герой, — подобно тому, как в романе «Кто виноват?» содержались тщательно выписанные биографические очерки для характеристики действующих лиц романа.
Иллюстрация:
«Прерванные рассказы» А. И. Герцена.
Обложка первого издания. 1854.Перед читателем проходит вереница страшных, отталкивающих образов помещиков-крепостников различных поколений рода Столыгиных. Со времени Радищева русская литература редко давала такое гневное и страстное обличение дикого произвола, разврата и морального падения усадебных самодуров, какое заполняет страницы повести Герцена.
Картины деревенской жизни Льва Степановича Столыгина принадлежат к лучшим страницам повести. В ярких, красочных эпизодах, характеристиках, намеках Герцен обнажает звериный быт помещичьей усадьбы, основанный на страхе перед сильным и жестоких расправах над слабым. Жизнь в Липовке пуста, бессмысленна, обречена на застой и вырождение.
Заметим, что характеристика усадебной жизни Столыгиных в какой-то мере повторяла обличение Малинова и малиновцев в «Записках одного молодого человека», однако если в ранней повести Герцена затхлый, застойный быт русской провинции не связывался писателем непосредственно с крепостным правом, то повесть «Долг прежде всего» посвящена главным образом разоблачению крепостничества как той почвы, на которой произрастали все уродства «темного царства» русской действительности. Лев Степанович — это, прежде всего, владелец двух с половиной тысяч душ, здесь — источник его власти и силы, но в то же время именно неограниченный произвол крепостника приводит Столыгина к утрате человеческого облика.
У «дядюшки Льва Степановича» был «нежный братец», Степушка, другой достойный представитель рода Столыгиных. Степан Степанович избрал себе путь «буколико-эротического помещика» и до кончины своей был верен ему. О его веселой сельской жизни было известно по всей округе.
Затем в повести появляется новый Столыгин — Михаил Степанович.
Смерть Льва Степановича делает молодого Столыгина обладателем Липовки. Новый помещик вскоре заставляет крестьян пожалеть о смерти своего барина. «Что-то страшно угрюмое было в его существовании. Он ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не делал, был скуп до отвратительности и скрытно, прозаически, дешево развратен» (VII, 442). При всей своей скупости он имением серьезно не занимался, но дворню свою
- 470 -
страшно теснил, «распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, брал во двор, обременял совершенно ненужными работами» (VII, 442). Эгоизм и деспотический, необузданный характер Столыгина делают невыносимой жизнь его жены и сына — героя задуманной Герценом повести Анатоля, судьбе которого должно было быть посвящено дальнейшее повествование.
С застойной жизнью родовых помещичьих гнезд, показывает Герцен, несовместимо никакое движение, развитие. Светлые лучи проникают в это звериное логово только со стороны. Сильным и мужественным Герцен рисует образ Марьи Валериановны, жены Михаила Степановича. Борьба за сына с разлагающим влиянием самодура-отца меняет ее. «Марья Валериановна, до тех пор кроткая и самоотверженная, явилась женщиной с характером и с волей непреклонной. Она не только решилась защитить ребенка от очевидной порчи, но, уважая в себе его мать, она сама стала на другую ногу» (VII, 448). Именно ее сын, Анатоль, призван был пойти против семейных традиций.
Обширным введением к основному содержанию повести — своего рода хроникой рода Столыгиных — Герцен отнюдь не собирался подчеркивать наследственные черты в облике Анатоля. Картины жизни различных поколений рода Столыгиных носят у него не биологический, а ярко выраженный социальный характер. Именно поэтому Герцен особенно интересуется теми новыми условиями, которые окружали его героя в детстве. Одним из этих условий он считает взаимоотношения Анатоля и его матери с крепостными слугами.
Создавая сатирические картины русского крепостнического уклада, Герцен как подлинный писатель-демократ никогда не забывает о судьбе народа. Он взволнованно рисует жизнь русского крепостного крестьянина, его бедность и бесправие. В первых же строках повести упоминается о «полуразвалившихся, кривых, худо крытых и подпертых шестами избах» (VII, 410). Образ народа неотступно следует далее за всем рассказом о дворянах Столыгиных. Дворник Ефимка, более полувека не расстающийся со своей метлой — так прочно устроил барин его судьбу (гл. «За воротами»), няня Настасья, самоотверженно привязавшаяся к маленькому Анатолю, хотя рождение ребенка принесло ей только «лишение всякого покоя», «вечный страх, вечную брань и вечное преследование», образы несчастных кормилиц, погибших в пути «от сильного мороза и слабых тулупов» (гл. «Наследник»), и много других жертв помещичьего произвола остаются в памяти читателя. Но Герцен угадывает в мужике и способность к протесту, причем к более действенным формам протеста, чем стихийный бунт Митьки-цирюльника (гл. «Дядюшка Лев Степанович»). Недаром Акулине после смерти мужа, Степана Степановича, «показалось безопаснее переехать в Москву» (VII, 429). Следует помнить при этом, что Герцен первоначально рассчитывал увидеть свою повесть в русской подцензурной печати и не мог о многом говорить полным голосом.
Но повесть даже в таком виде была запрещена в России. Герцен некоторое время откладывал ее продолжение, а потом ограничился кратким конспектом дальнейших событий, признавшись: «Не находя силы продолжать повесть, я расскажу вам ее план» (VII, 453).
Трудно сказать, приводит ли Герцен план повести действительно в том виде, в котором он первоначально представлялся ему. Во всяком случае, можно предположить, что отдельные детали в развертывании действия были опущены в пересказе. Образ Анатоля в плане мало связан с предшествующими главами, и в целом план в значительной мере воспринимается как новая повесть.
- 471 -
«Мне хотелось в Анатоле, — пишет Герцен, — представить человека полного сил, энергии, способностей, жизнь которого тягостна, пуста, ложна и безотрадна от постоянного противоречия между его стремлениями и его долгом... Сила этого человека должна была потребиться без пользы для других, без отрады для него» (VII, 453). Так еще раз, в новом свете, возникает в творчестве Герцена тема «лишнего человека». В отличие от Бельтова, Анатоль — внутренне активная, деятельная натура. Его своеобразие среди других «лишних людей», известных русской литературе, в том и состоит, что он, располагая большими внутренними возможностями, отнюдь не хоронит их в себе; однако энергия Анатоля направлена по ложному пути. «Он совершает героические акты самоотвержения и преданности, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того вялого, бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура» (VII, 453). Трагедия Анатоля — в отсутствии передового мировоззрения. Его силы уходят на усмирение своего протеста против жизни, на воплощение превратно понятой идеи «долга». Само понятие «долга», как Герцен подчеркивает в эпиграфе, у Анатоля носит характер внешней, формальной необходимости. Участие в подавлении польского восстания 1831 года обостряет в нем борьбу «воли» и «долга», он не может быть «палачом, слугой деспотизма» и после ранения выходит в отставку, чтобы при случае первым протянуть руку поляку. Но сознание своего высшего «долга» не приводит Анатоля к борьбе с действительностью. «Он искал куда-нибудь прислониться, он стоял слишком одинок, слишком оставлен сам на себя, без определенной цели, без дела» (VII, 463).
Дальнейший путь Анатоля Герцену подсказала судьба В. С. Печерина, московского профессора, от разочарования в передовых общественных идеях ушедшего в католицизм. Религиозные убеждения польских иезуитов, с которыми Анатоля познакомил граф Ксаверий, поразили его. Анатоль становится монахом, но вскоре «новый ряд мучительных страданий начался для него». Религия не дала ему силы преодолеть «старого врага» — скептицизм. Повесть должна была закончиться тем, что наследник поместий Столыпиных отправлялся за океан — «проповедывать религию, в которую не верил, и умереть от желтой лихорадки...» (VII, 464).
Герцен не осуществил своего плана — и прежде всего потому, что тема «лишнего человека», ее решение в повести скоро перестали интересовать его. Проблема «лишних людей» постепенно утрачивала для него свое значение.
Революционные события на Западе, русская действительность конца 40 — начала 50-х годов выдвигали перед Герценом совсем иные задачи. Можно думать, однако, что, если даже повесть была бы завершена, ее художественную ценность скорее определяли бы первые главы, реалистически воплотившие весь крепостной строй жизни, чем рассказ об исканиях и заблуждениях русского интеллигента Анатоля Столыгина.
«Долг прежде всего» следует рассматривать в кругу тех произведений русской литературы, которые утверждали в русском обществе идеи гуманизма и демократизма. Повесть Герцена говорила о неизбежности гибели того общественного строя, который породил звериный быт Столыгиных. Жанр дворянской «семейной» хроники приобретал у Герцена новое содержание, впервые наметившееся в пушкинской «Истории села Горюхина». Как и Пушкина, Герцена прежде всего интересует вопрос о социальных судьбах русского дворянства. Но сатира Герцена приводила к решительным революционным выводам. Широкие круги русских читателей впервые познакомились с повестью Герцена лишь спустя полвека после ее первой
- 472 -
публикации, к тому же по искаженному цензурой тексту: достаточно сказать, что в павленковском издании «Сочинений» Герцена (т. I, СПб., 1905) был целиком опущен раздел «Вместо продолжения». Однако, несмотря на безусловный полицейский запрет, долгие годы висевший над повестью, следы ее воздействия сохранились в русской литературе.
Исследователями творчества Герцена уже отмечалась известная близость «Долга прежде всего» к сатире Салтыкова-Щедрина. Действительно, яркое обличение помещичьих нравов в повести Герцена можно рассматривать как несомненное предвосхищение «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины».
Вслед за повестью «Долг прежде всего», во второй половине 1851 года, Герценом была написана повесть «Поврежденный», впервые опубликованная в том же сборнике «Прерванные рассказы».
Наряду с воспоминаниями писателя о русской крепостнической действительности, в повести отразились тяжелые переживания и раздумья Герцена в связи с поражением революции 1848 года. В беллетристической форме Герцен рассматривает в повести тот же вопрос о будущем исторического развития Европы, который был поставлен им в книге «С того берега». В парадоксальных наблюдениях и выводах «поврежденного», полных глубокого, безысходного пессимизма, Герцена поражает «независимая отвага больного ума» (VII, 476). Земной шар — по мысли «поврежденного» — «или неудавшаяся планета или больная». «Так жить нельзя; ведь это очевидно, надобно, чтобы что-нибудь да сделалось; лучше планете сызнова начать; настоящее развитие очень неудачно...» (VII, 474, 475). Его взгляд на будущее развитие человеческого общества мрачен: «История сгубит человека; вы, что хотите, говорите, а увидите — сгубит» (VII, 475). «Болезнь исторического развития, — утверждает «поврежденный», — идет из Европы. Как только люди коснутся этой проклятой земли, так их мозг и поражается болезнью...» (VII, 478). Герцен отмечает при этом, что представления больного были действительно верны и последовательны «тем произвольным началам, которые он брал за основу» (VII, 476). Так, отрицая разумность исторического процесса («равновесие потеряно, — говорит «поврежденный», — планета мечется из стороны в сторону»), он неизбежно приходит к выводу о бесполезности и бессмысленности всякой борьбы за лучшее устройство общественной жизни людей: «...полно строить и перестраивать вавилонскую башню общественного устройства; оставить ее — да и кончено, полно домогаться невозможных вещей» (VII, 480). «Поврежденный» зовет к природе, на покой, «на дикую волю самоуправства, на могучую свободу безначалия» (VII, 480).
Образ «поврежденного» далеко не случаен в творчестве Герцена: к крайностям его скептицизма пришел бы и доктор Крупов после «бурь и утрат» 1848 года; во взглядах «поврежденного» читателем легко узнаются важнейшие черты мировоззрения «доктора» — центрального персонажа герценовской беллетристики 60-х годов. Это давало основание ошибочно говорить о совпадениях и тождестве взглядов писателя и его героев-скептиков. Например, по словам Л. Толстого, «в мыслях „поврежденного“ Герцен высказывает свои мысли, которые он не берет на себя, чтобы прямо высказывать, а это так можно кидать необдуманно, смело».1 Но, как и в других случаях, вопрос об отношениях воззрений «поврежденного» и самого Герцена в действительности гораздо сложнее. Герцен, только «утешая»
- 473 -
лекаря, говорил: «свой своему — поневоле брат» (VII, 477). На самом деле пессимизм больного неприемлем для него и глубоко чужд. Герцен «мог иной раз артистически наслаждаться разговорами Евгения Николаевича и брать его сторону» (VII, 477), он разделяет остро критическое отношение «поврежденного» к социальной действительности, его болезненное восприятие установившейся в мире несправедливости. Но выводы «поврежденного» о бесцельности борьбы за изменение мира решительно отвергаются Герценом. Он не вступает в повести в прямую полемику с ними, однако ироническое отношение к «странным, парадоксальным выходкам» больного постоянно ощущается читателем.
Герцен писал свою повесть в трудные дни глубокого духовного кризиса, который вызвало у него поражение революции 1848 года. Он сам был лишен тогда ясного представления о дальнейшем историческом развитии Европы.
Но свой скептицизм Герцен стремился преодолеть в борьбе; активное, действенное начало никогда не остывало в нем. Герцен утверждал не отказ от политической борьбы, а страстные поиски подлинно передовой общественной силы, правильной революционной теории — вместо расстрелянных в июньские дни иллюзий.
Путь «поврежденного» был бегством от жизни. Своей повестью Герцен, сам себе уясняя это, навсегда закрывал подобный путь для себя как возможность мнимого разрешения мучивших писателя вопросов. Рассказ о «поврежденном», продолжая тем самым развивать круг проблем книги «С того берега», служил существенным дополнением к его выводам. Становится понятным, почему Герцен в эту «очень тяжелую эпоху» своей жизни (VII, 468) оставался демократом, революционером, социалистом и, спустя немногим более года, нашел в себе силы для создания вольной русской печати за границей.
Через десять лет Герцен вновь обратился к образу своего «поврежденного». В одном из писем знаменитого цикла «Концы и начала» (1862) им описывается «новая встреча с одним старым знакомым» (XV, 294 и сл.). По словам лекаря, Евгений Николаевич за эти годы «ни на волос не переменился, только эдак солиднее прежнего заговаривается». Он попрежнему полагает, что «западные народы из сил выбились», что люди «все дальше и дальше несутся в болото». «Надоело беспрестанно перестраиваться, обстраиваться, да и ломать друг другу дома». Борьбу со злом и несправедливостью, активное вмешательство в жизнь «поврежденный» сравнивает с «кротовой работой» по «соотношению между усилиями и достигаемым». Он предпочитает уехать из Европы за океан, в Техас. На этот раз Герцен не уклоняется от спора с больным: резко и прямо он спрашивает Евгения Николаевича: «И все-то это для того, чтоб дойти до голландского покоя, и за эту похлебку из чечевицы проститься с лучшими мечтами, с святейшими стремлениями?». Важно отметить, что осуждение «поврежденного» в «Концах и началах» Герцен рассматривает как продолжение и развитие своего прежнего отношения к нему. Но если тогда, при первой встрече, взгляды «поврежденного» находили какие-то точки соприкосновения с неясностью представлений Герцена о судьбах революции в Европе, если тогда Герцен с тревогой смотрел на «поврежденного», преодолевая в себе опасность влияния этой философии отчаяния и, по сути дела, пассивного примирения с жизнью, то теперь он отчетливо осознает пропасть, отделяющую его от скептицизма как самоуспокоения, от отрицания без утверждения или хотя бы поисков иного, побеждающего в жизни начала. В очерках 60-х годов «Скуки ради» и повести «Доктор, умирающий
- 474 -
и мертвые» — разоблачение бесплодности образа скептика получит свое продолжение.
Повесть «Поврежденный» оканчивается ярким эпизодом крепостного быта, рассказанным автору слугой Евгения Николаевича, Спиридоном
История с Ульяной, рассказанная Спиридоном, по замыслу Герцена должна была служить тем «потрясением», которое привело героя повести к «надлому» и «повреждению». Однако органического единства повести о «поврежденном» с рассказом об одном из эпизодов его жизни Герценом не было достигнуто. Последняя глава повести оказалась художественно неоправданной, «искусственной», как выразился о конце «Поврежденного» Л. Толстой.1 Вполне вероятно, что здесь проявилась незавершенность «Поврежденного» — Герцен недаром причислил его к «прерванным рассказам», а в посвящении сборника М. К. Рейхель писал, что «одна повесть <т. е. «Долг прежде всего»> едва начата, а другая <т. е. именно «Поврежденный»> не кончена» (VII, 409).
Известная обособленность рассказа Спиридона от общего развития действия повести, вместе с тем, отнюдь не лишает его самостоятельного художественного значения, как правдивого отражения жизни русской крепостной усадьбы. Тематически рассказ Спиридона тесно связан с «Сорокой-воровкой». Однако в «Сороке-воровке», при всей типичности глубокой драмы героини для крепостной действительности, Герцен рисовал образ редкой духовной силы, личность, исключительную по своему таланту. В «Поврежденном» тема русского крепостного человека и в частности крепостной интеллигенции решается скорее в бытовом плане. В своеобразной, сказовой форме, выразительно передающей особенности простонародной речи, Герцен создает галерею бегло очерченных, но запоминающихся образов жертв крепостного состояния.
Бесхитростный рассказ слуги оставляет трагическое впечатление. Глубоко несчастной чувствует себя Ульяна. Даже отвергнутая и оскорбленная, она попрежнему верна своему чувству: «Хоть бы взглянуть еще раз на него, прощенья бы попросить, руку бы поцеловать» (VII, 486—487). В униженной, поруганной любви крепостной женщины столько непосредственности и обаяния, что мелкий моральный ригоризм помещика, уязвленного в своих классовых предрассудках, выступает как отрицание настоящих человеческих чувств. «Мне ее жаль, несмотря ни на что», — говорит о «бедной Ульяне» сам Герцен (VII, 488).
Трагична судьба Федьки-музыканта. По одному лишь подозрению в краже денег ни в чем не виноватого старика помещица отправила «во вторую адмиралтейскую» — полицейскую часть в Петербурге, где пороли крепостных крестьян. Когда же выяснилось, что деньги украл камердинер барина — Архип, помещица приказала высеченного Федора «чаем напоить». «Только Федор слег в постель да месяца через два и помер... Наше крепостное дело, не приведи бог!» — заканчивает свой рассказ Спиридон (VII, 487).
Темы и образы крепостного быта придавали сборнику «Прерванных рассказов» Герцена единое идейное звучание. Это была действительно вольная русская книга, собрание повестей и отрывков, пронизанных страстным обличительным пафосом. Герцен напечатал в сборнике бесцензурный текст «Доктора Крупова»; легко можно предположить, что только отсутствие рукописи «Сороки-воровки» лишило его возможности включить в книгу полную редакцию и этой повести. В сборнике был опубликован небольшой
- 475 -
отрывок «Мимоездом», написанный еще в Москве в мае 1846 года, в период работы Герцена над второй частью «Кто виноват?», и тесно связанный с основной идеей романа. Отрывок представляет собой разговор Герцена с одним «товарищем председателя» в уголовной палате по поводу так называемых «облегчающих обстоятельств». Не любит этих «облегчающих причин» старый законник: «...эдак и всякого оправдаешь, коли дать волю мудрованиям. Я разве затем тут посажен?» (VII, 467). Он сознает, что люди совершают преступления, принуждаемые к этому тяжелыми, безвыходными обстоятельствами жизни: «...да он от голоду украл, да мать больна, да отец умер, когда ему было три года, он по миру с тех пор ходил, привык бродяжничать... и конца нет... Ночью придет дело в голову, вникнешь, порассудишь; не виноват да и только...». Но оправдать нельзя. «Оправдай этого, оправдай другого, а там третьего... На что же это похоже? я себя на службе не замарал, честное имя хочу до могилы сохранить» (VII, 467). Положение судьи трагикомично, но вопрос, поставленный Герценом, глубок и серьезен, он звучит тяжелым обвинением строю, который посылает «по Владимирской» несчастных людей — вместо того, чтобы облегчить их существование.
Сборник «Прерванные рассказы» отделяет от следующего беллетристического произведения Герцена целое десятилетие. Жанры повествовательной прозы, с которыми были связаны первые успехи Герцена-писателя, на время перестают интересовать его. Герцен целиком отдается «Былому и думам» и напряженной публицистической деятельности на страницах изданий Вольной русской типографии.
7
Вершина художественного творчества Герцена, «Былое и думы» (1852—1868) являются крупнейшим памятником русской и мировой литературы. Мемуары Герцена стали величайшей летописью общественной жизни и революционной борьбы в России и Западной Европе на протяжении нескольких десятилетий — от восстания декабристов и студенческих кружков 30-х годов до кануна Парижской Коммуны. С огромной художественной силой, законченностью и полнотой «Былое и думы» запечатлели облик Герцена, все пережитое и передуманное им на жизненном пути, его искания и его борьбу.
Записки Герцена были одной из тех книг, по которым изучали русский язык Маркс и Энгельс. Глубоко знаменательно, что В. И. Ленин для характеристики Герцена обращается не только к его публицистическим статьям и философским работам, но и к «Былому и думам». В красочных картинах и образах «былого», в глубоких раздумьях писателя-философа, то скорбных, то призывно-страстных, перед нами проходит та сложная и противоречивая «духовная драма Герцена», которая, как указывает В. И. Ленин, была «порождением и отражением» целой «всемирноисторической эпохи».1
Горький писал о Герцене как о правдивой мысли, «коя на протяжении почти сорока лет отмечала и оценивала все разнообразные явления русской жизни».2 Именно поэтому задушевный, лирический рассказ Герцена читается не только как исповедь великого человека, но становится исторической хроникой, написанной со страстью и мастерством гениального художника.
- 476 -
«Поэт и художник, — говорил Герцен, — в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера...» (БиД, 227). Художественную автобиографию Герцена в полной мере можно назвать книгой о русском народе, его жизни, его истории, его настоящем и будущем. Это — подлинная «энциклопедия русской жизни» середины прошлого столетия. Идейное содержание «Былого и дум» исключительно велико и многосторонне. Нет ни одного сколько-нибудь важного момента в развитии передовой русской мысли того времени, который бы не нашел своего отражения в повествовании Герцена. Жизнь передового русского общества после поражения восстания декабристов, идейная борьба 40-х годов, поиски правильной революционной теории, появление в русском освободительном движении разночинной интеллигенции, ее место в общественно-политической борьбе 60-х годов — каждый из этих вопросов освещен в «Былом и думах» в тесной связи с рассказом о жизни и духовном развитии самого Герцена, его неустанной борьбе с самодержавием. Самая яркая фигура сороковых и пятидесятых годов — Герцен, по словам Горького, «воплощает в себе эту эпоху поразительно полно, цельно, со всеми ее недостатками и со всем незабвенно хорошим».1
Горький называл Герцена «первым русским мыслителем», до которого «никто не смотрел так разносторонне и глубоко на русскую жизнь».2 Тем же глубоким, проницательным взглядом смотрел Герцен и на жизнь Западной Европы перед революцией и после нее, видел кровавую расправу реакции с восставшим народом, торжество сытого, ограниченного буржуа-мещанина, лицемерие буржуазной демократии, прикрываемое громкой либеральной фразой, и рост массового движения революционного пролетариата. «Былое и думы» ярко показывают жизнь и борьбу Герцена в огне революционных событий Запада, лондонский период его эмиграции, идейное развитие великого демократа в направлении к научному социализму.
Кипучая, страстная натура писателя демократа-борца никогда не могла холодно, безучастно наблюдать многообразие общественно-политической борьбы как в России, так и на Западе. Всегда и везде — в пору «моровой полосы» николаевского деспотизма, среди революционного горения Европы, в дни призрачных «реформ» нового русского самодержца, в памятное время польского восстания — мы застаем Герцена в горниле событий, в борьбе и в новых идейных исканиях.
Через свой жизненный личный опыт Герцен стремился познать закономерности исторического развития. Историзм искандеровских воспоминаний исходил из тонкого, необычайно глубокого понимания происходящих событий и всей эпохи. В социальной действительности своего времени Герцен пытливо ищет те силы, которые каждый раз обусловливали наблюдаемые им явления жизни.
Чувство глубокой любви к России пронизывает страницы «Былого и дум», согревает непередаваемым обаянием воспоминания великого патриота о далекой родине; элегическая дымка невольно сохраняется Герценом даже в рассказах о самых мрачных днях его тяжелого прошлого. Вместе с тем, по словам самого писателя, в «Былом и думах» «при ненависти к деспотизму сквозь каждую строку видна любовь к народу» (VIII, 392).
- 477 -
Герцен говорил, что «чем кровнее, чем сильнее вживется художник в скорби и вопросы современности — тем сильнее они выразятся под его кистью».1 Активное участие Герцена в революционно-освободительном движении, в напряженных исканиях передовой русской общественной мысли явилось источником величайшей художественной силы его литературного творчества и прежде всего «Былого и дум».
Глубокий историзм «Былого и дум» был величайшим завоеванием не только русской литературы, но и мировой. Картины, образы, все яркие краски воспоминаний Герцена стали художественной хроникой эпохи, запечатлевшей как полувековой исторический путь русского общества, так и важнейшие моменты западноевропейского революционного движения того времени. Исторические конфликты и события в них перестали служить лишь фоном автобиографического рассказа. Своеобразие герценовских записок создавалось сочетанием, сращением в повествовании автобиографических воспоминаний с последовательно историческим рассказом, личной и общественной жизни.
Стремление пересказать свою жизнь, свои впечатления, мысли, чувства всегда сопутствовало художественным замыслам и начинаниям Герцена. В каждом сочинении он хотел видеть «отдельную часть жизни» своей души, «совокупность их» должна была составить его «иероглифическую биографию» (I, 271; письмо к Н. А. Захарьиной от 27 апреля 1836 года). По словам еще молодого Герцена, для него не было «статей, более исполненных жизни и которые бы было приятнее писать», чем воспоминания (I, 448—449; письмо к Н. А. Захарьиной от 27 июля 1837 года). Но ранние очерки и наброски Герцена автобиографического характера не могли удовлетворить его — и не только потому, что Герцен был не в состоянии рассказать тогда о своем участии в революционно-освободительной борьбе передового русского общества в связи с непреодолимыми цензурными препятствиями. Узость и ограниченность социальной базы, на которую опирался самый опыт революционной деятельности Герцена как в 30-е годы, непосредственно после разгрома декабристского движения, так и в 40-е, лишали его возможности рассматривать свою биографию в широком плане борьбы с деспотическим самодержавно-крепостническим строем. Автобиографические начинания молодого Герцена даже в лучших своих страницах неизбежно оставались в рамках художественной исповеди дворянского революционера. Перед Герценом-писателем не возникала тогда проблема выражения в рассказе о своей жизни освободительных устремлений всего народа, того «отражения истории», которое он сам впоследствии будет усматривать в «Былом и думах». Уровень развития революционного движения в России в 30-х и 40-х годах не позволял Герцену в борьбе передовых сил тогдашнего русского общества видеть в полной мере проявление освободительной борьбы самого народа.
Сложная творческая история «Былого и дум», охватывающая более полутора десятилетия, ярко отразила противоречивый путь Герцена — мыслителя и революционера в эти годы перелома его мировоззрения, завершившегося полной победой демократа над всеми колебаниями в сторону либерализма.
В «Былом и думах» перед нами развертывается широкая и яркая панорама идейного развития русского общества. Она тянется от начала XIX века, от русских бар, выросших еще в прошлом столетии, знакомых
- 478 -
с идеями французских просветителей, но оставшихся крепостниками и представлявших собою, в лучшем случае, «какую-то умную ненужность» (БиД, 46). Мы видим, какое огромное влияние на идейную жизнь русского общества оказала Отечественная война 1812 года и в особенности восстание декабристов. Панорама эта простирается до второй половины века, когда на историческую сцену выступает новое поколение революционеров — поколение, воспитанное Чернышевским. В «Былом и думах» в живых образах отражаются процессы развития русской передовой мысли, поиски ею правильной революционной теории, рост освободительного движения. Мы видим при этом отнюдь не только верхние этажи духовной жизни страны. Рассказывая о «девичьей и передней» и рисуя, например, крепостного повара Алексея, Герцен дает почувствовать, какая «сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека» (БиД, 23). Герцен упоминает, что уже в годы его молодости «фанатики рабства» (БиД, 20), т. е. рабы, настолько исковерканные крепостным гнетом и холопством, что они с искренним самоотвержением служили господам, насчитывались среди слуг и дворовых лишь единицами.
Герцен ведет нас вместе с тем к пониманию того, как мучительно трудно было тогда человеку из народа подняться до передовой мысли, до сознательной революционной ненависти против господствовавшего самодержавно-крепостнического порядка. В «Былом и думах» перед нами встают образы ярких, даровитых людей из народа, способных духовно расти, подниматься все выше, но сброшенных вниз уродливым общественным порядком (Саша Вырлина, Матвей и др.).
В XXXII главе (IV части) «Былого и дум» в многозначительной, хотя и беглой, характеристике молодого семинариста, жадно воспринимавшего материалистический дух «Писем об изучении природы» и решившегося отказаться от карьеры священника, Герцен отразил обнаружившиеся в 40-х годах процессы демократизации интеллигенции, стремление овладеть передовой наукой, все яснее сказывавшееся в среде подраставшего поколения разночинцев. Характеризуя затем петрашевцев (в очерке об Энгельсоне) и революционную молодежь 60-х годов (в последних частях «Былого и дум»), Герцен подчеркивает дальнейшее развитие и углубление этих процессов.
Однако на первом плане «Былого и дум» автор, естественно, должен был изобразить тот, еще очень узкий, круг русской интеллигенции 30—40-х годов (Белинский, Грановский, Огарев, Сазонов и др.), в котором он идейно вырос и сложился сам, а также сохранившихся представителей поколения декабристов (Орлов, Чаадаев). Эта интеллигенция была в большинстве своем дворянской. Но Герцен проницательно и тонко показывает, что своей деятельностью лучшие, передовые русские люди тех лет выражали народные национальные потребности и стремления, не осознанные еще широкими народными массами.
Говоря о первых после разгрома декабристов проявлениях революционных настроений, о формировании юношеских студенческих кружков 30-х годов, Герцен пишет: «...этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя» (БиД, 227). Характеризуя свои разногласия со славянофилами, Герцен подчеркивает, что, «подрастая», русские передовые люди 40-х годов поняли, что они дети «загнанной крестьянки», т. е. дети народа, выражающие его думы и желания; о родстве с народной Россией «мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком
- 479 -
тесна. В ее комнатке было нам душно: все почернелые лица из-за серебряных окладов, все попы с причтом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину». Но Герцен и его соратники «знали... что ее счастье впереди...» (БиД, 305).
Иллюстрация:
«Былое и думы» А. И. Герцена. Обложка первого
издания. 1861.Первые части «Былого и дум» являются замечательной иллюстрацией к ленинской характеристике русского освободительного движения в крепостную эпоху, когда среди деятелей этого движения имело место «полное преобладание дворянства»:
«Это — эпоха от декабристов до Герцена. Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли разбудить народ».1
В русской и мировой литературе XIX века нет другого художественного произведения, в котором бы с такой исторической конкретностью, идейной глубиной, силой и поэтическим очарованием, как в «Былом и думах», были бы воплощены образы передовых людей своего времени и их мировоззрение. Передовые русские люди 40-х годов выступают в «Былом и думах», как и в других произведениях Герцена, носителями лучших, сильнейших черт и особенностей русского национального характера, свидетельствующих о неустанном и все убыстряющемся духовном росте народа, представителями вырастающей в упорной идейной борьбе демократической культуры.
Таков в изображении Герцена Белинский, воплотивший в себе «русский склад ума» (БиД, 345), склад русской передовой мысли, духовную стойкость русского человека; таков Щепкин, великий артистический дар которого является отражением даровитости русского народа; таков знаменитый художник Александр Иванов, идейные и художественные искания которого носят на себе отпечаток живущего в народе стремления найти истинное решение труднейших и мучительнейших общественных вопросов.
Герцен глубоко чувствовал народную силу той революционной энергии и страсти, которая владела Белинским. Он подчеркивал материалистическую
- 480 -
и революционную сущность его мировоззрения, самостоятельный и творческий характер его мышления. В Белинском Герцен видел одного из виднейших участников тех исканий русской передовой мысли, в процессе которых «русский дух переработал гегелево учение» (БиД, 216). «Примирение» Белинского с действительностью Герцен справедливо расценивал как «переходную болезнь» (БиД, 221).
Если исходить из ленинской характеристики исканий русской передовой мысли 40-х годов, то портрет Белинского, созданный автором «Былого и дум», в высшей степени помогает нам уяснить себе самую сущность деятельности великого революционного демократа — этой «диалектически-страстной натуры бойца» (БиД, 218). Герцен видел в произведениях Белинского «ту новую мощную критику... то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России» (БиД, 230).
Указывая на научный теоретический фундамент революционных убеждений Белинского, Герцен считает характерной чертой мировоззрения последнего «живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными» (БиД, 222).
Чрезвычайно богатый материал содержат «Былое и думы» и для характеристики идейной жизни Западной Европы 40—60-х годов XIX века. Перед читателем проходит целая галерея деятелей буржуазной демократии, мелкобуржуазных социалистов и радикалов, представителей национально-освободительных движений Польши, Италии, Венгрии. Герцен рисует умирание революционности западноевропейской буржуазной демократии. Многие герценовские характеристики буржуазных демократов и мелкобуржуазных социалистов настолько метки и остроумны, в них с поразительным лаконизмом и мастерством сконцентрировано такое большое содержание, что современный читатель вполне естественно и правомерно увидит в этих портретах яркие художественные иллюстрации к оценкам Маркса и Ленина.
Картины идейной жизни неотрывны в «Былом и думах» от рассказа Герцена о собственных идейных исканиях. Автобиографический образ русского революционера, созданный Герценом, выступает подлинным положительным героем записок. Здесь громко звучит страстная, искренняя, изумляющая богатством мыслей и чувств лирика передовой мысли, поэзия идейной борьбы. Этот герценовский лиризм передает душевные движения, вызванные рождением, становлением, развитием мысли, мы ощущаем живой трепет человеческого существа, напряжение всех его сил, стремлений, инстинктов, внутреннюю борьбу, сомнения, колебания, неустанные поиски истины, правильной революционной теории, ведущие к глубоким теоретическим выводам, всепобеждающий порыв вперед, владеющий передовым сознанием.
«Труд этот, — говорил Герцен о «Былом и думах» еще в 1853 году, — может на всем остановиться, как наша жизнь: везде будет довольно и везде можно его продолжать» (VII, 263; предисловие к «Крещеной собственности»). Потому прерванные случайно, на полуслове, мемуары Искандера выглядят законченным художественным произведением и, в сущности, являются таковым при всей отрывочности последних глав и при отсутствии последовательного логического конца.
Заключительные части «Былого и дум» отразили глубокий перелом, который произошел в мировоззрении Герцена в 60-х годах. Он увидал революционный народ в самой России и «безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма».1 Расставаясь со своими
- 481 -
записками, Герцен сумел передать в них предчувствие новой исторической эпохи. Последние строки мемуаров писались незадолго до писем «К старому товарищу», получивших в статье Ленина «Памяти Герцена» высокую оценку как свидетельство нового, высшего этапа в развитии мировоззрения Герцена. То, в чем Ленин гениально уловил тенденцию перехода великого художника-демократа к новым идейным рубежам, не могло не сказаться на заключительных частях и главах мемуаров. Они ярко показывают идейное развитие Герцена в направлении к пониманию исторической роли западноевропейского рабочего класса. Кончая рассказ о «былом» и настоящем, Герцен смело заглянул в будущие судьбы России и Европы.
В 1866 году, в предисловии к IV, заключительному, тому отдельного издания «Былого и дум», Герцен предельно четко формулировал свое понимание в основном уже написанных им мемуаров: «„Былое и думы“ — не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге» (БиД, 842). Очень важно, что это классическое определение созрело в сознании Герцена в завершающий период его длительной работы над мемуарами. Разумеется, формула Герцена оценивала «Былое и думы» целиком, начиная с начальных глав воспоминаний, тем не менее сознательная установка писателя на «отражение истории» в своей биографии тесно связана главным образом с последними частями и главами мемуаров.
Содержанием заключительных фрагментов записок явилась прежде всего идейная жизнь Герцена; это придало «Былому и думам» новые художественные качества. Начав еще в 30-х годах с автобиографического рассказа «о себе», Герцен пришел к такой форме записок, которая почти полностью исключала интимные переживания и личные драмы писателя. Напомним, что это были годы его мучительного романа с Тучковой и вызванных им бесконечных семейных конфликтов, между тем даже имени Тучковой не появляется в мемуарах. Изменилось также само соотношение воспоминания и непосредственных отзвуков сегодняшнего дня. Раньше Герцена-мемуариста отделяли от «детской и университета», «тюрьмы и ссылки» десятилетия жизни. В другом случае свою «семейную драму» он воскрешал под свежим, потрясшим его впечатлением трагического исхода. Теперь же «былое» в значительной степени сменяется в записках настоящим, воспоминания уступают место злободневным «думам» и размышлениям.
Автобиографическое повествование в 60-х годах служило Герцену художественным дневником его революционной деятельности, политических и общественных волнений, споров, раздумий.
Именно эти части и главы содержат значительную переоценку ценностей по сравнению с первыми томами воспоминаний. Именно здесь особенно выпукло выступают связанные с духовным развитием Герцена внутренние противоречия как в характере и содержании «Былого и дум», так и в отдельных идейных положениях мемуаров.
Культ передовой дворянской интеллигенции, столь ярко отразившийся на страницах «Былого и дум», посвященных декабристам, или в главах о 30—40-х годах, уступает место пристальному и с каждым годом все более сочувственному вниманию к русской демократической молодежи, ее воззрениям на жизнь, ее быту, но главное — к ее роли в развитии русской революции. В VII части «Былого и дум» Герцен пишет о разночинной интеллигенции 60-х годов как о «молодых штурманах будущей бури» (БиД, 740); как известно, эта высокая оценка писателем нового
- 482 -
революционного поколения цитируется Лениным в его статье «Памяти Герцена».1 При всех критических замечаниях по адресу «нигилистов» из «молодой эмиграции» Герцен не может не признать могучую силу, которую представляют революционеры-разночинцы 60-х годов в русском освободительном движении. Ему становится очевидным, что надежды, которые ранее связывались им с передовыми кругами русского дворянства, в значительной мере оказались несостоятельными. Можно предположить, что и рассказ о тех годах он сейчас бы вел в иных тонах, недаром в предисловии к V части мемуаров (1866) Герцен подчеркнуто упоминает о «тогдашней истине» (БиД, 842).
Действительно, в 60-х годах Герцен сплошь и рядом уже не мог удовлетворяться прежним освещением событий и, сохраняя мемуары в основном так, как они были написаны, нередко впадал в противоречие и полемизировал сам с собою. В этом отношении «Былое и думы» наряду с «Письмами из Франции и Италии» и книгой «С того берега» с полным правом можно рассматривать как памятник духовной драмы Герцена после поражения революции 1848 года. Но в отличие от «Писем из Франции и Италии» и «С того берега» в «Былом и думах» ярко отражена дальнейшая идейная эволюция Герцена, которая привела его под конец жизни не к либерализму (как многих буржуазных демократов Западной Европы эпохи революции 1848 года), а к демократизму — глубокому интересу и пристальному вниманию к революционной борьбе западноевропейского пролетариата, к деятельности руководимого Марксом и Энгельсом Интернационала.
В последних главах «Былого и дум» наряду с резкой критикой «Гейне и его круга», т. е. западноевропейской буржуазно-демократической интеллигенции 40-х годов, которая «народа не знала», как и ее не знал народ (БиД, 787), Герцен пересматривает свое прежнее понимание перспектив исторического развития Европы. Он оценивает отныне исторические судьбы всего человеческого общества взглядом, полным оптимизма и уверенности в будущем, поскольку с каждым днем все более убеждается в том, что эти судьбы находятся в руках «работников», т. е. класса пролетариев. Интерес к «работническому населению» Италии, Франции, Швейцарии проходит через весь «путевой дневник» VIII части «Былого и дум». В главе «Venezia la bella»,2 написанной в марте 1867 года, Герцен решительно утверждает, что через «представительную систему в ее континентальном развитии», т. е., по существу, буржуазный строй, «часть Европы» прошла, «другая пройдет, и мы, грешные, в том числе» (БиД, 804). И если в 1848 году воцарение буржуазных отношений ужасало его, то в конце 60-х годов Герцен вплотную подходит к мысли, впервые высказанной еще в «Коммунистическом манифесте», что само развитие капитализма создает условия для своего уничтожения и установления нового социалистического строя. Герцен обращает свои взоры к Интернационалу Маркса.
8
Герцен всегда удивлял читателя и критику смелостью и необычностью своего писательского дарования. Еще Белинский в статье «Русская литература в 1845 году» говорил о нем как о «необыкновенном таланте в совершенно новом роде» (X, 114).
- 483 -
В свете общепринятых представлений о мемуарной литературе записки Герцена также явились необычным, не укладывающимся в традиционные понятия жанровых категорий произведением.
Герцен как бы стирает в «Былом и думах» грани между мемуарами и беллетристическим повествованием. «В литературе, — писал он, — действительно, все поглощено историей и социальным романом. Жизнь отдельных эпох, государств, лиц, с одной стороны, и с другой — как бы для сличения с былым, исповедь современного человека под прозрачной маской романа или просто в форме воспоминании, переписки» (IX, 65—66).
Художественная автобиография, в понимании Герцена, должна включать в себя жанр своеобразного исторического романа наряду с жанром романа личного. Традиционный мемуарный «историзм», понимаемый как правда фактических подробностей и отдельных событий, у Герцена сменяется художественным обобщением эпохи, широкой картиной исторического процесса. Тем самым Герцен существенно и принципиально дополняет значение автобиографии как исторического памятника и источника. Не снижая документальной точности и достоверности описания, он поднимает его до значения художественного исторического полотна большой впечатляющей силы и правды.
«Былое и думы» завершили целую полосу в развитии автобиографических жанров.
Тяготение к автобиографизму в собственной творческой практике вызывало все возрастающий интерес писателя к мемуарным памятникам русского и европейского XVIII века и начала века XIX, особенно — эпохи революции и наполеоновских войн, к биографии и запискам декабристов и их окружения, к воспоминаниям современников.
Обращение к историческим запискам и воспоминаниям отвечало творческим задачам писателя. Мемуарные свидетельства, часто без указания источника, широко использованы в публицистике Герцена. В «Былом и думах» они стали существенным компонентом всего повествования. Именно превосходное знание мемуаров допускало столь рискованный композиционный прием. Герцен смело касается событий, происходивших без личного участия рассказчика, причем сюжетные эпизоды в мемуарах переплавлены в едином, цельном течении рассказа. Так построена, например, вся первая глава «Былого и дум»: рассказы Веры Артамоновны смешались с семейными преданиями, воспоминания отца — с обрывками собственных переживаний. Так строится образ Николая I: личные впечатления растворили в себе восприятие императора современниками.
Среди заметок Герцена — в письмах ли, статьях или в дневнике, — о прочитанных или интересующих его книгах нас не должны удивлять поэтому многочисленные упоминания различных «Mémoires», «Confessions», «Memoiren» и русских «записок». Одни из них он находит «интересными», другие ему скучны. Одно из писем к Кетчеру определяет герценовский критерий оценки. «Зачем ты мне второй раз присылаешь „Записки“ La Rochefoucauld? — спрашивает он, — право, я думаю, что христианин и титулярный советник может прожить век, не зная, как Людовику XVIII меняли рубашку и как Карл X любил узкие панталоны» (II, 240; письмо от 7 февраля 1839 года). В мемуарах политических деятелей Герцен ищет картины общественной жизни страны, хотя бы косвенных отголосков народных дум и волнений. Автобиография должна быть отражением типических черт эпохи, ее важнейших проявлений. «Жизнь сочинителя, — писал еще молодой Герцен в статье о Гофмане, — есть драгоценный комментарий к его сочинениям» (I, 138).
- 484 -
Влияние историко-мемуарной литературы, обусловленное направленностью самого герценовского автобиографизма, в значительной степени определило особое место «Былого и дум» среди классических памятников художественных мемуаров. То было сознательное противопоставление жанровым традициям нового понимания мемуаров.
«Былое и думы» должны были в личной судьбе людей запечатлеть историю народа.
Искусство Герцена пролагало новые пути художественным запискам Основные особенности жанра и стиля «Былого и дум» не находят себе литературных параллелей. Герценовское смешение жанров в мемуарном повествовании, включение своеобразного исторического романа и фельетонной публицистики в художественную автобиографию — все это выглядело одинаково неожиданным и смелым на русском и западноевропейском литературном фоне. Давнишний, еще юношеский, вопрос Герцена «Можно ли в форме повести перемешать науку, карикатуру, философию, религию, жизнь реальную, мистицизм?» (I, 338; письмо к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру, октябрь — ноябрь 1836 года) получил, наконец, положительное творческое разрешение. В поисках ответа Герцен ссылался когда-то на «Вильгельма Мейстера» и Данте. Его «Былое и думы» по жанровой сложности и оригинальности сами стали в ряд величайших памятников художественного новаторства.
«Каждый большой художник должен создавать и свои формы», — обронил как-то Лев Толстой и захотел проиллюстрировать свою мысль «всем лучшим в русской литературе». Среди других классических произведений с «совершенно оригинальной» формой им были названы тогда «Былое и думы».1 Если бы Толстой обратился к арсеналу мирового художественного слова, он нашел бы немного примеров такой же яркости и убедительности.
«Былое и думы» оказали глубокое влияние на будущие судьбы художественной автобиографии в русской литературе, а также революционной мемуаристики, характерной чертой которой становится сознательное стремление автора через свой личный опыт передать поступь всего революционного движения, не заслоняя собою, своим личным мировосприятием, любованием саморазвития — исторические сдвиги эпохи. На традициях «Былого и дум», продолжая и углубляя их, создавались такие крупнейшие памятники русских художественных мемуаров, как автобиографическая трилогия Горького.
Мемуарный характер «Былого и дум» отнюдь не означает, что Герцен пассивно изображал действительность, что в его творчестве не было той художественной типизации, которую мы находим в повествовательных жанрах.
Понятие художественной автобиографии предполагает творческое обобщение исторически подлинных явлений и событий. Но приходит к этому обобщенному значению своих картин и образов мемуарист иначе, чем художник-беллетрист. Он не вправе существенно и произвольно изменять наблюдаемые им в жизни характеры, но за ним сохраняется возможность выбора между случайным, единичным и исторически закономерным, типичным. Мемуарность, фактичность, таким образом, отнюдь не вызывала снижения художественной силы произведения. Портрет вятского сатрапа, сподвижника Аракчеева и Клейнмихеля, Тюфяева у Герцена вырастает в яркий художественный образ, равный по силе собирательным типам Гоголя и
- 485 -
Щедрина. Тюфяев показан в мемуарах как законченное, предельно сконцентрированное выражение самодержавно-крепостнического произвола. Старик Яковлев с неменьшей характерностью воплощал собою эпоху старого русского барства. Между тем, это — реальные, исторические лица. Художественный талант Герцена сказался не только в мастерстве, с которым нарисованы портреты, но в самой фиксации творческого внимания именно на Тюфяеве, который сам по себе служил обобщающим типом николаевской России, родственным и гоголевскому городничему, и «помпадурам» Щедрина.
Типичность «героев» мемуаров явилась существенной стороной художественной характеристики всей портретной галереи «Былого и дум».
Люди, представляющие собою различные направления и моменты развития русской мысли, изображены здесь на широком и красочном фоне истории, народной жизни, политики, культуры и быта.
Яркий эпизод из текущей политической жизни сменяется в «Былом и думах» отступлением на исторические темы, проницательно вскрывающим далекие корни тех или иных современных Герцену общественных явлений; остроумный анекдот, освещающий характерные черты быта, оттеняет глубокую и тонкую характеристику тех или иных сторон культуры.
Множество сопоставлений и параллелей (часто выраженных в сжатой метафорической форме) между историческим опытом России и других стран, между русской национальной культурой и культурой других народов дает наглядное представление о том знаменательном историческом процессе «проверки, сопоставления опыта Европы»,1 который был одной из существеннейших сторон развития русской передовой мысли, о том духовном сотрудничестве народов, которое настойчиво пропагандировал Герцен.
Особенное внимание Герцена-художника привлекали в жизни «крайние», «предельные» типы, являющиеся резким заостренным выражением тех или иных общественных сил и тенденций исторического развития.
По словам Герцена, высшие, «истинные представители эпохи — не арифметическое большинство, не золотая посредственность, а те, которые достигли полного развития, энергические и сильные деятельностью» (V, 221).
Герцен предъявлял к передовой литературе требование художественного воплощения «идеала». Его самого, как художника, особенно влекло к себе создание образов передовых людей — «истинных представителей эпохи», теми или иными сторонами своей деятельности помогающих уяснить себе суть общественного идеала, путей к будущему.
В «Письмах к будущему другу» Герцен говорит: «Каждая эксцентрическая жизнь, к которой мы близко подходили, может дать больше отгадок и больше вопросов, чем любой герой романа, если он несуществующее лицо под чужим именем. Герои романов похожи на анатомические препараты из воска. Восковой слепок может быть выразительнее, нормальнее, типичнее; в нем может быть изваяно все, что знал анатом, но нет того, чего он не знал, нет дремлющих в естественном равнодушии, но готовых проснуться ответов, — ответов на такие вопросы, которые равно не приходили в голову ни прозектору, ни ваятелю» (XVII, 96).
Очевидно, что в данном случае Герцен термин «типическое» употребляет в специфическом частном его смысле для характеристики количественно преобладающего, среднего, рядового. Но «эксцентрические» люди интересуют его именно потому, что в них он видит таких выразителей
- 486 -
назревающих тенденций общественной жизни, в жизни и личности которых можно найти новые ответы на трудные вопросы, поставленные ходом исторического развития. В этом смысле эти «эксцентрические» люди и являются истинными, т. е. типическими «представителями эпохи».
Термин «типическое» обладает в данном случае у Герцена еще и другим оттенком. Еще в 30—40-х годах писатель считал, что работа над беллетристическими произведениями более или менее традиционного склада, герои которых являются типизированными «несуществующими людьми», не соответствует особенностям его дарования. Герцен уже тогда стремился к созданию таких художественных портретов встреченных им в жизни ярких оригинальных людей, которые средствами искусства вскрывали бы своеобразие духовного идейного облика «эксцентрического» человека, его места в общественной борьбе.
Освободившись от цензурной опеки царизма, Герцен и осуществил свое намерение. По его мысли, для выявления еще только намечающихся исторических тенденций богатая «эксцентрическая жизнь» дает ему, как художнику, такой богатый материал, который не мог бы быть вложен в фигуру вымышленного героя романа.
Герцен несомненно правильно понимал эстетическое своеобразие своего творчества. Узнавая замечательных современников, вникая в их духовную жизнь, он, пользуясь средствами художественного отбора и воображения, умел выпукло представить именно те стороны их личности, которые характеризовали новаторскую роль этих «эксцентрических» людей в общественной жизни.
Уровень художественной объективности и правдивости воспоминаний, в конечном счете, определяется идейными убеждениями автора. Быть может, в других мемуарах той эпохи меньше фактических неточностей, чем в «Былом и думах», но перемещение исторической перспективы, смешение важного со случайным, тенденциозность освещения заслоняют в них объективное содержание событий, искажают действительность. «Факт — еще не вся правда, — говорил Горький, — он — только сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства».1
Герцен был прав, когда, завершая работу над «Былым и думами», говорил, что они «так сильно действовали оттого, что краски верны» (XX, 378; письмо к сыну от 16 июня 1868 года). Этих «верных красок» не могло быть у писателя-мемуариста, не связанного с передовым общественным движением, далекого от освободительной борьбы народа, составляющей подлинное содержание истории.
Записки Герцена мог написать только художник-демократ, писатель передового революционного мировоззрения, которое служило ему критерием объективного значения его «былого» и его «дум». Только у него могла возникнуть сама идея «отражения истории в человеке». Но воспоминания Герцена мог написать также только большой и наблюдательный художник, свободно владеющий искусством творческого, обобщенного выражения подлинных фактов. Мемуарист, оказавшийся в полной зависимости от «правды» своей биографии и своих наблюдений, никогда не поднимется выше эмпирического пересказа жизни. «Исторические факты, содержащиеся в источниках, — писал Белинский, — не более, как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание» (XI, 110). Герцен сознательно стремился к литературной свободе и художественной самостоятельности мемуара. Уже Анненков отмечал
- 487 -
«разницу в тоне и оценке» между «Былым и думами» и ранним творчеством писателя (в том числе — эпистолярным). По его словам, «позднейшие „Записки“ вообще редко представляют предметы в том свете, который их окружал при первой встрече с ними рассказчика...».1
Долгий и «критический» «опыт» привел «к проверке и поправке» начальных впечатлений.2 В сочетании творческого вымысла и фактической правды, своеобразно окрасившем страницы «Былого и дум», снова проявило себя мастерство подлинного писателя-художника, остающегося в то же время рассказчиком своей жизни. Белинский еще в «Кто виноват?» уловил эту способность автора повести обратить «плоды своей наблюдательности — в действие, исполненное драматического движения» (X, 113).
В рамках мемуарного жанра Герцен творчески воссоздает художественные образы современников. «Мое восстановление верно, — писал он Тургеневу о портрете жены в записках, — и только отпало то, что должно отпасть: случайное, ненужное, несущественное...» (VIII, 379; письмо от 25 декабря 1856 года). В этих немногих словах выразительно указано на активное, творческое начало художественного метода писателя-мемуариста. Даже на страницах, создававшихся вслед за описываемыми событиями (в главах последних трех частей), характерная непосредственность воспоминания нарушается известным творческим домыслом, то сгущающим краски, то резче оттеняющим авторскую мысль, то просто служащим для литературного оживления рассказа.
Вместе с тем Герцен всегда сам предостерегал себя от опасности «дать всему другой фон и другое освещение» (БиД, 842), признавался, что ему «не хотелось стереть» на всем «оттенок своего времени и разных настроений» (БиД, 3). Вот почему хроникально-автобиографический стержень заменяет в мемуарах Герцена последовательное развитие цельного сюжета. Такая композиция «Былого и дум» неслучайна: она отражает, как замечает Герцен, нестройность самого жизненного процесса: «Я... вовсе не бегу, — пишет он, — от отступлений и эпизодов, — так идет всякий разговор, так идет самая жизнь» (БиД, 18). Герцен справедливо утверждал, что «впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей единство есть» (БиД, 3), единство того же жизненного процесса, а не формального композиционного плана.
На упреки, что «отрывки, помещенные в „Полярной звезде“, рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают», он отвечал: «Я чувствую, что это — правда, но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок — дело не трудное; но все переплавить d’un jet3 я не берусь» (БиД, 3).
Герцен многократно повторит это противопоставление внешнего («дело не трудное») и внутреннего единства. Композиционный «беспорядок» мемуаров, разнообразие литературных форм, к которому прибегает автор, им объясняется тесной связью и зависимостью своего повествования от разнообразия самих жизненных явлений, от диалектического единства в них хаотичности и последовательности. В многоплановом и сложном строении мемуаров Герцен отстаивал художественную стройность произведения.
«Былое и думы» представляют собою сложное сочетание различных жанровых форм: мемуара и исторического романа-хроники, дневника и писем, художественного очерка и публицистической статьи, сюжетно-новеллистической
- 488 -
прозы и биографии. Зачатки такого жанрового сплава мы видели и в более раннем художественном и публицистическом творчестве Герцена. Становление жанра «Былого и дум», как было отмечено выше, явилось результатом длительной творческой работы писателя.
Смешение жанров внутри мемуарного обрамления было связано с особенностями всей стилевой структуры «Былого и дум». Герцен еще в 30-х годах отмечал странную «двойственность» своих литературных опытов: «...одни статьи выходят постоянно с печатью любви и веры... другие — с клеймом самой злой, ядовитой иронии» (II, 21; письмо к Н. А. Захарьиной от 13 января 1838 года). «В «Былом и думах» «самая злая, ядовитая ирония» переплелась с утверждением бодрого, мятежного начала в единое цельное восприятие мира революционером-демократом.
Герценовское повествование постоянно перемежается с отступлениями, в которых рассказчик уступает место публицисту, историку, философу, политику, делится с читателем своими мыслями и переживаниями в связи с тем или иным воспоминанием, событием, встречей. Вокруг «исповеди», «около» и «по поводу» ее, говоря словами Герцена, «собрались там-сям схваченные воспоминания из Былого, там-сям остановленные мысли из Дум» (БиД, 3).
Авторское вмешательство в последовательный ход рассказа характеризовало уже беллетристическую манеру Герцена, разрушая иногда, как казалось самому писателю, цельность рассказа. Отступления сообщали запискам ту лирико-эпическую форму, которая позволяла привносить в произведение элементы публицистики.
Глубоко веря в общественную действенность искусства, Герцен использует все богатства литературных приемов и жанров, всю многотональность художественного слова с целью наисильнейшего воздействия на ум и чувства читателя. Весьма показательно, что публицистичность «Былого и дум» резко возрастает к концу автобиографии, начиная с первых «западных» глав, когда окончательно распался первоначальный замысел интимной «исповеди». Яркой публицистической статьей является, например, главка «Post scriptum» из «Западных арабесок» V части «Былого и дум», содержащая блестящую характеристику уклада буржуазно-мещанской Европы после революции 1848 года. Главу о Прудоне (в той же V части) Герцен дополняет публицистическим «Рассуждением по поводу затронутых вопросов». Такой же характер носят главы VI части — известный очерк о Роберте Оуэне и статья «Джон-Стюарт Милль и его книга „On liberty“» и т. д. Близость стилевой манеры «Былого и дум» к публицистическим статьям Герцена в «Колоколе» ярко проявилась в самом факте первоначальной публикации ряда отрывков из записок на страницах знаменитой газеты.
Творчество Герцена в целом глубоко публицистично. Если верно неоднократно высказывавшееся положение о том, что художественному творчеству Герцена присуща яркая публицистичность, то с неменьшим основанием можно говорить о художественности публицистического наследия писателя. В самом деле, публицистика Герцена в лучших своих страницах достигает большой художественной силы. В творчестве Герцена эти два начала взаимно пронизывают друг друга и образуют то органическое единство, которое во многом объясняет нам неповторимое своеобразие герценовского стиля. Вот как начинается у Герцена чисто публицистическая статья «Крещеная собственность» (1853): «С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, нежели распасться;
- 489 -
слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали. С полей несет сытным дымом овинов, свежим сеном, из лесу веет смолистой хвоей, и скрипит запущенный колодезь, опуская бадью, и гремит по мосту порожняя телега, подгоняемая молодецким окриком...» (VII, 266). Или начало другой статьи: «Слава Церере, Помоне и их родственникам! Я, наконец, не с вами, любезные друзья! — Я один в деревне. Мне смертельно хотелось отдохнуть поодаль от всех... Нельзя сказать, чтоб почтенные особы, которых я сейчас славословил, очень изубыточились для моего приема: дождь льет день и ночь, ветер рвет ставни, шагу нельзя сделать из комнаты, и, — странное дело! — при всем этом я ожил, поправился, веселее вздохнул, — нашел то, за чем ехал. Выйдешь под вечер на балкон: ничто не мешает взгляду; вдохнешь в себя влажно-живой, насыщенный дыханием леса и лугов воздух, прислушаешься к дубравному шуму, — и на душе легче, благороднее, светлее; какая-то благочестивая тишина кругом успокаивает, примиряет...» (IV, 1—2).
Эти строки, напоминающие лирическую запись в дневнике, приведены из труднейшей философской работы — знаменитой статьи Герцена «Эмпирия и идеализм» из цикла «Письма об изучении природы». Меньше всего Герцен стремился при этом к «оживлению» отвлеченных философских рассуждений статьи, художественная образность отнюдь не служила для него как философа и публициста искусным литературным приемом. Необычный зачин находился в полном соответствии со всем характером дальнейшего повествования — напряженно-взволнованного, эмоционально окрашенного, полного глубокого внутреннего драматизма. Потому таким сильным и непосредственным было воздействие художественной публицистики Герцена на читателя.
Насколько условным иной раз выглядит разграничение в Герцене художника и публициста, достаточно ярко показывают, например, сопоставления отдельных так называемых «публицистических» фрагментов Герцена с его мемуарами — и наоборот.
«Жизнь моя сложилась рано, и я долго оставался молод. Воспоминания мои переходят за пределы николаевского времени; это им дает особый fond, они освещены вечерней зарей другого торжественного дня, полного надежд и стремлений. Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед... В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками... Я помню появление первых песен „Онегина“ и первых сцен „Горя от ума“... Я помню, как, прерывая смех Грибоедова, ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир...
«И вся эта передовая фаланга, несшаяся вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла...
В стране мятелей и снегов,
На берегах широкой Лены...«Я четырнадцатилетним мальчиком плакал об них и обрекал себя на то, чтоб отмстить их гибель» (XVII, 97).
Это — не «Былое и думы»; так писал Герцен в «Письмах к будущему другу», но вся стилевая манера приведенного отрывка говорит о его органическом единстве со стилем художественных мемуаров Герцена. «Письмо» Чаадаева в «Былом и думах» Герцен образно называет «выстрелом, раздавшимся в темную ночь»; «тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его
- 490 -
не будет, — все равно, надобно было проснуться» (БиД, 287). Тот же образ возникает в известном месте «Новой фазы русской литературы»:
«„Письмо“ Чаадаева прогремело подобно выстрелу из пистолета в глубокую полночь. Что это: извещение о каком-то бедствии, зов на помощь, знак пробуждения, вопль скорби? — Не важно. Несомненно лишь то, что после этого нельзя было больше спать» (XVII, 232).
В этом совпадении образов заложен более глубокий смысл, чем в обычной автоцитате: Герцен смело черпает из мемуаров их яркую образность, поскольку для него стилистические (как, между прочим, в ряде случаев и жанровые) отличия историко-литературной статьи от записок не имеют большого значения. В высшей степени показательно, что большой отрывок из так называемого «рассказа о семейной драме», т. е. самой интимной части «Былого и дум», им был впервые опубликован (с прямой ссылкой на мемуары) в пятом письме цикла «Концы и начала» (см. XV, 277). И это выглядело так же органично, как многочисленные цитаты из публицистических статей (не говоря уже о письмах и дневнике) на страницах «Былого и дум» (вспомним слова из некролога К. Аксакова в «Колоколе» — л. 90 от 15 января 1861 года, — которыми оканчивается глава XXX «Былого и дум», цитату из «Писем из Франции и Италии» в главе XXXIV и др.). Статья «Крещеная собственность» первоначально вообще мыслилась автору в составе «Былого и дум». В третий том лондонского издания мемуаров Герцен, наряду с «Записками одного молодого человека», включил несколько полемических статей 40-х годов, «Капризы и раздумье» и т. д., — писателю это казалось органическим дополнением к мемуарам.
Обращает внимание замечательное искусство Герцена-публициста рассматривать отдельные конкретные факты помещичьего произвола и деспотизма, частные проявления бюрократической административной системы самодержавной России как типические явления, органически присущие всему самодержавно-крепостническому строю. Многие персонажи герценовских заметок становились в полном смысле слова нарицательными образами большой обобщающей силы. Таким, например, был орловский помещик — насильник Гутцейт. Герцен как бы символизировал в нем весь дикий произвол русских крепостников над своими рабами; из номера в номер «Колокола» он возвращается к этому образу (см. л. 38, 15 марта 1859 года; л. 80, 1 сентября 1860 года; л. 85, 15 ноября 1860 года; л. 93, 1 марта 1861 года, и др.). Помещик Гутцейт, подобно губернатору Тюфяеву из «Былого и дум», настолько ярко и типично воплощал собою в живой, реальной действительности крепостнической России ее гнусные, отталкивающие черты, что мог без всякого авторского домысла служить предметом художественно-публицистического обобщения.
Реакционная критика в свое время пыталась использовать публицистические элементы в «Кто виноват?» и «Сороке-воровке», «Докторе Крупове» и «Былом и думах» в борьбе против художественного значения наследия Герцена. Либерально-дворянским и буржуазным эстетствующим идеологам претил демократический пафос, который сообщал всему творчеству Герцена единое звучание. В действительности Герцен не «принижал» художественное слово до публицистической «злободневности», как это утверждали Шевыревы и Страховы, напротив, в его литературном творчестве быть может впервые в русской литературе публицистика поднялась до подлинных высот художественного обобщения.
Передовая русская критика высоко ценила выдающийся талант Герцена-публициста. Известно, как восхищался публицистическими статьями,
- 491 -
очерками и фельетонами Герцена Белинский. «Вот, как надо писать для журнала», — восклицал он по поводу одной из философских работ Герцена («Дилетантизм в науке», статья 1).1 «Если б Герцен, — писал в апреле 1847 года Белинский Боткину, — взялся писать московский фельетон <для «Современника»), но потребовал бы 100 руб. сер. с листа: — дорого, тяжело для редакции было бы это, а согласиться ей следовало бы».2 В своих статьях Белинский последовательно отстаивал право писателя на публицистическую заостренность художественного произведения.
С большим уважением отзывался о публицистической деятельности Герцена Чернышевский. Признавая его «блестящий литературный талант», Чернышевский говорил, что «собственно по блеску таланта в Европе нет публициста равного Герцену».3 Спустя более чем полвека Кропоткин говорит о статьях Герцена в «Колоколе», что они написаны «с такой силой и теплотой» и отличаются «такой красотой формы, какие редко встречаются в политической литературе», — и далее: «Я, по крайней мере, не знаю публициста в западноевропейской литературе, которого можно бы было приравнять в этом отношении к Герцену».4 «Как политический публицист, — в те же годы говорил о Герцене Плеханов, — он до сих пор не имеет у нас себе равного».5
Гениальный ленинский анализ мировоззрения и исторической роли Герцена как «писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции»,6 с исключительной глубиной раскрыл исторические корни своеобразия художественно-публицистического творчества Герцена. Цитаты из «Колокола» в статье «Памяти Герцена» показывают, какое большое место в общем плане изучения наследия Герцена Ленин отводил публицистическим выступлениям писателя.
Наряду с публицистичностью художественному таланту Герцена была свойственна сатиричность. Сатира мемуаров Герцена восходила к его беллетристическим попыткам еще 30-х годов. В едкой, уничтожающей иронии писатель всегда видел действенное и сильное орудие борьбы. «Смех имеет в себе нечто революционное... — писал он. — Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо» (VI, 20). В одном из писем к М. К. Рейхель (февраль 1854 года) Герцен писал, что «все слышавшие небольшие отрывки <из «Тюрьмы и ссылки» (гл. XIV)>... катались со смеху и со злобы» (VIII, 59). Действительно, смех и злоба всегда шли в мемуарах Герцена рядом. Острота, каламбур, гротесковые шутки служили органическим звеном сатирического изображения действительности. Летом 1851 года Герцен советовал сыну: «А ты, милый Саша, пожалуйста, не пиши в твоих письмах каламбуров — зачем перенимать одно дурное? Пиши просто, это всего лучше» (VI, 419). Это было отрицание каламбура как пустой словесной игры, в то же время Герцен хорошо сознавал силу целенаправленного «острословия». Уже на первых страницах «Былого и дум» Герцен обильно насыщает свой рассказ остроумными шутками и каламбурами, вкладывая в них глубокий смысл, порой огромное социальное содержание. Например, во II главе, в характеристике содержания дворовых, читаем: «Плантаторы обыкновенно вводят в счет страховую премию рабства, т. е. содержание
- 492 -
жены, детей помещиком и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет, но страховая премия сильно понижается премией страха телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания» (БиД, 22).
В «Тюрьме и ссылке», рассказывая о пытках, диком произволе царских чиновников и жандармов в застенках и тайных канцеляриях, Герцен «каламбуря» пишет: «Комиссия, назначенная для розыска зажигательств, судила, то есть секла, месяцев шесть к ряду, и ничего не высекла» (БиД, 103).
Сколько горечи и гнева в этих «каламбурах»! Недаром Герцен упрекал даже Гоголя, что он «невольно примиряет смехом», что «его огромный комический талант берет верх над негодованием» (БиД, 134). Блестящий сатирический талант Герцена, автора памфлетических записок доктора Крупова и романа «Кто виноват?», шедевра литературной пародии — «Путевых записок г. Ведрина», повести «Долг прежде всего», в полной мере развернулся на страницах «Колокола» и «Былого и дум».
В лирической прозе Герцена громко слышится его возмущение, кипит его ненависть, направленные против всего реакционного и враждебного народу. Создавая сатирические типы, Герцен подчеркивал прежде всего стадный, гуртовой, обезличенный, духовно нищий животный характер, присущий враждебным народу социальным силам, группам и классам и их представителям.
Таковы, например, в изображении Герцена царское правительство, напоминающее собою хищное животное, вошедшее «во вкус крови» («Ответ Гарибальди»; XVII, 35), и западноевропейская буржуазия, в среде которой «люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным» («Концы и начала»; XV, 292—293), таковы православная церковь и ее иерархи, холопствующие перед самодержавием, с «каменным равнодушием» взирающие на бедствия крестьян и злодейства помещиков и погрязшие в плотском довольстве и пустой обрядности («Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ»; XI, 195), и бездумно порхающая по светским развлечениям, удовольствиям вдовствующая императрица Александра Федоровна, бросающая на ветер миллионы, которые насилием и разбоем выколачиваются из народа («Августейшие путешественники»; VIII, 546—547).
Резкими сатирическими штрихами, полными гнева и презрения, сарказма и иронии, очерчены эти общественные типы во всем их безобразии и бездушии, во всей их животности и ограниченности. Писатель по праву занял почетное место среди «фаланги великих насмешников» (XVII, 223) русской литературы.
Для более полного и глубокого раскрытия явлений действительности Герцен часто обращается к яркой анекдотической детали. Она служила ему творческим приемом для взаимоперехода общего и частного в полном соответствии с основным принципом построения мемуаров. В рассказах о проделках бывшего вельможи Долгорукова или «алеута» Толстого-Американца и т. п. выступали уродливые, нелепые, невероятно анекдотические формы жизни в условиях дикого произвола одних и рабской зависимости других.
В главе XXVII Герцен рассказывает, как он, будучи советником губернского правления во время ссылки в Новгород, «свидетельствовал каждые три месяца рапорт полицмейстера о самом себе, как о человеке, находившемся под полицейским надзором». «Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить, — пишет он, — я уверен, что три четверти людей, которые
- 493 -
прочтут это, не поверят, а между тем, это сущая правда...» (БиД, 249). «Я у себя под надзором» — выразительно назвал Герцен этот эпизод в подзаголовках главы.
Или другой «анекдот» из жизни николаевской России.
Пьяный священник окрестил крестьянскую девочку Василием. Когда пришла рекрутская очередь, началась канцелярская волокита, «завелась переписка с консисторией... дело длилось годы и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола». «Не думайте, — предупреждает Герцен, — что это нелепое предположение сделано мною для шутки; вовсе нет, это совершенно сообразно духу русского самодержавия» (БиД, 143). Так мелкий эпизод завершался глубоким, обобщающим выводом. Не «для шутки», а в тех же целях более полного раскрытия характера Герцен обращается к сюжетно-анекдотическим рассказам, рисуя образы друзей. И в совокупности восстанавливается живой художественный образ, законченный литературный портрет.
«В характеристике людей, с которыми он сталкивался, у него нет соперников»,1 — восклицал И. С. Тургенев. Портретная галерея «Былого и дум» поистине необъятна — от сатирических, порой гротесковых, образов российских правителей, начиная с коронованного «будочника будочников», до грустно-печальных страниц о трагической судьбе Вадима Пассека, Витберга, Полежаева, от подчеркнуто-беспристрастного рассказа о славянофилах до трогательно-нежных поминаний друзей, от величавых портретов Гарибальди, Оуэна, Маццини до тонкой иронии в характеристиках таких деятелей революции 1848 года, как Ледрю-Роллен и др. Представители различных революционных поколений и столпы реакции; пропагандисты передовых идей и идеологи либерализма; русские дворянские революционеры и французские буржуазные демократы; духовные вожди своего времени и рядовые интеллигенты; виднейшие деятели мировой культуры и простые люди; русские разночинцы и пролетарии Западной Европы; духовно растущий человек из народа и холопы — «фанатики рабства»; помещики-крепостники и их рабы; царь, его вельможи и сатрапы и правители буржуазной республики; теоретики революции и практики-революционеры; революционные вожди и «хористы революции»; естествоиспытатели и артисты; поэты и историки; финансовый король и мелкие буржуа; православный архиерей и католический священник; люди героической целеустремленности и люди неудавшиеся, «лишние»; «эксцентрические» личности, ярко воплощающие характер своего народа, и стертые, безличные представители буржуазной посредственности; дальновидные мыслители и дилетанты; дешевые оптимисты и пошлые скептики, и т. д. — такова лишь небольшая часть тех типов, которые в «Былом и думах» воплощены в глубоко индивидуализированных характерах и собирательных характеристиках, в поэтических образах и сатирических определениях. Герцен владел, поистине, неисчерпаемыми возможностями лаконического, меткого и тонкого определения самой сущности характера, в нескольких словах очерчивая образ, схватывая самое основное и определяющее в его облике.
Портрет живого исторического лица у Герцена ярко сочетается с художественной публицистикой и философскими отступлениями, глубоко раскрывая духовное богатство и содержание образа. Писатель не стремится к полноте внешней характеристики, житейский облик обычно передается двумя-тремя
- 494 -
резкими и яркими штрихами, часто повторяющимися в дальнейшем ходе рассказа. Оуэн, например, рисуется как «маленький, тщедушный старичок, седой, как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом — с тем голубым детским взглядом, который остается у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты». Через несколько строк Герцен снова вспоминает его «добрый, светлый взгляд», «голубой взгляд детской доброты», его «пожелтелые седины» и «старую, старую голову» (БиД, 625 и сл.), но к новым деталям внешнего облика он не обращается. Строгий портрет Оуэна выразительно подчеркивает эпическую величественность образа, возвышающегося над серыми буржуазными буднями и их мелкой «героикой». Обличительный публицистический пафос очерка, который Герцен считал одной из лучших своих статей (см. письмо к сыну от 17 апреля 1869 года; XXI, 367), в этом контрасте находит свое художественное разрешение и оправдание.
Не бытовые подробности, а характеристика душевно-морального склада, социально-политической роли интересует прежде всего Герцена-портретиста. И. С. Тургенев оставил весьма пространные воспоминания о Белинском, но как несравнимо глубже и полнее раскрывают лаконичные страницы «Былого и дум» «мощную, гладиаторскую натуру» великого демократа. Огарев характеристику Белинского в «Былом и думах» называл лучшим очерком этой личности: «Я не знаю, — писал он, — более верно охваченного характера и страниц, более проникнутых горячим чувством дружбы и преданности делу освобождения».1
Непримиримая страстность Белинского, обаяние Грановского, печаль и злая ирония Чаадаева — в воспоминаниях Герцена становятся идейно-психологическим стержнем «портрета». Постоянно Герцен прибегает в зарисовках к ярким, типическим эпизодам из жизни интересующего его лица. Заставляя «героя» действовать, он свое отношение к нему передает в общем тоне рассказа, в самом выборе его фактичности, в отдельных портретных черточках, в попутных, как бы случайных, замечаниях.
Необычайная жизненность литературного воплощения в характеристиках Герцена вытекала из осознания общественного места и значения личности. Когда же историческая роль того или иного предшественника или современника оставалась не понятой писателем, его мастерство художника было бессильно запечатлеть образ на страницах записок. Неудача, которая постигла Герцена, когда он в главе «Немцы в эмиграции» обратился к характеристике Маркса, весьма показательна и поучительна. Тенденциозность этих страниц, откровенно враждебных Марксу и «марксидам», лишила герценовский рассказ какой бы то ни было познавательной и художественной ценности.
Герцен был противником обезличенного, равнодушного творчества, прикрывающегося в теоретических высказываниях фиговым листком так называемого «объективизма». По его мысли, поэт должен всюду вносить «свою личность», и «чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце» (V, 190). Лиризм, охватывающий всю сферу личных переживаний и взглядов художника, был вообще характерен для писательского склада Герцена. По одной беллетристике Белинский уже причислял его к тем поэтам, для которых «важен не предмет, а смысл предмета». «Поэтому, — продолжает критик, — доступный их таланту мир жизни определяется их задушевною мыслию, их взглядом на жизнь» (XI, 112).
- 495 -
Лучшие страницы «Былого и дум» отмечены печатью «задушевной мысли» Герцена. Искренний и глубокий лиризм мемуаров придавал рассказу те тона «светлого смеха» и «светлой грусти», в которых отражались идейные и личные раздумия, искания, драмы писателя. Они действительно создавались его «слезами и кровью».
Заражая читателя своей любовью или ненавистью, восхищением, негодованием или презрением, «Былое и думы» покоряют неотразимым влиянием искренности и силы герценовского слова. Рассказать свою жизнь для Герцена означало исповедать свои убеждения. «Это — не столько записки, — говорил он, — сколько исповедь...» (БиД, 3). И в этой интимной лирической исповеди своеобразно преломились величайшие исторические потрясения эпохи.
Лирическим, личным отношением проникнуто все повествование «Былого и дум». Мы не говорим уже о трагизме главы «Oceano nox» («Ночь на океане») и всего «рассказа о семейной драме». Герцен остается лириком в мемуарной публицистике, в политических и философских отступлениях. Драматизм его идейных исканий отвергал эпическую холодность мемуарного «объективизма». Герцен не подводил «итогов» своей жизни, но прежде всего ощущал себя художником, писал глубоко волнующую его лирическую поэму.
Лиричен герценовский пейзаж. В одно неразрывное целое у него сплетаются описание природы и передача ощущений, вызванных, рожденных волнующей близостью к ней. Каким разительным контрастом выглядят картины села Васильевского в середине и в конце главы III первой части «Былого и дум»! Ранние воспоминания о деревенской жизни полны трогательной поэзии русской природы, поэзии тихих сельских вечеров. Это — подлинно поэтическая картина, напоминающая пейзажную живопись Тургенева, Чехова, Левитана.
Горький видел в Герцене одного из «своеобразных стилистов» русской литературы, называя автора «Былого и дум» первым в ряду таких писателей, как Некрасов, Тургенев, Салтыков, Лесков, Г. Успенский, Чехов.1 Блестящее мастерство слова в художественных и публицистических произведениях Герцена вызывало восторженные оценки уже у современников писателя.
Тургенев говорил Вырубову, что Герцен «был рожден стилистом».2 Известно, как восхищал всегда автора «Записок охотника» язык Герцена, особенно — язык и стиль его воспоминаний «приводит меня в восторг: живое тело», «так писать умел он один из русских».3
Герцен высоко ценил богатейшие возможности русского языка: «...главный характер нашего языка, — читаем мы в «Былом и думах», — состоит в чрезвычайной легости, с которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, „жизни мышья беготня“, крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть» (БиД, 217). В письмах к Мишле он отстаивал русский язык как «звучный, богатый», «язык гибкий и могучий, способный выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французского остроумия» (VI, 455).
- 496 -
В языке записок Герцена творческая индивидуальность писателя воплотилась особенно ярко. «Его ум — ум исключительный по силе, как его язык исключителен по красоте и блеску», — говорил о Герцене Горький.1 Язык Герцена, несомненно, явится предметом специальных научных исследований.
Богатство словаря, смелость фразеологии, изобилие неологизмов, в значительной своей части оставшихся в литературном языке и обогативших его, сложное сплетение и взаимопроникновение различных лексических слоев, органически объединенных лирическим потоком герценовской речи, характеризуют язык Герцена.
В художественных произведениях Герцена мы видим переплетение поэтической лексики с философскими и публицистическими формулами, просторечия с научной терминологией, отражавшее процессы, происходившие в литературном языке эпохи, и вместе с тем неизменно служившее эстетическим целям писателя.
Так, в главке «Alpendrücken»2 последней части «Былого и дум» Герцен, передавая впечатления и переживания, навеянные книгой Леру, использует поэтический словарь в многообразии его стилей и оттенков. Здесь и смутные, болезненные сновидения («За вами гнались, гонятся по пятам не то люди, не то привидения...»), здесь звучит и светлое пушкинское «Да здравствует разум!», здесь встает перед нами ясная радостная картина природы: «Свежий светлый рассвет на дворе, ветер осаживает в одну сторону туман, запах травы, леса, звуки и крики...». Обороты просторечия («душил домовой») сочетаются с философски-публицистическими формулами, причем и тем и другим средством доказуется несостоятельность мышления, оторванного от действительности, творчески бесплодного, питающегося лишь устарелыми литературными источниками, бесцельно фантазирующего: «Процесс, которым развивается их <представителей французской буржуазной демократии, утерявших свою революционность. — Ред.> мысль, для нас непонятен; они идут от слов к словам, от антиномий к антиномиям, от антитезисов к синтезисам, не разрешающим их; иероглиф принимается за дело, и желание — за факт».
Герцен, всегда неистощимо изобретательный в области метафорического пояснения и углубления своей мысли, привлекает в этих целях и научную терминологию: «...колоссальные запасы слов и образов мерцают в их мозгу, как фосфоресценция моря, не освещая ничего». И тут же этот идейный интеллектуальный процесс встает перед ним, образно воссозданный средствами поэтического языка, вобравшего в себя при этом и философскую формулу: «Какой-то вихрь, подметающий перед начинающимся катаклизмом осколки двух-трех миров, снес их в эти исполинские памяти без цемента, без науки» (БиД, 815—816).
Блестящие афоризмы, неожиданные эффектные сближения, сравнения и метафоры придают языку Герцена изумительную яркость и красочность. Герцен добивался непринужденного стиля рассказа, естественной простоты как в языке, так и в развитии действия. Горькая ирония у него чередуется с забавным анекдотом, а саркастическая насмешка — с легким каламбуром; редкостный архаизм уступает место смелому галлицизму, народный русский говор сосуществует с обилием иноязычных слов. В этих контрастных столкновениях проявляла себя характерная экспрессивность стиля Герцена.
- 497 -
Неожиданные острые контрасты служили излюбленным приемом Герцена-стилиста. Порою они нарушали обычное представление о «нормах» литературного языка. В галлицизмах и «неверностях в языке» «Былого и дум» упрекал Герцена Тургенев:1 «...слог твой уже чересчур небрежен», — пишет Тургенев Герцену об отрывках в третьей книжке «Полярной звезды».2 «Это тем более неприятно, — продолжает он, — что вообще язык твой легок, быстр, светел, и имеет свою физиономию...».3
То, в чем Тургенев видел «до безумия неправильный» язык,4 самому Герцену казалось органически необходимым художественным звеном рассказа, не отклонением и нарушением литературной нормы, а выражением его, герценовского, понимания этой «нормы».
Герцен отталкивался от спокойного, размеренного течения традиционного беллетристического повествования. В его мемуары врывалась сама жизнь со всей ее хаотичностью и закономерностью, с ее «неправильностями» и строгой последовательностью, в ее сложности, контрастах, в борьбе и единстве противоположностей.
Мемуарам свойственна крайняя напряженность, динамичность как в языке и стиле, так и в самом построении предложения. «Надобно фразы круто резать, швырять и, главное, сжимать» — учил Герцен Огарева (XX, 32; письмо от 25 октября 1867 года).
Герцен бесконечно варьирует свою фразу, под его пером построение предложения становится гибким и выразительным литературным приемом. Фразы «круто режутся и швыряются», как в отрывке «После набега» — замечательном образчике герценовской экспрессии и политической патетики. В сосредоточенном драматизме «рассказа о семейной драме» они достигают предельной лаконичности и сдержанности (см., например, гл. «Смерть»).
Излюбленной формой образного и динамического раскрытия мысли Герцену служил диалог — во всех его видах, от безыскусственной, непринужденной беседы до диалога напряженного, протекающего почти без авторских ремарок. Воздействие герценовского диалога необычайно сильно. В «Былом и думах» диалог возникает в самых драматических эпизодах: в описаниях памятных Герцену событий его личной жизни (гл. «Третье марта и девятое мая 1838 года»), вспомним рассказ о «маленьком романе» с Медведевой в главе «Разлука», потрясающую по своему сдержанному трагизму сцену смерти Natalie, встречу Полежаева с Николаем I, диалоги «Западных арабесок» и т. д.
В других случаях благодаря диалогической форме ярче обрисовывались облик и убеждения герценовского «собеседника». Иногда диалог явно инсценируется автором в тех же целях более полной характеристики образа (например в рассказе исправника в главе XV, см. также «великолепную сцену», говоря словами Герцена, с полковником в начале главы «Апогей и Перигей», портрет Голицына в той же главе, диалоги главы «М. Бакунин и польское дело»).
Диалог открывал широкие возможности для введения в мемуары живой речи, непосредственно разговорного языка, к которому Герцен стремился и в авторском тексте. Те же цели, в известной мере, достигались через воспроизведение в записках подлинных писем — самого Герцена, его
- 498 -
жены и многих других лиц. В результате образовывались те сложные языковые сочетания, которые каждый раз поражают читателя своей смелой пестротой. Наряду с тем, Герцен охотно пользуется изысканным литературным сравнением, ассоциацией, обращаясь не только к художественным образам и цитатам из различных произведений, но также к их фабульным ситуациям. Это можно было проследить уже в беллетристике и в публицистическом творчестве писателя. В романе «Кто виноват?», например, один из эпизодов напомнил героине повести, Глафире Львовне, «сцену из Новой Элоизы», а другой показался — уже самому Герцену — «сценой из Фоблаза» (IV, 247), вспомним излюбленный герценовский образ «Дон Кихота революции» в «Концах и началах» и т. д. В мемуарах Герцен сравнивает Кетчера с «Ларавинье в превосходном романе Ж. Санд „Орас“» (БиД, 192); в «Camicia Rossa» он обращается к Гарибальди: «Ступай на свою скалу, плебей в красной рубашке и король Лир! Гонерилья тебя гонит, оставь ее, у тебя есть бедная Корделия, она не разлюбит тебя и не умрет!» (БиД, 671).
В своей статье о Герцене Н. И. Сазонов пророчески писал, что «Былое и думы» «долго будут жить, как национальный памятник и литературный шедевр». Сазонов справедливо подчеркнул национальное своеобразие этого «лучшего произведения знаменитого писателя». Герцен, по словам Сазонова, «всегда остается верен своей национальности, когда говорит о западной Европе. В этом великая ценность его книги, его стиля и, скажем даже, его личности; это-то и делает его в истории умственного развития России выразителем существенного перелома, зачинателем новой эпохи».1
Сазонов тонко подметил устремленность к будущему герценовского рассказа о «былом». Этого оказались не в состоянии понять русские либералы. В своих оценках, порой самых восторженных, либералы постоянно ограничивали идейное значение «Былого и дум» тесными пределами воспоминаний. Кавелин писал Герцену (август 1857 года): «...живое единогласное искреннее сочувствие вызывают собственно твои воспоминания из прошлой твоей жизни...».2 Б. Н. Чичерин в своих мемуарах признается: «„Былое и думы“ я всегда перечитываю с истинным наслаждением, так тепло, умно и изящно изображено в нем прошлое».3
Глубокое отличие «Былого и дум» от мемуаров обычного типа отчетливо сознавал сам Герцен. Однажды Тургенев, вообще оставивший немало тонких наблюдений над языком и стилем «Былого и дум», сопоставил их с «Семейной хроникой» Аксакова. «И это не так противоположно, как кажется с первого взгляда, — писал он Герцену. — И его и твои мемуары — правдивая картина русской жизни...».4 Несмотря на оговорки о «двух концах» русской жизни и «двух различных точках зрения»,5 Герцен не согласился с Тургеневым (см. письмо от 25 декабря 1856 года; VIII, 379). В самом деле, за аксаковскими картинами патриархального дворянского быта, окутанного фамильными преданиями, стояло совсем иное мировоззрение, чем в мятежных записках Искандера. Герцен уже на первых страницах «Былого и дум» противостоял всему укладу жизни Багровых и усадебных самодуров Куролесовых. Решительно порвав с миром «крещеной собственности», он выступал не благодушным его
- 499 -
писателем-летописцем, а страстным обличителем, человеком новых, революционных верований. Сравнивая те же «отроческие воспоминания Аксакова и Герцена», А. М. Горький справедливо подчеркивал, «насколько круг интересов первого у́же интересов последнего».1
Выдающееся достижение русской литературы XIX века, «Былое и думы» имели подлинно международное значение. Созданные вдали от родины, но полные чувства великой любви к русскому народу, горячей веры в его свободное будущее, — мемуары Герцена проникнуты идеей свободного братства народов, ненавистью к цивилизованному варварству буржуазной реакции. Личная дружба Герцена с крупнейшими деятелями освободительного движения в странах Западной Европы, их портреты на страницах «Былого и дум» — как бы воплотили собою взаимопроникновение революционно-освободительной традиции России и Запада.
Герцен был одним из первых русских писателей, получивших признание передовых общественных кругов на Западе. Он показал международному общественному мнению неиссякаемые источники внутренней силы, обаяния и мужества русского человека, скованного самодержавным режимом, но непреклонно стойкого в борьбе за честь и счастье отчизны. В этом чувстве героического патриотизма он видел залог революционного обновления родной страны. Его слова о том, что «кроме официальной, правительственной России, есть другая» (IX, 459), невольно перекликаются в нашем сознании с известным ленинским противопоставлением: «Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова».2
«Былое и думы», наравне с публицистикой Герцена, действительно «знакомили Европу с Русью», утверждая всемирноисторическое значение русского народа и его освободительной борьбы.
По мере публикации Герценом новых и новых отрывков мемуары приобретали значение мирового художественного явления.
Известен взволнованный отзыв великого французского писателя Виктора Гюго о «Былом и думах»: «Благодарю вас, — писал он Герцену, — за прекрасную книгу, которую вы прислали мне. Ваши воспоминания — это летопись счастья, веры, высокого ума... ваша книга восхищает меня от начала до конца. Вы внушаете ненависть к деспотизму, вы помогаете раздавить чудовище; в вас соединились неустрашимый боец и смелый мыслитель».3
В наши дни мемуары Герцена стали одной из любимых книг советского народа, законной гордостью великой русской литературы и культуры. Как литературное произведение большой и самобытной художественной силы и как историко-мемуарный документ «Былое и думы» принадлежат к числу самых выдающихся явлений русской общественной мысли.
9
Беллетристические произведения Герцена 60-х годов, периода расцвета деятельности великого революционного демократа, представляют значительный интерес. В них отчетливо ощутимо критическое восприятие писателем многих старых своих убеждений, своеобразная полемика с самим собой, за которой открывались новые стороны и грани в его отношении
- 500 -
к важнейшим вопросам общественного развития. Наряду с заключительными главами «Былого и дум» и письмами «К старому товарищу», такие произведения Герцена 60-х годов, как «Трагедия за стаканом грога», очерки «Скуки ради» и повесть «Доктор, умирающий и мертвые», рисуют его в процессе изживания иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма. Они показывают дальнейшее развитие литературного мастерства Герцена-беллетриста. Реалистическое искусство писателя, пронизанное тем же «могуществом мысли», которое еще в 40-х годах восхищало Белинского, стало более зрелым, сосредоточенным, целенаправленным. Многолетний опыт революционной борьбы, идейных схваток, мучительных разочарований, радостных побед научил его в мелких, повседневных явлениях действительности зорко различать отражение широкого исторического процесса, отчетливее видеть типические черты происходящих событий.
«В каждой задержанной былинке несущегося вихря те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотах, и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется» (XVII, 272). Так писал сам Герцен в небольшом рассказе «Трагедия за стаканом грога» (1864) — своем первом беллетристическом произведении после более чем десятилетнего перерыва. Судьба слуги одного из загородных трактиров под Лондоном подчеркнуто характеризуется в рассказе как явление, характерное для всего буржуазного строя.
«У меня перевернулось сердце при виде обнищавшего слуги...», — пишет Герцен.
«Знаете ли вы, что значит везде, и особенно в Англии, слово нищий, beggar, произнесенное им самим? В этом слове заключается все: средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи... всякой защиты, лишение всех прав... даже права просить помощи у ближнего...» (XVII, 276).
За образом несчастного слуги Герцену рисуются миллионы простых тружеников, раздавленных капиталистическими отношениями, униженных эксплуатацией, жалких в своем бесправии: «...трава грядой падает, подрезанная косой, и мы, не замечая, топчем ее ногами, идучи за своим делом» (XVII, 276). Рассказ замечателен своим демократизмом, тем глубоким сочувствием, с которым великий русский писатель относится к трагедии простого народа Англии.
С большой силой в рассказе прозвучал исторический пессимизм Герцена после поражения революции в Европе. В нем нет даже намека на активное, действенное сопротивление народных масс насилию, на возможность какого-либо реального протеста против буржуазных порядков. Образ подрезанной травы глубоко знаменателен: Герцен попрежнему не верит в революционную активность «работников», в то же время он скептически смотрит на «великих нищих», тех многочисленных представителей буржуазной демократии, «прибиваемых со всех сторон к английскому берегу», которых он встречал среди лондонской эмиграции. «Да, я знал великих нищих, и потому-то, что я их знал, я и жалею слугу в „Георге IV“, а не их» (XVII, 277).
Спустя несколько лет Герцен станет совсем иначе оценивать будущее исторического развития Европы. Ценность беллетристики 60-х годов в том и состоит, что она дает возможность наглядно ощутить само движение мысли Герцена, нарастание в его мировоззрении нового отношения к последствиям буржуазной революции на Западе.
В 1868—1869 годах в петербургской еженедельной газете «Неделя» за подписью «І. Ніонскій» печаталась серия очерков Герцена «Скуки ради».
- 501 -
«Вот тебе новость, — писал Герцен сыну 31 января 1869 года, — статья моя под заглавием „Скуки ради“, и притом очень радикальная, напечатана в петербургском журнале „Неделя“ с подписью „Ніонскій“ и почти без малейшей перемены. Я послал тотчас другую половину» (XXI, 279).
Очерки Герцена действительно носили «радикальный» характер. Его отрывочные, случайные замечания и наблюдения — в вагоне, омнибусе, казино, ресторане, — попутные характеристики, разрозненные, но меткие и по-герценовски сочные, яркие мазки в своей совокупности воссоздавали законченный тип буржуа — самодовольно-ограниченного, тупого, лицемерного. Герцен разоблачает одного из поклонников наполеоновского режима, причем, верный своей манере, он не спорит с ним сам, а сталкивает его с доктором, чудаковатым скептиком, резкие парадоксы и «несколько угловатый юмор» которого шокируют обывательскую натуру буржуа. «Меня сердит театральное негодование и грошовая нравственность этих господ, — говорит доктор. — Долею все это — ложь, комедия, а долею того хуже...» (XXI, 163). Но ирония и отрицание доктора бессильны, и прежде всего потому, что он не видит в социальной действительности Франции тех лет активного созидающего начала — рабочего класса, народа. «Людей, — считает он, — совсем не надобно исправлять и переиначивать, оно же и не удается никогда. Умнее станут, — сами кое в чем поисправятся, хотя, все же, останутся людьми...» (XXI, 177). Философия доктора неприемлема для Герцена, настойчиво освобождающегося от скептицизма и пессимизма в вопросах общественного развития.
Эта тема вновь возникает в написанной вслед за очерками «Скуки ради» последней повести Герцена «Доктор, умирающий и мертвые».
Повесть была начата Герценом в марте и окончена летом 1869 года, за несколько месяцев до смерти. По художественной яркости образов, запечатлевших нравы современной ему буржуазно-мещанской Франции, она принадлежит к числу наиболее выдающихся произведений Герцена-беллетриста. Повесть создавалась одновременно с письмами «К старому товарищу» и отразила на себе глубокое воздействие их идей. В ней нашли художественное воплощение мысли и настроения Герцена в эпоху кризиса Второй империи, накануне Парижской Коммуны.
Истоки повести в творчестве Герцена лежат, однако, далеко за пределами 60-х годов. Они возникают вместе с ее основной темой — темой торжества реакции, мещанской пошлости, либеральной фразы после поражения революции 1848 года, темой измены революционным традициям 1789 и 1793 годов. С повестью перекликаются многие страницы книги «С того берега» и «Писем из Франции и Италии», в которых даже упоминался прообраз ее центрального героя — бывший член Конвента, 96-летний Сержан, которого иезуиты 40-х годов тщетно пытались обратить «на путь истины» и «заставить отречься от прежней жизни своей» (VI, 7).
Более отчетливо замысел повести созревает в сознании Герцена в начале 60-х годов, когда он в цикле писем «Концы и начала» писал о типе «Дон Кихота революции, старика 89 года, доживающего свой век на хлебах своих внучат, разбогатевших французских мещан; он не раз наводил на меня ужас и тоску» (XV, 259). В третьем письме цикла эта мысль получает развернутое изложение, подлинную программу будущей повести. Видимо, Герцен уже тогда, в 1862 году, серьезно задумывался над художественным разрешением глубоко волновавшей его темы и образа. Больше того, писатель намечает некоторые сюжетные ситуации, впоследствии весьма точно воспроизведенные им в повести.
- 502 -
Но когда весной 1869 года Герцен непосредственно обратился к работе над давно задуманной повестью, его внимание привлекал уже не столько сам по себе тип Дон Кихота революции, сколько общий вопрос об исторических судьбах буржуазной революции во Франции (и, разумеется, не одной Франции). Герцен неслучайно писал свою повесть именно в те дни, когда прогнивший режим Наполеона III начал шататься под ударами нового мощного подъема революционного движения французского пролетариата. Вторая империя неумолимо шла навстречу своей гибели. «Здесь хаос, и мы бродим на вулкане, — писал Герцен в октябре того же 1869 года, — ...эта страница парижской жизни сто̀ит томов. Положение гораздо больше натянуто, чем издали кажется» (XXI, 505). В накаленной атмосфере столицы Герцен с гениальной проницательностью ощущал приближение больших революционных событий. В знаменитом предсмертном письме к Огареву он пророчески предсказывал: «Что будет, не знаю, я — не пророк, но что история совершает свой акт здесь... — это ясно до очевидности» (XXI, 553).
В ожидании этого очередного «акта» истории Герцен вновь обращается к революционному прошлому. Чтобы правильно оценить наступающие события, ему необходимо еще и еще раз продумать и разобраться в историческом опыте революции. Так повесть Герцена о последнем из якобинцев, умирающем в день февральской революции, под звуки Марсельезы, с вестью о торжестве республики, стала своеобразным историческим очерком о трех революционных поколениях — 1789, 1848 и кануна 1871 года.
В первой же главе повести — «Доктор» — Герцен намечает контрастное сопоставление деятелей революции 1848 года с героическим поколением эпохи Французской буржуазной революции. Собеседником писателя вновь выступает все тот же скептически настроенный доктор — продолжение и развитие центрального персонажа очерков «Скуки ради». По своим политическим взглядам доктор — весь в прошлом. «Я никогда не брал прямого участия в политике», — говорит он, но тут же признается, что это отнюдь не значит, что он «не имел своих пристрастий» (XXI, 460). Он горячо верил в идеалы революции, ему казалось — она воплотит в себе лучшие традиции того славного времени, о котором он не может вспоминать без глубокого волнения. Но действительность обманула его. Жалкими и ничтожными кажутся доктору современные ему вожди буржуазной республики. «Вы не подумайте, что я враг этих людей» (XXI, 459), — предупреждает он собеседника. Действительно, доктор отнюдь не является носителем того будущего, которое отрицает настоящее, его восприятие буржуазной революции целиком обусловлено самой буржуазной революционностью на более ранней ступени ее развития, и тем не менее «сводный портрет временного правительства 48 года», который рисует доктор, беспощаден. «Вместо „отцов отечества“ вышли какие-то квартальные на следствии» (XXI, 459).
Доктор не верит в революционные возможности народа, он убежден в постоянном соответствии «правительства или полиции с темпераментом французов», и Герцен недаром спрашивает у него: «Вы хотите сказать, что Франция имеет право на империю так, как виновный на наказание?» (XXI, 457).
Разговор с доктором, которым начинается повесть, будет иметь большое значение для понимания последующего развития действия и идейного содержания произведения. В нем поставлена основная проблема всей повести — тема крушения буржуазных иллюзий в социализме и необходимости преодоления вызванного им исторического скептицизма.
- 503 -
Сопоставление двух революционных эпох, намеченное в диалогах первой главы повести, получает образное воплощение в главе второй — «Умирающий».
Герцен рисует величавый, суровый образ страстного республиканца, одного из «последних могикан» революции, «непримиримых, неисправимых стариков девяностых годов».
Жизнь Ральера, друга и горячего поклонника якобинца Ромма, сложилась бурно и прошла в тревогах и борьбе. Свои последние дни старик доживает у сына, известного нотариуса в Париже, большого дельца, далекого от каких-либо республиканских увлечений, опутанного предрассудками своего класса; как и его жена, он больше всего боится, что старик скомпрометирует их общественное положение. Когда Ральера разбивает паралич, Изидор принимает все меры к тому, чтобы в последнюю минуту над умирающим был совершен церковный ритуал. Старик чувствует, что вокруг него образован заговор; страстный атеист, он просит доктора не оставлять его и не допустить к его одру «черного таракана». Но все попытки доктора убедить нотариуса или помешать ему осуществить свой замысел бесплодны. «Как же имя, особенно женское, аристократическое, пойдет в мою студию после гражданских похорон моего отца? — отвечает Изидор. — Вы не подозреваете чудовищную силу предрассудков в нашем обществе!» (XXI, 473). Старик, до конца дней сохранивший свою преданность республиканским идеям якобинцев, умирает с вестью о победе революции — и криком ужаса при виде появившегося в дверях аббата.
Драма Ральера вовсе не в том, что его сын не стал наследником его идей («не туда направлен ум» — говорит старик; XXI, 468). Подлинная драма старого якобинца заключается в том, что он вообще не видит у своего поколения духовных наследников. Тема «отцов» и «детей» принимает ярко выраженный социальный характер, становится темой вырождения самих идей буржуазной революции. Настоящим героем рассказа выступает Изидор Ральер.
Изидор не скрывает своего отношения к отцу как к пережитку прошлого. «Ригоризм» Ральера он называет «совсем не принадлежащим нашему времени»; себя же Изидор, напротив, причисляет к «людям нашего века». Он умеет находиться на уровне событий: «Если наша возьмет», — говорит Изидор, указывая на волнующуюся улицу, и эти слова глубоко знаменательны. Недаром в следующей главе повести Марраст, председатель Учредительного собрания после февральской революции, называет молодого Ральера «преданным республиканцем». Но не о такой «республике» мечтал его отец.
Иллюзия «единой и нераздельной республики», побеждающей за окнами комнаты, придает картине угасания старого Ральера истинно трагический характер. Звуки Марсельезы воскрешают в памяти умирающего Ральера героические образы прошлого. Он не видит, что революция, озарившая закат его жизни, расчищает дорогу к власти для таких буржуа-обывателей, как его сын.
Сцена смерти последнего из якобинцев в первый день буржуазной революции глубоко символична. Июньские дни еще были впереди, но разочарование и скептицизм овладевают доктором. Ральер умер во-время, революция разрушила бы его иллюзию. Иезуит, направляющийся к своей добыче, выступает как воплощение будущего торжества буржуазной реакции.
Главу о тех, кто пришли Ральеру на смену, Герцен кратко и выразительно назвал «Мертвые». Доктор рассказывает о завтраке у Марраста, месяца три спустя после похорон Ральера. «Это была приемная временщика
- 504 -
Меттерниха при царе-народе» (XXI, 480), — вспоминает доктор о приемной зале республиканского президента. Временщиками выглядят в его рассказе и сами вожди «второй республики», быстро, еще в медовый месяц своего президентства, усвоившие ложь и лицемерие, которые помогли буржуазной реакции захватить власть.
Марраст, этот, по выражению Маркса в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», республиканец в желтых перчатках,1 пытается победу республики представить как воплощение революционных традиций Франции. Но каждое слово Марраста разоблачает его ренегатство и лицемерие, Марраст поучает доктора, что народ «надобно всеми средствами приучить к республике, воспитать к свободе и пониманию права» (XXI, 482), что «исполнение религиозных обрядов большинства народа до некоторой степени обязательно для всех», и т. д. «Давно ли это, — спрашивает доктор, — наш президент сделался из вольтерианцев клерикалом и проповедует церковные обряды?» (XXI, 482).
Герценом хорошо сознавалась большая обличительная сила, заключавшаяся в таких образах повести, как Изидор Ральер или Марраст. «Это — французам орешек с горьким миндалем», — писал он Огареву 24 марта 1869 года, сообщая о написанном им «новом рассказце» (XXI, 333).
В галерее созданных Герценом художественных образов ненавистного ему буржуазно-мещанского мира портреты «мертвых» из последней повести писателя принадлежат к числу самых острых и ярких. И все-таки они были для Герцена в известной степени повторением пройденного. «Что же это доказывает?» — спрашивает он доктора в «Эпилоге» повести, написанном спустя несколько месяцев после главы о Маррасте.
Быть может, чтобы уяснить себе ответ на этот вопрос, повесть и была написана Герценом. Он не мог в конце 60-х годов остановиться на признании поражения революции и торжества «мертвых». В отличие от доктора, Герцен мучительно искал все эти годы «живых» сил истории. В «Эпилоге» его беседа с доктором перерастает в скрытую полемику, имеющую исключительно важное значение. Повесть свидетельствовала о решительном пересмотре Герценом своего прежнего понимания исторического смысла и значения революции 1848 года. Пу́сть он попрежнему не смог до конца понять классовой природы либерализма, пусть еще весьма смутно представлялась ему будущая всемирноисторическая роль пролетариата, однако, несомненно, что в конце 60-х годов Герцен подвергнул острой критике пессимизм и скептицизм, порождавшиеся поражением революции 1848 года и наполеоновским режимом. Герцен осуждает своего собеседника за безысходный социальный скептицизм. Его внимание приковано к «современной борьбе капитала с работой», к «новым силам и людям» в революции. Кровь, «кажется, миновать трудно, — пишет Герцен в «Эпилоге» повести. — Один стан растет не по дням, а по часам, другой свирепеет...» (XXI, 484). Приближаясь к правильному взгляду на историческую роль пролетариата, Герцен ждет нового подъема революционного движения на Западе.
Выше мы отмечали, что в беллетристике Герцена 60-х годов проявили себя новые стороны его художественного мастерства. Возвращение к повествовательным жанрам отнюдь не означало повторения стилевого характера беллетристических произведений 40 — начала 50-х годов. Для Герцена — революционного демократа — неизмеримо возросла общественная значимость литературного творчества, его активная, действенная сила.
- 505 -
Опыт работы над «Былым и думами», многолетняя публицистическая деятельность в «Колоколе» и на страницах других изданий Вольной русской типографии не прошли даром: Герцен наглядно убедился, как велико влияние печатного слова на социально-политическую жизнь людей.
Единство цели стоящих перед ним революционных задач по-новому осветило для Герцена проблему самых жанров литературных произведений. Не только художественная автобиография, мемуары, но и повесть, очерк, политический памфлет и фельетон утратили в его творчестве свои традиционные черты.
В новом качестве выступают в беллетристике 60-х годов публицистические рассуждения как автора, так и отдельных действующих лиц. Повесть «Доктор, умирающий и мертвые» открывается диалогом, не имеющим прямого сюжетного отношения к ее основному содержанию. Однако беседа автора с доктором, сюжетно обрамляя рассказ, служит в то же время его органической составной частью. Публицистические и сюжетно-повествовательные элементы образуют законченное идейно-художественное целое, и это было значительным достижением Герцена-писателя.
Герцен смело раздвигает рамки жанра. Связь замысла «Доктора, умирающего и мертвых» с публицистическим циклом «Концы и начала», перекличка отдельных эпизодов повести с «Былым и думами» — это не только важные моменты ее творческой истории, но отражение сложности композиции и стиля самой повести, действительно включавшей в себя и черты разных жанров. Так же построен рассказ «Трагедия за стаканом грога» с его философско-публицистическими обобщениями в начале и конце. Еще более пестрым сочетанием жанров отличаются очерки «Скуки ради». Близость художественного стиля Герцена в этих очерках и в «Былом и думах» несомненна. Очерки Герцена крайне своеобразны — путевые впечатления, случайные размышления «скуки ради», записи дневникового характера, воспроизведение разговоров чередуются с откровенно публицистическими отступлениями. Так «вклинивается» в наблюдения автора над пассажирами в вагоне целая глава о «силе глупости» в мире — предрассудков, привычек, невежества, фанатизма и т. п. (см. XXI, 157—159). Главы о Женеве по началу продолжают путевой дневник Герцена, но буквально через несколько строк автор увлекается рассказом о женевцах, их характере, занятиях, затем переходит к истории города, начиная с конца XVIII века, и т. д.; путевой очерк становится законченной по своему жанру публицистической статьей. В соседних главах воспоминания словоохотливого доктора составляют целую серию самостоятельных эпизодов, а рассказ о Маргарите (гл. VIII) перерастает в отдельную новеллу. Такая композиция очерков сближала их с недавно законченными — или временно оставленными, как казалось писателю, — мемуарами.
Основные стилевые особенности произведений 60-х годов показывают, что художественное развитие Герцена как беллетриста проходило под ярким и несомненным воздействием идейного и творческого опыта издателя «Колокола» и автора «Былого и дум».
10
Художественное творчество Герцена оказало могучее воздействие на последующее развитие русской литературы. Молодая русская революционная демократия не только воспитывалась на революционной проповеди Герцена и материалистических идеях его философского наследия, но также в значительной мере формировала свой литературный стиль под влиянием
- 506 -
художественных произведений писателя, которого Чернышевский справедливо назвал «одним из знаменитейших и действительно лучших деятелей русской литературы».1
В истории русской литературы Искандер выступает как преемник традиций Пушкина и Гоголя и соратник лучших представителей революционно-демократической литературы 60-х годов.
Герцен, принадлежавший к поколению дворянских революционеров, выполнил задачу огромного значения, поставленную еще Пушкиным; он создал философски, интеллектуально насыщенную художественную прозу. После политического подъема, вызванного Отечественной войной 1812 года и приведшего к 14 декабря, после расцвета русской культуры и искусства в творчестве Пушкина русская философская мысль в 40-е годы достигла замечательных успехов, ярчайшим свидетельством чего и явилась деятельность Герцена и Белинского.
В гибкости, блеске, остроумии герценовской лирической прозы получают развитие традиции поэтической и эпистолярной лексики Пушкина. Особенно тесно связывает Герцена с Пушкиным так выразительно звучащая у них поэзия революционной дружбы, основанной на единстве идей, мечтаний и стремлений, поэзия духовной жизни еще столь узкого в первой половине XIX века круга передовой интеллигенции. Но поэтический рассказ о русских передовых людях 30—40-х годов, о себе самом как представителе поколения дворянских революционеров органически был связан у Герцена-демократа с гневным, полным сарказма и иронии отрицанием самодержавия, бюрократии и крепостников.
Вместе с тем, начиная с сатирических картин помещичьего быта и провинциального общества в «Кто виноват?», Герцен выступил как один из продолжателей Гоголя. Роман «Кто виноват?», этот предвестник революционно-демократической литературы 50—60-х годов, Чернышевский с полным основанием относил к гоголевскому направлению русской литературы. Изображение житейской обыденности и повседневности, «несовершенства» жизни заняло в романе Герцена значительное место. Гоголь и Герцен, с теми или иными индивидуальными особенностями, глубоко и ясно видели отвратительные, уродливые и комические черты действительности и правдиво изображали их. Но художественная форма этого изображения позволяет проводить различие между Гоголем, с одной стороны, Герценом — с другой. Уроки, взятые у Гоголя, не прошли для Герцена даром, однако в целом творчество Герцена занимает в русской литературе 40—60-х годов своеобразное место, оказывая особое, отличное от Гоголя, влияние на новое революционное поколение.
Органически связанный с поисками положительного героя, рассказ о себе и своем круге, хранящем традиции декабристов и живо чувствующем очарование пушкинской эпохи, интеллектуальный лиризм, передающий радости и боли передового сознания и связывающий воедино элементы философской статьи, памфлета и фельетона с художественными зарисовками замечательных событий и портретами «эксцентрических» людей, — все эти характерные особенности герценовского стиля отличали его от стиля автора «Мертвых душ».
Юмор Гоголя выступает, по преимуществу, в форме комизма и нелепости самого изображаемого быта, автор, прикидываясь, по словам Белинского, «простачком», как бы только наивно воспроизводит этот комизм самой действительности и изображаемых им людей.
- 507 -
Наоборот, у Герцена, следующего в этом отношении за некоторыми сторонами пушкинского стиля, юмор почти всегда выступает в форме острой и насмешливой мысли передового человека, находящего в действительности смешное и уродливое и подчеркивающего эти черты эпиграммами, сарказмами, каламбурами, анекдотами. Это своеобразие герценовского юмора тесно связано с лиризмом его стиля, с ощущением личности автора как героя его художественного творчества.
Своей пламенной революционной агитацией в «Колоколе», своими полными сарказма памфлетами против царизма и крепостников Герцен воспитывал в подраставшем поколении революционеров-разночинцев ненависть к государственным устоям помещичьей России. Светлое и гордое изображение исканий передовой мысли 40-х годов в «Былом и думах» звало вперед, к новым идейным дерзаниям. Эти главы мемуаров Герцена оказали, в частности, несомненное влияние на «Очерки гоголевского периода русской литературы». Сатирические же заострения и гиперболы Герцена нередко предвещали некоторые черты и стороны сатирического метода Салтыкова-Щедрина.
Так, помимо указанных ранее сопоставлений, напрашивается параллель между «Доктором Круповым» и «Aphorismata» Тита Левиафанского, с одной стороны, и «В больнице для умалишенных» Щедрина, — с другой. Рассказу Герцена о «всемирном хроническом сумасшествии» соответствуют щедринское изображение «хронических» сумасшедших как способных нормально отправлять свои общественные обязанности и, в частности, «редактировать какую угодно газету», определение сумасшествия как «продолжения обыденной человеческой жизни», «полнейшего ее откровения».1 Правда, если у Герцена сатирическая гипербола дана как восприятие и мысль старого скептика или его реакционного истолкователя — Левиафанского, то у Щедрина она приобретает бытовую конкретность и вещественность, созданную средствами сатирической и реалистической фантастики.
Влиянием «Былого и дум» и беллетристики Герцена отнюдь не исчерпывается его воздействие как писателя на позднейшую революционно-демократическую литературу. В «Концах и началах» Герцен, отправляясь от полемической переписки с Тургеневым, создал замечательный иронически освещенный образ русского либерала, предвосхитивший гораздо более резкие характеристики Щедрина и Некрасова. Можно провести целый ряд далеко не случайных параллелей между трактовкой морально-эстетических проблем и, прежде всего, проблемы «высокого эгоизма» в «Капризах и раздумье» Герцена и в «Что делать?» Чернышевского, и т. д.
Н. Г. Чернышевский писал: «У нас до сих пор литература имеет какое-то энциклопедическое значение, уже утраченное литературами более просвещенных народов». И далее Чернышевский противопоставляет развитие русской мысли и литературы Германии, Англии, Франции, «где умственная жизнь развилась уже на множество отдельных самостоятельных отраслей... Поэт и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто кроме поэта говорил России о том, что слышала она от Пушкина? Кто кроме романиста говорил России о том, что слышала она от Гоголя?».2
Литературная деятельность Герцена возникла и развивалась именно в расцвет «энциклопедического значения» русской художественной литературы, впервые сказавшегося в творчестве Пушкина. Поэтому сочетание в Герцене великого художника и публициста, замечательного философа, блестящего критика и историка литературы — не только результат счастливой
- 508 -
многосторонности таланта. Это своеобразие писательского образа Герцена, как было отмечено, сказывается, в частности, в том, что и во всех его публицистических, философских произведениях в той или иной мере, — то ли в виде отдельных художественных зарисовок, то ли в силу эмоционально-лирического стиля его публицистики, то ли по богатству образных сопоставлений, — явственно ощущается перо художника.
И про Герцена можно сказать, что то, что он говорил своими художественными произведениями, не говорил никто другой. Нельзя себе представить Герцена-мыслителя лишенным художественного дара. У Герцена художественная форма изложения обладала действительно «энциклопедической» широтой, в той или иной мере обнимая все жанры его творчества.
Герцен является в русской литературе тем именно писателем, который впервые все виды своей художественной прозы — автобиографию, повесть, рассказ, очерк, фельетон, памфлет — пронизывает передовой и ясно осознанной философской мыслью. В его произведениях художественная проза и философия выступают рука об руку. Богатство и многосторонность ума и чувства — ума живого, страстного и сильного, чувства яркого и предельно искреннего, — вот чем прежде всего поражает и восхищает творчество Герцена, его философия и публицистика, его автобиографическая, лирическая проза и беллетристические произведения.
В личности Герцена, в его творчестве отразились и воплотились к лучшие революционные и материалистические традиции передовой мысли России, и «русский склад ума», и талантливость русского человека.
Мысли и образы Герцена заставляют звучать много струн души советского человека. То чувство исторической преемственности, творческой связи с предшествующими поколениями и неразрывное с ним смелое революционное новаторство, получившие такое глубокое выражение в произведениях Герцена, близки, понятны и дороги советским людям.
Ленин писал: «Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории...».1
Читая Герцена, мы с волнением следим за мучительно трудными, но давшими такие огромные результаты, поисками русскими передовыми людьми правильной революционной теории. Пример Герцена наглядно учит тому, что идти вперед в области теории, в области культуры можно лишь критически усваивая и развивая лучшие духовные ценности, накопленные человечеством, используя идейный опыт всех народов.
Герцен учит самостоятельности, творческой смелости мысли, неустанному стремлению претворять теоретические выводы в практику, в дело.
Советской литературе близки и дороги традиции художественного творчества Герцена. Это традиции литературы, умножающей великие ценности национальной и общечеловеческой культуры, традиции высокоидейного и патриотического искусства, блестящего и тонкого, поражающего изобретательностью мастерства.
Наследие Герцена вызывает у советских людей гордость мощью и богатством русской культуры, глубиной, последовательностью и блеском русской революционной мысли, неисчерпаемыми эстетическими и познавательными ценностями, заключенными в русском искусстве.
СноскиСноски к стр. 409
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9.
2 А. И. Герцен. Былое и думы, Гослитиздат, Л., 1946, 24. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся непосредственно в тексте (сокращенно: БиД).
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9.
Сноски к стр. 410
1 См. «Литературное наследство», кн. 61, 1953, стр. 669.
2 А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке, т.т. I—XXII, 1919—1925. Здесь и далее цитируется это издание. Цитирование по другим изданиям оговаривается особо.
3 Д. И. Чесноков. Мировоззрение Герцена. Госполитиздат, 1948, стр. 98.
Сноски к стр. 413
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9—10.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 9.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
4 А. Жданов. Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии». Госполитиздат, 1947, стр. 11.
5 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 218—219.
Сноски к стр. 414
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
2 Там же, стр. 12.
Сноски к стр. 415
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 9, стр. 111.
Сноски к стр. 417
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
Сноски к стр. 419
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 71.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
Сноски к стр. 420
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 23.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
20 Там же.
Сноски к стр. 421
1 Там же, стр. 11.
Сноски к стр. 422
1 А. И. Герцен, Избранные сочинения, Гослитиздат, 1937, стр. 389.
Сноски к стр. 423
1 Там же, стр. 391.
2 Там же, стр. 399—400.
3 Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., тт. I—XI (1900—1917) под редакцией С. А. Венгерова, тт. XII—XIII (1926—1948) под редакцией В. С. Спиридонова. Цитирование по другим изданиям оговаривается особо.
Сноски к стр. 425
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.
Сноски к стр. 426
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.
3 Там же, стр. 12.
4 См. Б. П. Козьмин. К вопросу о борьбе Герцена и Огарева против сторонников «чистого искусства». «Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка», т. IX, 1950, вып. 2.
Сноски к стр. 428
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.
2 Там же.
Сноски к стр. 429
1 Там же, стр. 14.
2 Там же, стр. 13.
Сноски к стр. 430
1 А. И. Герцен, Избранные сочинения, 1937, стр. 440.
Сноски к стр. 433
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 11.
2 «Литературное наследство», кн. 61, стр. 162.
3 Там же, стр. 170.
4 Там же, стр. 180.
5 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 11.
6 «Литературное наследство», кн. 61, стр. 169.
Сноски к стр. 434
1 См.: Л. В. Крестова. Источники «Легенды о св. Феодоре» А. И. Герцена. Сб. «Памяти П. Н. Сакулина», М., 1931, стр. 116—119.
Сноски к стр. 435
1 А. В. Луначарский. Русская литература. Избранные статьи, Гослитиздат. М., 1947, стр. 45.
Сноски к стр. 437
1 Белинский. Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 258.
Сноски к стр. 438
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 473.
Сноски к стр. 441
1 См. «Отечественные записки», 1845, № XII, стр. 214.
Сноски к стр. 442
1 А. А. Григорьев. Материалы для биографии. Редакция В. Княжнина, Пгр., 1917, стр. 114.
Сноски к стр. 445
1 Белинский. Письма, т. III. 1914, стр. 109.
2 Там же.
Сноски к стр. 446
1 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 168.
2 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, Гослитиздат, 1935, стр. 25.
Сноски к стр. 447
1 А. А. Григорьев. Материалы для биографии, 1917, стр. 113. (Письмо к Н. В. Гоголю от 17 ноября 1848 года).
2 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 233.
Сноски к стр. 448
1 В. Майков. Критические опыты (1845—1847). СПб., 1891, стр. 280.
Сноски к стр. 449
1 «Москвитянин», 1846, № 2, стр. 187.
2 Там же, стр. 188—189.
3 Там же, стр. 189.
4 Мих. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1909, стр. 305—306.
5 Там же, стр. 305.
Сноски к стр. 450
1 «Сын отечества», 1847, № IV, отд. VI, стр. 33, 30, 31.
2 «Москвитянин», 1848, № I, стр. 40, 41.
3 Ф. Б. Журнальная всякая всячина. «Северная пчела», 1848, № 36, стр. 143.
Сноски к стр. 451
1 Н. И. Сазонов. Литература и писатели в России. Александр Герцен. «Литературное наследство», кн. 41—42, 1941, стр. 198.
2 «Русская мысль», 1891, № 8, стр. 23.
3 Грановский и его переписка, т. II. М., 1897, стр. 422. (Письмо к Н. Г. Фролову от февраля 1846 года).
4 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, М., 1941, стр. 82.
5 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, 1939, стр. 104 (запись в дневнике от 1 сентября 1848 года).
6 См. С. А. Рейсер. Добролюбов и Герцен. «Известия Академии Наук СССР, Отделение общественных наук», 1936, № 1—2, стр. 172.
7 Царизм в борьбе с А. И. Герценом. «Красный архив», 1937, 2 (81), стр. 217—218.
Сноски к стр. 452
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, 1948, стр. 699.
2 Д. И. Писарев, Избранные сочинения, т. II, Гослитиздат, М., 1935, стр. 237.
3 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, 1935, стр. 20.
4 Там же, стр. 26.
5 «Красный архив». 1923, т. III, стр. 223.
Сноски к стр. 453
1 Белинский. Письма, т. III. 1914, стр. 338.
2 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 206.
3 Там же, стр. 183.
Сноски к стр. 454
1 «Современник», 1849, т. XIII, № 1, отд. III, стр. 21.
2 Там же.
Сноски к стр. 456
1 «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 572.
Сноски к стр. 458
1 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 183.
Сноски к стр. 460
1 Белинский. Письма, т. III. 1914, стр. 104. (Письмо к Герцену от 20 марта 1846 года).
2 «Русский вестник», 1862, № 6, стр. 837.
Сноски к стр. 462
1 П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, стр. 542.
Сноски к стр. 463
1 Белинский. Письма, т. III. 1914, стр. 326.
2 «Литературное наследство», кн. 7—8, 1933, стр. 80.
Сноски к стр. 464
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
Сноски к стр. 467
1 «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев». Госполитиздат, 1953, стр. 723.
2 Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. X, М., 1952, стр. 116.
3 См. Т. Н. Грановский и его переписка, т. II, стр. 447.
4 См. «Литературное наследство», кн. 41—42, 1941, стр. 195—200.
5 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 55, 1937, стр. 165.
Сноски к стр. 468
1 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 208.
Сноски к стр. 472
1 См.: Н. Гусев. Герцен и Толстой. «Литературное наследство», кн. 41—42, 1941, стр. 511.
Сноски к стр. 474
1 См.: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II. М., 1923, стр. 377.
Сноски к стр. 475
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
2 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 207.
Сноски к стр. 476
1 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 200.
2 Там же, стр. 206.
Сноски к стр. 477
1 «Звенья», сб. VI, 1936, стр. 321—322. (Письмо к М. П. Боткину от 5 марта 1859 года).
Сноски к стр. 479
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 294—295.
Сноски к стр. 480
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.
Сноски к стр. 482
1 См.: В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 15.
2 Красавица Венеция.
Сноски к стр. 484
1 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I. М., 1922, стр. 93.
Сноски к стр. 485
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 9.
Сноски к стр. 486
1 М. Горький. О литературе. Изд. 3-е, М., 1937, стр. 109.
Сноски к стр. 487
1 П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, стр. 29.
2 Там же.
3 Сразу (франц.).
Сноски к стр. 491
1 Белинский. Письма, т. II, 1914, стр. 334. (Письмо к В. П. Боткину от 6 февраля 1843 года).
2 Белинский. Письма, т. III, 1914, стр. 204.
3 Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, 1890, стр. 319.
4 П. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе. <Сочинения>, т. V, СПб., 1907, стр. 299.
5 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIII, стр. 445.
6 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9.
Сноски к стр. 493
1 Письмо к П. В. Анненкову от 18/30 октября 1870 года. «Русское обозрение», 1894, № 4, стр. 518.
Сноски к стр. 494
1 Н. Огарев. Памяти Герцена. «Колокол», 1870, № 3, 16 апреля.
Сноски к стр. 495
1 М. Горький. О литературе. 1937, стр. 135.
2 См.: «Вестник Европы», 1913, № 1, стр. 59.
3 Письмо к П. В. Анненкову от 18/30 октября 1870 года («Русское обозрение», 1894, № 4, стр. 518) и письмо к М. Е. Салтыкову-Щедрину от 19 января 1876 года. (И. С. Тургенев, Первое собрание писем, СПб., 1884, стр. 281).
Сноски к стр. 496
1 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 206.
2 Гнет гор — кошмар (нем.).
Сноски к стр. 497
1 Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892, стр. 90. (Письмо от 22 сентября 1856 года).
2 Там же, стр. 105. (Письмо от 16 января 1857 года).
3 Там же.
4 Письмо к П. В. Анненкову от 18/30 октября 1870 года. «Русское обозрение», 1894, № 4, стр. 518.
Сноски к стр. 498
1 «Литературное наследство», кн. 41—42, 1941, стр. 201, 200.
2 Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, стр. 7.
3 Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Путешествие за границу, М., 1932, стр. 67.
4 Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, стр. 90. (Письмо от 22 сентября 1856 года).
5 Там же.
Сноски к стр. 499
1 М. Горький. История русской литературы, 1939, стр. 148.
2 В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 16.
3 «Былое», 1907, № 4, стр. 90.
Сноски к стр. 504
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 324—325.
Сноски к стр. 506
1 Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I. 1890, стр. 439.
Сноски к стр. 507
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. X, 1936, стр. 585.
2 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, стр. 304.
Сноски к стр. 508
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 15.