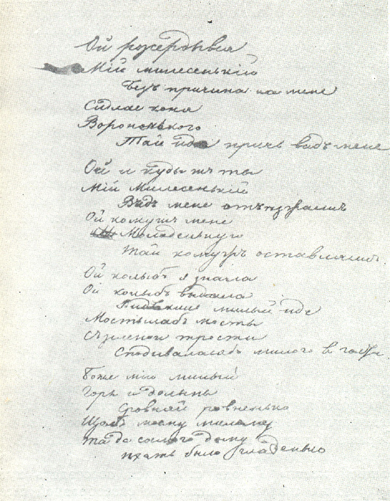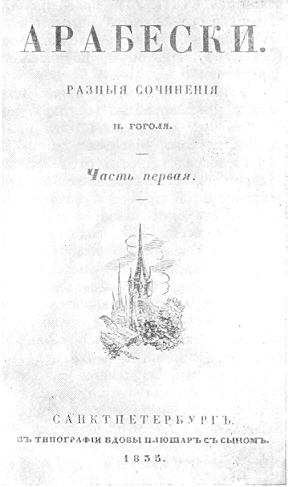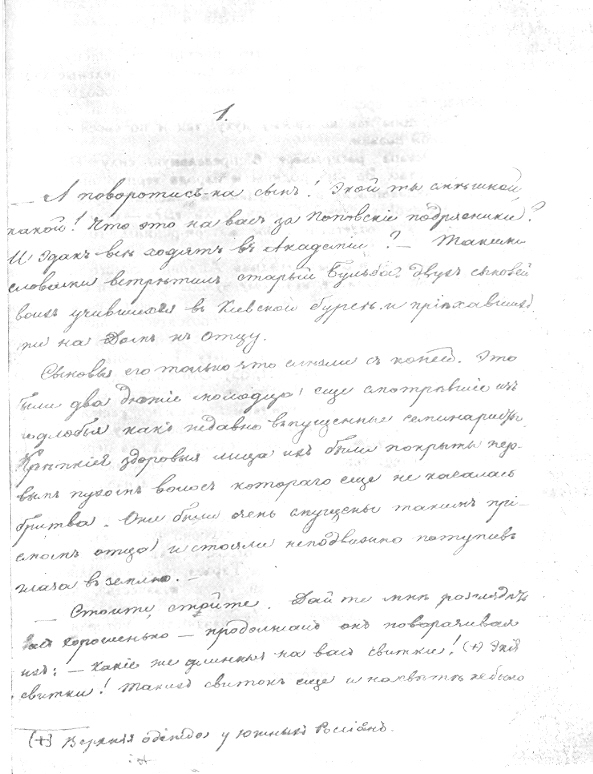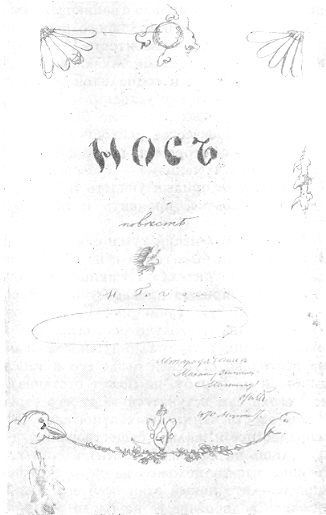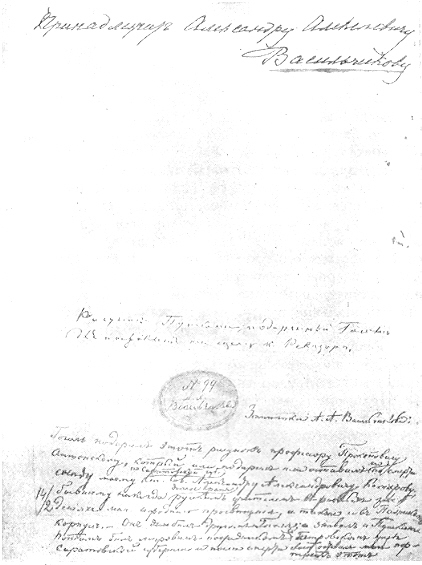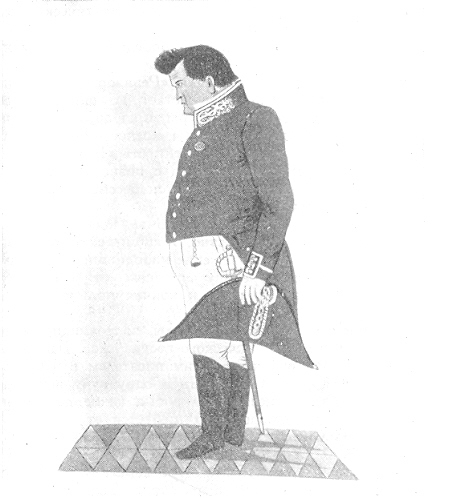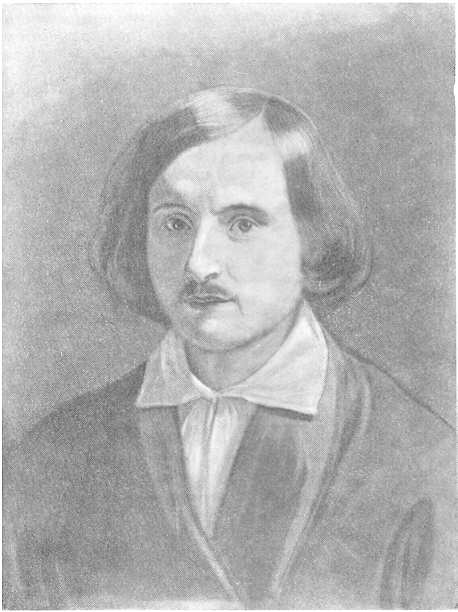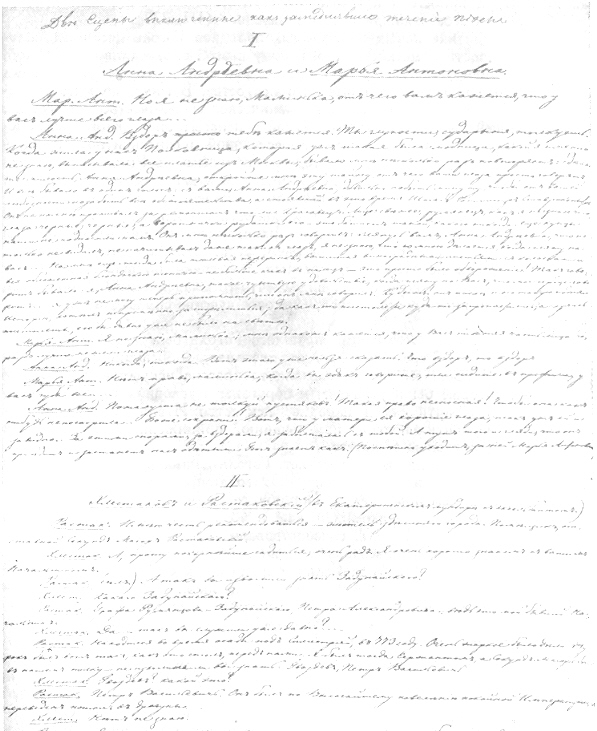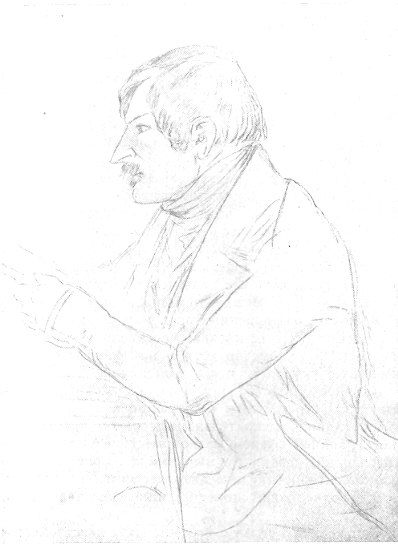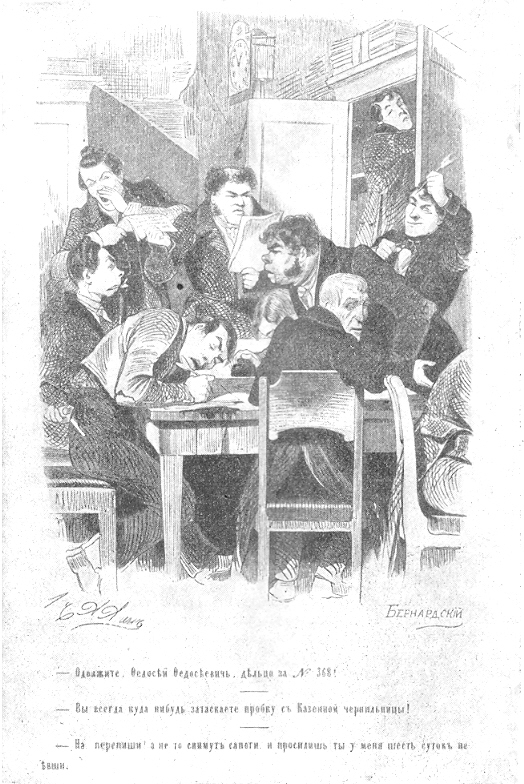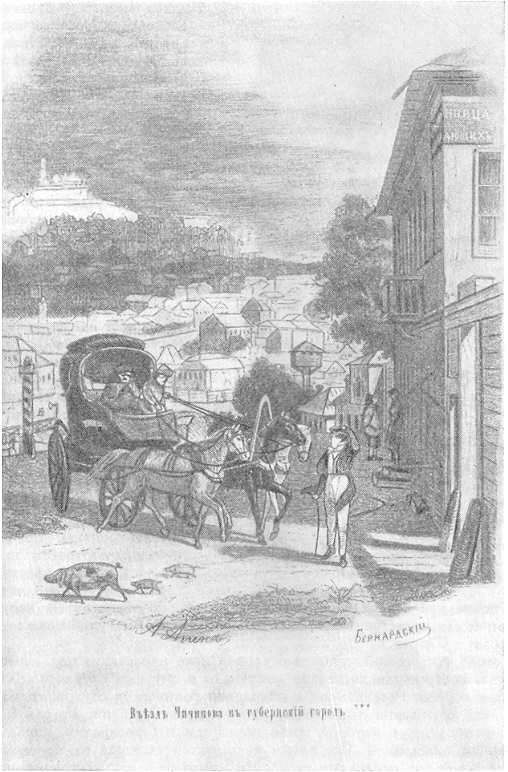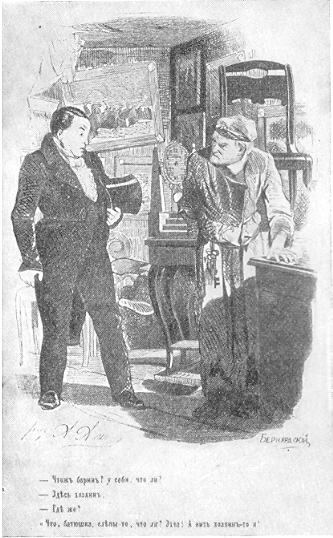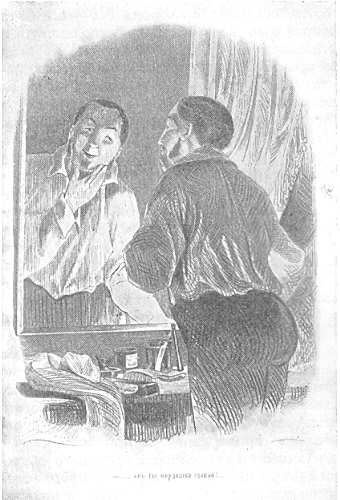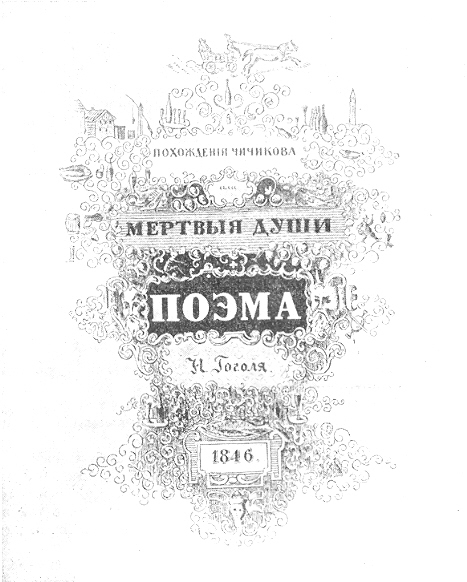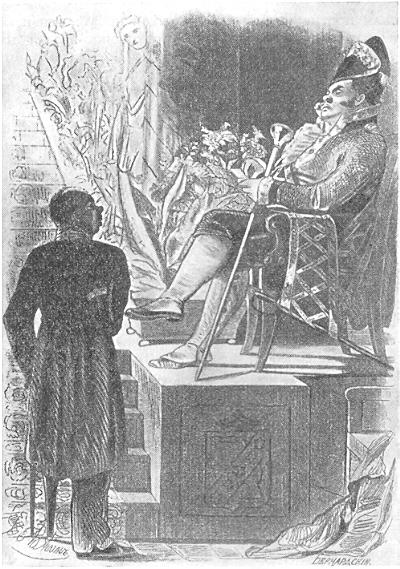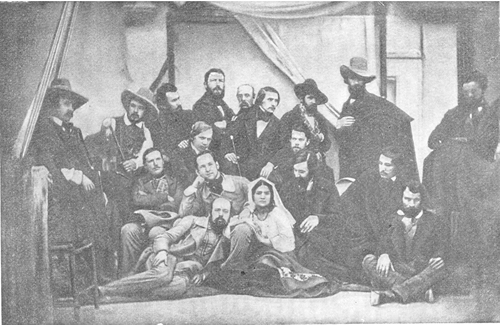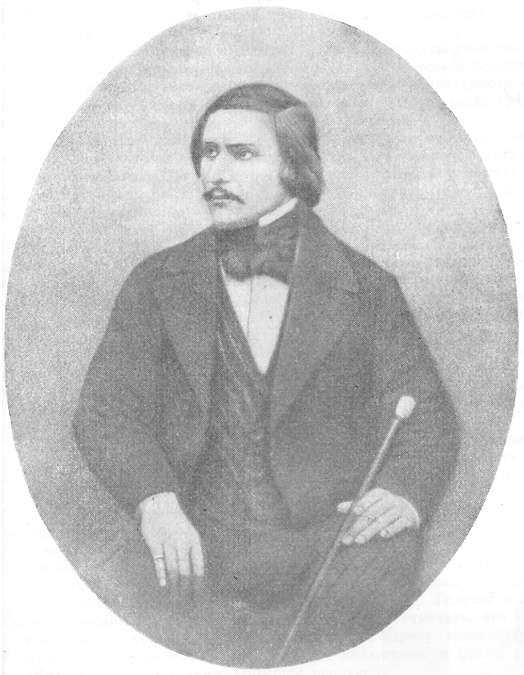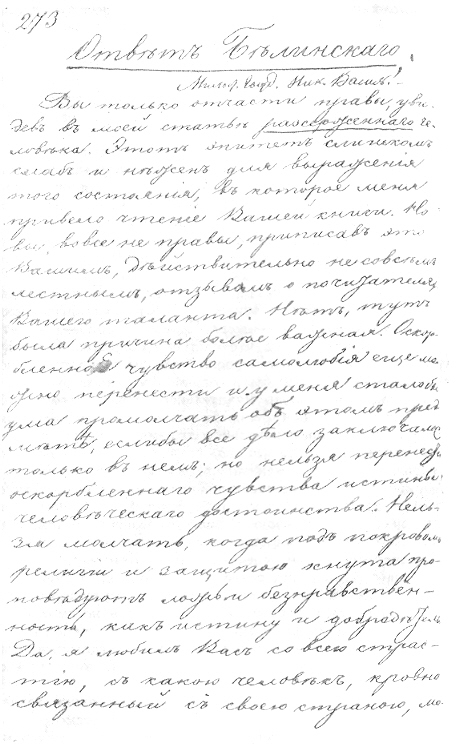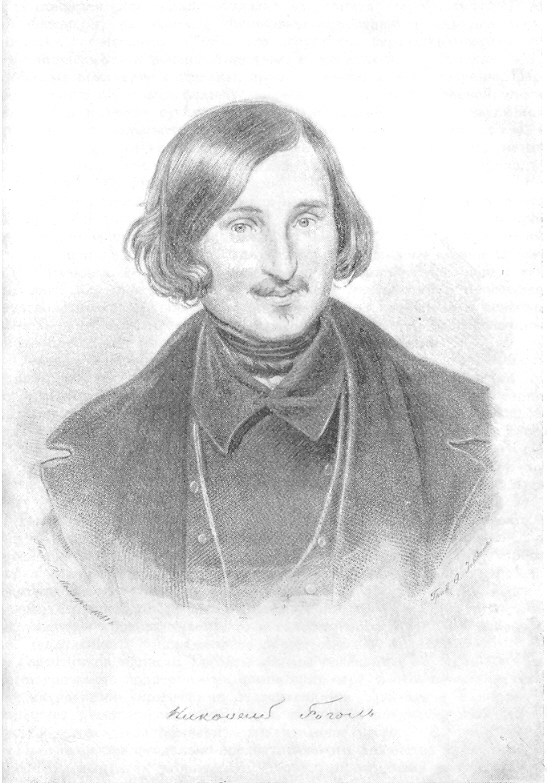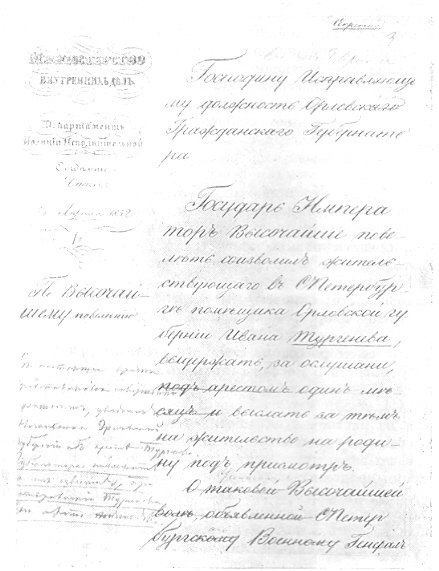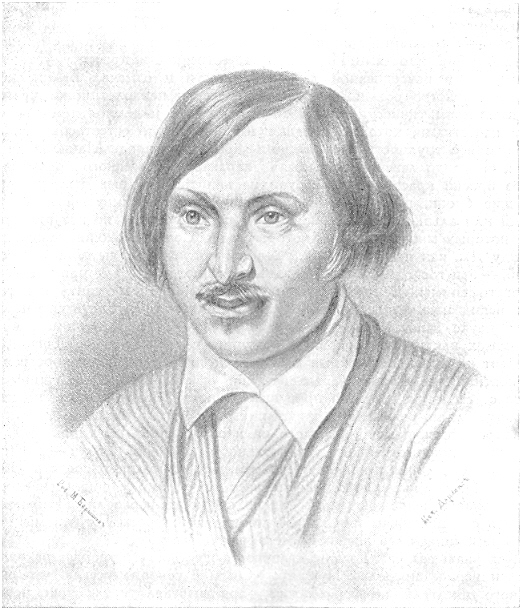- 129 -
ГОГОЛЬ
- 130 -
- 131 -
В ряду писателей первой половины XIX века, составляющих гордость русской литературы, в ряду таких имен, как Пушкин, Крылов, Грибоедов, Лермонтов, — стоит имя Гоголя. Величие Гоголя — в беспощадной правде, которую он сказал о современном ему крепостническом обществе, в горячей и преданной любви к своему народу, в художественном совершенстве его произведений.
«Давно уже не было в мире писателя, — сказал о Гоголе трибун революционной демократии Н. Г. Чернышевский, — который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».1
Горькая правда, сказанная Гоголем о крепостническом обществе, учила ненавидеть самодержавно-крепостнический строй, содействовала развитию самосознания народа. Наряду с Пушкиным Гоголь является основоположником русского реализма XIX века.
Реализм Гоголя знаменовал новую ступень в развитии критического реализма в русской литературе. Величайшая жизненность и вместе с тем типическая обобщенность образов Гоголя рождались из их тесной связи с действительностью, из глубокого проникновения писателя в жизнь народа.
В своем творчестве Гоголь продолжил и приумножил лучшие традиции русской литературы — ее связь с жизнью, ее народность, ее благородные передовые идеалы. Фонвизин, Крылов, Грибоедов, Пушкин являлись его предшественниками и учителями.
«Наша художественная литература, — указывал М. И. Калинин, — в прошлом была наполнена глубоким социальным содержанием. И это делало нашу литературу народной... Эта литература показывала отрицательные стороны существующего буржуазно-помещичьего мира...». «Вспомните Гоголя, — продолжает Калинин, — как он клеймил крепостное, помещичье общество! Вряд ли найдется в мире человек, который сумел бы представить в столь неприглядном виде общество, в котором он жил».2
Критика Гоголя современной ему действительности в своих передовых устремлениях выражала настроения народных масс. Этим обусловливалась и тесная связь его творчества с деятельностью Белинского, объяснявшего и развивавшего демократическую направленность гоголевского творчества. В. И. Ленин сближал Гоголя и Белинского, говоря об идеях Белинского и Гоголя, что они сделали этих писателей «дорогими» «всякому порядочному человеку на Руси».3
Что же это были за «идеи Белинского и Гоголя», о которых говорит Ленин? Это была, прежде всего, жестокая критика и разоблачение крепостнического строя, его антинародного характера. Именно в этом Гоголь
- 132 -
сближался с Белинским, именно поэтому так высоко оценили творчество Гоголя как сам Белинский, так и пришедшие вслед за ним представители революционной демократии — Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин. Чернышевский не только назвал целый период в развитии русской литературы «гоголевским», но и считал Гоголя «величайшим из русских писателей» (III, 10).
Гоголевская традиция в советской литературе приобретает исключительно важное и действенное значение. Творчество Гоголя утверждает сатиру как такой род литературы, который способствует борьбе нового со старым, живого и развивающегося с омертвевшим и мешающим движению вперед. Огнем своей сатиры Гоголь поражал все то отрицательное в русском обществе, что мешало движению вперед, тем самым способствуя этому движению, рождению нового.
1
Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля нов. ст.) 1809 года в местечке Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Родители Гоголя — Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский и его жена Мария Ивановна — были украинскими помещиками средней руки. Отец Гоголя выделялся среди окрестных помещиков своею образованностью, литературными и театральными интересами. Прослужив недолгое время в должности чиновника почтамта, он вышел в отставку и поселился в своем имении — селе Васильевке (близ Миргорода), где и прошли детские годы будущего писателя. М. И. Гоголь была женщиной религиозной, воспитывала детей в духе патриархальных традиций.
Василий Афанасьевич Гоголь являлся автором комедий на украинском языке, которые ставились на сцене домашнего театра дальнего родственника Гоголей — Д. П. Трощинского. В прошлом видный вельможа — Трощинский в эти годы жил на покое в своем имении Кибинцах. Комедии Гоголя-отца «Собака-овца» и «Простак, или хитрость женщины, перехитренная солдатом» были близки к украинскому народному театру — «вертепу». Будущий писатель еще подростком познакомился с народной жизнью, полюбил украинские сказки, песни, предания, хорошо узнал быт украинской деревни.
Гоголь рано приобщился к русской культуре, воспитывался на произведениях лучших русских писателей. Близким приятелем отца и соседом по имению был писатель В. В. Капнист, автор широкоизвестной в то время комедии «Ябеда», осмеивавшей взяточничество и казнокрадство чиновников. В родительском доме, в библиотеке Трощинского, которой широко пользовались Гоголи, наконец, в Нежинской гимназии Гоголь знакомился с произведениями виднейших русских писателей. Они прививали ему любовь к литературе, оказывали решающее влияние на развитие его литературных вкусов.
Детские и юношеские годы Гоголя проходили в обстановке, сложившейся непосредственно после Отечественной войны 1812 года.
В 1818 году будущего писателя отдают в Полтавское уездное училище, где он проучился около года. В 1821 году Гоголь был принят в только что организованную Нежинскую гимназию высших наук. Годы, проведенные в Нежинской гимназии, имели большое значение для формирования взглядов Гоголя, несмотря на то, что преподавание в гимназии велось во многом по-казенному, в духе правительственно-благонамеренных взглядов.
- 133 -
Литературу преподавал профессор Никольский, сторонник классицизма. Он считал крамольными стихи Пушкина и не шел в своих курсах дальше Сумарокова и Державина.
Нежинский лицей. Акварель О. Б. Визеля. 1830-е годы.
Однако, несмотря на удаленность Нежина от центров движения декабризма и бдительность гимназического начальства, веяния напряженной общественной борьбы доходили до гимназистов. Гимназисты читали и заучивали наизусть вольнолюбивые стихи Пушкина, распространявшуюся в списках его «Оду на свободу» («Вольность»), стихи Рылеева, читали «Полярную звезду». Среди преподавателей Нежинской гимназии были такие передовые люди, как Н. Г. Белоусов, инспектор гимназии и профессор естественного права.
Против Белоусова и ряда других передовых педагогов гимназии выступала реакционная часть профессуры. В 1827 году было возбуждено дело по обвинению Белоусова и нескольких других передовых преподавателей гимназии в вольнодумстве. Им ставились в вину «преступные в политическом отношении выражения», а также то обстоятельство, что их лекции часто заменялись «рассуждениями политическими», а ученики знакомились с сочинениями Вольтера, Гельвеция, Монтескье и других «опасных», с точки зрения гимназического начальства, писателей.1
В своих лекциях Белоусов утверждал свободу и независимость личности человека, отрицал сословное неравенство и привилегии, настаивал на естественном равенстве людей. «Все врожденные права, — учил Белоусов, — находятся для всех людей в безусловном равенстве»,2 недаром это
- 134 -
«слишком вольное положение» вызвало негодование протоиерея гимназии, которому было поручено ознакомиться с «крамольными» лекциями вольнодумного профессора.
На следствии по делу Белоусова выяснилось, что еще в ноябре 1825 года «некоторые пансионеры, — по свидетельству Н. Н. Маслянникова, — говорили, что в России будут перемены „хуже французской революции“. Маслянников привел имена учеников гимназии, которые накануне восстания декабристов, таинственно перешептываясь, сообщали друг другу и ему, Маслянникову, слухи о предстоящих в России переменах... и при этом распевали... песню:
О боже, коль ты еси,
Всех царей с грязью меси,
Мишу, Машу, Колю и Сашу
На кол посади».1В числе воспитанников, распевавших «нелепую» песню, Маслянников назвал имена ближайших друзей Гоголя — А. С. Данилевского и Н. Я. Прокоповича.
В дело о вольнодумстве оказались втянутыми и учащиеся, которые были вынуждены давать свои показания о профессорах. Гоголь был всецело на стороне Белоусова и в дальнейшем с большой теплотой относился к этому свободомыслящему передовому профессору. В письме от 19 марта 1827 года он так характеризует его: «Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека. Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступается за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров. И, признаюсь, ежели бы не он, то у меня недостало бы терпения здесь окончить курс...».2
Богатые гимназисты-аристократы не жаловали Гоголя. Через много лет после окончания гимназии один из его соклассников В. И. Любич-Романович раздраженно вспоминал о Гоголе, как о нарушителе благонамеренных школьных порядков, о его нелюбви к «аристократической» группке гимназистов и симпатии к «мужикам».3
У Гоголя рано развилась страсть к литературе, любовь к чтению. Уже в школьные годы он начинает собирать библиотеку, выписывает книги. «Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах, — пишет матери Гоголь-гимназист, — с тем чтобы иметь хотя малейшую возможность поддерживать себя в таком состоянии, в каком нахожусь, чтобы иметь возможность удовлетворить моей жажде видеть и чувствовать прекрасное» (X, 91).
В письмах он постоянно просит присылать ему вновь выходящие книги. Гоголя особенно интересовали в эти годы стихи, которые он переписывал в специальную тетрадь. Пушкин был его любимым поэтом, и он переписывал в свои тетради его стихи.
Ко времени пребывания Гоголя в Нежинской гимназии относятся и его первые литературные опыты. В 1825 году он принимает участие в рукописном гимназическом журнале «Метеор литературы», сочиняет стихи и романтическую трагедию «Разбойники». Эти ранние литературные опыты
- 135 -
Гоголя до нас не дошли. Известна лишь, по рассказам товарищей, сатира в прозе «Нечто о Нежине, или дуракам закон не писан», содержание которой свидетельствует о рано пробудившейся сатирической наклонности будущего писателя и его насмешливо-отрицательном отношении к тусклой жизни нежинских обывателей.
Другим увлечением Гоголя-гимназиста был театр. Гоголь принимал живейшее участие в постановке гимназических спектаклей, выписывал для них пьесы, рисовал декорации, сам играл в спектаклях, преимущественно комические роли стариков и старух. Так, в «Недоросле» Фонвизина особенно удачно он сыграл роль Простаковой. В эти же школьные годы Гоголь горячо интересовался жизнью народа. Один из товарищей его по гимназии вспоминал, что Гоголь выделялся среди остальных гимназистов тем, что часто ходил в Мегерки — предместье Нежина. «Гоголь имел там много знакомых между крестьянами. Когда у кого из них бывала свадьба или другое что, или когда просто выгадывался погодливый праздничный день, то Гоголь уж непременно был там».1
Тяжелым ударом для Гоголя явилась в 1825 году смерть отца, еще сильнее привязавшая его к матери и сделавшая его опорой целой семьи. Уже в эти гимназические годы у Гоголя пробудились неудовлетворенность затхлой жизнью нежинских «существователей», мечты о служении благородным и высоким целям. С горечью он писал из Нежина в 1827 году одному из близких своих друзей — Г. И. Высоцкому: «Как тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться...» (X, 98).
Мысль о будущей деятельности после окончания гимназии уже тогда занимала Гоголя. Он перебирает в уме «все состояния, все должности в государстве» с тем, чтобы определить свое призвание, найти такую службу, где он может стать «истинно полезен для человечества», и останавливается «на юстиции». В письме 1827 года к своему родственнику П. П. Косяровскому Гоголь торжественно сообщает, что уже два года он занимался изучением «прав других народов» и клянется «ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага» (X, 112).
Эти юношески-восторженные стремления, жажда общественно-полезной деятельности, самый характер которой еще смутно рисовался молодому Гоголю, резкое отрицание обывательской успокоенности — все это нашло свое выражение в его первом, дошедшем до нас произведении — поэме «Ганц Кюхельгартен» (Гоголь датировал ее 1827 годом). Герой поэмы томится той же жаждой деятельности, что и сам автор, и стремится порвать с миром благополучно-ограниченного существования:
Душой ли, славу полюбившей,
Ничтожность в мире полюбить?
Душой ли, к счастью не остывшей,
Волненья мира не испить?(I, 78—79).
писал в этой своей юношеской поэме Гоголь. Мечтания Ганса далеки от сколько-нибудь конкретной политической направленности. Это мечты
- 136 -
романтика, который видит выход лишь в идеализации античного мира, как мира подлинной красоты и вечных ценностей, противостоящих серой обывательской обстановке настоящего.
В «Ганце Кюхельгартене» отразились и некоторые события политической жизни начала 20-х годов. Упоминания о борьбе греков за свою национальную независимость, о мятежах в Испании заставляют вспоминать о том, какой большой интерес проявляли к этим событиям декабристы. Однако мечты самого Кюхельгартена далеки от революционных чаяний декабристов, они ограничиваются лишь миром отвлеченных моральных и эстетических идеалов.
Неудача Ганца показана Гоголем как естественный результат бесплодной «мечтательности», как развенчание романтических иллюзий. Характерно, что с Ганцем все время связан круг образов, подчеркивающих пассивное, мечтательное начало — «мечтательный Ганц», «печальный путник». Его взор «полупотухший», его «душа страдает, жалко ноя», он «измучен судьбою». Ганц не борец, а пассивный мечтатель, и поэтому пассивному мечтательству произносит в своей «идиллии» приговор молодой Гоголь, осуждая своего героя за это пустое и бесплодное мечтательство. Отсюда и тот вывод, который делает автор:
А нет в душе железной воли,
Нет сил стоять средь суеты, —
Не лучше ль в тишине укромной
По полю жизни протекать.
Семьей довольствоваться скромной
И шуму света не внимать?(I, 95).
Но именно это и враждебно самому автору, именно за это и развенчивается его герой, не нашедший «железной воли» для борьбы со «светом», для освобождения от самовлюбленной мечтательности.
Планы будущей деятельности влекли Гоголя в столицу, в далекий и заманчивый Петербург, где он думал найти применение своим способностям, своей жажде служения на благо общества.
Летом 1828 года Гоголь окончил Нежинскую гимназию и уехал к матери в Васильевку. А в декабре того же года, вместе со своим другом А. С. Данилевским, он выехал в Петербург.
2
Гоголь добрался до Петербурга в конце декабря 1828 года и поселился вместе с Данилевским в дешевой квартирке на Гороховой улице, где ютились мелкие чиновники и прочий служилый люд.
Петербург неласково встретил восторженно настроенного юношу, приехавшего из тихой провинциальной глуши. Мечты о «служении государству» очень скоро потускнели и развеялись при ближайшем знакомстве со столицей, тогдашним центром чиновничье-крепостнического государства.
Со всех сторон Гоголя постигают неудачи. Разочарованием дышит уже первое его письмо из Петербурга к матери (от 3 января 1829 года), в котором он жалуется, что на него «напала хандра», что он около недели сидит, ничего не делая, что неудачи его «совершенно обравнодушили ко всему». Привезенные рекомендательные письма не помогли, служба не находилась, столичная жизнь для юноши, обладавшего весьма скромными средствами, оказалась непомерно дорогой. «...Петербург мне показался
- 137 -
вовсе не таким, как я думал, — писал он матери, — я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы!» (X, 136—137).
Иллюстрация:
«Ганц Кюхельгартен». Первое печатное
произведение Н. В. Гоголя. Титульный
лист. 1829.Горькое разочарование испытал Гоголь и на литературном поприще. Надежды, возлагавшиеся на поэму «Ганц Кюхельгартен», не оправдались. Изданная в 1829 году под псевдонимом В. Алов, поэма не имела успеха и была встречена насмешливо-неодобрительными рецензиями в «Московском телеграфе» и булгаринской «Северной пчеле». Уязвленный в своем авторском самолюбии, Гоголь собрал в книжных лавках почти все экземпляры поэмы и уничтожил их.
Попытка поступить на сцену также не имела успеха: подлинное реалистическое дарование Гоголя как актера оказалось чуждым заученно-условной манере, насаждавшейся театральной дирекцией.
В конце 1829 года Гоголю удалось устроиться мелким чиновником в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий. В апреле 1830 года он перешел в Департамент уделов на должность писца. Вот чем увенчались его мечты о службе высокого общественного значения! Затруднительным было и его материальное положение. Со смертью отца доходы семьи резко сократились. Имение пришлось заложить, и матери становилось все труднее поддерживать сына и сводить концы с концами в своем хозяйстве.
Гоголь узнал в эти годы лишения и нужду. «Умереннее меня вряд ли кто живет в Петербурге», — пишет он 2 апреля 1830 года матери. Он не в состоянии не только обновить свое износившееся платье, но вынужден и зимой ходить в летней шинели: «...я немного привык к морозу, — с грустной иронией сообщает он матери, — и отхватал всю зиму в летней шинели» (X, 169, 170).
Целый год пробыл Гоголь чиновником в департаменте, дослужившись до должности помощника столоначальника. Однако чиновничья лямка мало его привлекала. В это же время он усердно посещал Академию художеств, занимаясь живописью. Возобновились и его литературные занятия. Но теперь он уже не пишет мечтательно-романтических идиллий, вроде «Ганца Кюхельгартена», а обращается к изображению жизни украинского народа. В его песнях и сказках находит он подлинную поэзию и воссоздает ее в своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Гоголь с самого начала своего творческого пути являлся деятелем русской культуры. Со школьных лет он благоговейно чтил Пушкина как ее лучшего представителя, глубоко любил русский народ и уже в своих первых
- 138 -
произведениях выступил как русский писатель, знакомя читателя с украинской жизнью, способствуя этим дружбе двух братских народов, объединенных общностью исторической судьбы.
Гоголь вошел в литературу в годы наступления жестокой последекабристской правительственной реакции. Но эти же годы были ознаменованы и новым общественным подъемом. С гневом и страстным протестом выступают против самодержавно-крепостнического режима Пушкин и Лермонтов, Герцен и Огарев произносят на Воробьевых горах свою нерушимую клятву верности революционным заветам декабристов, все увереннее и шире развертывается деятельность молодого Белинского, слышен полный горечи и негодования голос Полежаева. В ряду этих передовых людей, выступавших против феодально-крепостнического гнета, находился и Гоголь, хотя его политические воззрения и не имели еще достаточной ясности и последовательности. Из Нежинской гимназии Гоголь вынес убеждение о свободе человеческой личности, враждебное отношение к деспотизму, веру в необходимость новых общественных форм в духе просветительских идеалов. Петербург еще более явственно показал ему несправедливость бюрократического строя, тупость, лицемерие и духовное ничтожество его носителей, бедственное положение скромных тружеников и бедняков.
Глубокий интерес к народу, возникший в передовом русском обществе под влиянием патриотического подъема в Отечественную войну 1812 года, обращение русской литературы к национальному прошлому и фольклору подсказывали Гоголю путь к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Особенное внимание русских писателей привлекала Украина. Пушкин в «Полтаве», а еще раньше Рылеев в своих «Думах» и в особенности в поэме «Наливайко» обращались к страницам героического прошлого Украины. Об этом интересе литературы к украинской поэзии и народной жизни Гоголь сообщал матери в письме от 30 апреля 1829 года, прося прислать ему комедию отца, этнографические и фольклорные материалы. Он просит также сообщить ему обычаи украинских крестьян, народные поверья и сказки, «несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках...; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов... Всё это будет для меня чрезвычайно занимательно» (X, 141). Эти сведения нужны были Гоголю для начатой уже работы над циклом украинских повестей, вошедших в состав «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
Первая повесть Гоголя появилась в февральской и мартовской книжках журнала «Отечественные записки» за 1830 год (без имени автора) — «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». В альманахе «Северные цветы» на 1831 год Гоголь (за подписью ОООО) печатает главу из исторического романа «Гетьман» (оставшегося неоконченным). Эти ранние выступления Гоголя в печати вызвали сочувственные отзывы О. Сомова в «Северных цветах» на 1831 год — о «Бисаврюке», и «Московского телеграфа» (январь) и «Телескопа» (февраль) 1831 года о главе из исторического романа «Гетьман». К этому же времени относятся и первые литературные знакомства Гоголя с писателем и критиком О. М. Сомовым, соредактором А. А. Дельвига по «Литературной газете», с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым. Они приняли дружеское участие в молодом писателе и помогли ему поступить в Патриотический институт (учебное заведение для дочерей офицеров) учителем истории.
В Петербурге Гоголь вращался в кругу своих нежинских однокашников, многие из которых оказались в столице. А. В. Никитенко записал в своем дневнике от 22 апреля 1832 года о посещении им Гоголя: «У него
- 139 -
застал я человек до десяти малороссиян, всё почти воспитанников нежинской гимназии».1 Среди них были Данилевский, Прокопович, Пащенко, Базили, Гребенка, Мокрицкий и другие, здесь велись горячие споры о литературе, о важнейших общественных событиях.
П. В. Анненков живо передает атмосферу дружеских собраний, где Гоголь чувствовал себя непринужденно в кругу своих друзей: «На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых».2
Это были годы, ознаменованные такими крупными литературными событиями, как выход в свет «Бориса Годунова» Пушкина и организация «Литературной газеты» Дельвига при непосредственном участии Пушкина. Гоголь сразу же определяет свое место под знаменами Пушкина. Появление «Бориса Годунова» заставило его по-новому взглянуть на задачи литературы. Своей жизненной правдой, верностью исторических характеров и, прежде всего, подлинной народностью трагедия Пушкина произвела на молодого Гоголя огромное впечатление.
Этим и объясняется та восторженная оценка, которую дал трагедии Пушкина молодой Гоголь в своей статье о «Борисе Годунове» (сохранившейся среди рукописей, опубликованных уже после смерти писателя). Это была своего рода клятва в верности тем высоким и благородным идеалам, которые в глазах Гоголя олицетворял Пушкин.
В мае 1831 года состоялось и личное знакомство Гоголя с Пушкиным, перешедшее вскоре в дружескую и творческую близость обоих писателей. Гоголь нашел в Пушкине старшего товарища, идейного и литературного наставника и руководителя.
Сближению с Пушкиным способствовал и переезд Гоголя в Павловск по соседству с Царским Селом, где Пушкин проводил лето 1831 года. Гоголь устроился в Павловске на лето домашним учителем к больному сыну княгини Васильчиковой и почти ежедневно ходил за четыре километра в Царское Село. «Почти каждый вечер, — рассказывал он впоследствии, — собирались мы: Жуковский, Пушкин и я» (X, 214). Пушкин и Жуковский работали в это время над созданием народных сказок, а Гоголь заканчивал первую книгу своих «Вечеров». Под непосредственным впечатлением этих встреч и знакомства со сказками Пушкина Гоголь писал Жуковскому: «Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент...» (X, 207).
В самобытности русской литературы Гоголь видел в это время ее основную задачу, столь плодотворно и мощно разрешавшуюся творчеством Пушкина. «Пушкин имел сильное влияние на Гоголя, — писал Белинский, — не как образец, которому бы Гоголь мог подражать, а как художник, сильно двинувший вперед искусство и не только для себя, но и для других художников открывший в сфере искусства новые пути. Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, „состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа“».3
- 140 -
В творческом содружестве Пушкина и Гоголя, в том, что оба они одновременно обращаются к изображению народа, черпают свои краски в народном творчестве, была глубокая историческая закономерность. Сказки Пушкина, над которыми он работал летом 1831 года, так же как и «Вечера на хуторе близ Диканьки», знаменовали утверждение подлинной народности в русской литературе. Их роднит и едкий, лукавый юмор, и издевка над корыстными представителями богатых и знатных верхов, и то благородное моральное начало, которым проникнуты эти произведения.
3
При своем появлении «Вечера на хуторе близ Диканьки» (первый том вышел в свет в сентябре 1831 года, второй — в начале марта 1832 года) сразу же обратили на себя внимание яркостью поэтических красок, кипучим юмором, очарованием украинской природы. Пушкин по прочтении «Вечеров» писал: «Сейчас прочел Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился».1
Народный характер повестей Гоголя был в первую очередь оценен наборщиками типографии, в которой печатались «Вечера». В письме к Пушкину (от 21 августа 1831 года) Гоголь сообщал: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни» (X, 203).
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь показал лирический образ Украины, который навсегда вошел в русскую литературу. Этот образ раскрывается писателем в чудесных, поэтически насыщенных пейзажах и, прежде всего, в передаче самого характера народа, его свободолюбия, юмора, талантливости, беззаботного веселья. Украина, показанная Гоголем, впервые предстала перед читателем во всем своем очаровании и яркости, красоте и богатстве ее природы, в национальном своеобразии ее народа. По словам Белинского: «Это были поэтические очерки Малороссии, очерки полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви...» (II, 230).
Образ Украины раскрывается Гоголем в описании ее чудесных пейзажей, то залитых ярким солнечным светом, то смягченных лунным сиянием. Уже знойный, искрящийся всеми красками летнего полдня, пейзаж, которым открывается первая из повестей «Вечеров» — «Сорочинская ярмарка», определяет поэтическую художественную тональность повестей, их жизнеутверждающее начало. Пейзаж в «Вечерах» играет исключительно важную роль, утверждая лирический замысел автора и определяя эмоциональную
- 141 -
атмосферу, в которой происходит действие.
Иллюстрация:
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести
Н. В. Гоголя. Книга первая. Титульный
лист первого издания. 1831.Поэзия природы перекликается с поэтическим, прекрасным началом в человеке. Народ выступает в повестях Гоголя как носитель того светлого и жизнеутверждающего начала, которое не может заглушить и уничтожить косная крепостническая действительность. Поэтому и образы представителей народа показаны Гоголем с такой яркостью, с такой любовью.
Гоголь на стороне тех представителей народа, которые сохранили в своих нравственных воззрениях, в своих представлениях о жизни благородные человеческие чувства, веру в добро и красоту, сыновнюю привязанность к родной земле, в отличие от низости, корыстолюбия и развращенности богатых и знатных.
Прекрасное Гоголь видит в самом характере народа. Потому-то положительные персонажи его повестей наделены той привлекательной наружностью, теми чертами здоровья и красоты, которые прежде всего почерпнуты им из народного творчества. Поэзия жизни народа, прекрасное в его духовных проявлениях, в его чувствах, в его моральном здоровье и в его критериях красоты — определяют собой эстетический и нравственный идеал Гоголя.
В «Вечерах» основным героем является народ. Не только его отдельные представители, но и весь народ в целом. Гоголя привлекает народная жизнь своей красочностью, полнотой и свежестью чувств. Мир народной жизни, с такой яркостью отраженный в народном творчестве, противопоставлен серой и пошлой жизни господствующих классов, «земности» «существователей», столь ненавистной Гоголю.
Народность повестей Гоголя определяет их реалистические тенденции. «Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени», — писал Белинский, указывая, что «народность есть... необходимое условие истинно-художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных формах, след<овательно>, если изображение жизни верно, то и народно» (II, 224).
Свое отрицание гнусного паразитического мира «существователей», подобных Ивану Федоровичу Шпоньке и его окружению, Гоголь выражал в поэтических и героических образах людей из народа, подобных Левко, кузнецу Вакуле, Даниле Бурульбашу, в романтической идеализации которых он утверждал положительное начало народной жизни. В этих образах
- 142 -
сказалась мечта писателя о вольном и прекрасном человеке, полном чувства собственного достоинства, тесно связанном с коллективом, способном к благородным и самоотверженным поступкам.
В «Вечерах» почти не дано непосредственных картин крепостного быта, угнетения крестьян помещиками. Это, естественно, ограничивало широту и реализм показа действительности, но Гоголь хотел показать народ не подневольным и покорным, а гордым и свободным, в его внутренней красоте и силе, в его жизнеутверждающем оптимизме, — не сломленном крепостной неволей. Парубки в «Майской ночи», задумавшие подразнить ненавистного сельского «голову», не только бесшабашные гуляки: в них живет еще память о той вольности, которой славилось казачество: «Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки!» (I, 164).
Народными лирическими песнями подсказаны и образы парубков и дивчат — Левко и Ганны в «Майской ночи», Петруся и Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала», Оксаны и кузнеца Вакулы в «Ночи перед Рождеством». В них не только переданы черты и мотивы, свойственные лирическим народным песням, но и самые персонажи Гоголя объясняются словами и слогом песен.
Создавая поэтические, полные обаяния образы девушек, Гоголь широко пользуется народными песнями, из них выбирает он те прекрасные, задушевные черты и краски, которыми наделены его героини, то задумчивые и нежные, как Ганна, то полные задорного веселья, как Оксана.
Не стремясь к мелочной точности в воспроизведении деталей крестьянского быта, Гоголь проявляет реализм своего художественного метода в раскрытии черт народного характера. Не литературные образцы, но самая жизнь и народное творчество, как наиболее верное и полное выражение характера народа, лежат в основе художественного метода писателя. И недалекий Солопий Черевик, которого водит за нос его дородная супруга, и сама Хивря, ловко обманывающая своего муженька, и трусливый попович Афанасий Иванович («Сорочинская ярмарка»), — все они не романтические, а очень земные и реальные персонажи.
В характеристике таких персонажей, как «голова» в «Майской ночи», кулак Корж в «Вечере накануне Ивана Купала», Гоголь вскрывает не только их отрицательные моральные черты, но и дает их социальную характеристику. Это чаще всего представители казачьей верхушки, деревенские богатеи-кулаки, притесняющие народ. Эти представители сельской знати и богатеи по своим моральным качествам являются прямой противоположностью положительным персонажам из народа. В них глупое надменное чванство, жадность, грубое самодовольство сочетаются с нравственной нечистоплотностью, которую с едким юмором показывает Гоголь. Голова из «Майской ночи» не только спесив, но и жесток. Пьяный Каленик, осмелев во хмелю, бормочет: «Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, дидько б утысся его батькови, что он голова, что он обливает людей на морозе холодною водою, так и нос поднял!» (I, 160). В ряде сатирических эпизодов «Вечеров» отчетливо проглядывают черты крепостнической действительности, намечается реалистический стиль последующих произведений Гоголя. Персонажи ранних повестей Гоголя типичны по своей бытовой характерности, по яркости своих жизненных красок.
В «Вечерах» Гоголь нередко прибегает к фантастике, но его фантастика ничего общего не имеет с мистической фантастикой западноевропейских романтиков, фантастика Гоголя — чаще всего смешная или трагическая фантастика народных сказок и поверий.
- 143 -
Эта народная фантастика привлекает писателя своей бытовой стороной, своей наивной непосредственностью. Чорт у него смешной, сказочный и в то же время наделен человеческими слабостями и пороками — таким он изображен в «Ночи перед Рождеством». Ведьмы в адском пекле, куда попадает запорожец в «Пропавшей грамоте», играют в карты, и при этом даже жульничают.
«Ой рассердывся мий милесенький...». Запись Н. В. Гоголем
народной украинской песни.В таких повестях, как «Заколдованное место» или «Пропавшая грамота», фантастика причудливо переплетается с жизненными реальными, бытовыми чертами. Необыкновенные похождения загулявшего казака в «Пропавшей грамоте» показаны как пьяное наваждение, как сон, рассказанный болтливым, любящим прихвастнуть и приврать стариком-рассказчиком.
Гоголь, однако, показывает непрочность нарисованного им светлого и простого уклада народной жизни. За его пределами чувствуется полная противоречий и трагизма действительность. В повестях Гоголя звучат явно трагические ноты (конец «Сорочинской ярмарки», «Страшная месть», «Вечер накануне Ивана Купала»), напоминающие о непрочности и кратковременности счастливых проявлений в народной жизни.
- 144 -
В «Вечере накануне Ивана Купала» жажда обогащения, безудержная страсть к золоту приводит бедняка Петруся к преступлению. Петрусь убивает малолетнего брата своей невесты, чтобы завладеть заколдованным кладом. Но золото не приносит ему счастья, и трагический конец повести напоминает о губительном вторжении власти денег в народную жизнь.
Среди повестей «Вечеров», рассказывающих о мирных буднях украинской деревни, особое место занимает повесть «Страшная месть», предвещающая уже появление героического эпоса «Тараса Бульбы». «Страшная месть» посвящена историческому прошлому Украины, борьбе казачества с польской шляхтой за свою национальную независимость. В основу этой повести Гоголь положил мотивы украинских народных легенд и дум. В духе народной легенды рассказывает Гоголь о смелом казаке — патриоте Даниле Бурульбаше, о доблестной борьбе казачества за свою родину.
Наряду с патриотической героикой в «Страшной мести» раскрывается и другая тема. Мрачный колорит этой повести связан с образом колдуна — изменника родины. В этом образе собраны отвратительные черты, чуждые и враждебные народу: колдун заключает союз с врагами родины, он изменяет вере своих отцов, он убийца жены, внука и зятя. «Демоническая» сила, врывающаяся в мирную человеческую жизнь, и есть проявление того жестокого, антинародного начала, которое несет с собой стремление к власти и обогащению. Но абстрактно-идеалистическая постановка этой проблемы, разрешение ее в плане «родовых связей» привели писателя к тому, что глубоко патриотическая идея повести оказалась воплощенной в сугубо мистифицированной и романтической форме. Белинский отмечал именно в «Страшной мести» и в «Вечере накануне Ивана Купала» отступления от жизненной правды.
В «Страшной мести» Гоголь стремился воссоздать художественные особенности народного сказания, написав ее своеобразной песенной, ритмической прозой. Прекрасен и величествен подвиг во имя родины. В нем обретает человек силу и душевную красоту. И гордой птицей, окрыленно сражается на поле битвы Данило Бурульбаш. Смелости и мужеству посвящает Гоголь свою вдохновенную песню: «Страшная месть» своего рода поэма в прозе. В ней с особенной силой сказался поэтический дар Гоголя. Образцом этой музыкальной силы, гибкости и живописной выразительности языка является знаменитое лирическое описание Днепра в X главе, подчеркивающее и углубляющее патриотический и героический пафос повести, рисующее величественную картину родной страны, бескрайнюю ширь и могучую силу Днепра.
Демократические симпатии Гоголя, его восхищение перед цельностью и благородством простых людей из народа сочетаются в «Вечерах» со стремлением противопоставить реальным противоречиям действительности уже отошедшее в прошлое героическое начало народной жизни. В этом сказалась известная противоречивость позиции писателя, особенно проявившаяся в объединении повестей с ярким жизненным колоритом, с поэтической красотой в изображении народных характеров — с такими глубоко пессимистическими и трагическими повестями, как «Вечер накануне Ивана Купала» и «Страшная месть».
Там, где романтизм не оторван от жизни, а слит с нею, он передает самую праздничность и красоту народной жизни. Там же, где этот романтизм отрывается от жизни, как в «Вечере накануне Ивана Купала» и в «Страшной мести», он приобретает фантастически-иррациональный характер, обнаруживая тенденции идеалистического мировосприятия писателя.
- 145 -
В начале 1832 года вышла вторая часть «Вечеров», в которой помещена была повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», знаменовавшая приход писателя к реалистическому методу изображения действительности. В ней Гоголь с уничтожающей иронией показал бессмысленно-ленивое «небокоптительство» представителей провинциального дворянства.
Иллюстрация:
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести
Н. В. Гоголя. Книга вторая. Титульный лист
первого издания. 1832.Иван Федорович Шпонька начинает собой галерею гоголевских «существователей» — от него прямой путь к героям «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и далее к Подколесину в «Женитьбе». Иван Федорович не лишен даже некоторых положительных качеств: он добродушен, скромен, нечестолюбив. Но все эти качества не могут хоть сколько-нибудь уравновесить его внутренней пустоты. Ничтожность и мелкость мыслей и чувств, робость и бездарность, боязнь жизни — таковы основные черты Ивана Федоровича.
В этой повести Гоголь уже намечает те принципы своего юмора и сатиры, которые впоследствии с такой полнотой осуществлены в его дальнейших произведениях. «Секрет» его иронии в самой манере повествования, ведущегося от лица рассказчика, передающего в спокойно-эпическом тоне, с лукавым восхищением подробности растительно-пустопорожней жизни провинциальных «существователей». Рассказчик описывает такие незначительные подробности, которые особенно наглядно раскрывают перед читателем затхлый и застойный быт, душевную и нравственную нищету его героев.
Реалистические тенденции повестей «Вечеров» особенно явственно выступают в самой манере повествования. Роль пасечника Рудого Панька, от чьего имени изданы повести, никак не исчерпывается значением псевдонима. Гоголь создает полнокровный, реалистический образ рассказчика, который определяет и самый характер повествования, а вместе с тем подчеркивает и народность «Вечеров». Образ Рудого Панька объединяет повести и придает им внутреннее единство. Следует, однако, учитывать, что Рудый Панько не рассказчик самых повестей. Ему принадлежат лишь вступительные предисловия к каждой из частей «Вечеров». Сами же повести рассказаны различными лицами, прежде всего дьячком Фомой Григорьевичем («Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота»). Рассказчиками
- 146 -
остальных повестей выступают другие лица, большей частью не названные, но принадлежащие за отдельными исключениями к тому же кругу, что и сам пасечник Рудый Панько, собравший и издавший их рассказы.
За исключением повести о «Шпоньке» и «Страшной мести», рассказы «Вечеров» близки по своей сказовой манере. Эта манера рассказа, переданного через восприятие нескольких рассказчиков, объединенных образом «издателя», сближает «Вечера» с пушкинскими «Повестями Белкина». Наличие образа рассказчика и его индивидуальной манеры, в какой ведется повествование, усиливает реалистические тенденции повестей, одновременно мотивируя и те элементы фантастики и тот народный фольклорный колорит, которые так характерны для «Вечеров».
Комический эффект чаще всего достигается языковыми средствами — оборотами разговорной речи, комическими отступлениями от норм книжного языка, повторениями и т. д. Фома Григорьевич говорит о своем деде: «Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время Козаков. Знал и твердо-он — то и словотитлу поставить. В праздник отхватает Апостола, бывало, так, что теперь и попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять, — в одну горсть можно было всех уложить. Стало быть и дивиться нечего, когда всякой встречный кланялся ему мало не в пояс» (I, 182). Все эти обращения и словечки — «надобно вам сказать», «сами знаете», «стало быть» — создают впечатление непосредственной устной речи, обращенной к слушателям. Вместе с тем, такие выражения, как «отхватает Апостола», «в одну горсть всех уложить», «попович иной спрячется» и т. п., подчеркивают бытовой характер рассказа, культурный уровень рассказчика. Именно наличие этих словечек и оборотов и создает комический эффект.
Смешные, запоминающиеся фамилии гоголевских героев — Солопий Черевик, Иван Федорович Шпонька, Голопупенко, рассчитанные уже по своей этимологии на комический эффект, подчеркивают языковый юмор повестей.
Демократизируя литературную речь, Гоголь раздвигает ее рамки, широко обращаясь к живому народному языку. Основная языковая задача, которая была поставлена в «Вечерах», — сближение литературного языка с народным, — была им блестяще разрешена. Исследователь языка Гоголя академик В. В. Виноградов говорит о том, что «задача Гоголя состояла в том, чтобы усилить характеристическую выразительность и лаконизм рассказа, приблизить повествовательный стиль к устно-народной речи, гармонически слить его образную структуру, его семантический строй, заключенное в нем „мировоззрение“ с образом деревенского дьячка, расцветить сказ экспрессивными красками народной речи с оттенками украинизма. Отход от норм среднего литературного стиля предшествующей эпохи требовал решительного преобразования лексики и синтаксиса и насыщения их разговорно-народными „приметами“».1
Отличительной особенностью «Вечеров» был тот юмор, то лукаво-иронический, то добродушно-сочувственный смех Гоголя, который придавал своеобразие и очарование его повестям. Это еще не тот горький и уничтожающий смех сквозь невидимые миру слезы, который возникает в творчестве писателя позже. Но и в смехе «Вечеров» много оттенков — он
- 147 -
делается едким и злым, когда Гоголь высмеивает жадную и сластолюбивую Хиврю или самодовольного и жестокого голову в «Майской ночи», смех этот становится мягким, полным лирического сочувствия, когда писатель рассказывает о капризной красавице Оксане или похождениях кузнеца Вакулы.
Юмор Гоголя в «Вечерах» — это простодушный юмор рассказчика из народа, лукаво подчеркивающего людские слабости и смешные стороны. В «Ночи перед Рождеством» рассказчик, повествуя о проделках чорта, в сущности едко высмеивает провинциальные нравы, волокитство, фальшивую чувствительность: «Чорт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится отвечать его страсти и, как водится, наградить, то он готов на всё: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло» (I, 423).
В «Вечерах» как бы два голоса — основной голос рассказчика, передающего с лукавым юмором то смешные, то страшные события и легенды. И другой голос — голос самого автора, определяющего свое отношение к рассказываемому. Этот авторский голос чаще всего слышен в лирических отступлениях и пейзажных описаниях. Этим определяется и стилистическое, языковое построение повестей, их стилистическая многопланность.
От «Вечеров», при всем их своеобразии и неповторимости, тянутся нити к таким произведениям Гоголя, как «Тарас Бульба», в котором с особенной полнотой проявились черты народной героики, намеченные в «Страшной мести». А повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» уже знаменовала рождение реалистического разоблачения «пошлости пошлого человека», подготовляя появление таких произведений, как «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Женитьба».
4
Русская действительность 30—40-х годов XIX века была ознаменована усилением правительственной реакции, наступившей после разгрома движения декабристов. Реакционно-правительственные круги стремились заглушить всякую критику, всякую попытку протеста. Однако, несмотря на реакцию и жестокие правительственные репрессии, передовая русская мысль продолжала развиваться. В эти трудные и сложные годы и складывался Гоголь как художник и мыслитель, одушевленный высокими и благородными идеалами служения родине и народу.
После выхода «Вечеров» Гоголь становится известным писателем. Он с увлечением отдается литературной работе, подготовляет к печати ряд повестей и статей, составивших впоследствии сборники «Миргород» и «Арабески», вышедшие в 1835 году. В эти же годы он завязывает новые литературные знакомства с М. П. Погодиным, С. Т. Аксаковым, С. П. Шевыревым, знатоком украинского фольклора М. А. Максимовичем.
Планы Гоголя этого времени очень широки. Он не ограничивается литературной деятельностью, но работает также над историей Украины и средних веков, задумывает исторический и географический труд под названием «Земля и люди», хлопочет о получении кафедры истории в Киевском университете. В письме к Пушкину Гоголь сообщал о своих планах, связанных с переездом в Киев и занятиями историей: «Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из под
- 148 -
спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украйны и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор к сожалению не только на Руси, но даже и в Европе, нет» (X, 290).
Однако хлопоты Гоголя не увенчались успехом: министр просвещения Уваров предпочел более благонамеренную кандидатуру.
При поддержке Плетнева Гоголю удалось получить в июле 1834 года место адъюнкт-профессора по кафедре всеобщей истории в Петербургском университете.
К чтению университетских лекций Гоголь усиленно готовился. Первые лекции он читал с увлечением и произвел на студентов большое впечатление широтой и новизной поставленных проблем и поэтической манерой их изложения. На одной из его лекций присутствовали Пушкин и Жуковский.
Но вскоре Гоголь разочаровался в своем педагогическом призвании, перестал готовиться к лекциям, читал их вяло и в конце концов принужден был уйти из университета. Литературные интересы и планы все время выступали у него на первое место. «Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный козак, — сообщал он М. Погодину 6 декабря 1835 года. — Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее... Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну наконец решаюсь давать на театр...» (X, 378—379). Этой комедией был «Ревизор», ознаменовавший новый этап в творческом пути писателя.
Одним из результатов занятий Гоголя историей явились его статьи в «Арабесках», посвященные историческим темам («О средних веках», «О преподавании всеобщей истории», «Взгляд на составление Малороссии», «Ал-Мамун» и др.).
Исторические труды и материалы, собиравшиеся Гоголем для своих лекций, дошли до нас лишь в отрывках, но и они свидетельствуют о серьезности этих занятий, о широкой эрудиции Гоголя как в вопросах всемирной, в основном средневековой истории, так и в вопросах русской истории.
В статьях и фрагментах, входящих в «Арабески», поставлены разнообразные вопросы, но основная объединяющая их мысль — это мысль о своеобразии национальных культур и роли народа в их развитии.
Выделяясь своей яркостью и смелостью в постановке вопросов исторического развития, взгляды Гоголя-историка, однако, во многом противоречивы и связаны с романтическим и идеалистическим пониманием истории. В свое понимание исторического процесса Гоголь вкладывает идею теологического провиденциализма, рассматривая историю как смену форм, выражающих различные этапы религиозно-морального сознания народов. Стремясь возвыситься над эмпирическим представлением об историческом процессе, отказываясь видеть в истории смену царей и цепь не связанных между собою отдельных событий, Гоголь стремится найти общие закономерности исторического процесса. Но эти закономерности он видит не в условиях материального развития общества, а в развитии отвлеченной идеи, определяющей своеобразие исторических периодов. Жизнь каждого народа выражается для Гоголя в становлении «духа», присущего данному народу, в зависимости от общего развития «идеи» человечества. В этом отношении Гоголь примыкает к философии истории представителей идеалистического направления.
- 149 -
В статье «О преподавании всеобщей истории» Гоголь говорит не только о самих принципах преподавания, но и рисует общую картину развития Европы. Для нас представляет особый интерес характеристика им последнего этапа с конца XVIII по начало XIX века, свидетельствующая о признании им прогрессивной роли исторического развития и места в нем России.
Сборник «Арабески» Н. В. Гоголя.
Титульный лист первого издания. 1835.Гоголь дает отрицательную оценку Наполеону и подчеркивает огромную роль России в освобождении всего мира от его военного деспотизма: «Им <англичанам> преграждает путь исполин XIX века, Наполеон, и уже действует другим орудием: совершенно военным деспотизмом; своими быстрыми движеньями оглушает Европу и налагает на нее железное свое протекторство. Напрасно гремит против него в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы. Ничто не имеет духа ему противиться, пока он сам не набегает на гибель свою, вторгнувшись в Россию, где неведомые ему пространства, лютость климата и войска, образованные суворовскою тактикою, погубляют его. И Россия, сокрушившая этого исполина о неприступные твердыни свои, останавливается в грозном величии на своем огромном северо-востоке. Освобожденные государства получают прежний вид и прежние формы, утверждают снова союз и неприкосновенность владений. Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа; паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства; будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее...» (VIII, 35).
Как видим, в этой характеристике начала XIX века Гоголь — сторонник исторического прогресса, развития «мануфактурности», он резко осуждает Наполеона и приветствует просвещение. Однако Гоголь не был достаточно последователен в своих прогрессивных взглядах. В своих политических суждениях Гоголь и тогда был ограничен предрассудками дворянской идеологии. Он сохраняет веру в положительную роль и в «надклассовый» характер монархии, которая якобы может ограничить и искоренить злоупотребления бюрократического аппарата и принести пользу народу. Свои взгляды на роль «просвещенного» государя он развивает в статье «Ал-Мамун», посвященной деятельности арабского государя-просветителя, который исполнен был «истинной жаждой просвещения». «Благородный Ал-Мамун истинно желал сделать счастливыми своих подданных. Он знал, что верный путеводитель к тому — науки, клонящиеся к развитию
- 150 -
человека» (VIII, 78). Трагедия Ал-Мамуна и крушение его прогрессивных замыслов объясняются Гоголем незнанием жизни народа, отрывом от него: «Ал-Мамун... умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом» (VIII, 81). В этом и «поучительный урок», который видит Гоголь в его царствовании.
Таким образом, в своих политических взглядах Гоголь разделяет веру в просвещенного государя, который может облегчить участь народа, если поймет его нужды. Эти иллюзии во многом ограничивали политический кругозор писателя.
Непосредственным отражением интереса Гоголя к западноевропейской истории является незаконченная драма его «Альфред». Сохранилось первое действие этой драмы и начало второго, свидетельствующие о значительности и глубине замысла писателя. Работа над «Альфредом» относится к лету и осени 1835 года, т. е. к тому времени, когда Гоголь наиболее интенсивно занимался историей Западной Европы.
Уже самый выбор эпохи и центрального героя свидетельствует о том, что Гоголь, как и в завершенном незадолго до написания «Альфреда» «Тарасе Бульбе», обращается к тем историческим событиям, в которых с особенной яркостью и полнотой сказалась борьба народа за свою национальную независимость. В «Альфреде» показана критическая пора английской истории, когда почти вся Англия готова была отдаться под владычество датчан, теснивших саксов с севера и востока. Тогда на спасение страны выступил народ, возглавляемый королем Альфредом, с именем которого связан перелом в борьбе за независимость страны и преобразование Англии. Альфред повел борьбу с феодалами, предававшими национальные интересы, и, опираясь на свободных землевладельцев-кёрлов, нанес решающий удар иноземным завоевателям.
Замысел драмы Гоголя был сочувственно отмечен Чернышевским. «Идея драмы, — писал великий критик, — была, как видно, изображение борьбы между невежеством и своеволием вельмож, угнетающих народ, среди своих мелких интриг и раздоров забывающих о защите отечества, и Альфредом, распространителем просвещения и устроителем государственного порядка, смиряющим внешних и внутренних врагов. Все содержание отрывка наводит на мысль, что выбор сюжета был внушен Гоголю возможностью найти аналогию между Петром Великим и Альфредом, который у него невольно напоминает читателю о просветителе земли русской, положившем основание перевесу ее над соседями, прежде безнаказанно ее терзавшими. Его Альфред несомненно был бы символическим апотеозом Петра» (III, 527).
Чернышевский видел основной смысл драмы Гоголя в изображении конфликта между своеволием вельмож, отживающей силой феодалов и национальными интересами, которые в данных условиях исторического развития Англии в конце IX века представлены были королем-просветителем Альфредом, возглавившим борьбу за национальную независимость страны. Уже в самом начале первого действия Гоголь смело намечает в высказываниях представителей народа эту основную тему борьбы как с феодалами, стремившимися поработить свободных земледельцев — «сеорлов», так и с иноземными завоевателями: «От датчан дурно, а от наших еще хуже. Всякий тан подличает с датчанином, чтоб больше земли притянуть к себе. А если какой-нибудь сеорл, чтоб убежать этой проклятой чужеземной, собачьей власти, и поддастся в покровительство тану, думая, что если платить повинности, то уж лучше своему, чем чужому, — еще хуже: так закабалят его, что и бретон такого рабства не знал» (V, 176). Альфред
- 151 -
Иллюстрация:
«Отрывок из Истории Малороссии». Статья Н. В. Гоголя в «Журнале Министерства
народного просвещения». 1834.
- 152 -
показан Гоголем как просветитель, как монарх, отстаивающий интересы государства в противовес «феодальным обыкновениям» танов.
Наряду с верой в прогрессивное значение просвещенного государя, способного защитить интересы народа от грубого посягательства феодалов, в драме Гоголя важно отметить и ту роль, которую он отводит народу, показывая его основной решающей силой истории. Близость этой драмы Гоголя к пушкинской драматургии отметил Н. Г. Чернышевский, который писал: «...сколько можно судить по началу, в этой драме мы имели бы нечто подобное прекрасным „Сценам из рыцарских времен“ Пушкина. Простота языка и мастерство в безыскусственном ведении сцен, уменье живо выставлять характеры и черты быта не изменили Гоголю и в этом случае. Историческая верность строго выдержана» (III, 527—528). Эта высокая оценка Чернышевским незавершенной драмы Гоголя правильно определяет ее место в наследии писателя.1
Большую помощь оказал Гоголю в его творческом росте Пушкин, внимательно следивший за идейным и художественным развитием молодого писателя. Общение с Пушкиным помогало Гоголю найти правильный путь в литературе, укрепляло его на позициях реализма.
Пушкин для Гоголя был не только бесспорным литературным авторитетом, но и идейным руководителем. Об этом еще при жизни Пушкина писал сам Гоголь в своей статье о нем, помещенной в «Арабесках». Правда, по цензурным соображениям эти строки о Пушкине не попали в ее печатный текст. В черновой редакции имелась следующая характеристика роли Пушкина для молодого поколения, к которому принадлежал и сам Гоголь: «Он был каким-то идеалом молодых людей. Его смелые, всегда исполненные оригинальности, поступки и случаи жизни заучивались ими и повторялись, разумеется, как обыкновенно бывает, с прибавлениями и вариантами... И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно-благородные чувства, несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассевают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражений и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них, и для государства» (VIII, 757).
П. В. Анненков приводит свидетельства того, как глубоко вникал Пушкин в творческие замыслы Гоголя, помогал ему находить верный путь, реалистически изобразить действительность. «В 1835 году, когда Гоголь знакомил петербургских друзей своих с первым из сих произведений <т. е. «Ревизором»> и довольно часто читал комедию на вечерах у разных лиц, Пушкин не уставал слушать его. Наклонность поэта к веселости... нашла здесь полное удовлетворение, как прежде в рассказе о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем — и над обоими произведениями смех его был почти неистощим. Серьезную сторону в таланте Гоголя постигал он, однако ж, с замечательной верностью. Он считал одно время „Невский проспект“ лучшею повестью его. В ней находил он замечательный шаг от идиллической, комической и даже героической живописи малороссийского быта к более близкой нам действительности, которая под своею ровною поверхностию таит множество источников поэзии и разработка которой делается тем почетнее, чем она труднее. Взгляд Гоголя на способ создания, его манера представления лиц и образов прямо, без оговорок и умствований,
- 153 -
Иллюстрация:
«О малороссийских песнях». Статья Н. В. Гоголя в «Журнале Министерства
народного просвещения». 1834.
- 154 -
совпадала с мыслями, какие имел Пушкин о сущности и достоинстве рассказа».1
Для Гоголя Пушкин был недосягаемым идеалом великого писателя и русского человека. В статье «Несколько слов о Пушкине», помещенной в «Арабесках», Гоголь писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русской характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла» (VIII, 50).
Пушкин потому стал «вполне национальным поэтом», — писал Гоголь, — что «погрузился в сердце России..., предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников...» (VIII, 52).
Именно на примере Пушкина Гоголь дал свое замечательное определение народности и национальной самобытности русской литературы, которое впоследствии неоднократно приводил Белинский. Это же понимание народности Гоголь положил и в основу своего собственного творчества. Словами, сказанными им о Пушкине, можно сказать и о нем самом: «Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» (VIII, 51).
В статье о Пушкине Гоголь сформулировал и принципиальное отличие реалистического метода от романтизма, наметил программу своего собственного творческого пути, исходя из принципов пушкинского творчества. Именно здесь выдвинул Гоголь принцип реалистического изображения действительности, показ ее в повседневной правдивости, изображение не романтически условных персонажей, а типических явлений и характеров: «Никто не станет спорить, — писал он, — что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущельи, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом посредством справок и выправок пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта — нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою» (VIII, 53).
Это изображение «обыкновенного», повседневно встречающегося в жизни и в то же время раскрывающего ее основные черты и закономерности, типического, и явилось программой самого Гоголя как писателя.
В эти годы Гоголь неоднократно выступал как критик и теоретик литературы. В 1836 году, привлеченный Пушкиным к участию в «Современнике», Гоголь в первом же номере журнала помещает статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», в которой развивает положения,
- 155 -
во многом перекликающиеся со взглядами Пушкина и Белинского. В этой статье Гоголь прежде всего наносит решительный удар по реакционной журналистике тех лет, разоблачая ее беспринципность, невежественность и стремление к дешевому успеху. В критике Сенковского Гоголь видит «отсутствие своего мнения», в его беллетристических произведениях — ремесленное, бездарное подражание новейшим французским романистам. Выступая против монополии, захваченной в журналистике Сенковским, Булгариным и Гречем, Гоголь указывает, что борьба с этой монополией велась слишком робко и непоследовательно. С этой точки зрения он критикует и журнал «Московский наблюдатель», издававшийся кружком московских «любомудров».
Борясь с «литературным безверием и литературным невежеством», Гоголь выступает с защитой национальной традиции русской литературы, ее величайших представителей: «Нигде не встретишь, — писал он, — чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас в лучах славы с вышины своей... Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, еще остающемся, еще заметном» (VIII, 173—174). Гоголь настаивает на внимании критики к развитию своей национальной литературы, указывая, что «писатели наши отлились совершенно в особенную форму» и «заключают в себе чисто русские элементы...» (VIII, 175).
Однако позиция Гоголя по отношению к современной литературе не ограничивалась критикой монополии «Библиотеки для чтения». В «Современнике» в 1837 году была помещена еще одна замечательная статья Гоголя «Петербургские записки» (первоначально предварявшаяся незаконченной статьей «Петербургская сцена в 1835/6 г.»). В «Петербургских записках» Гоголь выступал с резкой критикой безидейных переводных и подражательных мелодрам и водевилей, подчеркивая необходимость создания русской национальной драматургии, показа русской жизни и русских характеров, настаивая на высокой общественной роли театра. В пушкинском журнале был напечатан и ряд произведений Гоголя: «Коляска», «Утро чиновника» (заглавие изменено цензурой на «Утро делового человека») и повесть «Нос».
В мае 1835 года, получив отпуск, Гоголь выехал через Москву в Васильевку, где и пробыл до осени. В Москве у М. П. Погодина он читал первоначальную редакцию комедии «Женитьба» (под названием «Женихи»). Тогда же на обеде у Аксакова Гоголь впервые встретился с Белинским. Пребывание Гоголя в Москве показало, насколько он стал популярен в среде передовых читателей и любим ими. Тот же С. Т. Аксаков рассказывает, что «все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя... Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте».1 Однако реакционная критика иначе отнеслась к Гоголю. Появление «Миргорода» и «Арабесок» встречено было злобными нападками и издевательством продажных и беспринципных критиков.
Руку помощи Гоголю протянул Белинский, который в своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», напечатанной в сентябре 1835 года в журнале «Телескоп», не только защитил Гоголя от нападок реакционной критики, но и провозгласил его «поэтом жизни действительной», поставив вместе с Пушкиным во главе русской литературы (II, 213).
- 156 -
Белинский первый раскрыл значение Гоголя как крупнейшего представителя нового, «реального направления» русской литературы. Гоголь, по его словам, изображает с необычайной правдивостью современную ему действительность, «совершенную истину жизни». «Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее: он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого и, в то же время, не скрывает нимало и ее безобразия» (II, 221). Эту глубокую и верную оценку творчества Гоголя Белинский развивал и в своих дальнейших статьях, решительно и настойчиво борясь за Гоголя-реалиста и за гоголевское направление в литературе, как направление, выражающее самые передовые тенденции своего времени. Статья Белинского имела огромное значение для писателя. По словам Анненкова, Гоголь «был доволен статьей, и более чем доволен, он был осчастливлен статьей».1
Сборник «Миргород», вышедший в 1835 году, явился новым этапом в идейном и творческом развитии Гоголя, утверждением реалистических принципов, намечавшихся писателем уже в «Вечерах». Гоголь назвал свой новый сборник: «Миргород. Повести, служащие продолжением „Вечеров на хуторе близ Диканьки“», подчеркивая этим связь их с «Вечерами». Однако, изображая в своих новых повестях Украину, Гоголь уже по-иному показывает ее. Белинский писал о новых повестях Гоголя, сравнивая их с «Вечерами»: «В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни» (II, 230).
Если в «Вечерах» Гоголь во многом еще смотрел на жизнь сквозь призму народной романтики, поэтически воссоздавая народные предания, то такие повести «Миргорода», как «Старосветские помещики» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», знаменовали обращение писателя к отрицательным сторонам действительности, к реалистическому изображению жизни помещичьего дворянства во всей ее грубой и непривлекательной правде.
Основная идея повестей «Миргорода», выраженная в художественных образах, — разоблачение антинародной, паразитической сущности пошлых «существователей», прозябающих в своем уродливо-ничтожном мирке. Этому эгоистическому и мертвенному миру пошлости Гоголь противопоставляет в «Тарасе Бульбе» широкую картину народной жизни, богатырские и яркие черты народа как носителя подлинно человечных и высоких идеалов патриотизма, товарищества, героизма.
Длительная поездка Гоголя летом 1832 года на Украину в родную Васильевку, оживившая впечатления от украинской действительности, во многом сказалась и на повестях «Миргорода». Гоголь наглядно увидел распад и обреченность крепостнического натурального хозяйства. В своем письме из Васильевки от 20 июля 1832 года к И. И. Дмитриеву Гоголь дал верную и широкую картину разорения и нищеты крестьянства и безделья помещиков: «Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. Всему виною недостаток сообщения. Он усыпил и обленивил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает, а они рыскают с горя за зайцами» (X, 239).
- 157 -
Гоголь пытался разобраться в причинах кризиса натурального помещичьего хозяйства, и если он не смог сделать из этого последовательных выводов, то, несомненно, что в повестях «Миргорода» и, прежде всего, в «Старосветских помещиках» он отразил эти черты современной ему действительности.
Иллюстрация:
«Телескоп». Титульный лист журнала. 1836.
«Старосветские помещики» — грустная отходная патриархальному поместному укладу, хотя в то же время некоторым сторонам этой патриархальности Гоголь сочувствует, не принимая тех тенденций, которые приносили с собой новые капиталистические отношения. В простоте жизни трогательно наивных и добрых старичков, так преданно заботящихся друг о друге, писатель видит те черты, те человеческие качества, которые уже исчезли в современном обществе, знающем лишь корыстолюбие и эгоистические стремления.
Гоголь, однако, не идеализирует патриархального «старосветского» помещичьего уклада. Он показывает не только его бессмысленность, но и его историческую обреченность. Отсюда такое трезвое и реальное изображение жизни «старосветских помещиков», та грустная ироническая усмешка автора, которая чувствуется и в самой манере повествования.
Пустота, ограниченность, бессодержательность жизни «старосветских помещиков» подчеркнуты Гоголем в ее типических проявлениях. В правдивом и верном изображении увидел Белинский торжество реализма Гоголя, сумевшего охватить противоречивые стороны действительности, раскрыть «жизнь во всей ее полноте». «В том-то и состоит задача реальной поэзии, — писал он в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», — чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни, и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его „Старосветских помещиков“: что в них? Две пародии на человечество, в продолжении нескольких десятков лет, пьют и едят, и едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Палемоном о его Бавкиде...». И Белинский задает вопрос: «Отчего это?» и сам отвечает на него: «Оттого, что это очень просто и след<овательно> очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство — привычка» (II, 220).
- 158 -
Всей логикой образов Гоголь показывает, что жизнь «старосветских помещиков» — это жизнь без смысла, без мысли, жизнь, недостойная человека. Крохотный мирок Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны плотно отгорожен от всего окружающего, и сами они ведут тусклую и ничтожную жизнь, согреваемую лишь элементарным чувством привычки друг к другу.
Однако в «Старосветских помещиках» Гоголь показал не только пошлость и ничтожество мелкопоместной среды, но и те положительные человеческие задатки, которые, несмотря на убожество окружающей обстановки, еще теплятся в Афанасии Ивановиче и Пульхерии Ивановне. Это гуманное начало повести сказалось в том сочувствии, с которым писатель изображает своих героев, показывая в них то хорошее и человеческое, что вызывает чувство жалости и симпатии. Но мы жалеем их не потому, что они достойны жалости. Гоголь правдиво и иронически показал «пошлость» к неподвижность поместного уклада, тусклое и ленивое прозябание и духовное убожество своих «старосветских помещиков», их жизнь, заполненную едой и сном. Жалеем мы их потому, что человеческое начало в них находится в таком униженном и жалком состоянии. Проявление этого гуманного начала сказывается в бескорыстии и доброте Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, изображаемых Гоголем с мягким, сочувственным юмором, и, в особенности, в их трогательной и безграничной любви друг к другу.
Подлинно человечное начало пробивается сквозь уродливую оболочку, привитую средой, крепостническим укладом, которые задавили и заглушили это чувство, но не смогли его совершенно уничтожить.
Это гуманное начало противостоит меркантильному, эгоистическому, наглому и лживому миру столичного общества «модных фраков» и тем «низким малороссиянам», которые «выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ» (II, 14, 15).
На смену старосветским помещикам приходит их наследник — «страшный реформатор». Найдя величайшее расстройство в хозяйственных делах, он решил навести порядок. Однако реформы его ограничились тем, что он «накупил шесть прекрасных англинских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и наконец так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку» (II, 38). Таков новый порядок, который пришел на смену отжившей свой век старосветской усадьбе. Конец старосветского поместья глубоко печален: «Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах» (II, 38). Этой безрадостной картиной и завершается «идиллия», являющаяся по существу отходной «старосветской» патриархальности.
Гуманное начало повести высоко оценил Белинский, указав на сочетание в ней «простодушной любви» и «весело-добродушного смеха», с которым читатель воспринимает повесть Гоголя (V, 53).
В «Старосветских помещиках» юмор Гоголя проникнут глубоким лиризмом. Это еще более раскрывает тему гуманизма, подчеркивая ту человеческую доброту, тот возвышенный пафос любви, которые противостоят корыстному и жестокому миру крепостнической действительности. Потому-то столько лиризма и в описаниях самой природы, усадьбы и даже внутреннего убранства простого, но уютного домика Афанасия Ивановича
- 159 -
и Пульхерии Ивановны, их однообразного, бесхитростного быта. Все образы Гоголя рисуют эту тишину и покой, соответствующие душевному покою и миру его героев. Отсюда и авторская аналогия с античной идиллией Филемона и Бавкиды и весь тот солнечный и теплый колорит, в котором выдержано повествование.
В «Старосветских помещиках» Гоголь уже наметил тот принцип раскрытия действительности в ее повседневности, в ее будничной обыденности и в то же время в ее типическом выражении, который в дальнейшем становится основой художественного метода писателя.
Реалистическое начало творчества Гоголя, правдивое и верное изображение им действительности, было подготовлено всей предшествовавшей традицией русской литературы. Не говоря уже о таком замечательном памятнике становления русского реализма, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, который обратил русскую литературу в целом к изображению коренных противоречий действительности, творчество Фонвизина, Новикова, Крылова, Грибоедова, Пушкина подготовило обращение Гоголя к реализму как основному методу его творчества. Гоголь развивал принципы того «сатирического направления», которое на протяжении последней четверти XVIII века вплотную подвело русскую литературу к критическому реализму. Сатира Фонвизина в «Недоросле» и «Бригадире», деятельность Новикова в «Трутне» и «Живописце», замечательные традиции реализма Крылова, Грибоедова и Пушкина во многом помогли Гоголю. Правдивая лепка образов помещиков-крепостников, жизненность языка комедий Фонвизина, прекрасно знакомых Гоголю со школьной скамьи, открывали возможности для создания таких остро комических, типических образов, как Иван Иванович и Иван Никифорович и герои «Мертвых душ». Острое сатирическое обличение пороков дворянского общества Новиковым на страницах «Трутня» и «Живописца» предваряло сатиру Гоголя, учило его точно и беспощадно направлять острие своей сатиры против социальных порядков его времени.
Непосредственным предшественником Гоголя в изображении поместной украинской жизни был писатель-разночинец В. Нарежный, который в своих романах «Два Ивана» и «Бурсак», вышедших в середине двадцатых годов, дал ряд метких, правдивых жанровых зарисовок украинского быта. Однако в романах Нарежного еще большое место занимали авантюрные приключения героев, а наивная морализация заслоняла в них показ подлинных противоречий действительности.
Если в «Старосветских помещиках» Гоголь еще смягчает свой приговор представителям уходящей дворянской патриархальности, то в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» он уже безжалостно срывает маску добропорядочности с этого общества. Трагикомические последствия ссоры двух «почтенных» миргородских друзей вырастают в широкое обобщение. «Повесть о том, как поссорился...» — это резкая и глубокая социальная сатира, разоблачающая самые безобразные проявления пошлости, показывающая, словно под микроскопом, злокачественную опухоль крепостнического общества.
Белинский исчерпывающе определил этот «мир» русской дворянско-чиновничьей провинции: «Это мир случайностей, неразумности; это отрицание жизни, пошлая, грязная действительность» (V, 44). Эта «бессмысленная и глупо животная» (V, 46) жизнь показана Гоголем как широкое социальное обобщение. Иван Иванович и Иван Никифорович — «нравственные уроды», «пародия на человечество», по меткому определению Белинского. Гоголь самой манерой их изображения подчеркивает примитивность
- 160 -
их натуры: «Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх» (II, 226). Эти человекоподобные редьки лишены каких-либо моральных принципов и душевных качеств. Лишь праздное любопытство, мелкая зависть, ничтожное честолюбие, нелепое и тупое упрямство — составляют содержание их жизни.
Белинский глубоко раскрыл обличительный смысл этой повести: «Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого...» (II, 226). Гоголь с беспощадной иронией показывает, как в праздной и тусклой жизни миргородских «панков», в мире пошлости и эгоизма их паразитического существования рождается бессмысленная ссора — результат всего уклада этой жизни.
Мелочность и пошлость провинциального помещичьего быта, отсутствие в нем каких-либо подлинно человеческих чувств и качеств показаны Гоголем средствами комически-панегирического повествования, особенно наглядно разоблачающего духовное ничтожество представителей чиновничье-дворянского мирка. Повествование о событиях миргородской жизни ведется Гоголем от лица рассказчика, с восхищением передающего самые незначительные детали знаменитой ссоры. Рассказчик прекрасно понимает ничтожество и душевную мелкость своих героев, но, прикидываясь простаком, с лукавым простодушием рассказывает о них, как о якобы «почтенных» и достойных уважения людях. По этому поводу Белинский писал: «Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком. Г. Гоголь с важностию говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только манера, и истинный-то гумор г. Гоголя все-таки состоит в верном взгляде на жизнь, и прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им жизни» (II, 226—227).
Белинский подчеркивает, что своим якобы наивным простодушием рассказчик создает впечатление особенной важности происходящих событий. На самом деле эти события так же ничтожны, как ничтожны и герои повести.
Каждая деталь, каждая мелочь, преподносимая рассказчиком, раскрывают ничтожество натур Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, их скудоумие, их моральную нечистоплотность. Гоголь применяет могучую силу сатиры, едкость иронии, чтобы беспощадно заклеймить и развенчать фальшь и лицемерие господствующих социальных отношений. Он не ограничивается при этом лишь кругом провинциального дворянства, но показывает пустоту и пошлость всего социального строя, всей духовной жизни крепостнического общества, которые уродуют человека, заглушают в нем все человеческое. Этим объясняется и заключительная фраза повести: «Скучно на этом свете, господа!» — неожиданно трагическим аккордом завершающая повествование рассказчика. Самая резкость переключения комического повествования в иной стилистический план подчеркивает всю важность, весь трагизм этого авторского заключения, заставляющего по-новому ощутить все содержание повести. Смешная и нелепая ссора двух
- 161 -
помещиков оказывается не только смешной, но и раскрывает всю пустоту, мерзость и несправедливость этой «призрачной», но, к сожалению, вполне реальной действительности. «Да! грустно думать, — писал Белинский, — что человек, этот благороднейший сосуд духа, может жить и умереть призраком и в призраках, даже и не подозревая возможности действительной жизни!» (V, 47). Гоголь и здесь, как и в «Старосветских помещиках», выступает на защиту человека, протестует против его духовного уродства, против безобразия общества, основанного на корысти и подавлении человеческого достоинства в людях.
5
Миру этих «существователей» Гоголь противопоставляет народ, его могучие духовные силы, его высокие и благородные идеалы. Именно в народе писатель видит выражение положительного начала. Величие и могучую силу народа писатель показал в своей исторической эпопее «Тарас Бульба», впервые напечатанной в сборнике «Миргород».
Создание этой эпопеи было связано с работой Гоголя над историей Украины. Занятия историей давали обширный материал для изображения бурной эпохи героической борьбы украинского народа за свою национальную независимость. В статье «О преподавании всеобщей истории», напечатанной в «Арабесках», Гоголь говорил о задаче, стоящей перед писателем-историком: показать не единичные факты и не отдельных героев, а раскрыть в ней роль народных масс, «чтобы народ со всеми своими подвигами и влиянием на мир проносился ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком был он в минувшие времена» (VIII, 27). Эту задачу Гоголь и ставил перед собой в своей героической эпопее о прошлом Украины.
Появлению «Тараса Бульбы» предшествовала работа Гоголя не только над повестью «Страшная месть», но и над историческим романом из истории Украины «Гетьман», над которым он работал в 1830—1832 годах (отдельные главы из этого романа были напечатаны в «Северных цветах» на 1831 год). Незаконченный роман «Гетьман», как и «Тарас Бульба», посвящен борьбе украинского казачества с польскими феодалами, его основным героем должен был стать нежинский полковник Степан Остраница, нанесший в 1638 году сильное поражение полякам. Захваченный ими, он был казнен в Варшаве. Несмотря на наличие исторического лица, роман «Гетьман» написан Гоголем во многом в манере романтически-«ужасной» школы, изобилует эффектно-мелодраматическими условными положениями и лишь в описании казачества предваряет эпическую палитру «Тараса Бульбы».
В «Тарасе Бульбе» Гоголь изображает длившуюся на протяжении нескольких веков героическую борьбу украинского народа за свою национальную независимость. В этой борьбе с польскими феодалами и татарскими ханами, стремившимися поработить вольнолюбивый украинский народ, складывались могучие героические характеры, рождалось подлинное патриотическое чувство, закладывалась дружба братских украинского и русского народов. Замечательно уже то обстоятельство, что в своей повести Гоголь обратился к событиям большого исторического значения, к самым ответственным страницам в судьбах украинского народа.
«Украинский народ, — говорится в «Тезисах о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654—1954 гг.)», одобренных ЦК КПСС, —
- 162 -
находясь под угрозой уничтожения, постоянно вел борьбу против гнета чужеземных поработителей, за свою свободу и независимость и вместе с тем за воссоединение с Россией.
«В ходе борьбы украинских народных масс против феодально-крепостнического и национального гнета, а также против турецко-татарских набегов была создана военная сила в лице казачества, центром которого в XVI в. стала Запорожская Сечь, сыгравшая прогрессивную роль в истории украинского народа... Крестьянско-казацкие восстания против господства польской шляхты и местных эксплуататоров одно за другим потрясали Украину и Белоруссию».1
Тема борьбы украинского народа за свое освобождение определяет героический характер и всей повести Гоголя, ее эпический размах, жизненную полнокровность ее образов. В «Тарасе Бульбе» Гоголь прославил богатырский подвиг народа, защищавшего свою родную землю от иноземных захватчиков. Он показал запорожское казачество как «необыкновенное явление русской силы».
По мнению писателя, подтвердившемуся и позднейшими историческими исследованиями, «Запорожская Сечь» составилась из беглых крепостных крестьян, из числа смелых, любящих волю людей, образовавших «то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украйну!..» (II, 62). Этот патриотический пафос определил яркие, проникновенные героические образы повести, ее могучий патриотический дух. В «Тарасе Бульбе» Гоголь широко опирается на исторические материалы, обобщая и воплощая в художественных образах исторические факты и события. На попытки порабощения украинский народ уже с конца XVI века отвечал мощными восстаниями против польских магнатов: восстанием под руководством Косинского в 90-х годах XVI века, восстанием, возглавляемым Наливайко, непосредственно вспыхнувшим вслед за ним. На протяжении XVII века одно за другим следуют восстания под предводительством Тараса Трясилы, Павлюка, Гуни, Остраницы.
Сам Гоголь относит действие своей повести ко времени подъема освободительного движения, «времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйне за унию» (II, 44). После Люблинской унии 1569 года украинские земли стали подвергаться особенно жестоким нападениям и захватам польских феодалов. Национальное угнетение сопровождалось социальным, так как польские паны превращали свободных крестьян в своих крепостных холопов.
Следует учитывать существенную разницу между первой редакцией повести, помещенной в «Миргороде» в 1835 году, и второй, окончательной, редакцией 1841 года. Если в первой редакции Гоголь рассматривал борьбу украинского народа с польской шляхтой как местную борьбу украинского казачества, то во второй редакции он уже говорит о борьбе за русскую землю, объединяя интересы украинского народа с братским русским народом, совместно с которым велась эта борьба.
В своей эпопее Гоголь создал образ положительного героя. Во всем — и в суровой простоте своего быта, и в богатырской мощи и широте своей натуры, и в самом «народном изгибе» ума — Тарас воплощает лучшие черты национального характера. Он никогда не отделяет себя от коллектива, от «товарищества» и только в нем видит смысл своей жизни и ту силу, которая определяет всю его деятельность. Патриотизм «Тараса
- 163 -
Бульбы» носит народный, демократический характер. Лживому квасному «патриотизму» реакционных литераторов, вроде Булгарина, Кукольника, Полевого, безудержно прославлявших пользу монархии и православия как основ русского исторического процесса, Гоголь противопоставил подлинный патриотизм самих народных масс, демократизм и вольнолюбие казацкого «товарищества».
Иллюстрация:
«Миргород». Повести Н. В. Гоголя. Титульный лист первого издания. 1835.
Могучее патриотическое чувство казаков в «Тарасе Бульбе» связано со всей их жизнью, с их привязанностью к родной земле, со всем свободолюбивым укладом их общественного устройства, с сознанием своей национальной независимости, с их ненавистью к гнету и порабощению, которые несли захватчики.
Закон «товарищества», «казацкой чести» — это закон верности родине и народу. О «первом, святом законе товарищества» — защищать собратьев своих и не покидать их в беде — говорит Тарас: «Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине?» (11, 124). Это чувство товарищества, ответственность перед народом, сознание «казацкой чести» сплачивают казаков, придают их борьбе национальный общенародный характер.
Борьба украинского народа с польскими феодалами была не только борьбой за национальную независимость, но и борьбой с феодальным порабощением, которое несли украинскому народу польские магнаты и шляхта. Слияние национального и антикрепостнического начал в этом освободительном движении и определяло его народный характер, ту демократическую направленность, которую оно приобретало благодаря участию в нем широких народных масс. В своей повести Гоголь неоднократно подчеркивает демократический характер казацких войн, демократизм самой Сечи и ее «республиканской» организации.
Называя Сечь «своевольной республикой», несколько идеализируя ее демократические порядки и «несложные законы», писатель с любовью и сочувствием рисует вольнолюбивый дух казачества, простоту и демократизм порядков Сечи. Напомним хотя бы яркую картину выборов нового кошевого атамана в Сечи. Здесь выразительно передана воля народа, желание
- 164 -
казацкой массы решать основные вопросы своей жизни, сознание своего права, закрепленного суровыми обычаями и законами «товарищества».
Своевольное и недисциплинированное в мирное время казацкое сообщество в условиях войны превращалось в организованную и дисциплинированную силу, мощную не только единством своего патриотического чувства, но и демократическим устройством, резко противопоставленным аристократически-феодальному войску поляков.
Гоголь утверждает в образах Тараса, Остапа и других казаков Запорожской Сечи то самое прекрасное и героическое, что заключено в национальном характере русского и украинского народов: самоотверженность, мужество, преданность родине, свободолюбие, военную доблесть, справедливость, бескорыстие, широту души. Тарас Бульба выражает стремление украинского народа к единству с великим братским русским народом, единству, в котором украинский народ видел единственное средство спастись от угрозы порабощения и гнета турецких пашей и польских магнатов, неоднократно на протяжении нескольких столетий покушавшихся на его независимость.
В образе Тараса Бульбы Гоголь рисует сложный и богатый характер. В Тарасе заключена и могучая жизненная сила, неуемная энергия, ясная осознанность поставленной цели и в то же время непосредственность, искренность, горячая любовь к товарищам, необузданность чувства. При всей обобщенности и типичности образа Тараса, Гоголь создал глубоко индивидуализированный и яркий характер, исторически конкретный, полный правдивых жизненных красок и черт.
Типичность и народность характера Тараса Бульбы глубоко раскрыл Белинский: «Что такое Тарас Бульба? — спрашивает Белинский. — Герой, представитель жизни целого народа, целого политического общества в известную эпоху жизни». И Белинский дает характеристику Бульбы, который «является у него <Гоголя> представителем этой жизни, идеи этого народа, апотеозом этого широкого размета души» (V, 42).
Любовь и верность родине для Тараса выше личной привязанности, кровного родства.
Образ Бульбы при всей его внешней грубости, присущей эпохе, насыщен глубокой гуманностью. Бульба беспощаден к врагам, он суров, когда дело касается исполнения общественного долга, всю свою жизнь он отдает делу борьбы за лучшее будущее народа, все его помыслы, вся его воля устремлены на то, чтобы облегчить положение казачества.
Гоголь исчерпывающе определил этот характер: «Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух, и завелось казачество — широкая, разгульная замашка русской природы...» (II, 46).
Тарас Бульба — цельный и героический характер. Ему не свойственны колебания, он всегда знает свою цель, его бесстрашие и мужество вытекают из самого понимания дела своей жизни как безупречного служения родине. Тарас горит постоянной и неугасимой ненавистью к угнетателям. Даже тогда, когда гетман и остальные полковники принимают мирные предложения
- 165 -
польских панов, Тарас продолжает упорную борьбу. Он не только мстит за казнь Остапа — он мстит за все страдания и муки народа.
«Тарас Бульба». Автограф Н. В. Гоголя. 1834.
Самая смерть Тараса приобретает характер героического апофеоза. Пригвожденный к дереву, под которым разведен костер, Тарас превозмогает свои мучения: вера в правоту своего дела, вера в победу народа наполняет мужеством его сердце.
- 166 -
«Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» — говорит Гоголь о героической гибели Тараса (II, 172).
Ненависть к врагам родины и беззаветная преданность общему делу — таковы основные черты героев повести Гоголя. Сильные и цельные характеры людей, готовых пожертвовать своей жизнью во имя свободы и независимости отчизны, богатырские фигуры старого Бульбы и его сына Остапа — глубоко народны как по своему духу, так и по своей близости к героической народной поэзии.
Сцена казни Остапа раскрывает беспредельную силу его духа, его богатырское мужество. Во имя родины и народа терпит он нечеловеческие муки. На раздавшийся в наступившей тишине предсмертный возглас Остапа: «Батько! где ты? Слышишь ли ты?» — отклик Тараса «Слышу!» прозвучал как ответный голос матери-родины, голос народа (II, 165).
Иной характер раскрыт в образе Андрия. Андрий с самого начала отличен от брата. Он индивидуалист, которому чужды чувства и стремления казацкого «товарищества». Андрий живет только одной своей личной жизнью. В его храбрости и жажде славы сказываются черты авантюризма, столь чуждые Тарасу, Остапу и другим казакам, с их простым мужеством и преданностью общему делу. «Бешеную негу и упоенье он видел в битве», — говорит об Андрии Гоголь (II, 85). Это индивидуалистическое начало в Андрии обусловило его отрыв от «товарищества», его измену и предательство. Увлеченный страстным чувством любви к прекрасной полячке, Андрий преклоняется перед аристократической польской культурой. Для него его чувство, его страсть выше верности отчизне, долга перед товариществом: «А что мне отец, товарищи и отчизна?» — спрашивает Андрий при встрече с панной. «Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты!» (II, 106).
Андрий показан Гоголем не мелодраматическим злодеем и наделен положительными чертами — он храбр, искренен, глубоко чувствует. Этим еще более подчеркнута глубина его падения, его отрыв от казачества, от общего дела служения родине. Конфликт Андрия и Тараса имеет социальное значение: он выражает процесс расслоения в среде казачества, конфликт между его верхушкой, пошедшей на службу к польским феодалам во имя своих личных интересов, и основной массой казачества, которая повела решительную борьбу с ними во имя счастия и независимости родины.
В «Тарасе Бульбе» с особенной полнотой Гоголь показал демократическое начало, определявшее нравы и поведение казачества, презрение к богатству и роскоши, «широкую замашку» «русской природы». Гоголь показывает, что не корыстные или личные интересы руководили запорожцами, а понимание ими своей роли защитников национальной культуры и свободы.
Показывая буйную удаль и могучую силу запорожских казаков, Гоголь рисует яркую сцену удалого пляса, мятежный и вольный вихрь казачка, в котором с таким безудержным восторгом несутся запорожцы. Эта сцена приобретает как бы символическое значение, раскрывая вольную и смелую душу народа.
Но те же казаки, которые в мирное время находят выход своей силе в гульбе и пляске, становятся организованным и сплоченным воинством во время опасности, в дни войны. Уже в сцене, непосредственно следующей за картиной безалаберного собрания запорожцев, решающих вопрос о войне, Гоголь показывает, как принятое решение выступить походом против польской
- 167 -
шляхты сразу же преображает запорожскую вольницу: «Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа; это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления...» (II, 80). Сплоченность, единство, военную доблесть и мужество казаков, действующих массой, одним порывом, владеющих гибкой тактикой боя, Гоголь противопоставляет блестящему шляхетскому войску поляков, лишенному единства, в котором каждый действует по-своему, надеясь только на свою личную доблесть.
Жанровым своеобразием повести Гоголя является сочетание в ней эпического и лирического начал. Повесть написана как народная поэма, как исторический эпос, в котором все время слышится лирический голос автора. Автор в ней как бы отождествляется с народным сказителем, повествующим о событиях прошлого не с бесстрастием летописца, а с глубоко личным отношением к событиям.
Эта близость к народному творчеству, придающая повести эпический характер, решительно отличает ее от принципов исторического романа, которые имели такое широкое распространение у западноевропейских писателей романтического направления, а также в романах таких русских авторов, как Загоскин и Лажечников. В их романах личные судьбы героев, интрига, таинственные сюжетные перипетии занимают господствующее место. Герои в них являются одиночками, их индивидуальная судьба, их жизнь оторваны от судеб народа, а нередко и противопоставлены им. Самый «историзм» этих произведений в значительной мере основан на привлечении отдельных исторических имен, фактов и деталей и в то же время лишен понимания общего характера событий. Благодаря этому центр тяжести повествования переносится на внешнюю занимательность сюжета. Для повести Гоголя характерны изображение широких массовых сцен, типическая обобщенность героев, эпичность повествования. В этом отношении Гоголь прокладывал новые пути русскому историческому роману и повести, во многом перекликаясь с Пушкиным, который в «Капитанской дочке» также показал не только «частную» жизнь своих героев, но и судьбы народного движения.
Не стремясь к мелочному воспроизведению исторических и этнографических деталей, Гоголь ярко и глубоко раскрыл самый характер народа, убедительно верно передал величие и героику народной войны против иноземных захватчиков, раскрыл основные силы и противоречия эпохи, показал своих героев в их неразрывной связи с народом. В этом и заключается подлинный историзм писателя, его глубокое проникновение в характер эпохи, умение раскрыть его в типически обобщенных образах.
Своеобразие «Тараса Бульбы» как исторического произведения определяется прежде всего тем, что основным героем в нем является народ, а центральные персонажи — положительные образы — неразрывно слиты с народной массой. Это определило эпичность повести-поэмы Гоголя, ее тесную связь с народным творчеством, сказавшуюся и в широкой обрисовке всего коллектива, и в своеобразии всей композиции. Композиция повести основана на показе судеб отдельных героев и их значения для всего народного движения в целом. Сюжетные линии повести определяются не занимательностью интриги, не раскрытием индивидуальной психологии героев, а изображением основных исторических конфликтов и тенденций, характеризующих силу и слабость казачества в той сложной и напряженной обстановке, в которой проходила борьба за национальную независимость.
- 168 -
Белинский утверждал, что «Тарас Бульба» является эпизодом из великой эпопеи жизни целого народа, имея в виду самую сущность повести Гоголя как народной эпопеи, изображающей судьбы всего народа, его героический характер: «Если говорят, что в „Илиаде“, — писал Белинский, — отражается вся жизнь греческая, в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о „Тарасе Бульбе“ в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле, разве здесь не всё казачество, с его странною цивилизацией, его удалою, разгульною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? чего не достает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни?» (II, 233—234).
Народность «Тараса Бульбы» нашла свое яркое выражение в ее художественных средствах и стиле, восходящих прежде всего к украинским историческим песням, а также и к русским былинам. Страстный собиратель и знаток народных украинских песен Гоголь еще в 1833 году писал своему другу М. А. Максимовичу: «Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас любил! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!» (X, 284). От песен и дум украинского народа шла прямая дорога к исторической эпопее о Тарасе Бульбе, вобравшей их яркие словесные краски и эпическую героику.
Эпический характер повести, прославление доблести и героизма народа не могли быть воссозданы лишь на основании летописных материалов и книжных источников. Как замысел повести, так и ее героико-патриотический пафос возникали из народных песен, чудесных украинских дум, этих «звонких живых летописей», являвшихся неиссякаемым источником для Гоголя. Героические фигуры казаков, бесстрашно бьющихся за родную землю, вырастают в песенные былинные образы. Эпические повторы, эпитеты, сравнения — все это восходит к народному эпосу, как и самый ритм повести, напоминающий о народном певце-бандуристе, повествующем о славных деяниях прошлого.
Эпические повторения и песенные отступления придают повествованию особенно торжественный и величественный характер, роднящий повесть Гоголя со «Словом о полку Игореве».
С украинскими народными думами и «Словом о полку Игореве» «Тарас Бульба» сближается не только общностью патриотического пафоса, но и самым стилем эпического повествования, оттеняемым авторскими лирическими отступлениями.
Язык «Тараса Бульбы» также проникнут народно-песенными элементами, что еще больше подчеркивает народность произведения, его эпический замысел. В повести широко представлены народно-песенная фразеология и лексика, те общенародные черты языка, которые были в корне чужды чиновничье-светскому жаргону верхних слоев дворянского общества. Заслуга Гоголя состояла в этой демократизации литературного языка, в сближении его с народной речью.
С «Тарасом Бульбой» связана и такая повесть «Миргорода», как «Вий». «Вий» — это поэтическая народная легенда о смелом и бесшабашном украинском хлопце — семинаристе Хоме Бруте и панночке-ведьме. Страшное и трагическое переплетаются в ней с метким юмором, с яркой жизненностью бытовых красок, с лукавой усмешкой автора. В основе повести лежит реальный мир, правдивая картина украинской жизни, конкретная в своих бытовых подробностях и в яркой зарисовке характеров.
- 169 -
В этой повести Гоголь сделал попытку совместить принципы народной фантастики «Вечеров» с теми новыми реалистическими тенденциями, которые характеризуют повести «Миргорода».
Колоритное описание бурсацкой жизни, характеристика самих героев — все это соответствовало уже новому этапу реализма Гоголя. Забубенный философ Хома, его товарищи богослов Халява и ритор Горобец выписаны сочными бытовыми красками, тогда как вся история с ведьмой-панночкой, околдовавшей Хому, рассказывается в духе страшной легенды, близкой по своей фантастике и стилю к «Страшной мести». Белинский в своем отзыве о повести выделил ее реалистические картины, ее жанровые зарисовки, восхищаясь «несравненным Dominus’ом Хомой», великим «в своем стоическом равнодушии ко всему земному, кроме горелки». В то же время Белинский отмечает здесь и неудачу Гоголя в «фантастическом», оговариваясь, правда, что «фантастическое в ней слабо только в описании привидений, а чтение Хомы в церкви, восстание красавицы, явления Вия, бесподобны» (II, 233).
Неоднократно указывалось на близость этой повести к «Бурсаку» В. Нарежного. Однако Гоголь воспользовался лишь отдельными бытовыми и фактическими подробностями описания жизни бурсаков. Порядки в семинарии, описание пения бурсаков под окнами — все это близко к аналогичным описаниям Нарежного. Но самые образы бурсаков у Гоголя ярко индивидуальны, жизненны, далеки от условно-назидательных, наивных персонажей его предшественника.
Хома попадает во власть таинственной демонической силы, становится жертвой необузданной страсти порочной панночки. Этот мотив оттенен и историей парубка Миколы, очарованного красотой панночки и, в конце концов, превращенного ею в золу. Гоголь в «Вие» разрабатывает не только легенду о таинственном Вие и панночке-ведьме, но и гораздо более реальный и социально насыщенный сюжет о неравной любви холопа к госпоже. Эта социальная тема и служит основой для реалистической обрисовки образов и всего бытового колорита повести.
Тема народа, противопоставление народного начала барской помещичьей жизни, хотя и не столь отчетливо, но все же присутствует и в «Вие». Мрачный, фантастический колорит повести, трагическая гибель Хомы Брута подчеркивают безотрадное и подневольное положение простого народа. В этом отношении существенно напомнить эпизод, когда Хома, стоя у гроба дочери сотника, испытывает болезненно скорбное ощущение: «Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе» (II, 199). Последние слова имелись лишь в рукописи и по цензурным причинам не входили в печатный текст. Это упоминание «об угнетенном народе», связанное с переживаниями Хомы Брута, тем более существенно, что оно дополняет его образ, подчеркивает связь между ним и народом и всю демократическую направленность повести.
6
Укрепление полицейско-самодержавного режима, сохранение феодально-крепостнических основ — таковы были основные принципы николаевского царствования. Заботясь о незыблемости прогнившего самодержавно-крепостнического строя, правительство усиливало власть бюрократического аппарата, искореняло всякое проявление свободной мысли. «Казарма и канцелярия
- 170 -
сделались опорой политической науки Николая..., — писал Герцен. — Законченные знатоки всех формальностей, холодные и нерассуждающие исполнители приказов свыше, они <чиновники> были преданы правительству из любви к взяткам».1 По этой касте чиновников и нанес Гоголь сильнейший удар в повестях петербургского цикла.
Говоря об идеях Белинского и Гоголя, дорогих «всякому порядочному человеку на Руси»,2 В. И. Ленин, несомненно, имел в виду те антикрепостнические, демократические идеи, которые сближали великого писателя-реалиста с критиком революционной демократии, «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении... еще при крепостном праве...».3 Тем самым определяется и позиция Гоголя в 30 — начале 40-х годов как писателя, выступающего с тем новым содержанием, с тем новым кругом идей, который был близок демократически-разночинному движению.
Давая характеристику просветительства 50—60-х годов, В. И. Ленин писал в статье «От какого наследства мы отказываемся?», что просветители были одушевлены «горячей враждой к крепостному правя и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области», что для них прежде всего характерно «отстаивание интересов народных масс...».4 Эти основные черты демократического просветительства отличают и творчество Гоголя, который своими художественными произведениями боролся с крепостным правом и его проявлениями в социальной и духовной областях.
Однако Гоголь не представлял себе отчетливо политический смысл и цели этой борьбы. Его деятельность проходила еще в рамках дворянского периода освободительного движения, его взгляды были в целом ряде случаев ограничены рамками сословных предрассудков, той теснотой идейного горизонта, о которой впоследствии говорил по отношению к Гоголю Чернышевский, видя в ней причину идейного кризиса писателя, проявившегося в середине 40-х годов.
Творчество Гоголя служило задачам борьбы с крепостничеством и его многообразными проявлениями во всех сферах русской жизни, оно было одушевлено идеей патриотического служения родине и народу. В этом была его сила и его огромное значение в развитии освободительного движения в России. Эти тенденции сказались и в цикле «петербургских повестей», посвященных изображению жизни столицы. Если в «Вечерах» и «Миргороде» Гоголь обращался к Украине, к жизни ее народа, к ее прошлому, показывая прекрасный и героический характер народа, то в цикле повестей, относящихся к Петербургу, он отразил иные стороны действительности, передав жестокие противоречия социальной жизни. Повести, связанные с петербургской темой, рисуют нравы и острые противоречия столичного, прежде всего бюрократического и чиновничьего общества. Они были навеяны впечатлениями писателя от Петербурга, его раздумьями о судьбе маленького, простого человека, истерзанного и придавленного вопиющими противоречиями большого города, приниженного и духовно изуродованного бездушно-бюрократическим, полицейско-чиновничьим аппаратом.
Эти повести создавались на протяжении ряда лет, непосредственно по окончании работы над «Вечерами», одновременно с повестями «Миргорода».
- 171 -
Три из них — «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего» — были помещены в сборнике «Арабески», вышедшем почти вместе с «Миргородом» в начале 1835 года, а повесть «Нос» была напечатана в третьей книжке пушкинского «Современника» за 1836 год. «Шинель» создавалась Гоголем позже, в годы написания «Мертвых душ», и впервые появилась в третьем томе сочинений Гоголя в 1842 году, где были объединены все его повести (повесть «Портрет» была радикально переделана для этого издания).
В «петербургских повестях» Гоголь выступает как писатель-гуманист, протестующий против угнетения и бесправия маленького человека и разоблачающий жестокие социальные противоречия столицы: произвол и чинопочитание, жалкое и бесправное существование мелкого трудового люда, наступление власти бессердечного чистогана. Мечта о прекрасном человеке, о социальном равенстве людей, о их моральном выпрямлении руководила писателем при создании этого цикла повестей.
По словам Белинского, в своих «петербургских повестях» Гоголь явился художником, изображающим нравы «среднего сословия в России» (II, 230), рисующим «картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии...» (II, 226). Гоголь показывает жизнь большого города с ее чудовищными контрастами богатства и бедности. Жестокое бездушие, холодный эгоизм господствующих классов, пошлость и внутренняя пустота их представителей, с одной стороны, и жалкое, униженное положение «маленького человека», бедняка-труженика, с другой, — вот о чем говорит Гоголь в своих повестях.
Писатель прозорливо увидел в этой несправедливости социальных отношений не только тупой гнет полицейско-крепостнического строя, но и проникновение в жизнь новых капиталистических отношений, в их отталкивающих, хищнических проявлениях.
Гоголь одним из первых русских писателей указал на те отрицательные стороны буржуазной культуры, которые нес с собой побеждающий капиталистический строй. Эта направленность творчества Гоголя с особенной ясностью сказалась уже в его статьях, напечатанных в сборнике «Арабески», и в таких повестях, как «Портрет» и «Невский проспект».
В статье «Скульптура, живопись и музыка» Гоголь говорил о XIX веке, как о веке, когда «наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений». Ему ненавистен бездушный и развращающий характер этого буржуазного века, его «холодно-ужасный эгоизм», «бесстыдство и наглость» «спекулятора» (VIII, 12).
Этому бесстыдному и эгоистическому веку «спекулятора», принижающему и уродующему человека, враждебному подлинной красоте и искусству, Гоголь противопоставляет гуманность и гармоническое начало античного искусства и музыку как искусство, способное наиболее полно выразить протест человека против мертвящего начала буржуазного общества: «Всё составляет заговор против нас, — взволнованно восклицает писатель, — вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! буди чаще наши меркантильные души! ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром. Пусть, при могущественном ударе смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствует, хотя на миг, угрызение совести, спекулятор
- 172 -
растеряет свои расчеты, бесстыдство и наглость невольно выронит слезу пред созданием таланта» (VIII, 12).
Этот гневный и страстный протест писателя против «спекуляторов», против новых хищнических и наглых средств порабощения человека человеком, против принижения человеческого достоинства, которое несло в себе буржуазное общество, нашел свой отклик и в «петербургских повестях», создававшихся почти одновременно со статьями «Арабесок». Гоголь не был последователен в своем протесте, выступая с утопических позиций гуманного сострадания к простому человеку, брошенному в водоворот хищнической эксплуатации. Однако его заступничество за человека, угнетаемого и унижаемого как произволом и гнетом крепостнических отношений, так и властью денежного мешка, являлось глубоко прогрессивным и демократическим фактом.
«Гоголю многим обязаны те, которые нуждаются в защите, — писал о Гоголе Чернышевский, — он стал во главе тех, которые отрицают злое и пошлое» (III, 22).
Идеал красоты и прекрасного в качестве жизнеутверждающей основы мировоззрения и эстетики Гоголя особенно ярко высказан им в статье, посвященной картине Брюллова «Последний день Помпеи». У Брюллова, по словам Гоголя, «является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, всё верховное изящество своей природы... Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен» (VIII, 111).
«Наш XIX-й век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге», — писал Гоголь в «Портрете» (III, 117). Этот меркантильный, торгашеский дух, это торжество холодного эгоизма и бездушия определяют как остроту сатиры, так и трагизм восприятия писателем действительности, проходящий через весь цикл «петербургских повестей» Гоголя.
«Невский проспект» Пушкин назвал «самым полным» из гоголевских произведений этого цикла.1 Эта повесть явилась сильным ударом по «холодно-ужасному» эгоизму современного общества, о котором с таким страстным негодованием говорил Гоголь. Белинский, высоко оценивший эту повесть, писал: «„Невский проспект“ есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное обок друг другу» (II, 230).
Невский проспект — это панорама жизни столицы, верно отражающая ее противоречия и контрасты. За парадной внешностью Невского проспекта, этой выставкой тщеславия, лицемерия и фальши, еще трагичнее выступает изнанка жизни, ее безобразные стороны. Художник Пискарев — талантливый, благородный мечтатель и честный труженик — гибнет, столкнувшись с всеобщей продажностью, лицемерием и бессердечным эгоизмом, потому что он еще сохранил моральные и эстетические принципы, глубоко чуждые меркантильному, бездушному укладу буржуазно-дворянского общества. Пискарев противостоит тем самодовольным прожигателям жизни, которые фланируют по Невскому проспекту. Эти люди — куклы, люди — носы, люди — бакенбарды, люди — усы, лишенные сколько-нибудь благородных, подлинно человеческих чувств. В душе Пискарева сохранилась еще нерастраченная жажда любви, возвышенного идеала, красоты. Но окружающая
- 173 -
действительность жестоко разрушает его веру в добро и красоту. Прекрасная незнакомка, «Перуджинова Бианка», в которую влюбился художник, Оказалась уличной вульгарной проституткой. «Красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо» (III, 21), она стала предметом торговли, символизируя продажность и поругание красоты и достоинства человека в современном обществе.
Контраст между идеалом и действительностью в повести Гоголя — это не только романтический конфликт героя и общества, но и отражение самой действительности, которая губит красоту, разрушает веру в добро, в идеал. Пискарев гибнет потому, что он не в силах перенести трагического крушения своих идеалов.
Иная судьба поручика Пирогова. Поручик Пирогов — типическое воплощение той пошлости, того пустого самодовольства и эгоизма, которые составляют сущность жизни господствующих классов общества. Даже высеченный немцами-ремесленниками за свое волокитство, поручик Пирогов не теряет апломба и самоуверенности. Белинский с исчерпывающей полнотой вскрыл типическое значение образа Пирогова, сказав о нем, что это «целая каста», «тип из типов», «первообраз из первообразов» (II, 225). При всем своем духовном и моральном ничтожестве Пирогов вовсе не исключение, а, как указывал Белинский, представитель «просвещения и образованности» этого столичного дворянского и чиновничьего общества. Такие, как поручик Пирогов, уверенно и успешно скользят по ступеням бюрократической лестницы, достигая обеспеченного и уважаемого положения, и «заводятся, наконец, кабриолетом и парою лошадей». Рисуя будущее поручика Пирогова, Гоголь проявляет исключительную социальную зоркость, видя увенчание его карьеры в женитьбе на купеческой дочке, «умеющей играть на фортепьяно, с сотнею тысяч, или около того, наличных и кучею брадатой родни» (III, 35).
Белинский писал о Гоголе, что «один из самых отличительных признаков творческой оригинальности, или, лучше сказать, самого творчества, состоит в этом типизме, если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора». И, подчеркивая типизм образов Гоголя, их широко обобщающий, социальный характер, Белинский говорил по поводу образа поручика Пирогова: «Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация! О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст!». В этой насмешливой характеристике Пирогова Белинский отмечал широкую распространенность этого типа, его социальную характерность (II, 224, 225).
С беспощадным сарказмом рисует Гоголь и мир столичного мещанства. Жестяник Шиллер и сапожник Гофман выражают убогую психологию мещанина, алчного и мелочного собственника. Говоря о методической аккуратности немца Шиллера, который «положил себе в течение 10 лет составить капитал из пятидесяти тысяч» (III, 42), Гоголь язвительно разоблачает дух буржуазного филистерства европейского мещанина.
В «Невском проспекте» Гоголь уже намечает те особенности своего сатирического метода, который более полно раскрывается в поздних его произведениях. Это метод сатирического гротеска, когда писатель показывает крупным планом яркие сатирические детали, помогающие раскрыть типическую обобщенность явлений действительности.
Благородный мечтатель художник Пискарев, веривший в красоту, честность, любовь, трагически погибает, когда действительность разоблачает его иллюзии.
- 174 -
Наглый и пошлый поручик Пирогов выступает как представитель того самого общества, которое явилось причиной гибели Пискарева. Именно на параллелизме и контрасте судьбы этих двух героев и основан сюжет повести. То, что становится трагедией для Пискарева, приобретает фарсовый, комический характер в самодовольном и наглом поведении поручика Пирогова.
Противопоставление судьбы Пискарева и Пирогова, выражающее противоречивость всего общественного уклада, было подчеркнуто Белинским: «О, какой смысл скрыт в этом контрасте! И какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!..» (II, 232).
В «Невском проспекте» вопрос о роли искусства, о судьбе художника в современном обществе являлся одним из частных вопросов. Художник Пискарев показан как жертва общественных порядков, как пример равнодушного отношения господствующего класса к искусству и его деятелям, но вопрос о самом искусстве не является центральным в повести. Однако этот вопрос представлял для Гоголя огромную важность. В системе его взглядов вопрос о значении искусства в общественной жизни приобретал тем большее значение, что он был неотрывен от вопросов этического и социального порядка. Искусство, возвышающее и облагораживающее человека, для писателя было именно тем явлением человеческого духа, которое несет с собой возможность преодоления пошлости и несправедливости, на которые обречен человек в условиях господства бюрократической иерархии и власти чистогана. Этот вопрос со всей остротой и был поставлен Гоголем в повести «Портрет».
В «Портрете» Гоголь показал развращающее влияние денег на художника. Художник Чартков, вступив на путь модного живописца, приноравливается ко вкусам богатой публики. Он стал торговать своим талантом, изменив тем самым искусству и утратив свое дарование, превратился в ловкого посредственного ремесленника. Такова судьба искусства и художника в обществе, где все измеряется денежными отношениями.
В своей первоначальной редакции 1835 года повесть имела более фантастический и даже мистический характер. Это было повествование не столько о судьбе художника, сколько о вмешательстве демонической силы в судьбы людей. Белинский в своем отзыве резко осудил вторую часть повести, где фантастическое, иррациональное начало проявилось с особенной силой. Подготовляя в 1841 году собрание своих сочинений, Гоголь радикально переделал повесть, учтя и указания Белинского. В новой редакции «Портрета» тема демонического вмешательства в жизнь человека отодвигается на второй план. В основном, повесть теперь посвящена положению художника в дворянско-буржуазном обществе и гибели искусства, становящегося рыночным товаром.
Вопросы искусства и эстетики Гоголь поставил в центре своей повести. Повесть разделяется на две части. В первой части Гоголь показал положение искусства в обществе, где все продается и покупается за деньги. История молодого одаренного художника Чарткова во многом отлична от истории художника Пискарева в «Невском проспекте». «Молодой Чартков был художником с талантом, — говорит о нем Гоголь, — пророчившим многое: вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе» (III, 85). Но наряду с талантом и с «порывом приблизиться более к природе», у Чарткова была и «бойкость» кисти и то стремление к легкому успеху,
- 175 -
о котором предупреждал его профессор, видя в этом опасность для художника.
Сделавшись модным живописцем, Чартков в своих картинах стал повторять одни и те же заученные приемы, одни и те же лица. Холодный эгоизм, тщеславие, безразличие ко всему, кроме золота, вытеснили все человеческие чувства в Чарткове. Гоголь показывает, как нерасторжимо слиты нравственная чистота художника и идейная и художественная высота его творчества. Власть золота не только превращает художника в ремесленника, но и губит его как человека. Моральное падение лишает его творческой силы, так как бесчестный и ничтожный человек не способен создать ничего подлинно великого. Золото окончательно порабощает Чарткова: «...все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью» (III, 110). Превратившись из талантливого художника в поставщика портретов для светских салонов, Чартков утратил те черты подлинного таланта, который был у него вначале. Это и привело его к трагическому концу.
Но если в первой части повести Гоголь раскрыл трагедию художника в капитализирующемся обществе, враждебность искусству денежного мешка, то во второй части «Портрета» он сделал попытку разрешить чисто теоретическую проблему об отношении искусства к действительности, о сущности искусства. Однако, решая эту проблему с позиций идеалистической эстетики, Гоголь не только вступал в противоречие с первой частью своей повести, но и самые образы его становились отвлеченно-схематическими и лишенными жизненных красок. Даже и в новой редакции повести, в которой писатель во многом отошел от мистически-религиозной символики, эта аллегорическая условность все-таки сохранилась.
Желая противопоставить бойкому, рыночному ремесленничеству Чарткова подлинно высокое искусство, Гоголь утверждает идеал этого искусства в том произведении, которое на выставке так болезненно поразило Чарткова. В этом произведении Гоголь показывает высшую правду искусства «художника-создателя» перед подражанием природе «копииста»: «Видно было, как всё, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника устремил его одной согласной, торжественной песнью» (III, 112).
Но за этой верной мыслью о «неизмеримой пропасти», существующей между «созданием и простой копией с природы», скрывалось и ошибочное положение о «сверхчувственном» характере творчества. Отрицая натурализм, простое копирование действительности, Гоголь приходит к идеалистической концепции искусства как бессознательного вдохновения. Во второй части повести Гоголь рассказывает историю художника, нарисовавшего портрет ростовщика. Преступление художника состояло не только в том, что он изобразил на портрете ростовщика, но и в том, что он поддался стремлению к максимально точному натуралистическому изображению, благодаря чему в его портрет перешли свойства самого оригинала. Свое преступление художник искупает молитвой, уходом в монастырь. Лишь благодаря молитвам, посту, аскетическому образу жизни художнику удается нарисовать образ богоматери, поражающий «необыкновенной святостью». Искусство, выражающее идею примирения, «божественное начало», оказывается выше искусства земного, изображающего жизнь. Этот вывод свидетельствовал о двойственной позиции Гоголя во взгляде на искусство. Решительно осуждая развращающее влияние денежного мешка на искусство, Гоголь сочувственно говорит в «Портрете» о тех временах, когда искусство развивалось в условиях меценатства, покровительства государей.
- 176 -
Это обращение не к зарождавшимся прогрессивным общественным идеям, а к прошлому, которое рисовалось писателю в качестве панацеи от противоречий настоящего, свидетельствовало о серьезных противоречиях в мировоззрении Гоголя уже в пору создания им «петербургских повестей».
Поэтому, говоря об антибуржуазных тенденциях Гоголя, следует иметь в виду их особый характер. Отрицание буржуазно-капиталистической действительности не было у Гоголя связано с утверждением положительных демократических идеалов. Писатель противопоставлял вторжению в жизнь капиталистических отношений, с их эгоизмом и угнетением личности человека — патриархальную утопию прошлого, которое казалось ему свободным от противоречий.
Идеи «Невского проспекта» развиты Гоголем и в ряде других повестей «петербургского» цикла. В повести «Нос» Гоголь сосредоточил всю силу своей сатиры на разоблачении карьеризма, фальши, нравственной нечистоплотности чиновничьего мирка, создав образ глубокого обобщающего значения — майора Ковалева. Уже Белинский отметил в нем полноту типического обобщения: «...он есть не майор Ковалев, а майоры Ковалевы, так что после знакомства с ним, хотя бы вы зара̀з встретили целую сотню Ковалевых, — тотчас узнаете их, отличите среди тысячей» (IV, 73). Это сочетание социальной типичности с резкой сатирической портретностью образа, столь характерное для творчества Гоголя в целом, здесь достигает особенной яркости и силы.
В этой повести Гоголь с едкой иронией и злостью изобразил «пошлость пошлого человека», раскрыл то свойство своего таланта, которое гениально определил Пушкин, сказав о Гоголе, что «еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем» (Гоголь, т. VIII, 292).
Майор Ковалев — один из праздных и наглых тунеядцев и карьеристов столицы, фланирующих по Невскому проспекту. От всей его фигуры веет пошлым самодовольством, наглостью, цинизмом. Этих «достоинств» вполне достаточно для успеха в том мире, какой изображен Гоголем. Он — порождение николаевских бюрократических канцелярий и бессовестной лжи и мерзости всего режима, опорой которого и являлись подобные майоры Ковалевы.
Ковалев утратил самое наглядное свидетельство своей добропорядочности и респектабельности — нос, а вместе с носом и все виды на выгодную женитьбу и служебную карьеру. Зато нос его приобретает самостоятельное значение: в мундире и ранге статского советника, генерала по военной табели, нос становится «значительным лицом», высоко стоящим над самим майором Ковалевым. В этом трагикомическом превращении Гоголь ядовито высмеивает чинопочитание и иерархию бюрократического общества, где чин вполне заменяет человека. Нос в шитом золотом мундире, в шляпе с плюмажем и при шпаге становится как бы символом той пустоты, бездарности, фальши и внешнего благочиния, которые составляли подлинное содержание николаевской бюрократической власти.
Гротескная форма повести лишь заостряла ее социальную сатиру, предвещая острые, гиперболические образы Щедрина. В первоначальной редакции похождения майора Ковалева и его носа объяснялись сном, приснившимся злополучному майору. В дальнейшем Гоголь отказался от этой мотивировки, предпочитая сатирическим гиперболизмом сюжета подчеркнуть
- 177 -
Иллюстрация:
«Нос». Повесть Н. В. Гоголя. Первопечатный текст. «Современник». 1836.
- 178 -
все безобразие и лицемерие современных общественных отношений. Самая форма комически-невероятного происшествия с майором Ковалевым давала возможность резче раскрыть острые противоречия реальной действительности, лицемерия и фальши общественных отношений, основанных на власти «чина». В повести «Нос» Гоголь показал целую галерею представителей чиновничьего петербургского мира, дополняющую его блестящие сатирические зарисовки бюрократически-чиновничьего Петербурга.
В «Записках сумасшедшего» Гоголь еще более углубляет характеристику вопиющих социальных противоречий современного ему общества. Герой повести — незначительный чиновник Поприщин — жертва того бюрократического бездушного чиновничьего аппарата, который перемалывает и духовно уродует людей. Гоголь продолжил здесь разработку темы «маленького человека», поставленной впервые Пушкиным в «Станционном смотрителе» и завершенной впоследствии самим Гоголем в его бессмертной «Шинели».
В «Записках сумасшедшего» Гоголь показал трагическую судьбу «маленького человека», выступил с энергическим протестом против несправедливости социальных отношений современного ему дворянско-бюрократического общества. Беспрерывная цепь унижений, сознание своего бессилия доводят Поприщина до сумасшествия. Однако Гоголя интересует здесь не патология, не история болезни, хотя и она описана им с исключительной точностью. Для него важен социальный смысл образа Поприщина — жертвы несправедливого общественного строя. Поприщин стоит на низшей ступени бюрократической лестницы — он всего лишь титулярный советник. Но у Поприщина, — и в этом его отличие от Акакия Акакиевича, — в глубине души живет сознание своего человеческого достоинства, зреет протест, пускай очень ограниченный, уродливый и беспомощный, но все же протест против общественной несправедливости. Он смутно догадывается, что причиной его униженного положения является бедность, отсутствие чинов и связей: «Что ж ты себе забрал в голову, что кроме тебя уже нет вовсе порядочного человека, — говорит о начальнике отделения Поприщин. — Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, — тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет — вот беда» (II, 198).
Поприщин мечтает даже о директорской дочке, к которой он испытывает робкое чувство. Постепенно, исподволь назревавшее в нем смутное недовольство своим униженным положением приобретает все более и более резкий характер. Узнав о том, что дочь директора собирается выйти замуж за камер-юнкера, Поприщин с горьким возмущением записывает: «Всё или камер-юнкер, или генерал. Всё, что есть лучшего на свете, всё достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал» (III, 205).
Поприщин закономерно приходит к мысли о несправедливости существующих социальных порядков. Однако его протест имеет пока еще абстрактно гуманистический характер. Он осознается самим писателем как призыв к человечности, к сочувствию маленьким людям, обиженным несправедливым социальным строем.
Поприщин смог увидеть в окружавшем его обществе те черты лицемерия, ничтожества, карьеризма, которые постепенно вырастают в цельную картину из его, казалось бы, случайных, разрозненных, «безумных» наблюдений. В болезненном состоянии Поприщин освобождается от привычных представлений, внушенных ему долгими годами чиновничьей лямки, он подмечает те стороны жизни, которые прежде ускользали от его внимания.
- 179 -
Поприщин начинает замечать, что директор, который был ранее в его глазах на недосягаемой высоте, — большой честолюбец и эгоист, пренебрежительно относящийся к людям. Воображая себя испанским королем Фердинандом VIII, Поприщин злорадно представляет раболепное преклонение «всей канцелярской сволочи» перед его королевским титулом. В его, казалось бы, бессвязных записках дана резкая и точная характеристика чиновничьего общества, продажного и алчного, стремящегося лишь к личной выгоде и обогащению, лживо заявляющего о своем якобы «патриотизме»: «А вот эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору, и говорят, что они патриоты, и то и сё, аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, бога продадут за деньги, честолюбцы, христопродавцы!» (III, 208, 209).
«Нос». Заглавный лист рукописи, рисованный
Н. В. Гоголем.Повесть кончается скорбной, страдальческой жалобой безумного Поприщина: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых как вихорь коней!» (III, 214). В этих словах звучит мучительная скорбь измученного, обездоленного человека, очистившегося силой страдания от всего мелкого, ничтожного, наносного, что было внушено влиянием среды, бедности, годами унижений. Перед нами уже не ничтожный чиновник, не жалкий честолюбец и неудачник, а человек, который в своем безумии и страданиях увидел все ничтожество, низость и жестокость мира Пироговых и Ковалевых и пытается вырваться из сдавивших его оков.
Эта гуманная тема выражает стремление писателя показать подлинно человеческое, возвышенное начало в самом, казалось бы, ничтожном и забитом, духовно изуродованном человеке.
С особенной силой негодования выступил Гоголь в защиту простого человека в повести «Шинель», законченной им в 1841 году. В «Шинели» Гоголь проявил себя как борец за попранное человеческое достоинство, как писатель-гуманист, поднявший свой голос в защиту тех угнетаемых и эксплуатируемых тружеников, которых безжалостно калечил дворянско-бюрократический строй.
Чернышевский писал об авторе «Шинели» и «Ревизора» как о человеке, «любившем правду и ненавидевшем беззаконие», о «благородной защите» им «меньших братий» (IV, 663). «Шинель» и была такой защитой «меньших
- 180 -
братий», напоминала о вопиющей несправедливости общества, в котором человек превращен в духовного раба, лишенного всяких радостей жизни.
Униженность и забитость Акакия Акакиевича вызывает негодующий протест Гоголя. Акакий Акакиевич — фигура типическая. Гоголь с удивительной глубиной и социальной прозорливостью раскрывает шаг за шагом несправедливость тех условий, которые, начиная с самого детства, обрекают подобных простых людей на безрадостное и жалкое существование, подавляют их человеческое достоинство, несправедливость того общественного порядка, при котором чин и звание заслоняют личность человека. Формула гоголевского гуманизма — «человек — брат твой» — определяет содержание «Шинели», ее призыв увидеть и под покровом бедности и духовной неразвитости человека, проявить к нему братские чувства, встать на его защиту.
Этот гоголевский гуманизм обусловил и огромное значение «Шинели» для писателей 40-х годов и последующих поколений. Впервые после «Станционного смотрителя» Пушкина с такой силой и страстностью провозгласил Гоголь призыв к человечности и социальному равенству. Продолжая эту пушкинскую традицию, Гоголь показывает, что его Акакий Акакиевич — жертва не только обстоятельств, но и того холодного эгоизма, который заполняет сердца и души окружающих его людей, стоящих хотя бы на несколько ступеней выше его в табели о рангах. Акакий Акакиевич не способен на борьбу, не может отстаивать свои права, его протест пассивен, но Гоголь сам вступается за своего героя, вскрывая всю несправедливость и жестокость социальных отношений, обрекающих Акакия Акакиевича на безрадостное и жалкое существование.
Лишь на недолгий момент вторгается в горестную жизнь Акакия Акакиевича что-то похожее на человеческое счастье. Решение сшить новую шинель — это новый этап всей его жизни. Забота о шитье шинели, торжественное водворение ее на плечи Акакия Акакиевича как бы придают новый смысл всему его существованию, пробуждают в нем те человеческие чувства, которые были заглушены, забиты нищетой. Мечта о новой шинели при всей своей мелочности придает цель его жизни и преображает Акакия Акакиевича. Эта цель, наконец, осуществлена, но на вершине благополучия Акакия Акакиевича постигает страшная катастрофа: на пустынной площади грабители снимают с него новую шинель. Отчаяние, охватившее несчастного бедняка, пробуждает в нем чувство протеста, то ожесточение, которое открывает перед ним истинный характер вещей.
Несправедливость всего случившегося с ним, безразличие частного пристава и, наконец, холодное бездушие «значительного лица», к которому обратился Акакий Акакиевич за помощью, еще не осознаны им как звенья единой цепи. Но эти конкретные проявления тупого бюрократизма и полнейшего равнодушия к горю маленького человека ожесточают даже кроткого и забитого Акакия Акакиевича. Ничтожный чиновник, бедняк-разночинец, он бессилен перед лицом огромной бездушной и бесчеловечной бюрократической машины и в конце концов погибает так же незаметно и жалко, как и жил: «Исчезло и скрылось существо никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное», — говорит о его смерти Гоголь (III, 169). Эти горькие слова звучат не только печально-иронической эпитафией, но и обвинением по адресу окружающего общества.
Жалость к судьбе Акакия Акакиевича усиливает разоблачительный пафос повести. Гоголь создает сатирический образ «значительного лица», Предвещающий уже беспощадное щедринское разоблачение «помпадуров». Эгоистическое бездушие, мелочное тщеславие и самодурство, упоенность
- 181 -
Иллюстрация:
«Коляска». Повесть Н. В. Гоголя. Первопечатный текст. «Современник». 1836.
- 182 -
своей властью и бумагопроизводством — таковы типические черты «значительного лица», олицетворяющего бюрократический аппарат николаевского царствования. Гоголь, едко и беспощадно высмеивая «значительное лицо», показывает не только его тупое самодовольство, но и типичность его как представителя всей бюрократической системы николаевского режима.
Гоголь заканчивает свою повесть не только горьким сожалением о гибели Акакия Акакиевича, но и гневным протестом против общественных порядков, обусловивших эту трагическую участь маленького человека. В кроткой и беззлобной душе Акакия Акакиевича под влиянием всех унижений и несправедливостей, им вытерпленных, возникает чувство собственного достоинства, возмущение против того порядка, который казался ему незыблемым. Заостренно-гротескным, фантастическим характером концовки повести Гоголь еще резче подчеркнул эту протестующую тенденцию. Призрак умершего Акакия Акакиевича, ищущего утащенную шинель, сдирающего «со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы», даже с плеч надворных советников, в том числе и с плеч «значительного лица», — выступает в повести Гоголя как грозный мститель за поруганную справедливость.
Своеобразие художественной манеры Гоголя и его языковое мастерство приобретают в «Шинели» особую выразительность. Скорбная судьба Акакия Акакиевича раскрывается в повести как бы воочию видимая читателю благодаря той обстоятельности, с какой она излагается автором, не скупящимся на подробности. Авторское повествование приобретает сатирически-едкий характер в описании тех условий и той среды, которые порождают забитость и униженность маленького человека. Автор иронически развенчивает то «высокий» слог официальных бюрократических сфер, то чувствительный стиль сентиментальных авторов, стремившихся приукрасить горестную жизнь бедных людей. Уже самое начало повести представляет собой сложное переплетение канцелярско-бюрократического слога с разговорной речью: «В департаменте... но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий» (III, 141). Этот насмешливый иронический тон выдерживает рассказчик и дальше. Духовное убожество, забитость и робость Акакия Акакиевича переданы своеобразием его речевой манеры, употреблением малозначащих местоимений и частиц: «А я вот к тебе, Петрович, того...» — так обычно изъясняется Акакий Акакиевич, и автор прибавляет при этом: «Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения» (III, 149).
В «Невском проспекте», «Записках сумасшедшего» и, в особенности, в «Шинели» с большой силой и глубиной проявился гуманизм Гоголя. Гоголь выступает как защитник человечности, как писатель, видящий человеческое начало и в самом забитом и угнетенном всем социальным строем существе. Художник Пискарев, чиновник Поприщин, забитый Акакий Акакиевич Башмачкин — все они имеют право на справедливое и гуманное отношение к себе, на свое место в жизни. Горячее сочувствие к труженику и не менее страстное возмущение теми условиями, которые заставляют человека находиться в униженном и неравноправном положении, определяют внутренний пафос гоголевских повестей, их протестующее, гуманное начало и являются сильной стороной творчества Гоголя. Слабой стороной его являлась неопределенность, расплывчатость положительного идеала, неумение указать выход из противоречий действительности. Говоря о первоначальном
- 183 -
этапе утопического социализма, В. И. Ленин подчеркивал его бессилие: «Он критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его, мечтал об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнравственности эксплуатации».1 Конечно, нельзя отождествлять позицию Гоголя с позицией утопического социализма, но слабость Гоголя была в том же неумении найти выход из социальных противоречий действительности.
В «Шинели», как и во всем цикле «петербургских повестей», Гоголь остается на позициях отвлеченного гуманизма, гуманизма жалости и сострадания. Его герои бессильны бороться против несправедливости общественных отношений, они не понимают истинных причин своих страданий, они не видят сколько-нибудь ясной и отчетливой цели своих стремлений. Их протест имеет пассивный характер, не освещен сознанием необходимости социального переустройства. Впоследствии Чернышевский, говоря об Акакии Акакиевиче, погибающем «от человеческого жестокосердия», указал на эту слабую сторону идейной позиции Гоголя, подчеркнув, что для писателей прежнего поколения народ являлся в образе Акакия Акакиевича, «о котором можно только сожалеть», который «может получать себе пользу только от нашего сострадания» (VII, 857, 859).
Тем не менее, наряду с «Ревизором» и «Записками сумасшедшего», «Шинель» явилась одним из самых ярких и суровых разоблачений николаевского бюрократического режима. Этим прежде всего объясняется и ее огромное воздействие на последующих писателей критического направления, объединившихся вокруг Белинского в 40-х годах.
Особое место среди повестей Гоголя занимает повесть «Коляска», написанная несколько позже цикла «петербургских повестей» (в 1835 году) и тематически с ними не связанная. В «Коляске» Гоголь обращается к описанию русской провинции, дает сочные и яркие зарисовки помещичьего провинциального быта, во многом близкие к первой части уже задуманных тогда «Мертвых душ». Значение этой повести не только в яркости и законченности бытовой живописи, в зрелости реалистического мастерства художника, но и в остром сатирическом разоблачении дворянского общества.
«Коляску» высоко оценил Пушкин, напечатавший ее в «Современнике». Предполагая поместить ее первоначально в неосуществившемся альманахе, Пушкин писал Плетневу: «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его „Коляску“, в ней альманах далеко может уехать...».2 Откликнулся на появление «Коляски» и Белинский, определив ее как мастерскую шутку, в которой «выразилось все умение г. Гоголя схватывать эти резкие черты общества и уловлять эти оттенки, которые всякий видит каждую минуту около себя и которые доступны только для одного г. Гоголя» (III, 3).
Анекдотическое происшествие с коляской, определяющее сюжет повести, раскрывает до конца глупое фанфаронство тунеядца помещика Чертокуцкого, привыкшего пускать пыль в глаза и оказавшегося в смешном и позорном положении. Бытовой анекдот, смешной незначительный эпизод приобретают здесь широкое обобщенное значение, благодаря замечательному мастерству, с которым показаны представители дворянского общества и армейского офицерства.
Говоря о «петербургских повестях», Белинский писал, что юмор Гоголя состоит «в противоположности созерцания истинной жизни, в противоположности
- 184 -
идеала жизни — с действительностию жизни. И потому его юмор смешит уже только простяков или детей; люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою... Из-за этих чудовищных и безобразных лиц, им видятся другие, благообразные лики; эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть...» (VII, 43).
В «петербургских повестях» Гоголь, показывая отрицательные, грязные стороны действительности, раскрывает всю ее неприглядность во имя высоких и благородных идеалов. Тем самым его юмор развивается на глубокой идейной основе, на противопоставлении идеала жизни — неприглядной, искажающей благородные человеческие задатки, действительности.
Юмор Гоголя, комическое начало его творчества, отнюдь не состоит в выпячивании на первое место смешного, комического. Его смех не преследует развлекательных целей, не смягчает изображения действительности, ее острых противоречий. Комическое у Гоголя — результат конфликта, острого противоречия между должным, идеальным, тем, что определяет движение вперед, выражает идеалы и чаяния народных масс, и грубой уродливой действительностью, безобразными и гнетущими человека формами общественной жизни и морали, созданными крепостническим, эксплуататорским строем. Поэтому юмор Гоголя всегда социально насыщен, раскрывает подлинные противоречия жизни, всегда реалистически полнокровен. Истинный юмор Гоголя, — отмечал Белинский, — «состоит в верном взгляде на жизнь, и прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им жизни». Причину этого «комизма» произведений Гоголя Белинский видит «не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни» (II, 227).
Эти строки Белинский писал еще в 1835 году, раскрывая характер гоголевского юмора не как стремление писателя к «смешному», а как выражение его критического отношения к действительности и правдивого изображения им противоречий этой действительности. Именно из сознания противоречия между подлинно человечным, гуманным народным началом и безобразием общественных форм, которые уродуют и калечат человека, — и возникает то сочетание трагического и комического, та знаменитая формула гоголевского смеха сквозь незримые, неведомые миру слезы, которая определяет своеобразие и глубину его «комизма», его «гумора», «комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния», как говорит Белинский (II, 219).
Глубоко идейная, прогрессивная основа реалистического метода Гоголя органически сочеталась в его творчестве с романтическим пафосом, передававшим страстный протест писателя против отрицательных сторон действительности. Гоголь не только осмеивал и разоблачал мерзость и пошлость крепостнического эксплуататорского строя, но и противопоставлял ему благородные и возвышенные идеалы гармонической и прекрасной личности человека.
Как автор «петербургских повестей» Гоголь создал особый жанр русской реалистической повести. Острота сюжетных положений, напряженность контрастов в его повестях выражали контрасты и противоречия самой действительности. Гоголь выступает как замечательный мастер сюжета. За исключением «Портрета», утяжеленного второй частью, действие его повестей раскрывается быстро, динамично, в острых сюжетных столкновениях и конфликтах.
- 185 -
И здесь предшественником и учителем Гоголя был в значительно» мере Пушкин. Его «Выстрел», «Мятель», «Станционный смотритель» дали пример точного построения рассказа, вырастающего непосредственно из жизни. В цикле «петербургских повестей» Гоголя сочетались точность и реалистическая наглядность в изображении мельчайших деталей быта с глубиной идейного замысла и типической обобщенностью образа, с действенным авторским отношением к изображаемому. Беспощадная правда его сатиры, разоблачение «пошлости пошлого человека» помогали Гоголю создать образы огромного обобщения, широкой социальной типичности.
В своих повестях Гоголь выделяет и подчеркивает типическое в повседневном, создает тот гротескный сюжетный рассказ, в котором бытовой анекдот, обыденный случай приобретают обобщающее, типизирующее значение. Резкость контрастных переходов, гротескное заострение сюжетных ситуаций, включение фантастически-сатирических ситуаций, как это имеет место в «Носе», «Невском проспекте», «Шинели», «Портрете», — не только не ослабляют реалистической и типической силы произведений писателя, а наоборот, подчеркивают, выделяют главные, сатирические, черты. Фантастический гротеск становится средством сатирического разоблачения и обличения, смещая привычные грани, открывая в повседневном, будничном главное, основное, скрытое внешней обыденностью, страшное, антигуманистическое начало собственнического общества, фальшь и лицемерие его представителей. И здесь следует напомнить пушкинского «Гробовщика», в котором Пушкин показал пример этой гротескной, бытовой фантастики, служащей разоблачению действительности. Фантастический гротеск в «Шинели» служит для еще большего усиления обличительного, сатирического содержания этой повести, придает ей социально-разоблачительный характер. Средствами контрастного противопоставления ничтожнейшего и робкого Акакия Акакиевича величию самоуверенного «значительного лица» Гоголь достигает особенной резкости и наглядности типического изображения основных противоречий действительности.
Таким образом, контраст и сатирический гротеск у Гоголя не являются формальным приемом, а способствуют заострению контрастов самой действительности, раскрывают нелепость и противоречия социального порядка. Поскольку Гоголь не отрывается от действительности, романтические черты в его художественном методе не противоречат реальности, а помогают еще глубже и заостреннее ее раскрыть.
7
В творчестве Гоголя большое место занимает драматургия. На протяжении 30-х годов Гоголь работает над созданием ряда драматургических произведений — «Владимиром третьей степени», «Женитьбой», «Альфредом» и, наконец, над величайшим своим творением — «Ревизором». В своих комедиях Гоголь выступал как продолжатель великих традиций русской прогрессивной реалистической драматургии — Фонвизина, Грибоедова, Пушкина. Сделав новый шаг по пути сближения театра с жизнью, он стал одним из основоположников русской реалистической драматургии.
Театр для Гоголя на всем протяжении его жизненного и творческого пути являлся особенно высоким и общественно значимым родом искусства: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, — писал Гоголь, — если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек, и что вся эта толпа, ни в чем не сходная» между собою, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним»
- 186 -
потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» (VIII, 268).
В «Театральном разъезде» Гоголь дал глубокое обоснование комедии как «зеркала общественной жизни»: «Если комедия должна быть картиной и зеркалом общественной нашей жизни, то она должна отразить ее во всей верности» (V, 160). Недаром Белинский писал о «Театральном разъезде»: «В пьесе этой содержится глубоко-сознанная теория общественной комедии...» (VIII, 91).
Гоголь дал глубокое определение общественной комедии, основанной не на занимательной интриге, а на постановке широких социальных проблем, на показе общественных конфликтов. Осуществление этих принципов общественной комедии он видел в классической русской драматургии, в пьесах Фонвизина и Грибоедова. «В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, — писал он о «Недоросле» Фонвизина и «Горе от ума» Грибоедова, — но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые беспощадною силою иронии выставлены в очевидности потрясающей» (VIII, 396).
В этой общественной направленности комедии, в ее социальной значимости и остроте и видел Гоголь преимущества и национальную особенность русской драматургии: «Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки» (VIII, 400).
Гоголь настаивает на высокой идейности искусства, на его верности жизни: «...есть драма: высокая, вдыхающая невольное присутствие высоких волнений в сердца согласных зрителей..., есть комедия высокая, верный сколок с общества, движущегося перед нами, комедия, производящая смех глубокостью своей иронии...» (VIII, 551).
Такой «высокой комедией», «верным сколком с общества» и явились комедии самого Гоголя, наполненные глубоким общественным содержанием. Отстаивая принципы реализма (комедия — «сколок» с действительности), Гоголь предостерегает против натуралистического подхода к жизни, против простого «списывания сцен», не освещенного идеей, общественной направленностью.
Пьесы Гоголя с особенной полнотой осуществляли принципы общественной комедии, широкого социального охвата русской жизни, изображения типических характеров. «Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам...» (VIII, 186), — восклицал Гоголь, требуя обращения драматурга к общественной жизни, к русской действительности. В общественной направленности и реалистической правдивости видит Гоголь основную задачу драматурга и в то же время тот свой национальный путь, которым должен пойти русский театр.
Только следуя жизненной правде, показывая типические характеры, русский театр, по мнению Гоголя, может стать подлинно национальным: «Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: „Да это, кажется, знакомый человек“, — только такое изображение приносит существенную пользу» (VIII, 186).
В русской драматургии и, прежде всего, в драматургии самого Гоголя с особенной полнотой осуществилось социальное, общественное значение
- 187 -
комедии. В условиях напряженной борьбы с крепостническим режимом русская комедия приобрела острую социальную направленность и сатирическую, обличительную силу.
Гоголь как драматург проложил новые пути драматургии и сценического искусства. В своих пьесах он стремился к предельной жизненной правде и естественности, отбрасывая все то, что мешало наиболее полному их выражению. Во имя максимальной содержательности и естественности действия Гоголь настаивает на отказе от условно-литературных традиционных форм и приемов, которые лишь мешают выражению общественного содержания, нарушают жизненную правдивость «комедии общественной».
«Завязка», т. е. конфликт комедии, по словам писателя, должна быть основана на тех явлениях окружающей жизни, на тех важнейших социальных вопросах, которые и придают ей общественную и художественную значимость. Это понимание задач комедии было широко развернуто Гоголем в «Театральном разъезде», в словах второго «любителя искусств». Отвечая на замечания о том, что в гоголевской пьесе «нет завязки», он говорит: «Да, если принимать завязку в том смысле, как ее обыкновенно принимают, то-есть в смысле любовной интриги, так ее точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Всё изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» (V, 142).
В своей статье «Петербургская сцена в 1835/36 г.», написанной непосредственно вслед за «Ревизором», Гоголь подчеркивает значение этих общественных «пружин», ставя театру задачу «заметить общие элементы нашего общества, двигающие его пружины» (VIII, 555), и вывести на сцену «плевела», «от которых житья нет добрым и за которыми не в силах следить никакой закон» (VIII, 561).
Глубокая осознанность художественных принципов драматического искусства намного опередила современность, позволила Гоголю создать новый тип «высокой комедии», комедии глубоко идейной и реалистической. Именно поэтому Гоголь решительно отвергает то направление театра, которое характеризовало современную ему западноевропейскую драматургию, выродившуюся в «мишурно-великолепные зрелища для глаз, угождающие разврату вкуса или разврату сердца...» (VIII, 268).
Гоголь решительно протестует против современных западноевропейских «гнилых мелодрам» и «наисовременнейших водевилей», отстаивая обращение театра к «совершеннейшим произведениям всех веков и народов», указывая на «нравственно-благотворное влияние» на общество таких великих писателей прошлого, как Шекспир, Шеридан, Мольер, Бомарше.
Еще в начале 1833 года Гоголь задумывает комедию, полную «злости», «смеха» и «соли». В письме к Погодину от 20 февраля 1833 года Гоголь сообщает о работе над этой комедией и с горечью говорит о тех непреодолимых цензурных препятствиях, на которые натолкнулось его перо, в результате чего он должен был прекратить работу над ней (X, 262—263). Эта первая комедия Гоголя — «Владимир третьей степени» (впоследствии в 1840—1841 годах переделанная им в четыре самостоятельные сцены: «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская», «Отрывок») — свидетельствует о смелой общественной направленности замысла писателя, о новых реалистических художественных принципах его драматургии.
- 188 -
«Владимир третьей степени» тесно связан с циклом «петербургских повестей» Гоголя и рисует высший бюрократический круг столицы, мир бесчестных карьеристов и взяточников. Даже не зная всей комедии в целом, мы можем по отдельным сценам ее судить о сатирической «злости» этой первой комедии Гоголя, смело разоблачавшей карьеризм и продажность чиновничье-бюрократического общества. С убийственной едкостью передает Гоголь мелкую и завистливую натуру чиновника, одержимого мечтой о карьере. В конце концов (по свидетельству Щепкина) герой комедии помешался на мысли, что он и есть «Владимир III степени».
Иллюстрация:
«Ревизор». Комедия Н. В. Гоголя. Титульный лист первого издания. 1836.
Лишенный возможности завершить свою первую комедию, Гоголь в том же 1833 году начинает работу над комедией — будущей «Женитьбой» (названной в первоначальной редакции «Женихи»), действие которой происходило в провинции. Однако, обратившись к «Ревизору», Гоголь прервал работу над «Женитьбой», и эта комедия была окончательно завершена лишь в 1841—1842 годах. «Женитьба» во многом близка к драматургическим принципам «Ревизора». Это тоже общественная комедия, в которой сюжетный конфликт — столкновение женихов, стремящихся завоевать руку богатой купеческой невесты, служит раскрытию современных нравов, поводом для создания типической социальной картины.
В «Ревизоре» Гоголь раскрыл страшную картину распада и загнивания дворянского и чиновничьего общества. Другая сфера жизни дана в «Женитьбе». Здесь показано, как «электричество» денежного мешка растлевающе действует на нравы общества, порождает нравственных уродов, искажает и уродует человеческие чувства.
Гоголь остро почувствовал и показал в «Женитьбе» те новые социальные сдвиги, которые происходили в современном ему обществе. Купец, владелец «капитала», все увереннее и настойчивее выступал как хозяин положения, оттесняя дворянина, чувствуя в своих руках ту силу, которая все более приобретала вес. Эта мысль выражена Гоголем в споре Арины Пантелеймоновны со свахой Феклой, в котором при всем внешнем комизме и наивности аргументов раскрывается социальный смысл комедии. Арина Пантелеймоновна настаивает на женихе из купеческого сословия, тогда как плутоватая сваха, угождающая Агафье Тихоновне, мечтающей о браке с «дворянином», отстаивает преимущества дворянского сословия. В их нелепом споре отражена вместе с тем поучительная правда социальных отношений, действительное соотношение сил. Галерея неимущих и мелкотравчатых дворянских женихов, мечтающих поправить свое незавидное материальное положение выгодной женитьбой, подобострастно проходит перед разборчивой купеческой дочкой.
- 189 -
В «Женитьбе», как и в «Ревизоре», нет положительных героев. Тусклый и убогий мир, раскрываемый в «Женитьбе», лишен глубоких человеческих чувств. Это мир мелких страстишек, мир мертвящего эгоизма и пошлости. Поэтому и драматические конфликты в атмосфере этой мелочности чувств и страстей приобретают комический характер. Но при всем этом комизме смешных, почти водевильных ситуаций, смех Гоголя достигает огромной сатирической силы, а его образы приобретают типический характер. Гоголь срывает здесь маску лицемерия и ханжества, прикрывающую брак и семейные отношения в буржуазно-дворянском обществе, и показывает их во всей неприглядности, во всем цинизме и обнаженности эгоистических интересов.
Надписи на обороте рисунка, подаренного Пушкиным Гоголю.
Подколесин — типический представитель той паразитической психологии, которая позже была разоблачена Гончаровым в «Обломове». Но и деятельность Кочкарева при всей его внешней подвижности столь же бесполезна и бессмысленна. Энергия и хлопотливость Кочкарева — это движение на холостом ходу, оно безрезультатно так же, как и бездеятельность Подколесина.
Среди комедий Гоголя следует выделить и еще один драматический шедевр его — «Игроки» (1841 год). Со злой и едкой иронией Гоголь показывает
- 190 -
в «Игроках» новые «веяния времени»: лихорадочную и циничную погоню за деньгами, авантюризм, те грязные средства наживы и обмана, которые являются подлинными пружинами современного ему общества. Бесчестные мошенники, ни перед чем не останавливающиеся во имя наживы, — таковы представители этого общества, руководящиеся в своих поступках волчьим «законом» холодного расчета и эгоизма.
Трагикомическая история шулера Ихарева, остроумно и изобретательно обманутого и ограбленного еще более ловкими мошенниками, его же собратьями по ремеслу, приобретает широко обобщенный смысл. Там, где все отношения между людьми основаны на денежном интересе, на обогащении за счет ближнего, — не существует ни морали, ни дружеских чувств, ничего, кроме бессердечного чистогана. По остроте конфликта, драматической напряженности, а вместе с тем, экономии художественных средств эта комедия является замечательным образцом драматургического мастерства Гоголя. Полностью «Женитьба» и «Игроки» были завершены Гоголем в 1841 году и впервые напечатаны в собрании его сочинений 1842 года.
Замысел обличительной общественной комедии, захвативший писателя, видевшего свое назначение в том, чтобы сказать горькую правду о современном ему обществе, получил свое наиболее полное осуществление в «Ревизоре». В 1835 году Гоголь, прервав работу над «Женитьбой», создал за несколько месяцев широкую социальную сатиру — «Ревизор». Комедия Гоголя наносила мощный удар самодержавно-крепостническому строю, разоблачала безобразие и гнилость бюрократического режима, сковывавшего живые народные силы России.
Сюжет «Ревизора», как впоследствии указывал сам Гоголь, был дан ему Пушкиным. В письме к последнему от 7 октября 1835 года Гоголь, жалуясь на безденежье и скверные обстоятельства, обращался с просьбой: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию... Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта» (X, 375).
Развив в «Ревизоре» тему, подсказанную Пушкиным, Гоголь создал общественную комедию, проникнутую негодующей и беспощадной злостью по отношению ко всему чиновничье-крепостническому порядку. Гоголь не обманывался в умственном уровне господствующих классов. В 1833 году он писал Погодину по поводу его драмы о Петре I, советуя прибавить «боярам несколько глупой физиогномии»: «Это необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время» (X, 255).
Уже в январе 1836 года комедия была закончена, но лишь после длительных хлопот удалось добиться разрешения на ее постановку, и 19 апреля 1836 года состоялось первое представление «Ревизора» в Александринском театре в Петербурге.
«Ревизор» — вершина драматургии Гоголя как по широте и глубине своей идейной направленности, так и по гениальности художественного мастерства. Продолжая традиции Фонвизина и Грибоедова, Гоголь создал комедию общественную, политическую, разоблачавшую «раны и болезни общества», выдвигавшую на первое место не личные и семейные конфликты, а конфликты социальные.
«Никто никогда до него не читал такого полного патолого-анатомического курса о русском чиновнике, — писал Герцен о Гоголе. — С хохотом на устах он без жалости проникает в самые сокровенные складки нечистой, злобной чиновнической души. Комедия Гоголя „Ревизор“, его поэма „Мертвые
- 191 -
души“ представляют собою ужасную исповедь современной России...».1
Городничий. Рисунок неизвестного художника, подаренный
Пушкиным Гоголю.Показывая отвратительный облик бюрократически-чиновничьей России, Гоголь тем самым обнажал хищническую, реакционную сущность всего помещичье-крепостнического строя, учил ненавидеть мерзость, лицемерие и корыстолюбие его представителей. Осмеяние и разоблачение чиновническо-бюрократического аппарата царской России имело огромное прогрессивное значение, учило народные массы понимать вредоносную деятельность этого механизма порабощения народа господствующими классами. В. И. Ленин в статье «Задачи русских социал-демократов» писал: «Отсталости России и ее абсолютизму соответствует полное бесправие народа перед чиновничеством, полная бесконтрольность привилегированной бюрократии... Против всевластного, безответственного, подкупного, дикого, невежественного и тунеядствующего русского чиновничества восстановлены весьма многочисленные и самые разнообразные слои русского народа».2
Эта ленинская характеристика чиновничества царской России помогает понять значение той смелой и резкой критики, с которой выступил Гоголь в «Ревизоре». В основу комедии положен острый социальный конфликт,
- 192 -
основное противоречие между корыстным и паразитическим классом чиновничьей бюрократии и жизненными интересами русского общества. Большая и актуальная общественная тема определила содержание и художественную структуру комедии.
Значение гениальной комедии Гоголя «Ревизор» отнюдь не исчерпывается сатирой на чиновничество, а вырастает до широкого социального обобщения. Показывая уродливые фигуры провинциальных чиновников, Гоголь разоблачает отвратительные черты крепостнического строя, обнажает самые безобразные его стороны. Народность «Ревизора» — в глубоком и правдивом показе всей действительности с позиций, близких интересам широких народных масс. Этим и объясняется бессмертие комедии Гоголя, ставшей любимым произведением народа.
В своей комедии Гоголь показал всю грязь, пошлость и низость того класса, который возглавлял государство. Хищнический произвол, взяточничество, воровство, полное пренебрежение народными интересами характеризуют носителей власти, всю вереницу чиновных «отцов города» и прочего «начальства», начиная от городничего и кончая полицейским Держимордой.
Все эти хищники в мундирах, архиплуты, взяточники, казнокрады составляли основной оплот крепостнического государства. Широкая обобщенность замысла «Ревизора» отмечена самим писателем в «Авторской исповеди»: «В „Ревизоре“ я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем» (VIII, 440),
Всей логикой своих образов «Ревизор» раскрывал перед зрителями и читателями преступный характер всего государственного устройства царской России, превращаясь в грозное обвинение дворянского государства в целом. Захудалый маленький городишко, затерянный среди бескрайних просторов России, о котором городничий резонно заметил, что «отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь» (IV, 12), — становился символом всей тогдашней крепостнической России. Обличительная сила гоголевского реализма такова, что писатель, рисуя, казалось бы, узкий круг явлений, раскрывает в них широчайшую картину современного общества.
Образ городничего Сквозник-Дмухановского в своей социальной сущности вырастает до чрезвычайно широкого обобщения царской бюрократии, являвшейся опорой крепостнического режима. Обкрадывая и обманывая государство во имя своих корыстных интересов, он остается слепо преданным тому режиму, который позволяет ему делать карьеру и наживаться. Карьера, магическая власть чина, грубый эгоизм полностью определяют все содержание его жизни. Он плоть от плоти этого режима, вне которого невозможно самое существование подобных типов.
Городничий — опытный казнокрад, деспот и плут, уверенный в своей безнаказанности. Эта уверенность и создает у зрителя ощущение безвыходности, зловещей круговой поруки, полной и всеобщей растленности, которые присущи уже не только чиновникам маленького заштатного городка, но и всему общественному строю крепостнического государства, порождающему эту вопиющую безнаказанность.
Иную сторону крепостнической действительности передает Гоголь в образе Хлестакова. Хлестаков — типичный представитель столичного чиновничества. Он воплотил в себе ту пошлость и отрицательные черты, которые присущи всем представителям данной среды.
- 193 -
Эти черты угаданы и показаны Гоголем в образе Хлестакова с особенной полнотой и выразительностью: «Характер Хлестакова... развертывается вполне, — отмечает Белинский, — раскрывается до последней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости» (V, 67—68). В образе Хлестакова Гоголь, как в фокусе, собрал все основные отрицательные черты современного ему дворянско-чиновничьего общества.
«Ревизор». Комедия Н. В. Гоголя. Мария Антоновна и Анна
Андреевна. С рисунка неизвестного художника. 1830-е годы.Внутренний мир Хлестакова необычайно убог и ничтожен. Основной движущей пружиной всех стремлений и поступков Хлестакова является его тщеславие и безудержный, мелочный эгоизм. Его желания не выходят за пределы почти физиологической жажды «срывать цветы удовольствия», чем и исчерпывается весь смысл происходящего вокруг него. «Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия» (IV, 45). Таков жизненный принцип Хлестакова, ничем не отличающийся от жизненного принципа окружающего его общества.
Ложь Хлестакова при всей своей нелепости принимается на веру не только в силу наивности провинциальных чиновников, ослепленных представлением о значительности лица, приехавшего из столицы. Эта ложь является одним из проявлений всеобщей лжи и лицемерия общества,
- 194 -
в котором он вращается. Хлестаков лжет самозабвенно потому, что в этой лжи и есть его жизнь, самоутверждение своей «ценности». Как поясняет Гоголь, «он чувствует только то, что везде можно хорошо порисоваться, если ничто не мешает. Он чувствует, что он и в литературе господин, и на балах не последний, и сам дает балы и, наконец, что он — государственный человек» (IV, 117).
Хлестаков — «столичная штучка», представитель бюрократических канцелярских «сфер», «образованного» круга столичного чиновничества, задающего «тон».
По словам самого Гоголя, Хлестаков «несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими» (IV, 9). Образ Хлестакова раскрывается на протяжении комедии с огромной обобщающей силой и, вместе с тем, с глубоким пониманием Гоголем этого «пустейшего» персонажа как своего рода «героя времени».
Хлестаков — это нравственная, моральная мера общества, в котором его беззастенчивое хвастовство, наглость и пошлость принимаются как должное. И когда Хлестаков в своем безудержном хвастовстве заявляет о том, что он управлял министерством и принят во дворце, то и эта ложь кажется провинциальным чиновникам вполне правдоподобной, так как во главе государства и стояли подобные Хлестаковы.
Подчеркивая типичность образа Хлестакова, Гоголь писал в «Отрывке из письма к одному литератору»: «Словом, это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах... Всякий хоть на минуту... делается Хлестаковым... И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым...» (IV, 101).
Образ Хлестакова не ограничен рамками своей эпохи, но раскрывает те черты и проявления характера, которые выражают эгоистическую самовлюбленность, наглость, пошлость, лживость, стремление казаться не тем, что есть на самом деле, — черты, присущие людям, воспитывавшимся в условиях классового общества и сохранившим свою непривлекательность вплоть до нашего времени как пережиток. Словом «хлестаковщина» и теперь клеймится всякое проявление безответственного хвастовства, легкомыслия, внутренней пустоты, лживости, зазнайства.
Не менее типическими и жизненными чертами наделены и остальные персонажи комедии. Земляника, угодливый и льстивый чиновник, «плут и проныра», как аттестует его Гоголь, беззастенчиво обкрадывает вверенные ему богоугодные заведения. Судья Ляпкин-Тяпкин, при всем своем «вольнодумстве», охотно берет взятки борзыми щенками. Смотритель училищ Хлопов, боящийся всяческой ответственности и беспокойства, насаждает мерзость запустения в школе. «Простодушный до наивности» почтмейстер — любитель чужой корреспонденции. Таков провинциальный чиновничий мир тунеядцев и жуликов, наживающихся и благоденствующих за счет народа.
В «Ревизоре» Гоголь показал прежде всего ту глубину разложения, ту тупую, бессмысленную и безжалостную бюрократическую рутину, ту глубину мерзости, архиплутовства, которые характеризовали весь чиновничий аппарат крепостнической России. Слова городничего, обращенные к зрителям, — «Чему смеетесь? над собою смеетесь», как и эпиграф к комедии — «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», — особенно полно выражают ее обобщающий смысл.
- 195 -
Н. В. Гоголь.
Копия неизвестного художника с оригинала А. А. Иванова 1841 г.
- 196 -
- 197 -
Так же правдиво изобразил Гоголь и провинциальное купечество, возмещавшее убытки от неумеренных поборов городничих и чиновников на народе.
Правда о современном обществе и составляла великую силу комедии Гоголя, вызвавшей яростный гнев реакционных охранительных кругов и горячее признание передовой части общества во главе с Белинским.
В своей комедии Гоголь выступает как замечательный новатор, отбрасывая уже изжившие себя условные формы и приемы и создавая новые принципы драматургии. Величайшей новаторской заслугой писателя явилось создание театра жизненной правды и той общественно-направленной драматургии, которая проложила дорогу дальнейшему развитию русского драматического искусства.
Конфликт в комедии Гоголя развивается не в его внешней сюжетной занимательности, а в реальных жизненных условиях. Напомним замечательное определение, данное Белинским драматургическому конфликту: «Героем драмы должна быть сама жизнь». Героем комедий Гоголя и является сама действительность, из противоречий которой естественно возникает конфликт между отдельными персонажами. Комическое возникает из несоответствия того, что думают о себе герои комедии, и их реальной сущностью, которая раскрывается перед зрителями в их поступках. Ни городничий, ни Хлестаков, никто вообще из действующих лиц комедии не думает ни одной минуты, что он смешон, так же как никто не думает о бесчестности своего поведения. Но сама жизнь ставит героев комедии Гоголя в такие положения, что они предстают перед зрителем во всем своем духовном безобразии.
В персонажах своей комедии Гоголь раскрывает не просто наиболее распространенное и обыденное, а зачастую сознательно заостряет существеннейшие черты окружающего его общества, его отрицательные стороны. Сквозники-Дмухановские, Хлестаковы, Земляники — являются выражением того типического, что раскрывает самую сущность полицейско-бюрократического строя, его антинародный, угнетательский характер, духовное ничтожество и нравственный распад его представителей.
В драматическом произведении особенно велико значение языковой характеристики персонажа. Характер героя здесь раскрывается в особенностях его речевой манеры. Речь персонажа объясняет не только его поступки и его социальный облик, но и его психологию, его внутреннее содержание. Она как бы саморазоблачает героя, раскрывает его перед зрителем и читателем в еще большей мере, чем его поведение. Замечательно точно сказал о языке гоголевских пьес И. А. Гончаров: «Каждая фраза Гоголя так же типична и так же заключает в себе свою особую комедию, независимо от общей фабулы, как и каждый грибоедовский стих».1
Если городничий, например, сообразно своему воспитанию и характеру, говорит, впадая то в грубое «просторечие», то в казенно-официальный слог, то Хлестаков, наоборот, стремится подчеркнуть свое значение и свою «светскость», выражаясь на жаргоне светских салонов, языком высшего столичного общества, как он его себе представляет, в сочетании с сентиментальной и банальной фразеологией, заимствованной из третьеразрядной литературы. Этот пошлый и банальный стиль как нельзя лучше соответствует духовному ничтожеству Хлестакова, разоблачает его убогий умственный кругозор, жалкие потуги на «образованность».
- 198 -
Глубокий общественный и философический замысел пьесы и то положительное начало, которым продиктована была беспощадная сатира Гоголя, раскрыты им в рассуждении о смехе в «Театральном разъезде». «Смех», — по словам Гоголя, — и есть то «честное лицо», тот положительный герой пьесы, который определяет ее подлинную идейную сатирическую направленность. «Смех», о котором говорит Гоголь, вызывается не «временной раздражительностью», это не «легкий смех, служащий для праздного развлеченья и забавы людей» (V, 169). «Смех» выражает положительную народную точку зрения, «смех» возникает в результате осуждения той неправды, тех безобразий, которые несет окружающая действительность.
Александринский театр в первый день постановки «Ревизора» был переполнен. Привилегированная публика, привыкшая смотреть на театральные представления как на легкое развлечение, была ошеломлена глубокой жизненной правдой гоголевской комедии. Комедия Гоголя «наделала много шуму» (так записал в своем дневнике цензор А. В. Никитенко)1 и вызвала широкие толки в обществе. Реакционные круги злобно обвиняли автора в клевете на чиновников. Гоголь выдумал «какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь...» — писал реакционер Вигель.2
Совершенно иначе воспринята была гениальная комедия Гоголя передовыми общественными кругами. В. В. Стасов вспоминал, что вся тогдашняя молодежь была от «Ревизора» в восторге. «Мы наизусть повторяли потом друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда».3 Но большинство актеров не поняли глубины и жизненности комедии и играли ее как шаблонный водевиль, а реакционная критика и раздраженные пьесой правительственные круги злобно нападали на автора «глупого фарса». Впоследствии Гоголь в «Театральном разъезде» с горькой иронией говорил об этом отношении господствующих кругов, передавая слова некоего «господина»: «Осмеять! Да ведь со смехом шутить нельзя. Это значит разрушить всякое уважение, вот что это значит. Да ведь меня после этого всякий прибьет на улице, скажет: „Да ведь над вами смеются; а на тебе такой же чин, так вот тебе затрещина!“ Ведь это вот что значит». Его собеседник на это отвечает: «Еще бы! Это сурьезная вещь! говорят: безделушка, пустяки, театральное представление. Нет, это не простые безделушки; на это обратить нужно строгое внимание. За эдакие вещи и в Сибирь посылают. Да, если бы я имел власть, у меня бы автор не пикнул. Я бы его в такое место засадил, что он бы и света божьего не взвидел» (V, 166—167).
Писатель был глубоко потрясен как самим исполнением пьесы, так и отношением к ней враждебно настроенной привилегированной публики: «...„Ревизор“ сыгран, — писал Гоголь по поводу первого представления комедии, — и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня» (IV, 99).
Атмосфера, сложившаяся после постановки «Ревизора», угнетала писателя. «Действие, произведенное ею, — писал Гоголь 29 апреля 1836 года актеру М. С. Щепкину о постановке своей комедии, — было большое и
- 199 -
«Ревизор». Комедия Н. В. Гоголя. Заключительная сцена. С рисунка неизвестного художника. 1830-е годы.
- 200 -
шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня... Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия...» (XI, 38).
Это впечатление Гоголя было ошибочно. Против него была одна лишь реакционная, чиновная верхушка дворянского общества, а за него был Белинский, были передовые общественные круги, чьи ободряющие голоса еще не смогли дойти до писателя. Одним из наиболее горячих приверженцев и ценителей «Ревизора» был Пушкин.
Если реакционные круги и продажные журналисты, нападая на Гоголя, стремились опорочить и преуменьшить разоблачительное значение «Ревизора», то передовая общественность сочувственно восприняла критику самодержавно-крепостнических порядков и по заслугам высоко оценила комедию Гоголя. В первых же своих откликах на «Ревизора» вождь демократического лагеря Белинский дал восторженную оценку комедии. В отзыве о постановке «Ревизора» в Москве, помещенном в «Молве», Белинский приветствовал появление комедии Гоголя на сцене, указывая, что «его оригинальный взгляд на вещи, его уменье схватывать черты характеров, налагать на них печать типизма, его неистощимый гумор — всё это дает нам право надеяться, что театр наш скоро воскреснет, скажем более — что мы будем иметь свой национальный театр, который будет нас угощать не насильственными кривляниями на чужой манер, не заемным остроумием, не уродливыми переделками, а художественным представлением нашей общественной жизни...».1 Для Белинского «Ревизор» навсегда остался «глубоким, гениальным созданием», как он писал о нем в своем первом отзыве.
Но Гоголь не услышал тех голосов, которые горячо одобряли его пьесу, видя в ней смелый и серьезный удар по самодержавию и крепостническим порядкам. Он решил на время уехать за границу: «Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов, — писал Гоголь Погодину, — должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне» (XI, 41). Состояние здоровья Гоголя также требовало серьезного леченья, и врачи посылали его за границу. 6 июня 1836 года Гоголь вместе со своим товарищем А. С. Данилевским уехал из России.
8
Гоголь покинул Россию в разгар жесточайшей реакции, в год закрытия «Телескопа», в котором деятельно сотрудничал молодой Белинский. За помещение «Философических писем» Чаадаева редактор «Телескопа» Н. И. Надеждин был сослан, а сам Чаадаев объявлен сумасшедшим. «Светская чернь» уже подготавливала убийство Пушкина. Писатель-патриот, горячо любивший свою родину, Гоголь тяжело переживал отъезд, вернее — свое добровольное изгнание. Величайший художник-реалист, помогавший пробуждению народа, он вынужден был бежать от удушливой атмосферы николаевской реакции, от злобной травли «светской черни». Но порывая
- 201 -
с официальной царской Россией, Гоголь продолжал горячо любить свою родину и свой народ. Он и на чужбине полностью живет интересами и нуждами своей страны.
За границей Гоголь продолжает работу над своим величайшим созданием — поэмой «Мертвые души». Сюжет поэмы, как и сюжет «Ревизора», был подсказан ему Пушкиным. Гоголь начал свою работу над поэмой еще до окончания «Ревизора». В письме к Пушкину от 7 октября 1835 года он сообщал: «Начал писать „Мертвых душ“. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь» (X, 375).
Гоголь первоначально направился в Швейцарию. За границей писатель живет одной лишь мыслью о России, остро и болезненно переживая разлуку с родиной. Зиму Гоголь провел в Париже. Здесь он знакомится с знаменитым польским поэтом Мицкевичем. В Париже он также продолжает работу над «Мертвыми душами». В письме к Жуковскому от 12 ноября 1836 года он сообщал: «...я принялся за „Мертвых душ“, которых было начал в Петербурге. Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись... Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!.. „Мертвые“ текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве <Швейцария>, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом вся православная Русь» (XI, 73—74).
Париж со своей беспокойной и насыщенной политикой жизнью пришелся Гоголю не по душе. Он сторонится той напряженной атмосферы, которая характеризовала общественную жизнь Парижа в эти годы. Отрицательное отношение Гоголя к политической жизни Франции, а затем и Италии, где он провел особенно длительное время, весьма характерно для писателя. Он стремится отгородиться от «политики», его пугает нарастание революционного подъема, в причинах и характере которого ему трудно разобраться.
Западноевропейская жизнь была чужда Гоголю и тем, что в ней он видел враждебные ему черты капиталистического развития и угрозу революционных потрясений. Справедливо осуждая отрицательные, бесчеловечные стороны капитализма, Гоголь в то же время не видел на Западе тех передовых сил, которые могли ему противостоять, да и самый процесс капиталистического развития внушал ему отвращение и страх. Этим объясняется односторонность его критики капитализма, которому он противопоставлял идеализацию патриархального прошлого.
В Париже Гоголь получил глубоко потрясшее его известие о смерти Пушкина. «Никакой вести хуже нельзя было получить из России, — писал Гоголь Плетневу. — Всё наслаждение моей жизни, всё мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою...» (XI, 88).
После смерти Пушкина Гоголя все чаще посещают сомнения в правильности избранного им пути, одолевают те тревожные мысли и настроения, которые впоследствии и приводят его к душевному и идейному кризису. Пребывание за границей было вынужденным изгнанием писателя, оскорбленного и уязвленного травлей светской черни. Гибель Пушкина, убитого
- 202 -
ею, произвела на него особенно тягостное впечатление, и Гоголь решает задержаться за границей. В ответ на приглашение М. П. Погодина вернуться в Россию Гоголь пишет ему из Рима: «Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине! Или ты нарочно сделал такое заключение после сильного тобой приведенного примера, чтобы сделать еще разительнее самый пример. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд?.. Ты пишешь, что все люди даже холодные были тронуты этою потерею. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину?» (XI, 91).
Говоря об этой трагической судьбе Пушкина, о ненавистном ему «сборище просвещенных невежд», Гоголь в то же время подчеркивает свою беспредельную любовь к родине, угнетаемой и унижаемой «благородным аристократством», подлостью «безмозглого класса людей»: «О! когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство... Сердце мое содрагается при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что я бы не хотел решиться. Или ты думаешь мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли?
«Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могучие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный» (XI, 91—92).
Отрыв Гоголя от передовых деятелей общественной борьбы в России, а также круг знакомств, в котором вращался за границей писатель, не способствовали правильному решению вопросов, встававших перед ним. Роль в жизни Гоголя П. А. Плетнева, В. А. Жуковского, М. П. Погодина, Н. М. Языкова, С. П. Шевырева с этого времени все более и более возрастает.
Великий русский писатель подолгу жил в Италии и горячо полюбил итальянский народ, его культуру, его искусство, его поэзию. Италии и Риму Гоголь посвятил свою незаконченную повесть «Рим» (1839—1841).
В этой повести Гоголь дает сравнительную характеристику Парижа и Рима, в которой ярко отразились впечатления самого писателя от пребывания за границей. Париж — это центр Европы, наиболее полное выражение тех бурных стремлений, которые отличали политическую жизнь тех лет: «Вот он, Париж, это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещенья, мод..., размен и ярмарка Европы!» (III, 222, 223). С острым сарказмом показывает Гоголь социальные противоречия большого города, порожденные властью золота. Гоголь тонко подмечает в этой жизни большого европейского города лицемерие, парадный блеск, прикрывающий в сущности холодный эгоизм, черствую натуру собственника, показной лоск буржуазной культуры: «В движении торговли, ума, везде, во всем видел он <герой повести> только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился пред другим, во что бы то ни стало взять верх, хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку
- 203 -
«Ревизор». Первоначальный вариант. Сцены, не включенные Н. В. Гоголем в окончательную
редакцию. Копия с автографа с пометой Гоголя: «Две сцены, выключенные
как замедлявшие течение пиэсы».
- 204 -
магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание» (III, 227).
В своей критике новых буржуазных порядков Гоголь достигает большой прозорливости и меткости. Но, наряду с этой справедливой критикой, Гоголь идеализирует те черты патриархальности, которые он находил в Риме, городе подлинного и высокого искусства. В Риме, по мнению Гоголя, воплотилось то прекрасное, гармоническое и величественное начало, которого лишен был Париж с его суетной и ненасытной жаждой наслаждений и перемен. «И как пред этой величественной прекрасной роскошью, — восклицает Гоголь, говоря о своем герое, вернувшемся в Рим, — показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенья магазинов..., низведшая к ремеслу искусство» (III, 235—236). В этой патриархальности и поэзии прошлого Гоголь видит противодействие губительным и развращающим человека сторонам буржуазного общества, с его лицемерием, эгоизмом, жаждой обогащения. Ему были близки не только прекрасные памятники прошлого, но и сам итальянский народ, в котором он видел «что-то младенчески благородное», «чувство собственного достоинства», «высокое чувство справедливости» (III, 243—245).
Однако в своей идеализации прошлого Гоголь был далек от стремления к воскрешению средневековья, от идеализации реакционных сторон феодализма. В прошлом его привлекала та красота искусства, то величие творчества, которые были утрачены и поруганы в условиях торжества буржуазии. Древнее античное и народное искусство Италии противопоставляется им «меркантильности», измельчанию, приниженности искусства и культуры в буржуазном обществе.
Пробыв на чужбине около трех лет, Гоголь начинает тяготиться своим пребыванием за границей и осенью 1839 года приезжает в Россию для устройства своих семейных дел. В Петербурге Гоголь встречается с Белинским, с которым он познакомился еще в 1835 году. Встречи и беседы с Белинским ободрили Гоголя, способствовали укреплению в нем сознания его общественной роли писателя-сатирика, обличителя крепостнического общества. 10 января 1840 года Белинский писал К. С. Аксакову: «Поклонись от меня Гоголю и скажи ему, что я так люблю его, и как поэта, и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом».1
Однако, переехав в Москву, Гоголь попадает в окружение славянофилов и таких представителей «официальной народности», как Погодин и Шевырев. Погодин и Шевырев старались направить творчество Гоголя по желательному для них пути безобидного юмора, ослабить обличительный характер его сатиры, вытравить ее демократические тенденции. Они всячески стремились изолировать Гоголя от влияния Белинского, противопоставляя его демократической позиции свою идеализацию патриархальных начал.
9 мая 1840 года Гоголь отметил день своих именин, устроив обед в саду Погодина. Среди гостей был Лермонтов, читавший Гоголю отрывки из еще не напечатанной поэмы «Мцыри». Гоголь высоко оценил творчество Лермонтова, видя в нем подлинную народность. По поводу «Песни про купца Калашникова» Гоголь писал, что в этом произведении, созданном «в духе народном», «отгаданы дух и время» (VIII, 483), а о его прозе,
- 205 -
что «никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни; готовился будущий великий живописец русского быта...» (VIII, 402).
Обогащенный впечатлениями от пребывания на родине, Гоголь в мае 1840 года вновь едет в Италию. В Риме летом 1841 года была завершена работа над первым томом «Мертвых душ», а в октябре 1841 года Гоголь снова возвращается в Россию, чтобы напечатать свое новое произведение. Когда рукопись «Мертвых душ» попала в Московский цензурный комитет, то председатель его Голохвастов решительно воспротивился печатанию поэмы: «Нет, этого я никогда не позволю, — заявил он, по словам Гоголя, — душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья». Когда же ему разъяснили, что речь идет о ревизских душах, то «произошла еще бо̀льшая кутерьма», «этого и подавно нельзя позволить..., это значит против крепостного права». На уверения в том, что на крепостное право в поэме нет и намека, Голохвастов и другие цензоры, как рассказывает Гоголь в том же письме к Плетневу, указывали, что «предприятие Чичикова... есть уже уголовное преступление» (XII, 28—29).
Таким образом, о печатании поэмы в Москве не приходилось и думать. Встретившись с приехавшим в Москву Белинским, Гоголь просил его передать рукопись в петербургскую цензуру и помочь ее скорейшему прохождению. Белинский охотно согласился и отвез первый том «Мертвых душ» в Петербург. Цензор Никитенко под давлением литературных кругов пропустил поэму, но потребовал удаления из нее «Повести о капитане Копейкине», которую Гоголю пришлось совершенно переделать в угоду цензуре.
Белинский всячески стремился вырвать Гоголя из окружения Погодина и Шевырева, оказывавших вредное влияние на писателя. Эти представители реакционных кругов настолько «опекали» Гоголя, что даже самая встреча его с Белинским была устроена втайне от них. Сообщая из Петербурга о высылке рукописи «Мертвых душ», Белинский вновь обратился к Гоголю с призывом принять участие в «Отечественных записках», единственном журнале на Руси, — как писал Белинский, — «в котором находит себе место и убежище честное, благородное и... умное мнение».1 Гоголь не решился принять это предложение Белинского.
9
В конце мая 1842 года первый том «Мертвых душ» вышел, наконец, в свет. Поэма произвела большое впечатление, еще более сильное, чем «Ревизор». «„Мертвые души“ потрясли всю Россию», — писал еще при жизни Гоголя Герцен.2 Передовая часть общества приняла книгу с восторгом, реакционные круги, узнавшие себя в разных лицах поэмы, злобно осуждали писателя. «Многие помещики, — сообщал Гоголю Константин Аксаков, — не на шутку выходят из себя, и считают вас своим смертельным личным врагом».3 Выход в свет первого тома «Мертвых душ» был событием огромного общественного значения.
В «Мертвых душах» Гоголь показал в еще большей мере, чем в «Ревизоре», беспощадную, уничтожающую картину крепостного общества, глубокий
- 206 -
моральный распад, духовное и экономическое оскудение и разложение представителей господствующих классов. Писатель с поразительной силой вскрыл в своей эпопее не только отдельные безобразные проявления действительности той эпохи, но и разложение всего феодально-крепостнического строя в целом, его духовное и социальное гниение.
В этом центральном своем произведении Гоголь выступил на борьбу с главным врагом русского народа — крепостным правом и его многообразными проявлениями в социальной и духовной областях русской жизни. И хотя Гоголь не смог до конца понять взаимную связь всех звеньев крепостнического общества, а тем более дать революционное разрешение его противоречий, но показанная им правдивая типическая картина этого общества раскрыла перед народом всю губительность «мертвых душ» и страшную картину самодержавно-крепостнического строя.
В. И. Ленин в статье «Либеральное подкрашивание крепостничества», характеризуя крепостнические отношения, писал:
«Мы привыкли к тому, что все либеральные и часть народнических историков прикрашивают крепостничество и крепостническую государственную власть в России...
«Не хрупким и не случайно созданным было крепостное право и крепостническое поместное сословие в России, а гораздо более „крепким“, твердым, могучим, всесильным, „чем где бы то ни было в цивилизованном мире“».1
Тем важнее и плодотворнее было правдивое разоблачение мерзостей этого «поместного сословия», которое дал Гоголь в своей поэме. И хотя в поэме относительно мало показано положение крепостного крестьянства, но то ощущение страшного гнета, распада, которое возникает из картин жизни помещиков, изображаемых Гоголем, в достаточной мере явственно говорит и о положении народа.
В правдивых широко обобщенных образах Гоголь раскрыл картину экономического, социального и духовного кризиса крепостнического общества. В своем изображении крепостной России Гоголь выражал чувства и настроения широких народных масс, протестовавших против крепостничества. Именно потому Белинский и Герцен с таким восторгом приветствовали появление поэмы Гоголя, видя в ней беспощадное разоблачение крепостнического строя.
Герцен дал глубокую характеристику поэмы Гоголя: «После „Ревизора“ Гоголь обратился к поместному дворянству и выставил на показ этот неизвестный народ, державшийся за кулисами вдали от дорог и больших городов, хоронившийся в глуши своих деревень, — эту Россию дворянчиков... Благодаря Гоголю мы, наконец, увидели их выходящими из своих дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными и обжирающимися: рабы власти без достоинства и тираны без сострадания своих крепостных, высасывающие жизнь и кровь народа с тою же естественностью и наивностью, с какой питается ребенок грудью своей матери. „Мертвые души“ потрясли всю Россию».2
Замысел «Мертвых душ» подсказан был, как уже указывалось, Пушкиным. Рассказывая о том, что именно Пушкин заставил его перейти от веселого юмора ранних произведений к широкой социальной сатире, Гоголь писал: «Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение
- 207 -
небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: „Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!“». «На этот раз, — продолжает Гоголь, — и я сам уже задумался сурьезно, — тем более, что стали приближаться такие года, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего» (VIII, 439—440).
Иллюстрация:
«Мертвые души». Поэма Н. В. Гоголя. Титульный
лист первого издания. 1842.Сюжет «Мертвых душ» давал возможность широкого социального обобщения, выражал глубокие противоречия действительности, позволяя писателю показать в своем произведении «всю Русь».
В письме к Жуковскому из Парижа от 12 ноября 1836 года Гоголь подчеркивал грандиозность своего замысла: «...какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!» (XI, 74). Еще находясь под впечатлением резкой хулы реакционеров по адресу «Ревизора», он с горечью заключал: «Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками» (XI, 75). Если в «Ревизоре» Гоголь нанес основной удар по чиновничье-бюрократической клике, то «новым сословием», которое с беспощадной правдивостью было показано писателем в его поэме, явился помещичье-крепостнический класс.
«Мертвые души» — это хозяева тогдашнего государства, жестокие и бездушные владельцы миллионов крепостных крестьян, безжалостно эксплуатирующие их. «„Мертвые души“, — писал Герцен, — это заглавие само носит в себе что-то, наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti1 — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу».2
- 208 -
В поэме Гоголя, как в фокусе, собрано было все то прогнившее, отвратительное, мертвенное, что мешало развитию народной России. Этим объясняется и то впечатление, которое произвело на Пушкина чтение Гоголем первых глав поэмы: «Боже, как грустна наша Россия!» — воскликнул Пушкин (Гоголь, т. VIII, 294). Позже, в 1846 году, по поводу своей поэмы Гоголь сказал: «Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже всё поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости...» (VIII, 298). Этим и определился широкий социальный замысел поэмы, глубокая и бесстрашная критика действительности.
В начале седьмой главы «Мертвых душ» Гоголь говорит о горькой судьбе писателя, «дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи!» (VI, 134). В этом и был писательский подвиг Гоголя, всю свою жизнь руководившегося мыслью о служении народу.
Гоголь раскрыл в «Мертвых душах» перед русским читателем обреченность и гнилость крепостнического общества, показал страшный мир дворянского поместья, пропасть, разделявшую дворянское общество и народ. Потому-то его поэма и была встречена злобной хулой реакционной части общества. Полевой, Сенковский и Булгарин всячески стремились опорочить Гоголя и доказать, что его поэма не имеет ничего общего с русской действительностью. В свою очередь «друзья» Гоголя из славянофильского лагеря, вроде К. Аксакова и С. Шевырева, пытались умалить обличительное и социальное содержание гениального произведения, уверяя, что Гоголь вовсе не стремился в нем к сатирическому разоблачению крепостнической России.
Лишь Белинский глубоко и правильно понял и высоко оценил поэму Гоголя, увидев в ней «творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно-художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, — и в то же время, глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое» (VII, 253).
Это широкое социальное содержание поэмы отметил и молодой Чернышевский, записав в своем дневнике по поводу «Мертвых душ»: «Велико, истинно велико! ни одного слова лишнего, одно удивительно! вся жизнь русская, во всех ее различных сферах исчерпывается ими...» (I, 69).
Разоблачительная сила образов Гоголя — в их жизненной правде и в то же время в глубокой социальной типичности. В каждом из его «героев» типически обобщены и заострены наиболее существенные, основные черты и стороны крепостнического общества, всего того мертвого, косного, уродливого, безобразного, что мешало движению вперед, сковывало и давило жизненные силы страны. Принцип типического изображения определял и художественное своеобразие манеры Гоголя как художника-реалиста.
Гоголь рисует галерею «мертвых душ», отвратительных своим моральным уродством представителей поместного дворянства, располагая их в порядке все большего безобразия, все большей потери человеческого облика. Тунеядцем, «небокоптителем» является приторно сладкий Манилов, предающийся нелепым и бесплодным мечтаниям. Бесцельное прожектерство,
- 209 -
сентиментальное мечтательство Манилова являлись выражением той праздности, того экономического и духовного паразитизма, который порождался крепостническим строем.
Н. В. Гоголь, читающий «Мертвые души». Рисунок
Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1839.Ноздрев во многом родствен Хлестакову, однако есть и существенная разница между ними. Хлестаков охотно срывает «цветы удовольствия», но он труслив и довольствуется внешним эффектом, им производимым. Ноздрев же хищник, нагло и бесцеремонно вмешивающийся в чужие дела. В противоположность Манилову, Ноздрев задорен, активен, напорист. Однако его бестолковая энергия так же бесцельна и бессмысленна, как и жадное стяжательство Плюшкина. Ноздрев не признает никаких принципов человеческого общежития: он шулер, лжец, мошенник, демагог, он беспринципен и подл, нагл и труслив одновременно, однако все это не спасает его от разорения. Его имение в полном расстройстве, сам он вечно без средств и ведет жизнь, которая, несомненно, закончится полным крахом его расстроенного хозяйства.
Ноздрев — типичный представитель безвременья и реакции, когда наглость и авантюризм подобных «героев ярмарок» безнаказанно распускались пышным цветом. Характеризуя подобных представителей крепостнической реакции, В. И. Ленин заклеймил их словами Герцена: «Дворяне
- 210 -
дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество „пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников...“».1 Под эту характеристику полностью подходит и Ноздрев, в котором Гоголь уловил и типизировал самые отвратительные черты дворянской реакции.
Жаргонная пестрота и грубость речи Ноздрева с особенной наглядностью передают его наглую самоуверенность завсегдатая ярмарок, картежника и собачника, дорисовывая его социальной облик, порожденный крепостнической провинциальной средой.
Характерной фигурой патриархального помещичьего уклада является Коробочка. Если в «Старосветских помещиках» сатирическое изображение Пульхерии Ивановны у Гоголя было смягчено чувством жалости и мягкой иронии, то, показывая «дубинноголовую» Коробочку, он не знает снисхождения. Жадность, скупость, мелочность и крохоборство, недоверчивость и умственная тупость отличают Настасью Петровну, одну «из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемного деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов» (VI, 45). Коробочку отличает прежде всего ее крепкая собственническая хватка. Ее мелочная бережливость и скопидомство хотя и не перешли еще в такую болезненно-патологическую скупость, как у Плюшкина, но в сущности выражают то же духовное уродство человека, охваченного жаждой наживы, тупым эгоистическим стремлением собственника.
Образ хлопотливой стяжательницы «дубинноголовой» Коробочки для Гоголя не ограничен сферой мелкопоместного круга. В замечательном авторском отступлении, навеянном мыслями о Коробочке, Гоголь дает глубокую и едкую характеристику и великосветским Коробочкам аристократического общества, подчеркивая широкое типическое значение созданного им образа.
В образе Собакевича Гоголь с огромной художественной силой и обобщенностью запечатлел тип алчного стяжателя, кулака и мракобеса. Если Ноздрев весь нараспашку, стремится к скандальной и бурной «деятельности», то Собакевич, наоборот, избегает общества, он нелюдим, предпочитает действовать втихомолку. Ему ненавистна самая мысль о «просвещении», всякая тень прогресса. Даже среди благонамеренных чиновников города и окрестных помещиков он выделяется своей заскорузлой ненавистью ко всяким «новшествам», своим невежеством и приверженностью к неизменно заведенному «порядку». В разговоре с Чичиковым Собакевич выступает с безапелляционным приговором по адресу решительно всех «отцов города», считая их, правда с полным основанием, «разбойниками» и «мошенниками».
Грубость и бесцеремонность Собакевича, его мертвая хватка собственника, его кулацкая жадность и ненависть ко всякому прогрессу и просвещению делают из него законченного тупого и жестокого реакционера, упрямо держащегося за старину и цинично грабящего и надувающего всех, кто имеет несчастье от него зависеть. Недаром в образе Собакевича Ленин видел прежде всего типическое изображение тупых хранителей реакционных «устоев», душителей всякой мысли, наглых приспешников реакции. С образом Собакевича связан у Ленина типический облик помещика-черносотенца. Говоря в своей работе «Развитие капитализма в России» о том, что «крестьяне массами бегут из местностей с наиболее патриархальными хозяйственными отношениями», В. И. Ленин в «хоре» осуждающих их
- 211 -
«голосов из „общества“» выделяет голос Собакевича: «„мало привязаны!“ — угрожающе рычит черносотенец Собакевич».1
Последним представителем этой галереи «мертвых душ» является Плюшкин, стоящий на самой низкой ступени человеческого падения. Страсть к стяжательству привела Плюшкина к полной утрате человеческого облика. Даже по своей внешности Плюшкин представляет чудовищную карикатуру на человека.
В подчеркнутой заостренности этого образа Гоголь с особенной силой показывает загнивание и распад феодально-крепостнического строя. Образ Плюшкина вырастает в отвратительный символ дворянского разложения, оскудения и распада крепостнического хозяйства, духовного и морального вырождения поместного общества.
Все окружающее Плюшкина являет признаки разорения, нищеты, запустения. Сам Плюшкин имел столь нищенский и убогий вид, что Чичиков принял его за дворовую бабу. Соседние крестьяне прозвали его метким и злым прозвищем «заплатанный». Гоголь называет его «прорехой на человечестве», подчеркивая этим широкую обобщенность образа Плюшкина, не только как представителя дворянского разорения, но и той чудовищной алчности и скупости собственника, которая извращает природу человека, делает Плюшкина символом собственнического стяжательства.
В «Мертвых душах» Гоголь разоблачал ту косность, дикость, отсталость, которая характеризовала господство крепостников-помещиков, их звериную жажду наживы, безграничную эксплуатацию народных масс. «Герои» поэмы Гоголя представляют целую галерею «мертвых душ» крепостнического общества, отражая различные стороны его социальной и духовной жизни и выступая в поэме во все вырастающей градации своей «пошлости».
Галерея уродов, представителей уходящего мира, лишенных всего человеческого, с поразительной наглядностью выражала типические черты застоя и угасания господствующего класса, с такой уничтожающей силой изображенные в поэме.
Особое место в поэме занимает главный герой ее — Чичиков. Он является как бы воплощением всей той пошлости, хищничества, нравственной пустоты, цинизма, угодливости и всех прочих отвратительных качеств, которые создавались и культивировались всем строем помещичье-крепостнического общества того времени. В лице Чичикова Гоголь показал «приобретателя» нового типа, «рыцаря копейки», лицемерного и опасного хищника, порожденного переходным временем, когда старые патриархальные методы ограбления и наживы сменялись новыми, более гибкими. Ловкий и наглый аферист Чичиков проникнут духом карьеризма и спекуляции, сохраняя в то же время всю благовидную внешность чиновничье-дворянской среды, которая его породила.
Чичиков для Гоголя — наиболее полное воплощение и выражение «пошлости пошлого человека», холодного и расчетливого эгоизма, нравственного ничтожества и духовной пустоты, являвшихся знамением времени, ядовитой отравой, принесенной новыми буржуазно-капиталистическими отношениями. Циничная хватка дельца, безудержная жажда наживы и обогащения, ловкость и плутовство авантюриста, бессердечный эгоизм в Чичикове прикрыты лицемерной маской «приятности», приспособляемости к любым людям и обстоятельствам, фальшивым добродушием и угодливым краснобайством. При всем ничтожестве своего нравственного облика
- 212 -
Чичиков всюду неизменно втирается в доверие и под прикрытием лицемерной угодливости совершает свои нечистоплотные дела. Недаром В. И. Ленин говорил про «увертливого Чичикова»,1 отмечая этим определением прежде всего его беспринципность, гибкость, ловкое подлаживание.
Показывая центрального своего героя — Павла Ивановича Чичикова, Гоголь создает сложный и многогранный характер, который, однако, не открывается перед читателем сразу. На протяжении всего первого тома Гоголь шаг за шагом прослеживает и разоблачает самые мельчайшие проявления его подлой, эгоистической сущности. Образ Чичикова раскрывается в действии в продолжение всего повествования, и неслучайно поэтому «биография» Чичикова дается в конце, как бы завершая и объясняя то, о чем читатель уже догадался из поступков и всех душевных движений «героя».
Образ хитрого, лицемерного хищника, афериста, грязного дельца и приобретателя, всегда целеустремленного, внутренне собранного в своем стремлении к обогащению, возникает из тщательного изображения его жестов, мимики, повадок, манеры говорить. Гоголь все время пронизывает повествование иронией, подчеркивая свое отрицательное отношение к герою, к его лицемерию, разоблачая ложную значительность его поступков и слов, показывая, что за любезными манерами и «приятной» наружностью Павла Ивановича скрывается хищник, циничный и расчетливый приобретатель. В конце первого тома Гоголь выносит и решительный приговор Чичикову и в то же время раскрывает огромное типическое значение этого образа: «Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два-три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых» (VI, 241—242).
Н. Г. Чернышевский писал о щедринском Порфирии Петровиче из «Губернских очерков», отмечая в нем близкое родство с гоголевским героем: «В каждом обществе есть люди с дурным сердцем, с душой решительно низкою... Таков, например, Порфирий Петрович, принадлежащий к семейству Чичиковых, но отличающийся от Павла Ивановича Чичикова тем, что не имеет его мягких и добропорядочных форм и более Павла Ивановича покрыт грязью всякого рода... Этих людей защищать нельзя. Они действительно злы и ненавистны» (IV, 267).
Между Павлом Ивановичем Чичиковым и Порфирием Петровичем действительно есть много общего и прежде всего эта «низость души», которую отметил Чернышевский. Чичиков низок и подл во всех своих поступках и побуждениях. Вся жизнь Чичикова построена на лжи и обмане, определяется беспрестанной погоней за рублем, заботой о собственном преуспеянии.
Чичиков, Манилов, Собакевич живут и действуют в конкретной социальной атмосфере, которая передана с необычайной точностью.
- 213 -
«Мертвые души». Канцелярия. Гравюра на дереве Е. Е. Бернардского
по рисунку А. А. Агина. 1846.
- 214 -
Уже картина губернского провинциального города при въезде в него Чичикова с удивительной полнотой передает мертвенную и затхлую атмосферу тогдашней жизни, с ее ничтожными интересами и сплетнями. Недаром Герцен по прочтении поэмы воскликнул: «Грустно в мире Чичикова».1
Говоря об изображенном им губернском городе в первой части поэмы, Гоголь так определил основную идею, выраженную в обобщенных художественных образах: «Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы, как всё это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени...». Более того, Гоголь стремился, по его словам, показать «как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью» (VI, 692).
Язвительно дано описание бала у губернатора, на котором, словно на выставке, показан «цвет» провинциального общества, с «блистающей гирляндою дам» «просто приятных» и «приятных во всех отношениях». Гоголь жестоко высмеивает эту блистающую пошлость, эту фальшивую видимость благополучия, прикрывающие отвратительный и страшный облик крепостнического общества.
Раздосадованный пьяной болтовней Ноздрева, Чичиков проговаривается об истинной цене этой показной роскоши: «Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! Эк штука: разрядились в бабьи тряпки! Невидаль: что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того, чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидоровна, что на почтмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух тысячу рублей» (VI, 174).
Фальшь, показное радушие прикрывают звериные, хищнические нравы, духовное убожество и маразм, хамство и корыстолюбие этих с виду добродушных представителей дворянского и чиновничьего общества. Все представители этого чиновнического аппарата сверху донизу выступают как гнусные и алчные хищники. Таков чиновник губернской канцелярии Иван Антонович «кувшинное рыло» — законченный и типический образ наглого взяточника и вымогателя.
Гоголь разоблачал все уродство, всю грязь жизни господствующих верхов, для того чтобы показать то зло, которое они приносили стране. Его ненависть к «мертвым душам» царской крепостнической России определялась его любовью к народу, к России народной. Обличая и разоблачая крепостников-помещиков и чиновников, Гоголь тем самым становился на защиту народа. Образ родины и образ народа проходят через всю поэму, определяя ее идейную направленность, остроту сатирического изображения отрицательных персонажей, возникая как утверждающее начало в лирических отступлениях поэмы.
Герцен справедливо усмотрел в поэме Гоголя не только «историю болезни», не только «крик ужаса и стыда», но и протест, не только «горький упрек современной Руси», но и веру писателя в свой народ, в его живые творческие силы. «Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность».2
- 215 -
«Мертвые души». Въезд Чичикова в губернский город. Гравюра на дереве
Е. Е. Бернардского по рисунку А. А. Агина. 1846.
- 216 -
Писатель увидел не одни лишь «мертвые души» николаевской России, всех этих Собакевичей, Ноздревых, Плюшкиных. За этим страшным миром крепостной действительности Гоголь почувствовал и биение здорового народного пульса, увидел живую душу России — ее народ. Это и придало разящую силу его сатире, наполнило поэму патриотическим и оптимистическим пафосом, который с такой проникновенностью сказался там, где писатель говорит о своей родине, о своем народе, таящем в себе огромные подспудные силы, связанные и скованные крепостническим режимом.
«Мертвые души». Чичиков у Плюшкина. Гравюра
на дереве Е. Е. Бернардского по рисунку
А. А. Агина. 1846.Помещичьей и чиновничьей России Гоголь противопоставил в своей поэме образ родины. Во имя этой живой народной России писатель и подвергает осмеянию и обличению «мертвые души» помещиков-крепостников.
И хотя Гоголь не создал развернутых образов представителей народа, подобно типическим портретам помещиков, но народ, крестьянская масса, присутствует все время в его поэме как действующая сила в кратких, но характерных зарисовках отдельных его представителей, таких, например, как могучий волжский бурлак Абакум Фыров.
Гоголь с огромной чуткостью уловил и то нарастание народного недовольства, которое так явственно выступало в смутных слухах и толках чиновников города. Рассказывая о появлении панических слухов, толков, опасений как о явлении типическом для тогдашней жизни, Гоголь передает самую атмосферу, в которой жили помещики и бюрократия, наполненную тревожным ожиданием. Все время чувствуется стоящая за порогом помещичьих домов, за пределами тусклой и ничтожной жизни провинциальных городков, чей покой охраняется всяческими Держимордами, угрюмая и бурлящая, народная крестьянская Русь, с ее клокочущей, с трудом сдерживаемой ненавистью к помещичьему классу. Как огневые зарницы вспыхивают на страницах «Мертвых душ» эпизодические, но яркие сцены крестьянского недовольства, озаряющие, хотя и на мгновение, всю безрадостную и мрачную картину умирания и распада помещичье-бюрократического общества.
Такова девятая глава поэмы, повествующая о переполохе в губернском городе в связи с похождениями Чичикова. Нарастающие нелепые слухи,
- 217 -
беспокойство доселе благополучных обывателей города N., — все это передает ту атмосферу тревоги, которая охватила тогдашнюю дворянскую и чиновничью Россию в связи с усилением крестьянских волнений. В этих разговорах, вскрывающих с необычайной резкостью и смелостью как настроения дворянского общества, так и недовольство крестьян, Гоголь не только не обходит вопросов крепостного права, но и прямо откликается на них. Злая ирония, с которой он говорит как о мерах «военной жестокости», так и о «кротости» предложений губернских «политиков», лучше всего свидетельствует, что он прекрасно понимал помещичий антинародный характер этих предложений. В толках и опасениях чиновников Гоголь передал настроения испуга перед народным недовольством, охватившим господствующие классы: «Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их устрашала необыкновенно»; стали сильно «опасаться, чтобы не произошло даже бунта, особенно между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитан-исправника и земской полиции... Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова» (VI, 458—459).
Гоголь иронически добавляет при этом, что «мнения были всякого рода. Были такие, которые уж чересчур отзывались военною жестокостью и строгостью, едва ли не излишнею, были, однако же, и такие, которые дышали кротостью. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может быть среди своих крестьян некоторым образом отцом, ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалой об Ланкастеровой системе взаимного обучения» (VI, 459). С едкой иронией говорит здесь Гоголь о дворянских «либералах», которые возлагали свои упования на «благодетельное просвещение» и рассуждали подобно «вольнодумцу» почтмейстеру.
Проявление крестьянского недовольства, нарастание гнева против помещиков особенно отчетливо передано в рассказе об убийстве крестьянами сельца Вшивая-спесь и сельца Боровки заседателя земской полиции Дробяжкина. Это «происшествие», взволновавшее чиновников города, является прямым отражением повсеместных крестьянских выступлений и бунтов, не раз кончавшихся убийствами ненавистных помещиков и их ставленников. Дробяжкин заслужил особую ненависть к себе своими любострастными преследованиями деревенских баб и девок. Гоголь рассказывает, что крестьяне «снесли с лица земли» «земскую полицию в лице заседателя». Дело об «убиении» чиновника постарались «замять», так как неизвестно было, «кто из крестьян именно участвовал, а всех их много», но факт расправы возмущенных крестьян с полицией тревожил испуганное воображение чиновников: «...земскую полицию нашли на дороге, мундир или сертук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было» (VI, 194). История о Дробяжкине рассказана Гоголем как типическая история, она звучит как грозное предостережение, напоминая о том подлинном настроении крестьянских масс, которое сказалось не в холуйской «философии» Селифана, а в проявлениях крестьянского гнева против помещиков.
Выражением глубокого недовольства широких масс, того стихийного, еще не оформившегося протеста, который хотя и смутно, но был уловлен и передан Гоголем, — является и «Повесть о капитане Копейкине». Повесть эта не была пропущена цензурой, и писателю пришлось написать совершенно иной подцензурный вариант.
- 218 -
В «Повести о капитане Копейкине» Гоголь выступил с резкой критикой и обличением бюрократических верхов. Инвалид Отечественной войны 1812 года капитан Копейкин пытается добиться справедливости и помощи. Однако он встречается с бездушным издевательским отношением к себе со стороны министра, раздраженного его просьбами. За свое непочтительное отношение к власти Копейкин препровождается по этапу в Сибирь, а затем, по слухам, дошедшим до напуганных чиновников, он якобы становится атаманом разбойников в рязанских лесах. В воображении чиновников капитан Копейкин — своего рода знамение времени, выражение тех угрожающих симптомов «непокорства», которые проявлялись в народе. Характерно, что образ капитана Копейкина подсказан был Гоголю народной песней.
«Мертвые души». Чичиков. Гравюра на дереве
Е. Е. Бернардского по рисунку А. А. Агина.
1846.Гоголя волнует и тревожит судьба народа, его будущее. Этой тревогой, а вместе с тем, и горячей верой в народ, в его мощь, в его великое будущее проникнута вся поэма. Перечисляя крестьян, купленных Чичиковым, Гоголь с гордостью рассказывает о них как о великих тружениках, как о людях широкого душевного размаха. Здесь и «богатырь» плотник Степан, который «в гвардию годился бы», замечательный мастер, честный труженик, который «все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы» и «притаскивал всякой раз домой целковиков по сту». Или сапожник Максим Телятников, бесхитростная история жизни которого тут же рассказана — и учение у немца, бившего его ремнем, и то, что Телятников стал «чудо, а не сапожник», и попытку его уйти на оброк и разбогатеть, и безрадостный конец — такова типичнейшая судьба русского крестьянина, оброчного мастерового (VI, 136, 137). Во всех этих характеристиках подчеркнута одаренность, терпение, удаль и в то же время безвыходность положения крепостного человека, все попытки которого выбиться из крепостной неволи кончались кабаком или гибелью. С горьким чувством восклицает Гоголь, рисуя печальную судьбу извозчика, отпущенного на оброк: «Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!» (VI, 137).
Особенной поэтической силы и пафоса достигает Гоголь, рисуя образ крестьянина, сбежавшего от крепостной неволи, — бурлака Абакума Фырова,
- 219 -
«взлюбившего вольную жизнь». Этот образ приобретает обобщенный символический смысл, передавая вольнолюбивую и широкую натуру, талантливость и могучую природу русского человека. Здесь Гоголь от иронически насмешливого отношения к своим героям, от горького смеха сквозь слезы переходит к изображению подлинно героического образа. Меняется самый стиль и слог повествования, приобретая ту эпическую силу и яркость, которые напоминают героический эпос «Тараса Бульбы».
«Мертвые души». Обложка, рисованная Н. В. Гоголем. 1846.
Образ России, плененной враждебными силами помещичьей и чиновничьей нечисти, встает со страниц поэмы Гоголя в ее «могучем пространстве», согретый пламенной любовью к ней писателя-патриота.
Высокие идеалы писателя, его понимание своего писательского долга, величественная идея патриотического служения народу, с такой силой высказанные Гоголем в «Тарасе Бульбе» и в лирических отступлениях «Мертвых душ», определяют и обличительный пафос его сатиры. Создавая свои произведения, Гоголь утверждал в них положительный идеал, то прекрасное и могучее начало, которое он видел в русском народе.
- 220 -
Этот пафос утверждения положительного начала, народного характера, русского богатырства звучит в лирико-эпических «отступлениях» первого тома «Мертвых душ», раскрывающих с такой силой и прозорливостью героизм и широту русского национального характера, «богатырство» русского народа.
В необъятных просторах России, в ее шири видит писатель воплощение широкого размаха характера русского народа, его мужества и свободолюбия. Рисуя картину России, Гоголь говорит об этом необъятном просторе, порождающем богатырский характер русского человека, его устремленность к будущему: «Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» (VI, 221).
В «Мертвых душах», — писал Белинский, — Гоголь «стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова. При каждом слове его поэмы читатель может говорить: „Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!“. Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражении автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы...» (VII, 254—255).
Образ родины, возникающий в лирических отступлениях поэмы, — это образ России народной, России будущего. Именно этот образ родины возникает из знаменитого лирического уподобления Гоголем России несущейся «тройке птице». Заключительная картина первой части «Мертвых душ» полна глубочайшего смысла и значения. Исчезающая вдали тройка с Чичиковым словно уносит с собой всю неприглядную «тину мелочей», страшный в своей животной неподвижности мир Собакевичей и Плюшкиных. И на ее месте вырастает уже поэтически прекрасный образ России, стремительно несущейся вперед: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи» (VI, 246).
Эта «птица тройка» олицетворяет в поэме все лучшее, смелое, широкое, могучее и прекрасное, что таится в народе, составляет сущность национального русского характера. Поэтому столь величественно прекрасны пророческие слова Гоголя, заключающие первый том поэмы: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства» (VI, 247).
Гоголь смог передать лишь самое стремление русского народа вперед, пробуждение в нем скованных сил, но определить и увидеть то направление, по которому должно идти это движение вперед, он не смог. Чувствуя всей силой гениального художника пробуждение народа, веря в его могучие, творческие силы, Гоголь в условиях своей эпохи не смог увидеть конкретную
- 221 -
историческую перспективу. Поэтому романтически неопределенны и образы, выражающие это движение.
«Мертвые души». Повесть о капитане Копейкине. Гравюра
на дереве Е. Е. Бернардского по рисунку А. А. Агина.
«Иллюстрированный альманах». 1848.И стрелою несущаяся тройка и кони, «заслышавшие с вышины знакомую песню», и «чудным звоном заливающийся колокольчик» — все эти поэтические образы передают лишь стихийное, еще не осознанное самим автором начало «движения». Оттого и нет ответа на вопрос, поставленный Гоголем: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ?» (VI, 247). Всем сердцем приветствуя это стремительное движение России вперед, веря в великое предназначение ее народа, Гоголь на поставленный им вопрос не смог дать ответа.
Недостаточное внимание обращено на включенную Гоголем в конце первого тома полемику с «так называемыми патриотами» и связанную с нею «притчу» о Кифе Мокиевиче и сыне его Мокии Кифовиче. Гоголь здесь резко полемизирует с тем официальным «квасным патриотизмом», который свойствен был как правительственным кругам, так и славянофилам. Давая заранее отпор всем тем реакционным силам, которые в свое
- 222 -
время выступали против «Ревизора», упрекая писателя в искаженном изображении действительности, Гоголь противопоставляет им подлинный патриотизм, основанный на любви к народу и родине, патриотизм, направленный на обличение и борьбу с теми темными сторонами действительности, которые препятствуют развитию народных сил.
«Еще падает обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: „Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это всё, что ни описано здесь, это всё наше, — хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты!“» (VI, 243).
«Мертвые души» — вершина творчества Гоголя. Эта грандиозная эпопея, охватывающая, по выражению самого писателя, «всю Русь», оказала исключительно сильное воздействие на дальнейшее развитие русской литературы. Национальное своеобразие «Мертвых душ» сказалось прежде всего в идейной насыщенности поэмы Гоголя, в ее передовой, демократической направленности, в беспощадном осуждении не только крепостнического режима, но и самых отвратительных проявлений духовного и морального разложения эксплуататорского общества, порабощающего и уродующего личность человека.
Не менее важно отметить и художественное новаторство «Мертвых душ». Наряду с Пушкиным Гоголь являлся «отцом» русской прозы, как сказал о нем Н. Г. Чернышевский (III, 13). Гоголь создал новые национально-своеобразные и высоко художественные формы реалистического, социального романа, который изображал не только личную судьбу человека, не борьбу индивидуума с обществом за право на личную жизнь, что прежде всего характеризовало западноевропейский роман того времени, но судьбы общественных групп, общее, типическое начало. Этим определялась и новизна композиции произведения, позволявшей включить в роман самых различных героев, показать «всю Русь». О таком новом типе романа позже писал М. Е. Салтыков-Щедрин. В отличие от исчерпавшего себя «семейного романа» Гоголь, по словам Щедрина, являлся зачинателем романа социального: «В этом случае я могу сослаться на величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности».1
Гоголь не случайно назвал «Мертвые души» поэмой, подчеркнув тем самым лирико-эпический характер своего произведения.
Говоря о своеобразии такого жанра, как сатирическая эпопея, Гоголь в своей «Учебной книге словесности» писал:
«В новые веки произошел род повествовательных сочинений, составляющих как бы средину между романом и эпопеей, героем которого бывает хотя частное и невидное лицо, но однако же, значительное во многих отношениях для наблюдателя души человеческой. Автор ведет его жизнь сквозь цепь приключений и перемен, дабы представить с тем вместе вживе верную картину всего значительного в чертах и нравах взятого им времени,
- 223 -
Н. В. Гоголь среди русских художников в Риме. С дагерротипа Перро. 1845.
- 224 -
ту земную, почти статистически схваченную картину недостатков, злоупотреблений, пороков и всего, что заметил он во взятой эпохе и времени достойного привлечь взгляд всякого наблюдательного современника...» (VIII, 478—479).
К числу таких «малых эпопей» Гоголь относил «Дон Кихота» Сервантеса и «Неистового Роланда» Ариосто, но прежде всего под это определение подходит поэма самого Гоголя.
Сюжет поэмы, основанный на разъездах Чичикова по России с целью покупки «мертвых душ» крепостных крестьян, давал Гоголю большую свободу для включения в свое повествование самых разнообразных эпизодов и персонажей. «Пушкин находил, — писал впоследствии сам автор, — что сюжет „Мертвых душ“ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров» (VIII, 440).
Подобно тому, как это было и с «Ревизором», реакционная критика встретила поэму Гоголя грубой бранью. Граф Ф. Толстой («американец») заявлял в обществе, что Гоголь «враг России, и что его следует в кандалах отправить в Сибирь».1 Н. Полевой в статье, помещенной в «Русском вестнике», отказывал Гоголю в какой-либо верности изображенных им картин действительности, видя в «Мертвых душах» лишь карикатуру и неправдоподобное изображение «грязных» сторон жизни.2 Сенковский писал в «Библиотеке для чтения», что в поэме Гоголя лишь «зловонные картины» и «грязь на грязи».3
Несколько иной характер имели отзывы друзей Гоголя из славянофильского лагеря. Если Полевой объявил в своей статье, что «Мертвые души» не имеют никакого отношения к русской действительности, являясь злостной выдумкой автора, то К. Аксаков и С. Шевырев в своих статьях о поэме Гоголя пытались всячески преуменьшить ее сатирическое, разоблачительное значение. К. Аксаков в брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя», а затем в статье, помещенной в «Москвитянине», пытался истолковать поэму в славянофильском духе, как апофеоз русской жизни, как поэтизацию действительности. Он видел в поэме Гоголя «возрождение древнего эпоса», новую «Илиаду», отказываясь признавать в «Мертвых душах» критическую сторону. Для К. Аксакова поэма Гоголя лишь «примирение» с жизнью, утверждение ее положительного начала. С. Шевырев в свою очередь договорился до того, что даже в Селифане и Петрушке готов был видеть положительных героев, выражение народного характера.
Для Белинского «Мертвые души» — прежде всего разоблачение действительности, отрицание крепостнического строя. Пафос поэмы Гоголя, ее идейный смысл Белинский видел «в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом...» (VII, 444).
Отмечая противоречия между уродливыми социальными формами, которые сковывали развитие русской жизни, с положительным, жизненным, «субстанциальным» началом, заложенным в народе, в национальном характере русского человека, Белинский тем самым раскрывал глубокий идейный демократический смысл поэмы Гоголя.
Однако в положительном идеале русского «богатырства», утверждаемом Гоголем в первом томе «Мертвых душ», уже намечались известные тенденции той двойственности мировоззрения писателя, которые
- 225 -
получили свое дальнейшее развитие впоследствии, так отрицательно сказавшись на втором томе поэмы. Противопоставляя крепостнической действительности, «мертвым душам» помещичьего общества — народ, его, говоря словами Белинского, «субстанцию», его национальную сущность, Гоголь, однако, не определяет конкретного и исторического характера этой «субстанции».
В обещаниях Гоголя показать в дальнейшем «мужа, одаренного божественными доблестями», в неясности представлений писателя о сущности национального характера и о будущих путях развития России Белинский увидел основание для тревоги и тогда же высказал свои сомнения:
«Не зная, как, впрочем, раскроется содержание „Мертвых душ“ в двух последних частях, — писал Белинский, — мы еще не понимаем ясно, почему Гоголь назвал „поэмою“ все произведение, и пока видим в этом названии тот же юмор, каким растворено и проникнуто насквозь это произведение. Если же сам поэт почитает свое произведение „поэмою“, содержание и герой которой есть субстанция русского народа, — то мы не обинуясь скажем, что поэт сделал великую ошибку: ибо, хотя эта „субстанция“ глубока, и сильна, и громадна (что́ уже ярко проблескивает и в комическом определении общественности, в котором она пока проявляется и которое Гоголь так гениально схватывает и воспроизводит в „Мертвых душах“), однако субстанция народа может быть предметом поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только...» (VII, 433—434).
Возражая здесь против неопределенности в понимании и истолковании сущности русского народа и его «субстанции», Белинский видел именно в этой неопределенности и основной недостаток поэмы — неопределенность самого мировоззрения писателя, который не в состоянии поэтому ответить на вопросы, поставленные действительностью о путях и роли русского народа в условиях его порабощения феодально-крепостническим строем.
10
5 июня 1842 года Гоголь вместе с поэтом Н. М. Языковым выехал за границу, направляясь в Рим. Там он закончил подготовку к печати собрания своих сочинений в четырех томах и выслал его в Петербург Н. Я. Прокоповичу. В январе 1843 года это первое собрание сочинений Гоголя вышло из печати. В нем впервые были опубликованы такие произведения, как «Женитьба», «Игроки», «Театральный разъезд», драматические сцены и отрывки («Утро делового человека», «Лакейская» и др.), «Шинель», новые редакции «Тараса Бульбы» и «Портрета». Этим изданием Гоголь как бы подводил итог сделанному им за эти годы.
Хлопоты по изданию «Мертвых душ», ожесточенные споры при их появлении — все это вновь, как и при постановке «Ревизора», обострило расхождение писателя с окружающим его обществом, возбудило у Гоголя сомнения в правильности избранного им пути. Незадолго до выхода в свет первого тома «Мертвых душ» Гоголь в письме к Плетневу сообщал о своем намерении продолжить работу над поэмой, которую он считал теперь главным делом всей своей жизни: «Ничем другим не в силах я заняться теперь, кроме одного постоянного труда моего. Он важен и велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь предстать на свет (если только будет конец ее непостижимому странствованию по цензурам). Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне
- 226 -
строится» (XII, 46). В последующих частях «Мертвых душ» Гоголь замышлял дать широкую картину нравственного перерождения своих героев, показать Россию будущего.
В том же письме Гоголь уверял, что в «самой природе» его якобы «заключена способность только тогда представлять себе живо мир», когда он «удалился от него». «Вот почему о России я могу писать только в Риме» (XII, 46). Гоголь глубоко заблуждался в этом. Отрыв от России, пребывание за границей пагубно сказались на дальнейшем творчестве писателя, обрекли его на мучительное одиночество.
Сороковые годы — переходный период от первого этапа освободительного движения, возглавляемого дворянскими революционерами-декабристами, ко второму этапу — разночинно-демократическому. Этот переходный характер периода во многом объясняет и противоречия в мировоззрении Гоголя, в своих произведениях шедшего навстречу этому новому этапу, с беспощадной правдивостью показавшему разложение крепостнического строя и в то же время не смогшего принять и осознать новые демократические идеи.
В сложной социальной и политической обстановке писатель не нашел правильного пути. В «Авторской исповеди» Гоголь писал: «Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе» (VIII, 455). В той ожесточенной борьбе, которая велась между лагерем освободительного движения, возглавляемым в 30-е и 40-е годы Белинским и Герценом, и реакционно-крепостническим лагерем представителей «официальной народности» и славянофилов, Гоголь занял сложную и противоречивую позицию.
Гоголь являлся провозвестником демократического движения 40-х годов, союзником Белинского и Герцена. Недаром Белинский в статьях о Пушкине говорил о новом поколении, развившемся «на почве новой общественности, образовавшемся под влиянием впечатлений от поэзии Гоголя и Лермонтова» (XI, 188). Но в то же время Гоголь полностью не осознавал объективного значения своего творчества и напуганный возможностью революционных потрясений оказался в плену реакционных предрассудков. Выступая с резкой критикой крепостнического общества и отрицательных сторон крепостнического порядка, Гоголь в то же время пытался найти выход из противоречий действительности в утопической идеализации патриархальных основ, в религиозно-нравственном перевоспитании общества.
Пребывание за границей, сближение его с Жуковским, М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым, Н. М. Языковым, А. О. Смирновой-Россет, — все это отрицательно сказалось на мировоззрении писателя, уводило все дальше от Белинского и передовых идей эпохи. Уже Чернышевский указывал, как на одну из причин идейного кризиса Гоголя, на пагубное воздействие реакционного окружения писателя. «Если бы Гоголь жил в России, — писал Чернышевский, — вероятно, он встречал бы людей, противоречащих ему во мнении о методе, им избранной, хотя и тут едва ли могло бы влияние этих людей устоять против громких имен, одобрявших путь, на который стал он» (IV, 638). Чернышевский отмечает близость Гоголя с Жуковским, Языковым, Шевыревым, которые неоднократно оказывали Гоголю «важные услуги»: «Этим знакомствам надобно приписывать сильное участие в образовании у Гоголя того взгляда на жизнь, который выразился „Перепискою с друзьями“» (IV, 638).
Н. Г. Чернышевский указал и на то, что одной из причин идейного кризиса Гоголя в 40-х годах являлось отсутствие у писателя понимания
- 227 -
Н. В. Гоголь
С дагерротипа Перро 1845 года (Гоголь среди русских художников
в Риме).
- 228 -
- 229 -
взаимосвязи явлений политической и общественной жизни. Гоголь не смог понять, что в отдельных недостатках и пороках общества виновата вся социальная система, не смог сделать выводов из своей критики: «...его поражало безобразие фактов, и он выражал свое негодование против них; о том, из каких источников возникают эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, он не размышлял много» (IV, 632).
Работа над вторым томом «Мертвых душ» не удовлетворяла писателя, угнетенное состояние его все возрастало. Гоголь все больше и больше проникался религиозными настроениями и сомнениями в правильности своего писательского пути. В таком тяжелом состоянии писатель в июле 1845 года сжигает уже написанные главы второй части «Мертвых душ».
Вдали от России, в Швальбахе и во Франкфурте, подготавливает он к изданию свои злополучные «Выбранные места из переписки с друзьями». Печатание «Выбранных мест» Гоголь поручает П. Плетневу, послав рукопись книги в Петербург. В начале 1847 года «Выбранные места из переписки с друзьями» вышли в свет.
Реакционные идеи «Выбранных мест» являлись выражением самых слабых и отсталых тенденций в мировоззрении Гоголя, сковывали его как художника, мешали правдивому изображению действительности и тем самым обусловили мучительную трагедию писателя.
Гоголь как художник, всем своим сердцем связанный с народом, шел навстречу новому, помогал своими гениальными произведениями понять страшную правду феодально-крепостнических порядков, опутавших узами всю страну. Но он сам испугался этой жестокой правды и «под влиянием ложных идей, — как справедливо сказал о нем впоследствии В. Г. Короленко, — развившихся в отдалении от жизни, он изменил собственному гению и ослабил полет творческого воображения, направляя его на ложный и органически чуждый ему путь».1
В своей «Переписке» Гоголь проповедывал реакционную утопию возвращения к патриархальности, славянофильские идеи о незыблемости основ, якобы присущих историческому развитию России, в том числе самодержавия и крепостничества.
Отсюда и та апология русского помещика как отца своих крепостных, реакционная идиллия, которую развивает Гоголь в своем письме «Русский помещик»: «Не смущайся мыслями, — поучает Гоголь, — будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезнули навеки» (VIII, 321).
За книгу Гоголя ухватились темные реакционные силы в России, ее стали превозносить такие реакционеры, как граф А. П. Толстой и другие поборники реакции и крепостничества. Хотя следует отметить, что в книге Гоголя имелись и критические высказывания по адресу господствующих классов, которые пришлись не по вкусу его апологетам, и целый ряд отдельных мест книги был даже запрещен цензурой.
Выход «Выбранных мест из переписки с друзьями» вызвал в передовом русском обществе взрыв негодования. «Переписка с друзьями» была расценена прогрессивными кругами как измена народу, как попытка примирения с тем самодержавно-крепостническим строем, который сам Гоголь ранее обличал и разоблачал с таким гневом и правдой в «Ревизоре», «Шинели», «Мертвых душах».
- 230 -
С особенным гневом и страстью выступил против «Выбранных мест» Белинский. Он подверг беспощадной и уничтожающей критике книгу Гоголя за те реакционные, общественные и нравственные идеи, которые в ней проповедывались. В своем знаменитом письме к Гоголю из Зальцбрунна Белинский дал гневную отповедь реакционной книге Гоголя: «...нельзя умолчать, — писал великий критик, — когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель».1 Белинский писал: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть... Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя-самое как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами...»2 И Белинский предостерегает Гоголя от окончательного падения, показывая всю трагическую глубину его заблуждений: «Проповедник кнута, апостол невежества, — обращается он к Гоголю, — поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною...».3 Свою суровую отповедь Белинский заключал призывом к писателю отречься от своей книги и «тяжкий грех» ее издания «искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние».4 Укоряя Гоголя за проповедь реакционных идей, Белинский решительно отделяет от них огромное значение художественных произведений писателя, в которых Гоголь выступал, по словам критика, как «надежда, честь и слава» своей страны, как один «из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса».5
Письмо Белинского, получившее чрезвычайно широкое распространение в рукописных списках и впервые напечатанное А. И. Герценом в «Полярной звезде», было впоследствии высоко оценено В. И. Лениным как одно «из лучших произведений бесцензурной демократической печати».6 Оно явилось выражением передового общественного мнения, сохранив все свое значение для последующих поколений. А. А. Жданов указывал: «Вспомните знаменитое „Письмо к Гоголю“ Белинского, в котором великий критик со всей присущей ему страстностью бичевал Гоголя за его попытку изменить делу народа и перейти на сторону царя».7
Однако ошибки и заблуждения писателя не заслоняют и не умаляют того великого, что было создано Гоголем — художником-реалистом. Как указывалось в передовой статье «Правды» — «Николай Васильевич Гоголь», «...давно умерло и отошло в прошлое то, что было порождено слабостью, заблуждениями писателя. Навсегда вошло в золотой фонд нашей культуры то, что является передовым, составляет силу и славу великого художника».8
- 231 -
Письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю. 1847. Один из списков.
11
Письмо Белинского произвело на Гоголя огромное впечатление. В ответном письме он сообщал: «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения...» (XIII, 360). Гоголь признал, что оторвался от России: «...мне показалось
- 232 -
только то непреложной истиной, — писал он Белинскому, — что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был» (XIII, 360). Он понял, что ему необходимо возвратиться на родину, увидеть все собственными глазами. Однако, даже признав ошибочность издания «Переписки», Гоголь уже не смог до конца преодолеть те реакционно-утопические идеи, которые были им высказаны в этой книге.
Революционно-демократическая критика глубоко раскрыла причины духовной драмы Гоголя.
По словам Н. А. Добролюбова, Гоголь «не смог идти до конца по своей дороге» сатирического разоблачения действительности, потому что он не имел ясных и отчетливых политических взглядов. «Изображение пошлости жизни, — писал Добролюбов, — ужаснуло его; он не сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, что ее нужно до конца преследовать, нисколько не опасаясь, что она может бросить дурную тень на самый народ. Он захотел представить идеалы, которых нигде не мог найти».1
Н. Г. Чернышевский указывал, что отсталость Гоголя как мыслителя во многом определялась теми условиями, в которых складывалось его мировоззрение. «На удел человека, — писал Чернышевский, — достается только наслаждаться или мучиться тем, что дает ему общество. С этой точки мы должны смотреть и на Гоголя. Напрасно было бы отрицать его недостатки: они слишком очевидны: но они были только отражением русского общества. Лично ему принадлежит только мучительное недовольство собой и своим характером, недовольство, в искренности которого невозможно сомневаться, перечитав его „Авторскую исповедь“ и письма; это мучение, ускорившее его кончину, свидетельствует, что по натуре своей он был расположен к чему-то гораздо лучшему, нежели то, чем сделало его наше общество. Лично ему принадлежит также чрезвычайное энергическое желание пособить общественным недостаткам и своим собственным слабостям. Исполнению этого дела он посвятил всю свою жизнь. Не его вина в том, что он схватился за ложные средства: общество не дало ему возможности узнать вовремя о существовании других средств» (IV, 640—641).
Указывая на противоречия в творчестве Гоголя, Чернышевский видел основную причину их в «тесноте горизонта», в отсутствии системы политически определившихся взглядов писателя. Гоголь не смог подняться до осмысления социальной природы всех общественных отношений. В этом и была слабость писателя, во многом обусловившая и отдельные противоречия в его творчестве 30-х годов и тот кризис, который произошел с Гоголем в 40-е годы.
В 1846—1847 годах Гоголь под влиянием охвативших его религиозно-охранительных настроений пытался также заново пересмотреть и обличительное значение «Ревизора», написав «Развязку Ревизора» и «Дополнение к „Развязке Ревизора“». В этих драматизированных рассуждениях Гоголь пробовал объяснить смысл «Ревизора» не как социальной комедии, а как отражения в ней «душевной» жизни, моральных общечеловеческих недостатков общества: «...это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас» (IV, 130). Однако превратить свою комедию в аллегорическое изображение «обитающих в душе нашей страстей» Гоголь, естественно, не смог. «Развязка Ревизора», реакционное истолкование пьесы самим Гоголем встретили резкую отповедь со стороны М. С. Щепкина, которому Гоголь послал свою «Развязку» с тем, чтобы тот поставил ее в свой бенефис.
- 233 -
Щепкин категорически отказался от постановки «Развязки» и отговорил Гоголя от ее напечатания. «Оставьте мне их <героев пьесы>, как они есть..., — писал он Гоголю. — Не давайте мне никаких намёков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился... Нет, я их вам не дам!».1
В ответ на это письмо Щепкина Гоголь заверил его, что он не собирается «отнять» у Щепкина городничего и прочих героев, соглашаясь оставить «всё при своем» (XIII, 348), т. е. подтверждая прежнюю редакцию и истолкование «Ревизора».
Прежде чем вернуться на родину, Гоголь совершил утомительное паломничество в Иерусалим и лишь в апреле 1848 года возвратился в Россию.
«Выбранные места» были горьким и тяжелым заблуждением писателя, утратившего представление об окружающей его действительности, выражением его слабости как мыслителя и человека. Под воздействием гневной критики Белинского Гоголь отказывается от той роли проповедника-моралиста, которую пытался взять на себя в «Выбранных местах», и вновь обращается к художественному творчеству, хотя до конца преодолеть свои ошибочные взгляды он уже не был в состоянии.
Последние годы жизни Гоголь неустанно работал над завершением второго тома своей поэмы. Однако непоследовательность и двойственность его идейных позиций, то обстоятельство, что он так и не смог до конца порвать с идеями «Выбранных мест», — определили и творческую незавершенность его труда, и те резкие противоречия, которые сказались во всем замысле и художественных образах второй части «Мертвых душ».
Во второй части «Мертвых душ» Гоголь говорит не только об уходящем, уродливом скопище представителей поместного дворянства, но стремится показать и нарождающееся новое, хотя именно это новое ему и трудно понять и правильно оценить. Нет достаточных оснований представлять себе замысел поэмы Гоголя в трех частях по образцу «Божественной комедии» Данте, как это делало буржуазное литературоведение. Несомненно, однако, что мысль писателя стремилась к построению такого монументального произведения, которое не только должно было дать широкую картину современной действительности, но и наметить пути преодоления застоя и косности крепостнических порядков.
Трудно сказать, как были бы разрешены Гоголем эти задачи, которые на разных этапах его жизненного и творческого пути ставились и рассматривались им по-разному. Но было бы неправильно считать, что в последующих частях поэмы Гоголь хотел показать лишь положительных, «переродившихся» героев. Уже после написания «Выбранных мест» он сообщал в одном из своих писем: «Что же касается до II тома „Мертвых душ“, то я не имел в виду собственно героя добродетелей. Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков. Дело только в том, что характеры значительнее прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни, нами опошленной, обнаружив видней русского человека не с одной какой-либо стороны» (XIV, 152). Эти высказывания писателя свидетельствуют о том, что при всех изменениях замысла поэмы ее критический, реалистический характер неизменно сохранялся. Но теперь замысел Гоголя отнюдь не сводился к изображению
- 234 -
галереи отрицательных героев, он должен был раскрыть противоречия современной действительности в широком социальном аспекте, показать тот путь, по которому должно было, по мнению автора, идти развитие России. Таким положительным образом, намечавшим новые начала, являлся для Гоголя прежде всего образ Улиньки. Это и есть тот образ русской женщины, которую обещал писатель показать еще в первой части поэмы. Гоголь стремится создать положительный образ русской девушки, родственной пушкинской Татьяне. Улинька противостоит миру «мертвых душ» своей душевной красотой, она благородна, чиста, добра. «Прямая и легкая, как стрелка», она влетала, как «солнечный луч» (VII, 40). Это стремительное, светлое начало выделяет Улиньку из неподвижности и косности дворянского существования, затягивающих Тентетникова в свое липкое болото.
Талант Гоголя-реалиста полностью сохраняется там, где он остается на позициях обличения фальши и распада крепостнического общества, в этом случае его образы сохраняли прежнюю типическую силу и яркость. Чернышевский писал по поводу второго тома «Мертвых душ»: «Да, Гоголь-художник оставался всегда верен своему призванию, как бы ни должны мы были судить о переменах, происшедших с ним в других отношениях. И действительно, каковы бы ни были его ошибки, когда он говорит о предметах для него новых, — но нельзя не признаться, перечитывая уцелевшие главы второго тома „Мертвых душ“, что едва он переходит в близко знакомые ему сферы отношений, которые изображал в первом томе „Мертвых душ“, как талант его является в прежнем своем благородстве, в прежней своей силе и свежести» (III, 13).
Замечательно сочными красками написан портрет помещика Петуха, обжоры и бездельника. Вся его деятельность и все его хозяйство служат для удовлетворения чревоугодия, превратившегося в своеобразную поэзию его жизни. Гоголь показал здесь, как «проедались дворянские имения». Петух — «барин старого покроя», хозяйство его приспособлено для удовлетворения безмерных гастрономических потребностей, а все помыслы его сосредоточены на еде. Самая наружность Петра Петровича, напоминавшего арбуз или пузырь, как говорит о нем Гоголь, подчеркивает его чревоугодие.
Однако благополучие Петуха должно скоро кончиться. Этот надвигающийся конец петухова благоденствия объясняется общим кризисом феодально-барщинного крепостного хозяйства, при котором помещик мог целую деревню выгонять на рыбную ловлю или устраивать пикники с песельниками и гребцами. В новых условиях эти барские затеи приводят к разорению, и недалек час, когда Петух, подобно Хлобуеву, вынужден будет расстаться со своим имением.
Иной характер представляет собой Хлобуев. Легкомыслие, мотовство, дворянские претензии и прихоти доводят его до полного разорения. Хлобуев не новый тип в русской литературе, неоднократно высмеивавшей, начиная с Новикова, расточительность и мотовство дворянских белоручек. Верно и правдиво изобразив бесхозяйственность и прожектерство Хлобуева, Гоголь, однако, пытается заставить его искупить свое легкомыслие в духе своих утопически-религиозных взглядов: откупщик Муразов предлагает Хлобуеву для покаяния и искупления своих прегрешений идти собирать на построение храма. Не менее типичен и полковник Кошкарев — злая карикатура на дворянское прожектерство и космополитизм. Он стремится вести хозяйство согласно «правилам» западноевропейской науки. Но абстрактная теория оказывается нелепой в применении к крепостнической действительности. Заведенные Кошкаревым «Комитет сельских дел», «Депо земледельческих
- 235 -
Н. В. Гоголь.
Гравюра на стали Ф. И. Иордана 1857 года с портрета Ф. А. Моллера 1841 года.
- 236 -
- 237 -
орудий», «Школа нормального просвещения поселян» — смешны в условиях крепостного права. Сам Кошкарев распоряжается хозяйством лишь на бумаге, отдавая приказания во всевозможные комитеты и комиссии, подписывая резолюции, создавая запутанное бюрократическое делопроизводство. В разговоре с Чичиковым он развивает нелепые взгляды дворянских космополитов о том, что достаточно переодеть русских мужиков в парижский или немецкий костюм, и все дела пойдут на лад: «Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Парижский костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, — науки возвысятся, торговля подымется, и золотой век настанет в России» (VII, 63).
На деле все эти нелепые «прожекты» приводили и, конечно, не могли не приводить к новым злоупотреблениям, неразберихе, бестолковщине, чудовищному бюрократизму.
В этих образах Гоголь снова, как и в первом томе, показал типических представителей дворянских «мертвых душ», нарисовал широкую и правдивую картину разорения помещичьего хозяйства. Однако теперь основное внимание он обращает не на захолустных, отставших от жизни Собакевичей и Коробочек, а показывает типических представителей новых веяний времени. Таков прежде всего Тентетников, мечтающий о просвещенном переустройстве крепостнических порядков, прекраснодушный и безвольный мечтатель, «небокоптитель», по выражению Гоголя, чьи благие начинания, подобно прожектам Манилова, остаются неосуществленными.
Образом Тентетникова Гоголь во многом предварил тип Обломова, «лишнего человека» дворянского общества, погибающего от своего духовного бессилия, праздности, неприспособленности к какой-либо деятельности. Рисуя портрет Тентетникова, Гоголь сразу же раскрывает как основную черту «небокоптительства» — праздность и инертность, разрыв слова и дела, подчеркивает бесцельность его существования:
«Беспристрастно же сказать — он не был дурной человек, — он просто коптитель неба. Так как уже не мало есть на белом свете людей, которые коптят небо, то почему ж и Тентетникову не коптить его?» (VII, 9)
Тентетников сначала даже пытается посвятить свою деятельность в деревне «улучшению участи вверенных людей», но вскоре разочаровывается в своей хозяйственной деятельности. Гоголь показал ту глубокую пропасть, которая лежала между помещиком и крестьянами, как даже хорошие задатки людей погибали в условиях тогдашней действительности. Образ Тентетникова до некоторой степени противоречив: то он выступает смешным и бесполезным «небокоптителем», то в качестве носителя положительного начала, задавленного и искаженного общественными условиями.
Тентетников написан Гоголем иными красками, чем Манилов. Гоголь не дает гротескно подчеркнутых комических черт, но сопровождает его описание авторскими лирическими отступлениями. Любовь к Улиньке снова возвращает Тентетникова к жизни, и, видимо, в последующих главах Тентетников должен был бы занять значительное место.
Противоречия феодально-крепостнического хозяйства Гоголь пытается разрешить, выдвигая утопическую теорию примирения патриархальности с новыми капиталистическими формами. Таким новым «героем», сумевшим якобы найти выход из кризиса феодально-барщинной системы, является помещик Костанжогло.
Для Гоголя Костанжогло — образцовый хозяин, который сумел сочетать заботу о благосостоянии крепостного крестьянина с выгодой помещика, сумел оживить помещичье хозяйство, выведя его из состояния кризиса и
- 238 -
застоя и показав пример преуспеяния. Костанжогло экономен, чрезвычайно бережлив даже в своем домашнем быту, презирает всякую роскошь и барские помещичьи затеи.
Совершенно очевидно, что образ Костанжогло подсказан Гоголю не столько реальной жизнью, сколько рецептами дворянской публицистики 30-х годов, ратовавшей за «образцового» помещика-хозяина, способного противостоять дворянскому разорению. Так, Д. Шелехов в «Библиотеке для чтения» еще в 1836 году рисовал облик «рассудительного хозяина», весьма схожего с Костанжогло.
Костанжогло не только рачительный сельский хозяин. Он соединяет в одном лице помещика и фабриканта: в своем имении он завел мануфактуры для тканья сукон и варки клея. Но Костанжогло не хочет признавать себя промышленником, по его словам, фабрики у него «сами завелись».
В то же время Костанжогло — противник фабрикантов, противник капиталистических отношений. Он держится за крепостную мануфактуру, пытается сочетать рационализацию помещичьего хозяйства с патриархальными началами. Поэтому он осуждает «умников», которые завели «конторы» и «мануфактуры», тех помещиков, которые «торгашами поделались», завели прядильные машины, вырабатывают «кисеи шлюхам городским». Костанжогло считает, что помещик должен прежде всего «возделывать землю» (VII, 67, 69).
Предприимчивый и оборотистый Костанжогло, у которого «всякая дрянь дает доход» (VII, 68), выступает у Гоголя как защитник патриархальных начал и обличитель капиталистического «разврата». Костанжогло один из вариантов «примирения» непримиримых противоречий. В том и сказался утопизм Гоголя, что реальные противоречия действительности он пытался «лечить» нереальными, утопическими средствами.
Еще более надуман другой «положительный» образ поэмы — откупщик Муразов. Муразов, по характеристике Костанжогло, способен управлять «целым государством», он обладатель миллионов (VII, 75). Откупщик и миллионер Муразов выступает в качестве носителя религиозно-нравственного начала. Богатство не мешает Муразову сохранить патриархальную простоту, он живет в неприхотливой комнате, одевается по-купечески. Муразов выступает моральным судьей Чичикова, он наставляет на путь истинный промотавшегося Хлобуева, тем самым являясь положительным героем второй части поэмы в духе славянофильских идей.
Эта искусственная, надуманная фигура, созданная на основе славянофильской утопии, также призвана разрешить неразрешимые противоречия. Костанжогло и Муразов не получились положительными героями, потому что их образы не только ничего общего не имели с реальностью, но выражали идеи, глубоко чуждые прогрессивному историческому развитию. Отсюда и художественная неудача этих образов, лишенных плоти и крови, остающихся бесцветными и надуманными схемами.
Взгляды Гоголя с наибольшей отчетливостью сказались в заключительной речи генерал-губернатора, на которой обрываются дошедшие до нас фрагменты второго тома «Мертвых душ». В этой речи генерал-губернатор развивает идею о возможности искоренения злоупотреблений «сверху» при помощи насаждения просвещенной и добросовестной администрации. При всей своей реакционно-утопической направленности речь князя содержит и яркую обличительную картину, горькие и тревожные слова правды о современном положении России. «Дело в том, — говорит у Гоголя князь, — что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного
- 239 -
управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного» (VII, 126). Князь призывает бороться с этим «другим правленьем» «дурных чиновников», выполнить свой долг, понимаемый им в духе соблюдения существующих законов.
Такова программа «спасения» земли, в которой писатель не смог пойти дальше наивно-утопического призыва к самим же дворянам и чиновникам, к их моральному исправлению, к борьбе с «неправдой». Эта программа отгораживала Гоголя от лагеря революционной демократии, знаменовала отход писателя от передовых идей своей эпохи, приводила его к реакционному тупику.
Создавая образы Костанжогло и Муразова, Гоголь шел вразрез с действительностью, благодаря чему эти образы и оказались надуманными, художественно бледными и неубедительными, а сама идейная направленность второй части поэмы приобретала реакционный характер. «Мы должны сказать, — писал Чернышевский, — что на многих страницах второго тома, в противоречие с другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатом закоснелости; впрочем, мы уверены что он принимал эту закоснелость за что-то доброе, обольщаясь некоторыми сторонами ее...» (III, 12).
Для написания второго тома сам Гоголь считал, что ему «нужно будет очень много посмотреть в России самолично вещей, прежде чем приступить ко второму тому», — как сообщал он в письме к Шевыреву от 2 декабря 1847 года (XIII, 398).
Несмотря на настойчивую работу, второй том подвигался медленно. Идейные колебания Гоголя, его неуверенность сказались в многочисленных переделках, не позволявших довести работу до конца. Трудно гадать, в каком направлении продолжалась бы далее работа над второй частью «Мертвых душ». Современники рассказывают о содержании читанных Гоголем и впоследствии уничтоженных им глав поэмы. Д. Оболенский в своих воспоминаниях говорит о полном преображении Тентетникова, пробужденного от своей апатии влиянием Улиньки. Он становится ее женихом, его арестовывают за участие в революционном кружке и отправляют в Сибирь, а Улинька следует за ним.1 Если версия, передаваемая Д. Оболенским, верна, то содержание и самый характер второго тома в целом значительно отличался от тех глав, которые до нас дошли. Чичиков уже не играет главенствующей роли, и события развиваются не только в связи с ним, а переплетаются с судьбами других героев и прежде всего с Тентетниковым и Улинькой. Во втором томе меньшее место занимает сатирическое начало, а все больше выдвигается на первый план психологическая характеристика героев и авторская лирика.
Следует отметить, что во втором томе «Мертвых душ» Гоголь пришел и к углублению психологических характеристик: в образах Тентетникова, Улиньки, Хлобуева, Платонова намечены возможности развития внутреннего мира героев.
В то же время мы имеем и свидетельство, идущее из реакционного лагеря, о том, что Гоголь предполагал завершить свою поэму духовным воскрешением Чичикова, а возможно и других героев. Это говорит о том, что вопрос о характере работы Гоголя над вторым томом «Мертвых душ» не может быть окончательно решен. Гоголь потому и не мог закончить своей поэмы, что его устремления были противоречивы. С одной стороны, они шли от
- 240 -
Извещение Департамента полиции Министерства внутренних дел
о высылке Тургенева на родину за напечатание некролога по
случаю смерти Н. В. Гоголя. 1852.жизни, от тех социальных конфликтов, того кризиса феодально-крепостнических порядков, которые порождали «мертвых душ» дворянского общества. С другой стороны, в поисках выхода писатель приходил к утопическим идеям, к попытке примирения социальных противоречий. Это столкновение прогрессивной реалистической тенденции с реакционной религиозно-нравственной утопией и мешало Гоголю завершить поэму. Характерно свидетельство И. С. Аксакова, близко знавшего Гоголя и осведомленного о его планах, который писал И. С. Тургеневу: «Он <Гоголь> изнемог под тяжестью неразрешимой задачи, от тщетных усилий найти примирение и светлую сторону там, где ни то, ни другое невозможно, — в обществе».1 Гоголь не смог увидеть подлинно положительных героев своей эпохи, ему помешали в этом ограниченность его идейных взглядов, его классовые предрассудки и заблуждения.
- 241 -
Писатель чувствовал, как иссякали его творческие силы, болезненное состояние все больше угнетало его. Он чаще начинает думать о смерти, погружаясь в чтение церковных книг, поддается религиозно-мистическим настроениям, поддерживаемым его окружением. Все это способствовало нарастанию душевного кризиса, что и привело его к трагическому концу.
За несколько дней до смерти, в болезненном состоянии Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ».
4 марта (н. ст.) 1852 года Гоголь скончался.
Похороны писателя превратились в широкую общественную демонстрацию. Гоголя хоронила вся передовая Россия, видевшая в нем одного из своих лучших сынов.
На смерть Гоголя взволнованными, скорбными словами откликнулся И. С. Тургенев: «Гоголь умер! — писал Тургенев в «Письме из Петербурга». — Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!».1 Однако царское правительство и после смерти преследовало писателя. За напечатание этого письма Тургенев был посажен под арест, а затем отправлен на жительство в деревню.
Гоголь пал жертвой самодержавия подобно Пушкину и Лермонтову. Его мучительный конец был завершением той травли со стороны «светской черни» и правительственных кругов, на которую обречен был писатель, посмевший сказать смелое и могучее слово правды.
«Гоголь, — писал о нем Чернышевский, — был горд и самолюбив, но он имел право быть горд своим умом, своим страстным желанием блага родной земле, своим гением, своими заслугами перед всем русским обществом. Он сказал нам, кто мы таковы, чего недостает нам, к чему должны стремиться, чего гнушаться и что любить. И вся его жизнь была страстною борьбою с невежеством и грубостью в себе, как и в других, вся была одушевлена одною горячею, неизменною целью, — мыслью о служении благу своей родины» (III, 775).
Некрасов откликнулся на смерть писателя стихами «Блажен незлобивый поэт», в которых запечатлел облик писателя-гражданина, обличителя крепостнического общества:
Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.212
Гоголь — один из основоположников критического реализма в русской литературе. На эту огромную роль Гоголя как зачинателя критического реализма указал Н. Г. Чернышевский в своих «Очерках гоголевского
- 242 -
периода русской литературы»: «...должно приписать исключительно Гоголю заслугу прочного введения в русскую изящную литературу сатирического — или, как справедливее будет назвать его, критического направления» (III, 18).
Реализм Гоголя правдиво и глубоко отражал общественные противоречия действительности, показывал жизнь в ее типических проявлениях. Гоголь создал произведения и образы, наиболее полно выражавшие действительность, обобщил, типизировал в них явления жизни, их общественную значимость. В то же время значение его образов далеко выходило за пределы своего времени, приобретало непреходящее, мировое значение. Большое количество типов Гоголя, вошедших в литературу, свидетельствует о том, что писатель обобщил в них самые существенные, социально значимые стороны и явления действительности.
Гоголь рассматривал поприще писателя как служение народу, как общественный долг писателя-гражданина. Это понимание своего писательского долга никогда не покидало писателя и всегда руководило им.
Творчество Гоголя было органически связано с современностью, с действительностью, правдиво отражало своеобразие жизни той эпохи. Эту связь с современностью постоянно ощущал и сам писатель, указывая, что призванием его было изображение современной жизни, стремление разрешить актуальные вопросы действительности: «У меня не было влеченья к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным» (VIII, 449).
В «Авторской исповеди» Гоголь говорит о реалистической типизации как основе своего творческого метода, сравнивая себя с художником, который пишет большую картину на основе ранее сделанных им этюдов. Рассказывая о том, что для работы над второй частью «Мертвых душ» он запрашивал у друзей сведения о положении всех сословий в России, «просил набрасывать легкие портреты и характеры, первые, какие им попадутся», Гоголь пишет: «Всё это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне, просто, нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени, или эпохи, какая им взята» (VIII, 446).
Реализм Гоголя необычайно широк и многогранен. Гоголь не только сумел сказать всю горькую и беспощадную правду о жизни, но и создать «высоко трагические характеры», как подчеркивал Белинский, говоря о «Тарасе Бульбе». Именно в единстве изображения «ничтожного и пошлого в жизни» с «великим и прекрасным» справедливо видел Белинский новый, высший этап реализма Гоголя по сравнению с его предшественниками. «Если в Тарасе Бульбе Гоголь умел в трагическом открыть комическое, — писал Белинский, — то в Старосветских помещиках и Шинели он умел уже не в комизме, а в положительной пошлости жизни найти трагическое. Вот где, нам кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это — не один дар выставлять ярко пошлость жизни, а еще более — дар выставлять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности» (XI, 22).
- 243 -
Гоголь раскрывает в своих произведениях жизнь в ее противоречиях, в ее социальных конфликтах, выступая как продолжатель принципов реалистического изображения действительности, которые были осуществлены Пушкиным в «Евгении Онегине», «Повестях Белкина», «Капитанской дочке». Самые обыкновенные, обычные, будничные явления жизни именно в силу своей типичности стали предметом изображения Гоголя. «Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина», — писал Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» (VIII, 54). Именно верность жизни, изображение типического и считал Гоголь наиболее трудной задачей писателя.
Изображение типического в «обыкновенном» сделалось художественной программой писателя, с необычайным искусством и правдивостью раскрывавшего самые, казалось бы, заурядные, будничные стороны жизни, выводившего в своих произведениях самых гнусных и пошлых представителей буржуазно-дворянского, крепостнического общества. Но изображение «пошлого» и ничтожного не исключало изображения высокого и прекрасного, трагического и величественного.
В своем определении роли писателя и его творчества в начале седьмой главы «Мертвых душ» Гоголь дал замечательную формулу реализма, исчерпывающе объясняющую его собственный художественный метод. Для Гоголя подлинное воспроизведение жизни не есть изображение отдельных бытовых частностей, а выражение единого целого, возведенное в «перл создания», озаряющее всю «картину жизни» новым светом.
Гоголь решительно выступает против натуралистического подхода к искусству, против упрощенного копирования жизни и наивно-моралистического к ней подхода. Он настаивает на показе действительности во всей ее сложности и противоречиях, в неразрывном единстве «высокого» и «низкого», комического и трагического. Отсюда исходит и знаменитое определение Гоголем своего творческого метода как показа жизни «сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» (VI, 134).
Таково гоголевское определение задач творчества, являющегося по существу и формулой гоголевского реализма, принципиально направленной против натуралистического понимания задач искусства. Эта формула означала и национальное своеобразие русского реализма, его высокую идейность, его чуждость и враждебность копированию жизни.
Белинский, говоря еще о первых повестях Гоголя, раскрыл эту основную особенность его реализма, заключающуюся в том, что сатирический характер изображаемой писателем действительности, является не натуралистическим воспроизведением жизни, а глубоким реалистическим обобщенным раскрытием действительности. «Что же касается до искусства Гоголя верно списывать с натуры, — писал Белинский, — это из тех бессмысленно-пошлых выражений, которые оскорбляют своею нелепостию здравый смысл. Подобная похвала — оскорбление. Гоголь творит верно природе; списывают с природы не живописцы, а маляры, и их списки — чем вернее, тем безжизненнее для всякого, кому неизвестен подлиник. Верность натуре в творениях Гоголя вытекает из его великой творческой силы, знаменует в нем глубокое проникновение в сущность жизни, верный такт, всеобъемлющее чувство действительности» (VII, 43).
В этом национальное своеобразие реализма Гоголя, чуждого объективному, скептическому равнодушию, фотографическому копированию действительности. В реализме Гоголя мир представляется в его обобщенном и проясненном писателем виде, в оценке и отборе явлений, в его восприятии
- 244 -
автором с точки зрения высоких и благородных идеалов, или, как говорил Белинский, в его «субъективности». «Здесь мы разумеем не ту субъективность, — писал Белинский по поводу «Мертвых душ», — которая, по своей ограниченности или односторонности, искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая в художнике обнаруживает человека с горячим сердцем, симпатичною душою и духовно-личною самостию, — ту субъективность, которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу...» (VII, 253—254).
Реализм Гоголя полностью удовлетворяет тому требованию, которое было высказано в известном письме Ф. Энгельса к Маргарет Гаркнес: «На мой взгляд, — писал Энгельс, — реализм подразумевает, кроме правдивости деталей, верность передачи типичных характеров в типичных обстоятельствах».1 Эта типичность характеров и обстоятельств является основой реализма Гоголя, постоянно стремящегося к обобщенности образов своих героев и показу их в типических обстоятельствах.
Проблема типизации — одна из основных для понимания художественного метода Гоголя. Его образы наделены огромной типической силой и в этом причина их действенности и длительности их воздействия.
Уже самая внешность персонажей у Гоголя всегда подчеркивает их типические черты, хотя и не становится гиперболически-гротескной, как это имеет место у Щедрина в «Истории одного города». Образы Гоголя сохраняют свою жизненность, свое правдоподобие, не превращаясь в гротескно-гиперболические маски.
Особенной полноты в создании типических образов достигает Гоголь в «Ревизоре» и «Мертвых душах». Собакевич, Манилов, Ноздрев, Плюшкин, Коробочка, Чичиков — раскрывают в своей типичности важнейшие стороны крепостнического общества, помещичье-бюрократического строя, основанного на безудержной эксплуатации народа, на безграничной власти чина и звания, на полном пренебрежении личностью человека.
Таков, например, образ Собакевича, во всем облике которого Гоголь великолепно передал типические качества помещика-крепостника, жадного и прижимистого скопидома, беспощадного и эгоистичного собственника, лишенного чести и совести, врага просвещения и живой мысли. Острой подчеркнутостью всех черт, рисующих эту сущность Собакевича, Гоголь достиг необычайной типичности образа и его реалистической выразительности: «Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке» (VI, 94).
Подчеркивая в создаваемом им образе ту или иную, типическую для данного характера, черту, заостряя и гиперболизируя ее, Гоголь достигает осуществления максимальной художественной выразительности образа, его идейной направленности. В самом отборе этих типических черт, характеризующих те или иные стороны действительности, писатель выражает свое отношение к ней. Разоблачая все то обветшалое, мертвенное, антинародное, что было в крепостнической действительности его времени, создавая типические
- 245 -
образы представителей гнилостного, бесчеловечного, угнетательского общества крепостников и чиновников-бюрократов, Гоголь тем самым выступал как борец с реакцией, как представитель прогрессивной идеологии. Сатирическая заостренность его образов была направлена против всего того, что мешало осуществлению благородных и светлых идеалов народа. Этим определялось и сознательное преувеличение, сатирическое разоблачение враждебных писателю явлений жизни.
Н. В. Гоголь.
Литография М. Барышева 1850-х годов с портрета А. А. Иванова 1841 года.Типизм образов, созданных Гоголем, однако, не лишает их конкретности и жизненности. Каждый образ у Гоголя выражает типическое через индивидуальное, общее через частное, осуществляя тот закон художественного творчества, о котором говорил Белинский: «В творчестве есть еще закон: надобно, чтобы лицо, будучи выражением целого особого мира лиц, было в то же время и одно лицо, целое, индивидуальное. Только при этом условии, только чрез примирение этих противоположностей, и может
- 246 -
оно быть типическим лицом, в том смысле, в каком назвали мы типическими лицами Отелло и майора Ковалева» (IV, 73). Сила гоголевского реализма — в сочетании типичности изображаемых им явлений с их индивидуальными особенностями. Именно эту естественность, простоту, угаданность типического в повседневной действительности и отмечал Белинский как основное свойство реализма Гоголя. Его герои психологически правдивы, при всей примитивности своего мышления они наделены теми человеческими качествами, которые придают им жизненную естественность.
Говоря о трудности изображения характеров, вроде Манилова, Гоголь писал: «Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ, — и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд» (VI, 23—24). Подчеркивая в своих персонажах какую-либо основную ведущую черту характера, Гоголь вовсе не делает их моралистическими масками, не лишает их жизненности и естественности. Выделяется в характере лишь основное, наиболее типическое и вместе с тем индивидуально присущее данному образу, благодаря чему он становится лишь рельефнее и жизненнее. Сам Гоголь писал об этом, говоря о «задоре», имеющемся у каждого из изображаемых им типов (VI, 24).
Сила, художественная убедительность образов Гоголя — в единстве идейного содержания и используемых им изобразительных средств. В самом портрете Гоголь выделяет, подчеркивает те черты, те физические особенности, которые выражают внутреннюю сущность персонажа. Раз познакомившись с Маниловым или каким-либо другим героем Гоголя, мы на всю жизнь запоминаем его внешность, его черты, его жесты.
Как указывал сам Гоголь, «главное существо» его творчества наиболее полно и верно определил Пушкин: «Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей» (VIII, 292).
Это свойство творческого метода Гоголя — показать «крупно» «мелочь», которая «ускользает от глаз», и определило своеобразие реалистической манеры писателя. Каждая деталь, «мелочь», которую показывает Гоголь, приобретает у него обобщающий характер, служит раскрытию основных черт героя, обстановки, придает типическую силу и выразительность его образам. Типическое изображение героев у Гоголя подчеркнуто изображением той социальной среды, которая их окружает. Каждое действующее лицо показано писателем как выражение тех или иных сторон социального уклада. Подробнейшее изображение пейзажа, бытовой обстановки, даже одежды подчеркивает типический, социально-обусловленный характер героя.
Типическая деталь придает описаниям Гоголя необычайную конкретность и в то же время обобщенность. В ней всегда выражена идея, основной смысл создаваемого образа. Шарманка Ноздрева, квадратный скворец у Собакевича, шипящие часы Коробочки, фрак цвета «наваринского дыма
- 247 -
с пламенем» Чичикова — все это детали, которые передают самую сущность натуры владельцев этих предметов. Точно так же и самая наружность, внешний портрет персонажа выражает его духовные и моральные качества, запоминается и остается в сознании читателя, начиная с момента первого появления персонажа.
Уже описание двора Собакевича характеризует прежде всего прочность, неподвижность, собственническую замкнутость того угрюмого зоологического мира, напоминающего клетку необычайной прочности, который окружает Собакевича: «Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирченых стен, резных узоров и прочих затей, но всё было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, всё, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке» (VI, 94). Даже картины в гостиной Собакевича, изображающие греческих полководцев, еще более усугубляют это ощущение тяжеловесности: «...все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу» (VI, 95).
Детали, подробности, которые занимают столь важное место в творчестве Гоголя, нужны не сами по себе, а для достижения жизненности образа, для «полного воплощенья в плоть»: «Это полное воплощенье в плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, — писал Гоголь, — когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его всё тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом — когда соображу всё от мала до велика, ничего не пропустивши» (VIII, 453).
Для Гоголя детальное описание окружающей обстановки, наружности и одежды, поз и жестов его персонажей имеет первостепенное значение. Именно через это детальное описание возникает и самый образ, раскрывается его внутреннее, идейное содержание. Каждый штрих, каждая частность создаваемой художником картины служат раскрытию характера, воплощению «сферы жизни» изображаемого Гоголем персонажа. Самым выбором деталей, описанием обстановки Гоголь, подобно живописцу, рисующему картину, дает оценку не только внутреннего мира своих героев, но и всей той социальной сферы, типическим выражением которой они являются. Белинский решительно возражал на упреки современной Гоголю критики, видевшей в его произведениях излишнее изобилие «натуральных» подробностей. Приводя в качестве примера описание дома и двора Коробочки, Белинский указывал, что «картина быта, дома и двора Коробочки — в высшей степени художественная картина, где каждая черта свидетельствует о гениальном взмахе творческой кисти, потому что каждая черта запечатлена типическою верностью действительности и живо, осязательно воспроизводит целую сферу, целый мир жизни, во всей его полноте» (VII, 333).
Действительно, Гоголь своим описанием передает целую «сферу жизни», показывает социальную типичность Коробочки и в то же время создает исключительно наглядный жизненный образ. Описание двора, дома, обстановки комнат, наконец самой Коробочки передает ее домовитость, патриархальность, сочетание «старосветскости» с прижимистостью, хозяйственной
- 248 -
деловитостью и в то же время мелочностью характера, умственной тупостью. Напомним описание комнаты Коробочки: «...комната была обвешана старенькими, полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев, и за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате» (VI, 45). В этих подробностях наглядно выступает душный и замкнутый «старосветский» мирок: время как бы остановилось в доме Коробочки. Недаром в этом маленьком отрывке эпитет, обозначающий отжившую старину, повторяется трижды («старенькие обои», «старинные зеркала», «старая колода карт»). А как выразительна метафорическая деталь — описание боя часов: «...шум очень походил на то, как бы вся комната наполнялась змеями» (VI, 45), этот шум, испугавший Чичикова, никак не похожий на бой часов, еще больше подчеркивает старомодность, провинциальную захолустность жизни Коробочки.
Подробности у Гоголя раскрывают самую суть действующего лица — его ведущий «задор», силой своей типичности и меткости передают внутренний смысл, создают жизненный и углубленный образ. Нередко одна меткая деталь помогает полнее и ярче раскрыть содержание образа, его идейную целеустремленность, чем целые страницы. Так, говоря о Манилове, Гоголь упоминает, что тот «от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем» (VI, 28). Это сравнение Манилова с котом необычайно полно характеризует и его ласковую вкрадчивость и его ленивую бездеятельность. А как выразителен список «мертвых душ», красиво переписанный женою Манилова и украшенный розовой ленточкой!
Характерной особенностью стиля Гоголя является пользование широко развернутыми сравнениями, складывающимися в целую картину. Напомним описание собачьего хора, зазвучавшего в тот момент, когда Чичиков ночью в дождь въехал во двор Коробочки, дающее отчетливое представление о захолустных порядках в имении трусливой домоседки Коробочки, трясущейся от мысли, как бы ее не ограбили. И в то же время сколько в самом описании метких, точных сравнений, как тонко «выписаны» отдельные собачьи голоса и повадки.
В этой удивительной наглядности, богатстве оттенков выступает основная особенность стиля Гоголя, изучающего мир с такой наблюдательностью и точностью, что малейшая частность предстает перед нами со всеми своими особенностями, во всем своем типическом значении. Гоголь щедро расцвечивает рисуемые им картины, его сравнения дополняют, казалось бы, уже много раз виденное, заставляют читателя вновь и вновь осознать, почувствовать подробности, оттенки изображаемого, ощутить их во всей жизненной полноте. Этой цели служат и длинные периоды, и обилие сложноподчиненных предложений.
Гоголевские сравнения и метафоры способствуют не только конкретизации, живописности изображения, но и созданию обобщенных образов, наглядных и одновременно типических. Напомним знаменитое уподобление бала у губернатора с мухами, кружащимися над рафинадом. Здесь поразительна не только зримость образов, но и смелость самого сравнения: изображение губернского бала сразу же переключает описание внешнего великолепия, парадности и красочности этого бала в план сатирического гротеска, подчеркивает всю суетность и внутреннее ничтожество собравшихся помещиков и чиновников, создает реалистический символ паразитического дворянского общества.
- 249 -
Своеобразие реализма Гоголя в том, что конфликт, лежащий в основе его произведений, раскрывает противоречие между подлинными, положительными сторонами действительности и мелкими, эгоистическими стремлениями ничтожных и пустых представителей собственнического, чиновно-крепостнического общества, тем самым делая смешными и комическими их самих. Белинский с необычайной прозорливостью отметил эту особенность произведений Гоголя, указав, что «всякое противоречие есть источник смешного и комического» (V, 51).
Белинский различал у Гоголя два рода комического — комическое как сатира, как разоблачение социально враждебного, антинародного в самой действительности, ее пустоты, «призрачности», как в «Ревизоре», «Повести о том, как поссорился...» и др. Другой характер приобретает комическое в таких повестях, как «Тарас Бульба», где комическое придает жизненность героическому и трагическому образу Тараса, помогает раскрытию его положительного начала.
«Гумор» Гоголя не преследует развлекательных целей, не смягчает изображения действительности, ее острых противоречий. Комическое у Гоголя — результат конфликта, противоречия между должным, идеальным, тем, что определяет движение вперед, выражает идеалы и чаяния народа, и грубой и уродливой действительностью, безобразным и гнетущим бесчеловечным крепостническим, эксплуататорским строем. Поэтому юмор Гоголя всегда социально насыщен, раскрывает подлинные противоречия жизни, всегда реалистически полнокровен.
Смех Гоголя разоблачает общественные пороки и недостатки, казнит эксплуататорское, собственническое общество. Белинский выступил против реакционера Шевырева, пытавшегося определить комизм Гоголя как «стихию смешного». Белинский указывал на различие между «пустым», «мелочным» остроумием и «юмором» Гоголя, «остроумие» которого «есть сарказм, желчь, яд». Комическое у Гоголя «не доказывает, и не опровергает вещи, но уничтожает ее тем, что слишком верно характеризует ее, слишком резко выказывает ее безобразие...» (II, 470).
Рисуя длинную галерею образов нравственных уродов, Гоголь не впадает, однако, в мрачный пессимизм и скептицизм. Гоголь всегда стремится к высокому благородному идеалу, который он видит в народе. Патриотическое чувство писателя определяло и гневное отрицание и обличение антинародного характера современной ему действительности, его суровую и правдивую сатиру. Но это же чувство вдохновляло писателя на создание таких произведений, как «Тарас Бульба», исполненного героического пафоса, на патетико-лирические отступления в «Мертвых душах», проникнутые высоким патриотическим чувством, взволнованной заботой о будущем России.
13
Гоголь — один из величайших художников слова. В языке Гоголя отразилось все многогранное богатство русской речи.
В то же время в начале своего творческого пути Гоголь включал в языковый состав русской речи и украинизмы, создав на этой основе яркий и благоуханный язык «Вечеров на хуторе», передававший полноту жизни украинской деревни. В дальнейшем Гоголь еще более расширяет границы литературного языка.
Язык «Ревизора», «петербургских повестей» и «Мертвых душ» охватывал уже все разнообразие как общенационального русского языка, его
- 250 -
богатейшего словарного фонда, так и различных лексических пластов диалектного и жаргонного характера, необходимых писателю для изображения социальных и профессиональных особенностей характеров его персонажей.
Гоголь необычайно высоко ценил значение русского слова, необыкновенное богатство русского языка, богатейшего и выразительнейшего в мире. «Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово британца, — писал он в «Мертвых душах», — легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово» (VI, 109).
«Полнейшим и богатейшим» из всех европейских языков, — называет Гоголь русский язык (VIII, 237). В русском языке Гоголь видит все возможности для писателя: «В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт» (VIII, 408—409).
Гоголь писал тем общенародным языком, тем «животрепещущим словом, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за всё ее живое» (VIII, 369). Многогранное богатство и красочность гоголевского языка сказались в том широчайшем стилистическом диапазоне, который позволил писателю создать чудесные лирические пейзажи и в то же время необыкновенно полно показать каждое действующее лицо со всеми присущими ему особенностями.
Глубокое понимание Гоголем многообразных свойств русского языка и проникновенное знание всех оттенков русской народной речи нашли свое гениальное выражение в творчестве писателя. «Гоголь широко использовал неистощимый родник народной разговорной речи как источник литературно-художественного творчества, — писал академик В. Виноградов. — Он остро сочетал в строе повествования самые разнообразные стилистические элементы русского языка».1
Гоголь стремился к наиболее полной и точной характеристике речи персонажей своих произведений, передавая даже мельчайшие особенности их языка. Самый характер человека, его социальное положение, профессия — все это с необычайной отчетливостью и точностью передается Гоголем при помощи его богатой словесной палитры. По словам академика В. Виноградова, Гоголь «глубоко и всесторонне изучает живую народную русскую речь во всех ее социальных проявлениях. Он ищет в словах, оборотах, выражениях разговорной речи отпечатки вкусов и характерных признаков профессии, социального положения».2
Вслед за Пушкиным Гоголь широко раздвинул границы книжной речи, ранее ограниченной искусственными рамками сословно-дворянской среды. В его языке сказалось все многокрасочное богатство словаря, фразеологии, семантики общенародного русского разговорного языка. Эта демократизация
- 251 -
речи особенно отчетливо чувствовалась современниками. Такой выдающийся деятель передовой русской культуры, как В. В. Стасов, вспоминая о впечатлении, которое оказывали произведения Гоголя на новое поколение демократически настроенной молодежи, писал: «Тогдашний восторг от Гоголя — ни с чем не сравним. Его повсюду читали точно запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще неизвестный никому юмор — все это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительною бойкостью и близостью к натуре».1 Новым, конечно, был не самый язык, а то богатство, та свобода, та живая выразительность, которые придал литературному языку Гоголь, обратившись ко всему богатству русского национального языка. Язык Гоголя, подобно языку Пушкина, сохранил все свое значение для нашего времени, являясь величайшей сокровищницей русской речи.
В языке своих произведений, необычайно насыщенном яркими красками и оттенками, Гоголь достигает глубоко реалистической верности в изображении действительности. Пользуясь сочетанием и контрастами различных речевых стилей, он переходит от взволнованной патетики лирических отступлений в «Мертвых душах» к сатирическому, разоблачительному стилю, в котором иронически передан светский «дамский» жаргон или дефектно-уродливая, насыщенная диалектизмами речь чиновничества. В зависимости от идейно-художественной направленности меняется и стилистическая тональность в обрисовке каждого образа, меняется и речевая характеристика персонажей.
Белинский исчерпывающе сформулировал основную особенность «слога» Гоголя, т. е. его языка и стиля: «Гоголь не пишет, а рисует; его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза резко, определенно, рельефно выражает у него мысль, и тщетно бы хотели вы придумать другое слово, или другую фразу для выражений этой мысли» (VII, 329).
Смысловая содержательность слова, точное соотношение слова и мысли сочетаются у Гоголя с наглядностью и живописностью образа. Слово, речевая характеристика у Гоголя всегда соотнесены к образу персонажа, раскрывают его сущность, его характер. Белинский подчеркнул это различие речевой манеры каждого из гоголевских персонажей: «...автор „Мертвых душ“ нигде не говорит сам, он только заставляет говорить своих героев, сообразно с их характерами. Чувствительный Манилов у него выражается языком образованного в мещанском вкусе человека; а Ноздрев — языком исторического человека, героя ярмарок, трактиров, попоек, драк и картежных проделок» (VII, 334).
Замечательно также ироническое использование Гоголем «светского» жаргона, так называемого «дамского языка». Этот «дамский язык» является одной из разновидностей того жаргона верхушечных классов, оторвавшихся от народа, о котором говорит товарищ Сталин в своей работе «Относительно марксизма в языкознании». Сохраняя тот же грамматический строй и основной словарный фонд, что и общенациональный язык, этот «светский жаргон», которым пользуются дамы провинциального города у Гоголя, имеет узкую сферу обращения среди верхушки провинциального общества и представляет собой, пользуясь определением, данным товарищем Сталиным, «набор некоторых специфических слов, отражающих
- 252 -
специфические вкусы аристократии или верхних слоёв буржуазии; некоторое количество выражений и оборотов речи, отличающихся изысканностью, галантностью и свободных от „грубых“ выражений и оборотов национального языка; наконец, некоторое количество иностранных слов».1
Гоголь сам дает точную и уничтожающую характеристику этого «дамского» жаргона, отличающегося необыкновенным «приличием в словах», жеманством и фальшивой наигранностью: «...дамы города N отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: „я высморкалась, я вспотела, я плюнула“, а говорили: „я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка“. Ни в каком случае нельзя было сказать: „этот стакан или эта тарелка воняет“. И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: „этот стакан нехорошо ведет себя“, или что-нибудь вроде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых» (VI, 158—159). В своей замечательной характеристике Гоголь иронически подчеркивает условный, жеманно-лицемерный характер всей этой фразеологии, засоренность ее иностранными словами и сознательное противопоставление ее русской народной речи.
Примером такой насквозь фальшивой речи является разговор между «дамой приятной во всех отношениях» и «просто приятной дамой». В этом разговоре за внешней чрезвычайной любезностью и «приятностью» все время отчетливо чувствуется лицемерие, зависть, тщеславие, мелочная пошлость интересов. Благодаря этому самые любезные фразы приобретают иное значение, становятся лицемерным прикрытием лжи и недоверия.
Уже самая экспансивность, с которой беседуют дамы о самых ничтожных вещах, придавая им непомерное значение, производит комическое впечатление, вскрывает всю мелочность их интересов. Речь дам испещрена множеством французских словечек и оборотов, подчеркивающих условность и искусственность этого салонного жаргона, рассчитанного на узкий «светский» круг. «Не мешает заметить, — иронизирует по этому поводу Гоголь, — что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как ни исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, при всем том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски» (VI, 182—183). Это ироническое замечание Гоголя подчеркивает космополитический характер жаргона высшего общества, оторванность его от национального языка.
Яркая, образная, богатейшая речь Гоголя с необыкновенной полнотой и наглядностью передает самые разнообразные оттенки характера, манеру разговора каждого его героя. Гоголь великолепно чувствовал все неисчерпаемое богатство русского языка, в котором с такой полнотой выразился русский национальный характер. С восторгом писал Гоголь о метком русском слове, вышедшем «из глубины Руси, где... всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его,
- 253 -
как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы — одной чертой обрисован ты с ног до головы!» (VI, 109). Этим чудесным умением обрисовать одной чертой с ног до головы человека, создать типический и вместе с тем жизненно яркий образ сам Гоголь владел в полной мере. Словесная выразительность и богатство красок гоголевского стиля являются и до сих пор великолепным и немеркнущим образцом великого и могучего русского языка.
Повторяя пушкинские слова, характеризующие роль писателя и высокие требования, к нему предъявляемые («слова поэта суть уже его дела»), Гоголь писал: «Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякой другой на своем поприще... Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело» (VIII, 229—230).
Эта высокая требовательность Гоголя к миссии писателя, понимание своей роли как гражданина, общественного трибуна и деятеля всецело определяла и его взыскательность к собственному творчеству. Гоголь тщательно и настойчиво работал над своими произведениями, над каждой строкой, каждым словом, стремясь к максимальной выразительности и точности в выражении каждой своей мысли. Он помногу раз переписывал и отделывал свои произведения. Не говоря уже о многократной переделке и переписке такого большого произведения, как «Мертвые души», достаточно напомнить, что «Ревизор», написанный писателем первоначально удивительно быстро, за несколько месяцев, шесть раз подвергался дальнейшей отделке и доработке.
Один из знакомых писателя приводит в своих воспоминаниях рассказ о том, как сам Гоголь смотрел на процесс своей работы: «Сначала нужно набросать все как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь... Придет час — вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз — как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз».1
На примерах многочисленных вариантов черновых рукописей писателя мы видим, как кропотливо, настойчиво правил он свой текст, добиваясь максимального совершенства, точности и выразительности. Записные книжки писателя также свидетельствуют о том огромном труде, который затрачивался Гоголем в процессе создания его произведений. Гоголь тщательно записывает фактические сведения, народные пословицы, поговорки, слова. Так, на страницах его черновых записей мы находим и подробное описание крестьянской избы, и перечень собачьих пород и кличек, пригодившихся ему при описании Ноздрева в «Мертвых душах»: Стреляй, Обругай, Скосырь, Терзай, Азарной, Наян, Буран, Нахор, Черкай, Мазур и т. д. (VII, 322). Или описания блюд и кушаний, использованные также в «Мертвых душах»: «Моня или Няня — желудок, бараний или другой, начиняется кашей гречневой, мозгом и ножками» (VII, 327).
- 254 -
Эта работа над расширением своих сведений и словарного запаса велась Гоголем непрерывно на всем протяжении его жизни, начиная с 1826 года, когда, еще в Нежинской гимназии, он завел особую «Книгу всякой всячины», или «Подручную энциклопедию», куда заносил всевозможные материалы, записывал песни и отдельные слова и выражения.
В последние годы своей жизни Гоголь предполагал осуществить издание «Объяснительного словаря русского языка», предваряя известный труд В. Даля над его «Толковым словарем». Значительное количество материалов Гоголем уже было собрано, и сохранилась особая рукопись «Сборник слов простонародных, старинных и малоупотребительных», являвшаяся частью замысла писателя.
В сохранившемся в рукописи черновике «Объявления об издании русского словаря» Гоголь писал: «В продолжение многих лет занимаясь русским языком, поражаясь более и более меткостью и разумом слов его, я убеждался более и более в существенной необходимости такого объяснительного словаря, который бы выставил, так сказать, лицом русское слово в его прямом значении, осветил бы ощутительней его достоинство...».1 Пользуясь всеми оттенками и красками живой разговорной речи, всем неиссякаемым богатством основного словарного фонда русского языка, Гоголь продолжал работу основоположника русского литературного языка — Пушкина.
14
Гоголь был одним из тех великих русских писателей, которые внесли огромный вклад в развитие русской и мировой культуры. Поэтому так плодотворно было значение его для всей последующей литературы: Тургенев, Островский, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Глеб Успенский, Некрасов, Короленко и многие другие писатели шли по путям, проложенным Гоголем, создавая великую русскую литературу, проникнутую передовыми свободолюбивыми идеями и ненавистью к угнетению и эксплуатации человека.
Именно за это беспощадное разоблачение действительности так высока ценили Гоголя революционные демократы — Белинский, Добролюбов, Чернышевский, видевшие в нем писателя, произнесшего суровый приговор крепостнической действительности. Отмечая в творчестве Гоголя «народность» и «совершенную истину жизни», Белинский писал, что «причина всех этих качеств заключается в одном источнике: Гоголь — поэт, поэт жизни действительной» (II, 213).
Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» видел основную заслугу Гоголя в том, что он «первый дал русской литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь плодотворном направлении, как критическое» (III, 19). Своим великим вкладом в дело развития критического реализма русской классической литературы Гоголь оказал большое влияние на ее дальнейшее развитие на путях реализма и демократической народности.
С именем Гоголя связано и возникновение школы писателей-реалистов сороковых годов, возглавлявшейся Белинским. Основным принципом этой школы являлся принцип верности действительности, осуществленный в творчестве Гоголя и теоретически обоснованный и разработанный Белинским. Гончаров, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Достоевский начали
- 255 -
свой творческий путь в русле этой гоголевской школы, не говоря уже о таких писателях, как Григорович, Бутков, Панаев и многие другие, составлявших ее основное ядро.
Для Герцена Гоголь был писателем, помогавшим осмыслению тех социальных процессов, которые происходили в дореформенной России. Произведения Гоголя раскрывали порочность крепостнического строя в целом, учили ненавидеть «мертвые души», правящие государством. В статье «Новая фаза русской литературы» Герцен писал: «В самый год смерти Лермонтова появились „Мертвые души“ Гоголя. Наряду с философскими размышлениями Чаадаева и поэтическим раздумьем Лермонтова произведение Гоголя представляет практический курс России».1
Молодой Некрасов в своих произведениях выступает как последователь Гоголя. Точные социальные зарисовки жизни разных сословий Петербурга, изображение чиновнической среды в произведениях Некрасова ведут свое происхождение от «Невского проспекта» и «Шинели».
Исключительно близким творчество Гоголя было и И. А. Гончарову. «От Пушкина и Гоголя, — писал он, — в русской литературе... никуда не уйдешь. Школа пушкино-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разрабатываем завещанный ими материал».2 Гончарова привлекает в Гоголе прежде всего его глубокий реализм, широта социального охвата действительности, многогранность его художественного метода:
«Гоголь, бесспорно, — реалист: у кого найдешь больше правды в образах? Но он, смеша и „смеясь, невидимо плакал“: оттого в его сатире и улеглась вся бесконечная Русь своею отрицательною стороною, со своей плотью, кровью и дыханием».3
Самый реализм Гончарова, его писательская манера, его обращение к изображению широких социальных полотен, его принцип создания типических образов — все это продолжало и развивало достижения и традиции Гоголя.
Особенно велика была роль Гоголя для великого писателя революционной демократии М. Е. Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин неоднократно указывал на значение Гоголя как «величайшего из русских художников»,4 вслед за Чернышевским считая Гоголя «родоначальником... нового, реального направления русской литературы; к нему, волею-неволею, примыкают все позднейшие писатели, какой бы оттенок ни представляли собой их произведения».5
«Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы», «История одного города» и многие другие произведения Щедрина продолжали и развивали принципы гоголевской сатиры, еще более обостряя и углубляя ее разоблачительную силу, придавая ей современную политическую целеустремленность, наполняя ее новым идейным содержанием.
Великий поэт-демократ украинского народа Тарас Шевченко отмечал в своем дневнике по прочтении «Губернских очерков» Щедрина: «Как хороши „Губернские очерки“... Я благоговею перед Салтыковым. О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих».6
- 256 -
У Гоголя учились лучшие представители украинской литературы — Тарас Шевченко, Иван Франко, Панас Мирный, Михайло Коцюбинский, Леся Украинка, Михайло Старицкий, Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). «Перед Гоголем, — отмечал Тарас Шевченко, — должно благоговеть, как пред человеком, одаренным самым глубоким умом и самою нежною любовью к людям!.. Гоголь — истинный ведатель сердца человеческого!».1
Горячую народную любовь заслужили произведения Гоголя и в других славянских странах, оказав большое воздействие на развитие национальных славянских литератур. Выступая от лица чешского народа, проф. Я. Челяковский в дни гоголевского юбилея 1909 года сказал: «Мы счастливы, что он <Гоголь> не только Ваш, но и наш; он из самых популярных и любимых писателей у нас».2 Прогрессивные деятели чехословацкой культуры, во главе с Челяковским, Шафариком, Сабиной, высоко оценили творчество великого русского писателя, понимая все его значение в борьбе с абсолютизмом австро-венгерской монархии. Гоголь оказал непосредственное влияние на творчество многих виднейших чехословацких писателей — Божену Немцову, Яна Неруду, Алоиза Ирасека и других, следовавших за ним по путям развития критического реализма.
Огромную роль сыграли произведения Гоголя и в болгарской передовой литературе. Классик болгарской литературы Иван Вазов называл Гоголя «своеобразным гением, волшебным художником», «отцом современной литературной школы».3
Представители болгарской общественности в своем приветствии в дни юбилея писателя, в 1909 году, писали: «Мы преклоняемся и благоговеем перед памятью гениального русского поэта, который своими бессмертными творениями дал новое направление русской мысли, показал художественную мощь русского слова, прославил на весь мир русское имя».4
Творчество Гоголя приобрело мировое значение. Французский критик Мельхиор де Вогюэ в своем выступлении на открытии памятника Гоголю в Москве в 1909 году отмечал, что «за пределами славянского мира Гоголь простирает свою власть на все человечество...».5 Сила реалистического изображения действительности, создание типических образов, сатирическая мощь произведений Гоголя, одушевленных высокими гуманными идеалами, — завоевали Гоголю почетное место и широкое признание во всей мировой литературе.
Произведения писателя еще при жизни его получили широкую мировую известность. В 1845 году в Париже были изданы «Повести» Гоголя (в состав книги вошли «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики» и «Вий») в переводе Луи Виардо, осуществленном с помощью И. С. Тургенева. Эта книга, встреченная французской прессой большими похвалами, стала на длительное время источником знакомства с Гоголем западноевропейских читателей. Особенно широкое распространение получила повесть «Тарас Бульба», которая в обстановке подъема национально-освободительного движения во всей Европе была с восторгом встречена в таких странах, как Чехия, Венгрия, Италия, Германия, и переведена на языки этих стран.
- 257 -
Белинский в 1846 году писал по поводу вышедшего незадолго перед тем сборника повестей Гоголя на французском языке, что «самый интересный для иностранцев русский поэт есть Гоголь», подчеркивал «замечательный успех» переводов его повестей во Франции (X, 140). Не менее восторженный отклик вызвал во Франции перевод «Мертвых душ».
Сент-Бев, лично встречавшийся с Гоголем, отмечал в произведениях русского писателя глубину и правдивость в изображении жизни, особенно восхищаясь мощью и эпическим размахом «Тараса Бульбы», сравниваемого им с трагедиями Шекспира. Не менее высокую оценку дал Гоголю и другой его современник — известный французский писатель Мериме, переведший на французский язык «Ревизора». Мериме, Додэ, Диккенс, Голсуорси и другие западноевропейские писатели высоко ценили Гоголя и испытали его положительное воздействие.
По свидетельству П. Лафарга, К. Маркс, занимаясь русским языком и читая русских писателей, особенно высоко ценил, наряду с Пушкиным и Щедриным, Гоголя.1 О значении Гоголя для западноевропейской литературы хорошо сказал известный прогрессивный критик Георг Брандес в своем приветствии в дни гоголевского юбилея, обращаясь к русским писателям: «Благодаря Гоголю, создателю реальной, правдивой школы в вашем поэтическом творчестве, вы опередили остальную Европу».2 Не менее определенно заявили об этом и английские писатели, во главе с Джоном Голсуорси, отметившие в своем послании в день столетия годовщины рождения Гоголя его значение для английской и вообще всей мировой литературы. Отмечая замечательное новаторство и вместе с тем глубокую идейность и демократизм творчества Гоголя, они видят их в «бесстрашии выбора и обработки сюжета, в презрении к правилам износившейся традиции и к узким вкусам самодовольного общества, для которого всякое нарушение его покоя ненавистно...».3
Обаяние могучего гения Гоголя, смело выступавшего против всего того, что принижает, уродует, калечит человека в эксплуататорском обществе, было столь велико потому, что созданные им образы и типы при всем своем национальном своеобразии приобретали широкое, обобщающее значение, призывали к борьбе с «пошлостью» и ложью буржуазного общества. Особо следует отметить широкую популярность творчества великого русского писателя в народном Китае. Произведения Гоголя оказали и оказывают большое влияние на развитие современной китайской литературы. Блестящий успех имел перевод «Мертвых душ», сделанный основоположником новой китайской литературы Лу Синем и издававшийся более 15 раз. Произведения Гоголя учили китайский народ ненавидеть своих феодалов, продажных гоминдановских бюрократов, компрадорскую буржуазию. Комедия «Ревизор» неоднократно ставилась и ставится на китайской сцене. Она хорошо известна и в Индии.
Мировое значение творчества Гоголя в социальной обобщенности и смелости его сатиры, срывавшей маску добропорядочности и лицемерия со всего эксплуататорского строя. Гоголь во многом превосходит силой своего обличения произведения западноевропейских писателей, показав пример реалистически правдивой сатиры. Он создал галерею типических образов, по своей реалистической выразительности и по своему типизму не имеющих равных в европейских литературах.
- 258 -
Еще Белинский подчеркнул необычайную обобщенность и жизненную силу образов Гоголя, выражавших типические черты эксплуататорского общества. Говоря о значении образа Чичикова, как выражения ханжества, беспринципности и лицемерия представителей буржуазии, Белинский писал о его международной распространенности: «Те же Чичиковы, только в другом платье; во Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а подкупают живые души на свободных парламентских выборах! Вся разница в цивилизации, а не в сущности. Парламентский мерзавец образованнее какого-нибудь мерзавца нижнего земского суда; но в сущности оба они не лучше друг друга» (VII, 334).
Чернышевский указал на огромное обобщающее значение гоголевских типов, распространив их не только на явления русской действительности, но и западноевропейской. Так, говоря о сочинителях «унылых книжек и статеек», пишущихся преимущественно «на французском диалекте» на тему о «скоропостижной дряхлости» Запада, Чернышевский упоминает о западноевропейских Чичиковых и Маниловых: «Пишутся они отчасти французскими Маниловыми, отчасти французскими Чичиковыми, потому что, опять нечего греха таить, во Франции, как и повсюду, есть свои Маниловы и Чичиковы, отчасти людьми плутоватыми, отчасти добродушными, но вообще людьми отсталыми... Впрочем, и немецкие Маниловы фабрикуют подобные книжки и статейки в изрядном количестве и качестве, потому что Германия, довольно скудная Чичиковыми, преизобилует Маниловыми. Переводятся и переделываются они также и в Англии, но в меньшем количестве, потому что англичане мало расположены к маниловщине..., а Чичиковы там заняты биржевыми и фабричными проделками» (III, 83). Чернышевский образы Гоголя распространяет на тех представителей буржуазной реакции на Западе, которые пытались под разговоры о «бедной европейской цивилизации» устраивать свои делишки.
На жизненность и мировое значение образов, созданных Гоголем, указывал А. М. Горький, видя это значение в глубоком реализме писателя, сумевшего воплотить в своих образах типические черты классового эксплуататорского общества: «...им изображены люди с „мертвыми душами“ и это — жуткая правда; такие люди жили и живут еще до сего дня; изображая их, Гоголь писал как „реалист“».1
В. И. Ленин высоко оценил бессмертную галерею гоголевских типов и пользовался ими в своей полемике с реакционерами, буржуазными либералами, ренегатами и оппортунистами всех мастей, клеймя и разоблачая их низкие и подлые черты. Гоголевские образы в речах и статьях Ленина не только приобрели новую жизнь, но и получили углубленную и точную характеристику. Высмеивая сиятельного либерального помещика князя Е. Трубецкого, В. И. Ленин разоблачает фальшь и реакционное содержание его маниловской болтовни:
«Уже словечком „пугачевщина“ наш либерал обнаруживает свое полное согласие с Пуришкевичами. Разница только та, что Пуришкевичи произносят это слово свирепо и с угрозами, а Трубецкие по-маниловски, приторно, мягко, с фразами о культуре, с отвратительно-лицемерными возгласами о „новой крестьянской общественности“...».2 В своих многочисленных упоминаниях образа Манилова В. И. Ленин подчеркивает в нем отнюдь не его безобидную мечтательность, а лицемерие, вредность его показного «прекраснодушия». «Прекраснодушие» и либеральные фразы
- 259 -
Манилова — лишь прикрытие его эгоизма и классовой сущности собственника.1 В докладе на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года «О проекте Конституции Союза ССР» И. В. Сталин, возражая буржуазным критикам, пытавшимся охарактеризовать проект новой Конституции, как «сдвиг вправо», иронически сравнивает этих горе-критиков с дворовой девчонкой Коробочки, не умевшей «отличить правую сторону дороги от левой её стороны».2
Метким словом Гоголя, выхваченным писателем из народной речи, воспользовался И. В. Сталин и для характеристики тех обывателей, тех людей «неопределенного» типа, которые лишены политической сознательности. В своей исторической речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 года И. В. Сталин говорил: «О таких людях неопределённого типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределённого, неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь: „Люди, говорит, неопределённые, ни то, ни сё, не поймёшь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан“».3
В советскую эпоху произведения Гоголя стали впервые достоянием миллионных масс трудящихся и переведены на все языки народов Советского Союза. Художественные произведения писателя освобождены от искажений, внесенных в них царской цензурой. На сценах советских театров ставятся бессмертные комедии Гоголя. Советские художники создали большое количество ценных иллюстраций, раскрывающих образы произведений Гоголя.
Советская литература многим обязана Гоголю. Великий писатель-реалист показал пример глубокого и правдивого изображения жизни, типического изображения характеров, идейной содержательности каждого образа. Замечательный мастер слова, чудесный знаток русского языка Гоголь передал советским писателям огромное богатство своих словесных красок, выразительность и живописность своей художественной манеры.
Советская литература восприняла наследие не только Гоголя-сатирика, гневного и страстного обличителя собственнического строя, «пошлости пошлого человека», но и Гоголя-патриота, Гоголя — автора эпопеи «Тарас Бульба». Советская литература выступает достойной преемницей классических традиций — и в том числе традиций Гоголя.
Значение Гоголя не исчерпывается для нашей эпохи сатирическим обличением отжившего, эксплуататорского строя. Образы Гоголя далеко вышли за пределы того времени, когда были созданы. Сатира Гоголя, его меткое и беспощадное разоблачение в человеке всего гнусного и косного, что было проявлением собственнического, эгоистического начала, живет и в наше время. Она помогает беспощадно разоблачать все косное, отсталое, все то враждебное народу, что смертельно боится критики и самокритики, искоренять в сознании людей пережитки капитализма, направлять на их носителей разящий огонь сатиры. «Нам Гоголи и Щедрины нужны!» — писала в передовой статье, посвященной столетию со дня смерти Гоголя, «Правда».
- 260 -
Гоголевская сатира учит нас бороться с пережитками прошлого в советской действительности, правдивому и типическому показу язв жизни. В отчетном докладе ЦК ВКП(б) XIX съезду партии указано на это значение гоголевской традиции: «Неправильно было бы думать, что наша советская действительность не даёт материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнём сатиры выжигали бы из жизни всё отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперёд».
В день столетия со дня смерти великого русского художника слова 4 марта 1952 года «Правда» писала о мировом значении Гоголя: «Творец гениальных произведений, он содействовал развитию общественного самосознания своего народа, прославил русскую литературу, внес неоценимый вклад в мировую культуру. Им по праву гордится наша Родина, его имя с уважением произносят во всех странах света».1
СноскиСноски к стр. 131
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 11. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию (тт. I—XVI, 1939—1953).
2 М. И. Калинин о литературе. Л., 1949, стр. 81 и 83.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 286.
Сноски к стр. 133
1 См. Д. Иофанов. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Изд. Академии наук УССР, Киев, 1951, стр. 265 и сл.
2 Там же, стр. 368.
Сноски к стр. 134
1 С. Машинский. Гоголь и «дело о вольнодумстве». «Литературное наследство», кн. 58, М., 1952, стр. 515.
2 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. X, Изд. Академии Наук СССР, 1940, стр. 85. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию (тт. I—XIV, 1937—1953).
3 В. И. Любич-Романович. Гоголь в лицее. «Исторический вестник», 1902, № 2, стр. 554 и сл.
Сноски к стр. 135
1 Из воспоминаний Н. Ю. Артынова. Сб. «Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях» М., 1931, стр. 15.
Сноски к стр. 139
1 А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе. Записки и дневник, т. I, изд. 2-е, СПб., 1904, стр. 222.
2 П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1928, стр. 55.
3 В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, СПб., 1907, стр. 397. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию (тт. I—XI под редакцией А. С. Венгерова, 1900—1917, тт. XII—XIII под редакцией В. С. Спиридонова, 1926—1948). Цитирование по другим изданиям оговаривается особо.
Сноски к стр. 140
1 Пушкин, Полн. собр. соч., т. XI, Изд. Академии Наук СССР, 1949, стр. 216.
Сноски к стр. 146
1 В. В. Виноградов. О языке ранней прозы Гоголя. Сб. «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», т. II, Изд. Академии Наук СССР, М. — Л., 1951, стр. 109.
Сноски к стр. 152
1 См.: М. П. Алексеев. Драма Гоголя из англо-саксонской истории. В книге: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. II, Изд. Академии Наук СССР, М. — Л., 1936, стр. 242—285.
Сноски к стр. 154
1 П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. В издании: Пушкин, Сочинения, т. I, СПб., 1855, стр. 367—368.
Сноски к стр. 155
1 С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. СПб., 1913, стр. 10.
Сноски к стр. 156
1 П. В. Анненков. Литературные воспоминания. 1928, стр. 241.
Сноски к стр. 162
1 «Правда», 1954, 12 января, № 12 (12945).
Сноски к стр. 170
1 А. И. Герцен, Избранные сочинения, Гослитиздат, М., 1937, стр. 397.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 286.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 223.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 472.
Сноски к стр. 172
1 Пушкин, Полн. собр. соч., т. XII, 1949, стр. 27.
Сноски к стр. 183
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 7.
2 Пушкин, Полн. собр. соч., т. XVI, 1949, стр. 56.
Сноски к стр. 191
1 А. И. Герцен, Избранные сочинения. 1937, стр. 406—407.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 313.
Сноски к стр. 197
1 И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма. Гослитиздат, 1938, стр. 86.
Сноски к стр. 198
1 А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе. Записки и дневник, т. I. 1904, стр. 273.
2 «Русская старина», 1902, т. 111, № 7, стр. 100—101.
3 «Русская старина», 1881, т. 30, № 2, стр. 417.
Сноски к стр. 200
1 В. Г. Белинский о Гоголе. Гослитиздат, М., 1949, стр. 93. Принадлежность статьи «Московские записки» Белинскому доказана М. Поляковым («Театр», 1945, № 3—4, стр. 70—74).
Сноски к стр. 204
1 Белинский. Письма. Редакция Е. А. Ляцкого, т. II, СПб., 1914, стр. 25.
Сноски к стр. 205
1 Белинский. Письма, т. II. 1914, стр. 308.
2 А. И. Герцен, Избранные сочинения, 1937, стр. 407.
3 Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. М., 1931, стр. 247.
Сноски к стр. 206
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 554.
2 А. И. Герцен, Избранные сочинения, 1937, стр. 407.
Сноски к стр. 207
1 Прочие. — Ред.
2 А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. III, Пгр., 1919, стр. 35.
Сноски к стр. 210
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9.
Сноски к стр. 211
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 517.
Сноски к стр. 212
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 7, стр. 180.
Сноски к стр. 214
1 А. И. Герцен, Полн. собр. соч, т. III, Пгр., 1919, стр. 29.
2 Там же.
Сноски к стр. 222
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. X, Гослитиздат, М., 1936, стр. 56.
Сноски к стр. 224
1 С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. СПб., 1913, стр. 51.
2 «Русский вестник», 1842, № 5 и 6, отд. III, стр. 40, 43.
3 «Библиотека для чтения», 1842, т. 53, отд. VI, стр. 32, 37.
Сноски к стр. 229
1 В. Г. Короленко, Избранные произведения, Гослитиздат, М., 1947, стр. 470.
Сноски к стр. 230
1 «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 571.
2 Там же, стр. 572.
3 Там же, стр. 575.
4 Там же, стр. 581.
5 Там же, стр. 571.
6 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 223—224.
7 А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, 1952, стр. 18.
8 «Правда», 1952, № 64, 4 марта.
Сноски к стр. 232
1 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, 1934, стр. 237.
Сноски к стр. 233
1 М. С. Щепкин. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. СПб., 1914, стр. 174.
Сноски к стр. 239
1 «Русская старина», 1873, № 12, стр. 940—953.
Сноски к стр. 240
1 «Русское обозрение», 1894, т. 28, август, стр. 464.
Сноски к стр. 241
1 И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 10, изд. «Правда», М., 1949, стр. 242.
2 Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. I, Гослитиздат, М., 1948, стр. 65.
Сноски к стр. 244
1 К. Маркс — Ф. Энгельс об искусстве. М. — Л., 1937, стр. 163.
Сноски к стр. 250
1 В. Виноградов. Великий русский художник слова. «Правда», 1952, 4 марта.
2 Там же.
Сноски к стр. 251
1 «Русская старина», 1881, т. XXX, № 2, стр. 414, 415.
Сноски к стр. 252
1 И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 14.
Сноски к стр. 253
1 Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Сб. «Гоголь в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М., 1952, стр. 506.
Сноски к стр. 254
1 Н. В. Гоголь о литературе. Гослитиздат, М., 1952, стр. 225.
Сноски к стр. 255
1 А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. XVII, Пгр., 1922, стр. 231.
2 И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма. Л., 1938, стр. 157.
3 Там же, стр. 189.
4 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. X, Гослитиздат, М., 1936, стр. 56.
5 Там же, т. V, стр. 173.
6 Т. Г. Шевченко. Дневник. Гослитиздат, М., 1939, стр. 166.
Сноски к стр. 256
1 Т. Шевченко. Повна збірка творів, т. III, Київ, 1949, стр. 307.
2 Гоголевские дни в Москве. М., 1910, стр. 258.
3 Н. С. Державин. Иван Вазов. Жизнь и творчество. Изд. Академии Наук СССР, 1948, стр. 140.
4 Гоголевские дни в Москве. 1910, стр. 264.
5 Там же, стр. 144.
Сноски к стр. 257
1 К. Маркс — Ф. Энгельс об искусстве. М. — Л., 1937, стр. 662.
2 Гоголевские дни в Москве. М., 1910, стр. 148.
3 Там же, стр. 251.
Сноски к стр. 258
1 М. Горький. О литературе. Изд. 3-е, М., 1937, стр. 204.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 85.
Сноски к стр. 259
1 См. А. Г. Цейтлин. Литературные цитаты Ленина. Гослитиздат, М. — Л., 1934, стр. 65 и след.; М. В. Нечкина. Гоголь у Ленина. Сб «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. II. Изд. Академии Наук СССР, 1936; М. Н. Черневич. Гоголь и гоголевские образы в сочинениях В. И. Ленина (указатель). Там же.
2 И. Сталин. Вопросы ленинизма, Изд. 11-е, 1953, стр. 561.
3 И. Сталин. Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г. Госполитиздат, 1953, стр. 8.
Сноски к стр. 260
1 «Правда», 1952, № 64, 4 марта.