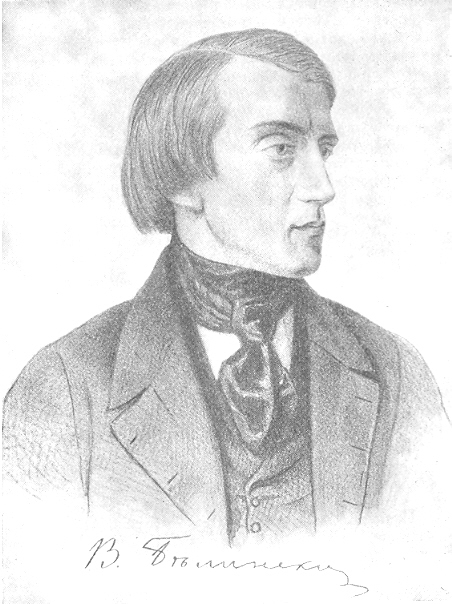- 35 -
БЕЛИНСКИЙ
- 36 -
- 37 -
Белинский вошел в историю русского освободительного движения и русской культуры как великий просветитель-революционер, как один из предшественников русской социал-демократии. И. В. Сталин назвал имя Белинского в числе выдающихся сынов великой русской нации непосредственно вслед за именами Ленина и Плеханова.
Революционная страсть и неукротимая энергия, свободолюбие и пламенный патриотизм — таковы черты, которые характеризуют облик Белинского. «Его можно любить или ненавидеть, — середины нет»,1 — говорил о нем Герцен. Глубочайший и самобытный мыслитель и теоретик, философ и ученый, Белинский в то же время обладал истинным поэтическим дарованием. Для всей его деятельности характерно именно это органическое единство творческой мысли и глубокого поэтического чувства. Все его литературно-критические работы, проникнутые глубоким демократизмом, согреты огнем подлинной поэтической страсти. «Белинский был тем, — вспоминал И. С. Тургенев, — что́ я позволяю себе назвать центральной натурой». Поясняя свою мысль, Тургенев добавлял, что Белинский «всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа».2 Делу освобождения народа Белинский и отдал всю жизнь.
Ленин писал в книге «Что делать?»: «...мы хотим лишь указать, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что́ это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература; пусть... да довольно и этого!».3
Давая отпор кадетским публицистам, поднявшим руку на самые дорогие имена для всех честных людей России, Ленин раскрыл прочную связь деятельности великого критика с подъемом революционных настроений народа.4
Деятельность Белинского, развернувшаяся в первый, дворянский период русского освободительного движения, по своему историческому содержанию предвещала, однако, второй — разночинский, или буржуазно-демократический период. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский», — писал Ленин.5 Ленинские высказывания о Белинском раскрывают исторический смысл всей деятельности великого критика.
- 38 -
Литературно-критическая деятельность Белинского, продолжавшаяся семнадцать лет, делится на два неравных периода: 1) с 1831 приблизительно до 1841 года, когда Белинский еще вырабатывал материалистическую и революционную идеологию, и 2) с 1841 года и до конца жизни, когда он, встав на революционные позиции, сделался просветителем-революционером и вождем молодой русской демократии.
Белинский пережил увлечение философским идеализмом, одно время жестоко ошибался и даже теоретически примирялся с самодержавием (в 1837—1839 годах), но он осознал свои заблуждения и ошибки, подверг критике идеализм и перешел на позиции материализма. О трудностях, которые пришлось преодолеть Белинскому на путях к революционному и материалистическому мировоззрению, очень ярко сказал С. М. Киров в статье, посвященной столетию со дня рождения великого критика. Назвав Белинского «Моисеем русской общественной мысли, который вывел ее из темных лабиринтов голой абстракции на торную дорогу реализма», С. М. Киров писал: «В течение своей короткой жизни он прошел все тернии от бесплодной метафизики к научному миросозерцанию. Он поднял тот яркий светильник научного миросозерцания, который освещает путь нашему поколению. На могиле его, страстотерпца русской общественной мысли, и растет то дерево, под которым собираются жаждущие добра, красоты и справедливости».1
Вместе с Герценом Белинский создавал русскую материалистическую философию, распространяя материализм и на область эстетики. Уже наиболее проницательные современники Белинского понимали, что он был глубоко оригинальный русский мыслитель. Поэтому ошибочна созданная буржуазно-либеральной наукой концепция, согласно которой этапы идейного развития Белинского обозначались именами западноевропейских философов — Шеллинга, Фихте, Гегеля и Фейербаха. Всегда чуждый ученического подхода к науке и философии, Белинский в западноевропейской классической философии отбирал все то, что было в ней прогрессивного, и отбрасывал то, что вело к оправданию рабства и всяческого насилия над личностью.
Ошибочно и другое, многие годы распространявшееся, представление о Белинском как о «западнике». Мы знаем, что Белинский вел напряженную борьбу со славянофилами, защитниками докапиталистического патриархального строя, но Белинского нельзя причислять и к «западникам», идеализировавшим западноевропейские буржуазные порядки. Путь к подлинному подъему национальной культуры в России Белинский видел не в славянофильской «народности» и не в западническом «космополитизме», а в развертывании революционной борьбы самого народа. Признание необходимости и относительной прогрессивности капиталистического строя в России совмещалось у Белинского с острой критикой буржуазии. Он ясно понимал те ужасы и бедствия, которые капитализм несет народу.
Белинский беспощадно разоблачал отсталость крепостнической России и звал на борьбу с этой отсталостью. Он был подлинным интернационалистом и внимательно следил, в частности, за судьбами Франции, которая играла тогда роль мирового центра революционного движения. Но вместе с тем Белинский восставал против раболепного преклонения перед европейской цивилизацией и бичевал сторонников «фантастического космополитизма». Как свидетельствует один из современников Белинского, он выражал
- 39 -
уверенность в том, что «Россия лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа».1 В мечтах своих Белинский видел Россию, «стоящую во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству, и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества» (XII, 224).2 Великая Октябрьская социалистическая революция осуществила предвидения Белинского, а он сам остался для нас живым деятелем, нашим современником.
1
Виссарион Григорьевич Белинский родился 1 июня (13 по нов. ст.) 1811 года3 в городе Свеаборге, в семье флотского лекаря. Его детские годы прошли в городе Чембаре Пензенской губернии, куда в 1816 году перевелся на службу его отец.
Одиннадцатилетнего мальчика отдали в Чембарское уездное училище, по окончании которого Белинский поступил в Пензенскую гимназию. Еще в отрочестве у Белинского определились необыкновенная самостоятельность мышления, с годами укрепившееся в нем чувство независимости и собственного достоинства — характерные черты его интеллектуального и нравственного облика.
С ранних лет Белинский сталкивался с ужасами крепостного права и помещичьего произвола. Впечатления детства и юности сформировали демократизм Белинского, ставший основой его идейных исканий. Глубокий патриотизм, вера в силу разума, страстные поиски правильной теории, направленной на переустройство общества, — вот что характеризует Белинского на всем протяжении его деятельности.
Не окончив гимназии, Белинский отправился в Москву и с осени 1829 года стал студентом Московского университета по словесному факультету. Занятия в университете, а также товарищеское общение со студентами помогли Белинскому осознать богатые жизненные впечатления и наблюдения, способствовали развитию у него критического отношения к действительности.
Важнейшим фактором в развитии мировоззрения Белинского явились освободительные традиции передовой русской общественной мысли и литературы. Юношескую драматическую повесть Белинского «Дмитрий Калинин», с ее антикрепостническим пафосом, исследователи справедливо связывают с революционными идеями книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Новейшие исследования показали, что к восприятию творчества Радищева Белинский был подготовлен еще в Пензе, где он читал и изучал передовых русских писателей XVIII века. Ко времени поступления в университет Белинский был уже широко образован.
После разгрома восстания декабристов Московский университет сделался одним из очагов передовой независимой мысли в России. В общении с университетской молодежью, в студенческих кружках Белинский
- 40 -
нашел благоприятную почву для своего идейного роста. В 1830—1832 годы Белинский участвовал в студенческом «Литературном обществе 11 нумера», где была прочитана его драматическая повесть «Дмитрий Калинин». В этой повести, отразившей реальные впечатления крепостной действительности, которую знал Белинский с детства и юности, нашли отклик революционные идеи Радищева, а также идеи и образы декабристской поэзии. Память о декабристах жила среди студентов Московского университета: о них помнили в революционном кружке Сунгурова; традиции декабристской поэзии продолжил Полежаев, с которым жестоко расправилось николаевское правительство незадолго до поступления Белинского в университет.
Белинский был разночинцем-демократом, начинавшим свою деятельность через несколько лет после восстания декабристов. Он видел, что путь, которым шли декабристы, не привел к победе, а других, новых путей борьбы с крепостническим строем нужно было еще искать. Однако идея свободы человеческой личности, завещанная декабризмом, осталась для него несокрушимой. В предисловии к «Дмитрию Калинину» Белинский говорит о назначении, судьбе человека, о его нравственном величии. К той же идее он возвращается и в «Литературных мечтаниях». «Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека» (I, 370), — утверждает Белинский в своей знаменитой «элегии в прозе». Не только обличением крепостничества — «гибельного права» — «одним людям порабощать своей власти волю других, подобных им существ» (I, 122), — но и всей драматической коллизией «Дмитрий Калинин» продолжает и развивает традиции декабристской поэзии. Гневный обличительный пафос сливается в драматической повести Белинского с мотивами роковой обреченности и гибели, которые опять-таки сближают «Дмитрия Калинина» с поэзией декабризма. В драматической повести Белинского объединились характерные для поэзии декабризма революционно-освободительные идеи с романтически-идеалистическими началами. Эти начала, окрашивающие, например, гражданскую поэзию Рылеева, с ее мотивами обреченности и гибели, обусловливались тем, что декабристы, как указывает В. И. Ленин, были еще страшно далеки от народа.
Продолжение и углубление освободительных идей, унаследованных от декабризма, стремление обосновать их на почве реальной действительности, поиски таких путей человеческой деятельности, которые ведут к подлинно разумному общественному строю, — все это составляло содержание исканий Белинского.
Надеясь на издание «Дмитрия Калинина», Белинский представил пьесу в цензуру. Начальство университета пришло в ужас от умонастроения автора пьесы. Нечего было и думать о напечатании произведения, признанного «безнравственным, позорящим университет» (I, 128). В сентябре 1832 года Белинский был исключен из университета — формально «по слабости здоровья» и «по ограниченности способностей», а на деле, конечно, за «неблагонадежность».
Слабость массового революционного движения в середине 30-х годов затрудняла формирование мировоззрения Белинского, тормозила его теоретическую мысль. Серьезные препятствия для дальнейшего развития освободительных идей создавала также идеалистическая философия, которая в последекабрьскую эпоху, в условиях политической реакции, получила значительное распространение в России. В плену философского идеализма оказался кружок Станкевича, с которым в 1833—1837 годы тесно связан был Белинский и из которого не случайно впоследствии вышли и славянофил
- 41 -
К. Аксаков, и либерал В. Боткин, и представитель воинствующей реакции М. Катков. Идеалистическая философия захватила и Белинского, она привела его к временным теоретическим заблуждениям, но подлинной основой всех исканий Белинского в 30-е годы было стремление обосновать и защитить освободительные идеи. Именно освободительные идеи, завещанные Радищевым и декабристами, определявшие прогрессивное развитие русской литературы, питавшие творчество Пушкина, Гоголя и Лермонтова, давали Белинскому надежную опору и ориентировку в его исканиях. Из опыта гражданской поэзии декабристов Белинский унаследовал представление о громадном общественном значении художественного слова и о миссии поэта, призванного вести борьбу со всем отживающим и способствовать развитию нового и передового в жизни.
Печататься Белинский начал еще будучи студентом университета. Первыми его печатными произведениями, опубликованными в московском журнале «Листок» 1831 года, были — стихотворение «Русская быль» и рецензия на анонимную критическую брошюру о «Борисе Годунове» Пушкина. После исключения из университета Белинский жил, пробавляясь грошовыми уроками и переводами. Положение его несколько улучшилось с весны 1833 года, когда Н. И. Надеждин привлек Белинского к сотрудничеству в «Телескопе» и «Молве». Начав с переводов и мелких рецензий, Белинский вскоре же занял в журналах Надеждина положение руководящего сотрудника по критическому отделу. В течение сентября — декабря 1834 года Белинский напечатал в «Молве» свою первую большую критическую работу «Литературные мечтания». На протяжении 1835—1836 годов были опубликованы такие значительные статьи Белинского, как «О русской повести и повестях Гоголя», «Стихотворения Алексея Кольцова», «Стихотворения В. Бенедиктова», «О критике и литературных мнениях Московского наблюдателя». С каждой новой статьей ширилась известность Белинского.
Несмотря на то, что в 1834—1836 годах Белинский в общих вопросах философии оставался на позициях идеализма, несмотря на то, что в эти годы он не выступал с прямыми обличениями феодально-крепостнической действительности, его статьи тех лет, отмеченные смелостью и оригинальностью и глубоким демократизмом, будили русскую мысль и имели огромное прогрессивное значение.
Ярко выразив в «Литературных мечтаниях» свой идеал разумного будущего, основанного на всеобщем благоденствии, Белинский настойчиво и непрестанно искал путей для осуществления этого идеала. Поэтому каждый философский вопрос превращался у него в вопрос глубокой жизненности и связывался с борьбой за права народа, с назначением и достоинством человеческой личности.
Так, в середине 30-х годов Белинский на короткое время пришел к выводу, что «идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота» (Письма, I, 123).1 Это положение развито Белинским в его статье об «Опыте системы нравственной философии» Дроздова (1836). Статье этой суждено было стать последней статьей Белинского в «Телескопе». Через месяц с небольшим журнал подвергся разгрому за напечатание в нем «Философического письма» П. Я. Чаадаева, и литературная деятельность Белинского была, таким
- 42 -
образом, насильственно прервана. Оставшись без работы, Белинский испытывал крайнюю нужду. Но его теоретические и философские искания не прекращались.
Представление о том, что идеальная жизнь есть положительная жизнь, а действительная жизнь есть призрак, было осуждено Белинским, ибо оно логически вело к пренебрежению реальной действительностью, внутренними законами ее развития. Без понимания же этих законов мечты об идеальной действительности оставались пустыми мечтами.
К осени 1837 года наступает поворот в философском развитии Белинского. Белинский пытается вступить на путь выработки исторического метода мышления. Но ему не сразу удается это. Идея закономерности исторического процесса была в эту пору понята Белинским недиалектически, вследствие чего он и счел себя вынужденным утверждать приятие действительности такой, какой она была, т. е. теоретически примириться с самодержавием. Эти ошибочные идеи Белинский развивал в течение 1837—1839 годов.
С весны 1838 года Белинский получил возможность возобновить прерванную журнальную работу. В руки его друзей перешел «Московский наблюдатель», с которым он полемизировал, когда сотрудничал в журналах Надеждина. Сделавшись органом кружка Станкевича, «Московский наблюдатель» стал журналом нового направления. Под редакцией Белинского он издавался всего один год, отразив, однако, существенно-важный момент в развитии великого критика.
Первая книжка «Московского наблюдателя» открывалась переводом «Гимназических речей» Гегеля с предисловием переводчика М. Бакунина. В предисловии торжественно провозглашалось, что «примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени» (IV, 492). Программный характер носила также опубликованная в нескольких номерах журнала (1838, май, кн. 2; июнь, кн. 1 и 2) обширная статья гегельянца Рётшера «О философской критике художественного произведения», снабженная предисловием переводчика М. Каткова. В отделе художественной литературы в «Московском наблюдателе» преобладали переводы, причем на первом месте стояли Гёте и Шекспир. Переводились также стихотворения Шиллера и Гейне; значительное место было отведено переводам повестей Гофмана. В поэтическом отделе печатались стихотворения Кольцова, Клюшникова и Красова.
В «Московском наблюдателе» Белинский напечатал свыше 120 рецензий, обзоров, статей и заметок. Из числа наиболее значительных его работ назовем «Литературную хронику», намечавшую принципы новой редакции журнала и прокламировавшую отказ от всякой полемики; статью «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета»; наконец — теоретическое введение к неосуществленным статьям о Фонвизине и Загоскине. В «Московском наблюдателе» также была напечатана вторая и последняя пьеса Белинского «Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь», которая с успехом ставилась на московской сцене.
Развивая идеи «примирения» с действительностью, Белинский вместе с М. Бакуниным объявил борьбу французскому рационализму, материализму и атеизму. На французскую литературу Белинский обрушивается в эту пору за то, что она стремится быть выражением мнения «общества», а не вечных идей, и на французскую критику за то, что в произведениях искусства она ищет прежде всего «клеймо века не как исторического момента в абсолютном развитии человечества, или даже и одного какого-нибудь народа, а как момента гражданского и политического».
- 43 -
Вместе с М. Бакуниным Белинский в 1838—1839 годах видел художественное воплощение «разумной действительности» в поэзии Гёте. У Гёте и Шекспира, как доказывал Белинский, выражена «та же самая истина», которая составляет содержание «мирообъемлющей и последней философии нашего века» (III, 225). Еще в пору «Литературных мечтаний» Шекспир был для Белинского идеалом поэта. В 1838—1839 годах в числе «первостепенных гениев искусства» (III, 292) Белинский называет имена Омира (Гомера), Шекспира и Гёте. К этим трем именам «всеобъемлющих поэтов» Белинский вскоре присоединит и имя Пушкина.
В пору «Московского наблюдателя» теоретические взгляды Белинского на искусство и литературу вытекали из его общефилософских положений о «разумной действительности». Художественное произведение Белинский трактовал тогда как выражение одного из моментов в развитии абсолютной идеи или сознания, поскольку все идеи «суть не иное что, как одна движущаяся, развивающаяся идея бытия, которая проходит чрез все ступени, все моменты своего развития» (IV, 8).
Теоретически изолируя искусство от всех других явлений жизни, как частных, Белинский соответственно истолковывал и задачи критики. Принципы французской общественной критики, являвшейся предметом особой его неприязни в 1838—1839 годах, согласно тогдашним взглядам Белинского, могли иметь только относительное значение.
Высшим родом критики Белинский признавал тогда только философскую критику. Назначение философской критики он видел в том, чтобы изучать абсолютную идею в ее многоразличных индивидуальных воплощениях.
«Московский наблюдатель», издававшийся под редакцией Белинского, прекратил свое существование весной 1839 года.
Вскоре после этого Краевский, только что возобновивший в Петербурге издание «Отечественных записок», пригласил Белинского вести отдел критики и библиографии, предоставив ему полную самостоятельность, но поставив условием, что все статьи и рецензии в журнале будут печататься без подписи Белинского.
Со времени переезда в 1839 году в Петербург для Белинского началась новая полоса жизни и деятельности. Семь лет, с 1839 по 1846 год, Белинский работал в «Отечественных записках», являясь виднейшим сотрудником журнала и главным его вдохновителем. Именно он обеспечил «Отечественным запискам» славу лучшего журнала первой половины 40-х годов.
В 1839 году торжественно праздновалась годовщина знаменитого Бородинского сражения, вошедшего в историю как великая победа русского народа над всеевропейской диктатурой Наполеона.
Еще до переезда в Петербург Белинский написал в Москве две статьи — «Бородинская годовщина» и «Очерки Бородинского сражения». Вскоре после переезда в Петербург были написаны еще две статьи — «Менцель, критик Гёте» и «Горе от ума». В этих четырех статьях Белинский прошел весь круг «примирения с действительностью».
Первая из названных статей была написана Белинским в порядке рецензирования двух брошюр — В. А. Жуковского «Бородинская годовщина» и И. Н. Скобелева «Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду», вторая статья явилась откликом на книгу Ф. Н. Глинки «Очерки Бородинского сражения». Пафосом этих статей Белинского было осознание Бородинского сражения как исторического народного события и великого явления мировой истории. Рассмотрение этой конкретной темы Белинский
- 44 -
связал с широкой постановкой вопроса о сущности исторического процесса вообще.
Белинский совершенно самостоятельно пришел к признанию необходимости сближения с действительностью. «Так в горниле моего духа выработалось самобытно значение великого слова действительность», — с гордостью заявлял Белинский, утвердившийся в мысли, что «личное свободное стремление, не примиренное с внешнею необходимостию, вытекающею из жизни общества, производит коллизии» (Письма, I, 228, 232). К правильному пониманию того, что «самая свобода есть не произвол, но согласие с законами необходимости» (Письма, I, 173), Белинский подошел еще до знакомства с философией Гегеля. Не философия Гегеля, а русская жизнь середины 30-х годов, с ее слабостью массового революционного движения, толкнула Белинского на ложный путь «примирительных» умонастроений. Невозможность найти реальную опору для борьбы с крепостничеством и самодержавием привела Белинского к выводу, что «гражданская свобода» будто бы «должна быть плодом внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода приобретается сознанием. И таким-то прекрасным путем достигнет свободы наша Россия», — заключил Белинский в письме к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года, опять-таки еще до знакомства с философией Гегеля (Письма, I, 92). Заблуждения и ошибки теоретической мысли Белинского, обусловленные незрелостью общественных отношений в России середины 30-х годов, были усугублены им в процессе освоения философии Гегеля.
«Примирительные умонастроения», временно захватившие Белинского, вступали в вопиющее противоречие с его революционными устремлениями. «Белинский, самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, — писал Герцен, — проповедывал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы».1
Ложные идеи «примирения с действительностью», найдя у Белинского применение к вопросам общественной жизни и истории, вовлекли его в серьезные политические заблуждения (например статьи «Бородинская годовщина» и «Очерки Бородинского сражения», с их оправданием самодержавия), а также отрицательно сказались в его литературно-критических работах и в некоторых глубоко ошибочных оценках той поры, например в оценке «Горя от ума» Грибоедова.
Находясь в апогее своих «примирительных» умонастроений, Белинский справедливо подчеркивал самостоятельность, независимость своих критических суждений и эстетических оценок. «Когда дело идет об искусстве, — писал Белинский, — и особенно о его непосредственном понимании, или о том, что называется эстетическим чувством, или восприемлемостию изящного, — я смел и дерзок, и моя смелость и дерзость, в этом отношении, простираются до того, что и авторитет самого Гегеля им не предел» (Письма, I, 266).
В статьях о Бородинской годовщине Белинский игнорировал «идею отрицания, как исторического права»; в статье о Менцеле он пытался доказать, что и искусство не нуждается в ней. «Дело художников — созерцать „полное славы творенье“ и быть его органами, а не вмешиваться в дела политические и правительственные» (IV, 469). Белинский восставал против критиков, смотревших на поэта «как на подрядчика, которому можно заказывать в одно время — воспевать святость брака, в другое —
- 45 -
счастие жертвовать своею жизнию за отечество, в третье — обязанность честно платить долги...» (IV, 461).
Исходя из идеи «примирения с действительностью», Белинский давал в статье сравнительную оценку Гёте и Шиллера. Как и в пору «Московского наблюдателя», Гёте он превозносил, считая его творчество воплощением подлинного искусства; Шиллера, напротив, резко порицал, говоря, что его трагедии «решительно-безнравственны» (IV, 481); романы Жорж Занд характеризовались им как «один другого нелепее и возмутительнее» (IV, 461), а идеи писательницы, о всемирноисторическом значении которой Белинский будет говорить через два года, вели, по его словам, к уничтожению «священных уз брака, родства, семейственности» (IV, 462).
«Художественная точка зрения довела было меня до последней крайности нелепости», — писал Белинский Боткину (Письма, II, 232) через год после появления в печати «гадкой статьи о Менцеле», как он стал ее впоследствии называть.
1840—1841 годы были годами перелома в идейном развитии Белинского. В эти годы позиция Белинского в социально-политических вопросах, которые становятся в центре его внимания, начинает определяться как позиция революционного демократа. Переход Белинского на революционно-демократические позиции отражал дальнейшее углубление и обострение классовой борьбы вокруг вопроса о крепостном праве. Одновременно с идеологическим самоопределением Белинского оформляется, с одной стороны, группа славянофилов, с другой, — группа западников. Западничество, идеализировавшее западноевропейские буржуазные порядки, было враждебно Белинскому, равно как была чужда и враждебна ему и славянофильская идеализация российской отсталости, сводившаяся, в сущности, к признанию нерушимости устоев самодержавия.
В понимании действительности Белинский в 1840—1841 годах переходит с метафизических позиций на диалектические; как и Герцен, он начинает истолковывать диалектику, как «алгебру революции». Известное положение Гегеля он разъясняет теперь в том смысле, что «не все то действительно, что есть в действительности», что существующее действительно лишь постольку, поскольку оно необходимо, т. е. способствует, а не препятствует развитию действительности. Раскрывая революционную сущность диалектики, Белинский теперь по-новому истолковывает идею отрицания, которую раньше он считал неприменимой к законам развития общественной жизни.
Если раньше Белинский во имя «общего» требовал подчинения этому «общему» личности, то теперь живая человеческая личность выдвигается им на первый план. Одновременно с идеей личности Белинский выдвигает и обосновывает идею социализма. Он не мыслит освобождения личности вне освобождения народа.
В сентябре 1841 года Белинский писал Боткину: «Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству... Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братиями моими!» (Письма, II, 266). Теперь лозунгом Белинского становится «социальность». «Социальность, социальность — или смерть!» — восклицает он в том же письме. Идею
- 46 -
социальности он понимает в духе утопического социализма. «Итак, я теперь в новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Всё из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию» (Письма, II, 262).
Сочетая идею освобождения личности с идеей социализма, Белинский не сходится ни с одним из социалистов-утопистов. Их теории шли вразрез с учением об объективной закономерности исторического развития, в то время как Белинский стремился обосновывать социалистический идеал объективной логикой исторического процесса. Попытка объективного обоснования идеи социализма была сделана Белинским в статье о книге Лоренца «Руководство к всеобщей истории» (1842).
Белинский утверждал, что новый общественный строй невозможно установить мирным эволюционным путем. В связи с этим замечательно признание Белинского, что он начинает «любить человечество маратовски». (Письма, II, 247), Заявляя, что физическое и нравственное улучшение человека может быть достигнуто через «социальность», Белинский провозглашал, что «нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови... Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов» (Письма, II, 269).
С этой точки зрения Белинский заново пересматривает историю человечества. С начала 40-х годов его героями становятся «разрушители старого». Белинский приходит к убеждению, что новый общественный строй «утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной жиронды», а «обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов» (Письма, II, 305).
Все это характеризует Белинского как демократа и революционера, последовательно и решительно отстаивавшего идею отрицания, идею революционной борьбы. За исключением Герцена никто из друзей Белинского не мог разделить его взглядов и убеждений. Характерен в этом отношении спор Белинского с Грановским, который отрицательно отзывался о Робеспьере и защищал жирондистов. Разногласия между революционером и либералом здесь вскрылись совершенно отчетливо.
Эволюция общественно-политических взглядов Белинского не могла не повлечь и эволюции его философских взглядов. Стремясь к революционному преобразованию действительности, Белинский ищет для обоснования этого правильную научную теорию. В силу экономической отсталости России и неразвитости классовой борьбы Белинский не мог до конца завершить начатое им дело.
«Манифест коммунистической партии», опубликованный Марксом и Энгельсом за несколько месяцев до смерти Белинского, надо думать, остался ему неизвестен. Однако с первыми произведениями основоположников научного коммунизма Белинский был знаком. В 1845 году он читал работы Маркса («К критике гегелевской философии права» и «К еврейскому вопросу») и Энгельса («Очерки критики политической экономии»), помещенные в «Deutsche-französische Jahrbücher» («Немецко-французских ежегодниках»). Под впечатлением прочитанного 26 января 1845 года Белинский писал Герцену: «Истину я взял себе, — и в словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что́ я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее
- 47 -
нельзя популяризировать и обнародовать? — мертвый капитал!» (Письма, III, 87).
Белинский не мог дойти и не дошел до научного социализма и диалектического материализма, но он шел в направлении к ним, умел и в условиях царской цензуры проводить свои революционные взгляды.
В статье о «Парижских тайнах» Э. Сю (1844) Белинский дал оценку французской революции 1830 года. Противопоставляя интересы буржуазии и интересы народа, Белинский утверждал в этой статье, что народ, совершивший революцию, ничего не выиграл. В противоположность утопическим социалистам, Белинский верил в исторический разум самих народных масс, и поэтому залог будущего Франции он видел в народе.
В процессе формирования революционно-демократических взглядов Белинского перерабатывались и его эстетические воззрения, изменялись его оценки литературных явлений и фактов.
Свои философско-общественные убеждения Белинский отстаивал со всей силой присущего ему огненного темперамента, с неукротимой энергией борца. Таков был Белинский и в жизни, среди друзей. «В этом застенчивом человеке, — писал о нем Герцен, — в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура! Да, это был сильный боец!».1
В России не было еще тогда революционной партии, но Белинский не мог отказаться от «действия», от практической работы, которая способствовала бы освободительному движению.
«Что ж делать при виде этой ужасной действительности?», — спрашивал Белинский и отвечал: «Не любоваться же на нее, сложа руки, а действовать елико возможно, чтобы другие потом лучше могли жить, если нам никак нельзя было жить. Как же действовать? Только два средства: кафедра и журнал...» (Письма, II, 191—192).
Белинский осознал свои задачи и приложил все силы к тому, чтобы максимально использовать для «действия» журнал. «Отечественные записки» стали его трибуной. Здесь печатались его ежегодные критические обзоры русской литературы; здесь появились его статьи о Грибоедове, Лермонтове, о «Мертвых душах» Гоголя, о Крылове; наконец, здесь был опубликован цикл его статей о Пушкине.
О том, как воспринимались статьи Белинского передовой молодежью 40-х годов, рассказывает Герцен: «Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли „Отечественные записки“; тяжелый нумер рвали из рук в руки. „Есть Белинского статья?“ „Есть“, — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, уважений как небывало».2
Белинский смело разрушал старые кумиры и авторитеты, он с исключительной энергией боролся со всякой фальшью в литературе, с аристократическими и кастовыми тенденциями. В то же время он поддерживал и развивал прогрессивные стремления русских писателей, направляя их на путь расширения художественных интересов, на путь обращения к народу. Судьбы русской литературы Белинский не отделял от исторических путей русского народа, от путей освободительного движения.
Однако возможности журнала были для Белинского очень ограничены. Ему приходилось писать только на литературные темы, потому что политических
- 48 -
вопросов по условиям царской цензуры касаться было нельзя. Белинский вынужден был всячески скрывать и маскировать свою программу. И это приносило ему много страданий. «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, — писал он Боткину, — а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи» (Письма, III, 184).
Поняв революционную сущность диалектики, перейдя на позиции отрицания и революционной борьбы, Белинский осудил мысль о независимости искусства от общественной борьбы. Начиная с 1840—1841 годов Белинский с каждым годом все глубже и решительнее обосновывает задачи искусства как великого орудия в освободительной борьбе. Это можно, в частности, проследить по его статьям «Стихотворения М. Лермонтова» (1841), «Разделение поэзии на роды и виды» (1841), о «Мертвых душах» Гоголя (1842), «Речь о критике А. Никитенко» (1842) и др.
Учение Белинского о реализме, выработанное в первый период его деятельности, теперь углубляется и дополняется требованиями «субъективности» и «социальности». О «субъективности» как существеннейшем принципе передового искусства Белинский впервые говорит в статье «Стихотворения М. Лермонтова».
Понятие «субъективности» для Белинского было неразрывно с понятием «социальности», с идеей отрицания, которая только и позволяла произносить суд над явлениями жизни. Белинский доказывал, что «субъективность» и связанная с ней идея отрицания были необходимыми моментами развития самой объективной действительности. Вследствие этого «субъективность» художника могла только придавать силу поэтическому изображению и углублять его. Но «субъективность» не могла мириться с «субъективизмом» как выражением ограниченности личных взглядов.
В 30-е годы в общетеоретическом плане Белинский нередко трактовал процесс художественного творчества как стихийный. Теперь Белинский приходит к выводу, что сознательное творчество не может не быть выше бессознательного. И Белинский начал боевую полемику против понимания искусства как бессознательного и иррационального проявления творческого духа. Он показывал полную несостоятельность теории «искусства для искусства».
Полемизируя с представителем идеалистической эстетики профессором А. Никитенко, Белинский заявлял, что «изящество и красота еще не все в искусстве» (VII, 302). Белинский требовал от искусства «разумного содержания, имеющего исторический смысл, как выражение современного сознания» (VII, 304). Он со всей силой подчеркивал, что «наш век» «решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты» (VII, 304). Искусство как самоцель, искусство как бессознательное выражение творческого духа нашло в Белинском беспощадного противника. Идеалистическую концепцию искусства Белинский полемически воплощает в знаменитой формуле Гёте «Ich singe wie der Vogel singt» («Пою как птица»), которую высмеивает и в статье о Никитенко и в других своих критических работах. От искусства Белинский требовал сочувствия живым вопросам современности. Он доказывал, что искусство может быть великим только тогда, когда общественные тенденции станут пафосом художника. Белинский говорил, что «дать историческое направление искусству XIX века — значило гениально угадать тайну современной жизни. Байрон, Шиллер и Гёте — это философы и критики в поэтической форме» (VII, 304).
Глубину и силу искусства Белинский полагал в сознательных связях художника с современностью, с передовыми идеями общественной жизни.
- 49 -
Поэтому он и восставал против искусства как самоцели, поэтому он и высмеивал поэзию «птичьего пения». Белинский отвергал, в частности, любовную лирику, замкнутую в узкой сфере личных переживаний, равнодушную к идейной и общественной борьбе. В одной из своих рецензий 1845 года он писал: «Быть поэтом теперь значит — мыслить поэтическими образами, а не щебетать по-птичьи мелодическими звуками. Чтоб быть поэтом, нужно не мелочное желание выказаться, не грезы праздношатающейся фантазии, не выписные чувства, не нарядная печаль: нужно могучее сочувствие с вопросами современной действительности. Поэзия, которой корни находятся в прихотях, скорбях или радостях самолюбивой личности, носящейся, как курица с яйцом, с своими прекрасными чувствами, до которых никому нет дела, — такая поэзия, вместо внимания, заслуживает презрение. Всякая поэзия, которой корни не в современной действительности, всякая поэзия, которая не бросает света на действительность, объясняя ее, — есть дело от безделья, невинное, но пустое препровождение времени, игра в куклы и бирюльки, занятие пустых людей...» (IX, 353).
Итак, поэзия, согласно взглядам Белинского, должна объяснять действительность. И такую поэзию Белинский пропагандировал и отстаивал, предвосхищая одно из основных положений эстетики Чернышевского об обязанностях искусства выносить приговор изображаемой действительности.
Соответственно с изменением философско-общественных взглядов и с утверждением нового понимания искусства Белинский должен был внести существенные изменения и в свои прежние оценки литературы прошлого и современной ему литературы.
Изменилось прежде всего отношение Белинского к французской культуре, которую он отрицательно оценивал в пору своего примирения с действительностью за ее пристрастие к общественным вопросам. «Тяжело и больно вспомнить! — писал Белинский Боткину 11 декабря 1840 года. — А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества au drapeau tricolore? <с трехцветным знаменем, т. е. с республиканским>» (Письма, II, 186).
Начиная с 1840—1841 годов Белинский высоко ценит французскую литературу за «социальность», т. е. за насыщенность современными общественными идеями, и в дальнейшем, на протяжении всего второго периода его деятельности, все симпатии Белинского в этом отношении на стороне французов. Особое внимание Белинского теперь привлекают имена Беранже и Жорж Занд. «Я боготворю Беранже..., — сообщал Белинский Боткину в июне 1841 года, — это апостол разума, в смысле французов, это бич предания. Это пророк свободы гражданской и свободы мысли» (Письма, II, 250).
Творчество Жорж Занд, которое Белинский осуждал в 1838—1839 годах, теперь он восторженно приветствует и видит во французской писательнице борца за раскрепощение женщины. Характерно, что заново переоценив французскую литературу, Белинский склонен отнести к французскому направлению и Байрона, который «по пафосу своей поэзии, всего родственнее Франции и всего враждебнее своему отечеству» (VIII, 136).
Байрона Белинский называл «Прометеем нашего века» и иронизировал над русскими романтиками, не понявшими английского поэта и провозгласившими его «певцом отчаяния и эгоизма» (VIII, 8). Шиллер, отвергавшийся Белинским в 1838—1839 годах за «прекраснодушие», теперь восторженно
- 50 -
характеризуется им как великий поэт гуманности, творчество которого проникнуто пафосом любви к человечеству. Прежнее противопоставление «прекраснодушного» Шиллера «объективному» Гёте Белинским не только снимается, но и резко осуждается. Он подчеркивает, что «вообще мысль — считать Шиллера ниже Гёте — и нелепа, и устарела» (XI, 282).
Не раз возвращаясь в своих статьях к поэзии Шиллера и Гёте, Белинский вплотную подходит к пониманию исторической противоречивости и двойственности их творчества.
В современной Белинскому немецкой литературе он выделяет и приветствует то направление, которое ориентируется на демократическую и революционную Францию, и в особенности творчество Гейне.
Не было ни одного сколь-нибудь значительного и важного явления мировой литературы, которое бы прошло мимо внимания Белинского. Он пристально и напряженно следит за движением передовой философско-общественной мысли в Западной Европе, за развитием западноевропейской литературы и искусства. Но в центре всех его интересов была русская жизнь и русская литература.
Защищая и обосновывая идею революционного отрицания, Белинский с каждым годом все глубже и отчетливее видел противоречие между великими возможностями русского народа или, как он выражался, между субстанциальной его основой и деспотическими формами социально-политического строя.
Задачи, которые Белинский ставил перед русской литературой, непосредственно вытекали из его общественно-политических убеждений. Он требовал от русской литературы служения делу освободительной борьбы, призывал ее подняться на уровень передовых общественных идей своего времени, быть правдивой, выражать объективные исторические интересы народа.
На протяжении всего второго периода своей деятельности Белинский защищал критическое, «отрицательное» направление в русской литературе, ниспровергая рутину и отсталость, разоблачая псевдонародную литературу, борясь с многочисленными врагами из охранительного лагеря.
Направление «Отечественных записок», а особенно, конечно, направление деятельности Белинского, не могло не вызывать вражды со стороны защитников самодержавия и феодально-крепостнического строя, со стороны идеологов старого порядка. С Белинским не только полемизировали и боролись, но его систематически травили, писали на него доносы.
Первое место в этом отношении заняли реакционно-рептильные «Северная пчела» и «Сын отечества» Булгарина и Греча, а также «Библиотека для чтения» Сенковского. Большинство статей в этих органах против Белинского и «Отечественных записок» было менее всего похоже на литературную полемику. Это была злобная травля, где площадная брань, всякого рода клевета и инсинуации переходили в прямые доносы. Белинскому же выступать против Булгарина в печати было очень трудно. Цензура, осведомленная о связях Булгарина с III Отделением, систематически вымарывала всякие выпады против него, боясь навлечь на себя гнев этого учреждения.
Белинскому пришлось бороться не только с Булгариным, но и с группой славянофилов (К. Аксаков, бр. Киреевские, Хомяков), а также с защитниками «официальной народности» Шевыревым и Погодиным, издававшими с 1841 года журнал «Москвитянин», который занял позиции, прямо противоположные позициям Белинского и «Отечественных записок».
Враждебные отношения между Белинским и Шевыревым определились еще в 30-е годы. Однако разногласия Белинского с Шевыревым в ту пору
- 51 -
шли преимущественно по линии философско-эстетической и литературно-критической, причем политический смысл разногласий Белинский тогда еще не вполне осознавал. К началу 40-х годов эти разногласия обострились, а политический смысл их раскрылся Белинскому до конца. Столкновения с «Москвитянином» начались у Белинского с первого же года издания этого журнала, причем вызов сделан был не «Отечественными записками» и не Белинским.
В 1842 году в программной статье «Взгляд на современное направление русской литературы»1 Шевырев выступил с обозрением «черной стороны» русской литературы. Он громил деятелей реакционно-рептильной журналистики — Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого, поставив с ними в одном ряду и Белинского, который изображался в виде «неизвестного, безыменного рыцаря, в маске и забрале, с медным лбом и размашистою рукою, готового на всех и на все, и ни перед кем не ломающего шапки».2 Главное обвинение, предъявленное Белинскому, заключалось в том, что Белинский «не хочет уважать никаких преданий, не признает никакого авторитета, кроме того, который он сам возведет в это звание...».3
Под псевдонимом Петра Бульдогова Белинский ответил Шевыреву уничтожающим памфлетом «Педант» (1842). Шевырев был изображен здесь в лице Лиодора Ипполитовича Картофелина, учителя словесности, поэта и критика.
«Педант» возбудил яростное негодование против Белинского в кругах «Москвитянина» и среди славянофилов. «Удар произвел действие, превзошедшее ожидания, — сообщал Боткин Краевскому 14 марта 1842 года, — у Шевырева вытянулось лицо, и он не показывался эту неделю в обществах. В синклите Хомякова, Киреевских, Павлова, если заводят об этом речь, то с пеною у рта и ругательствами... Ужасно вопиет Киреевский: ругает Белинского словами, приводящими в трепет всякого православного, и спрашивает Грановского: „Неужели вы не постыдитесь подать Белинскому руку?“. А Грановский имел бесстыдство ответить: „Не только не постыжусь подать руку, а хоть даже и на площади перед всеми обниму его“».4
«Педантом» началась открытая непримиримая борьба Белинского с представителями «официальной народности» и славянофилами. Разногласия во мнениях между Шевыревым и Погодиным, с одной стороны, и Хомяковым, бр. Киреевскими, К. Аксаковым — с другой, не помешали всем им соединиться в борьбе против Белинского и «Отечественных записок».
Борьба приняла особо ожесточенные формы, когда в Москве по рукам были распространены стихотворные пасквили Языкова, направленные против Белинского, Грановского, Герцена и Чаадаева («К не нашим», «Послание к К. Аксакову», «Послание к П. Я. Чаадаеву»). Появление этих пасквилей по времени совпало с опубликованием статьи Белинского «Русская литература в 1844 году», посвященной развенчанию славянофильской поэзии. И хотя не все славянофилы сочувственно отнеслись к языковским пасквилям, носившим явно «доносительный» характер, отношения сторонников Белинского и славянофилов приняли исключительно враждебные формы: дело чуть не дошло до дуэли между Грановским и П. В. Киреевским;
- 52 -
Герцен и К. С. Аксаков прекратили всякие личные отношения. Белинский ответил статьей о «Тарантасе» гр. Соллогуба, где дал убийственный памфлет на одного из лидеров славянофильства — И. В. Киреевского. И позднее — в статьях «Петербург и Москва» и «Русская литература в 1845 году» — Белинский, с замечательным искусством обходя цензуру, продолжал дело разоблачения ненавистной ему славянофильской идеологии.
В своих статьях Белинский подчеркивал и раскрывал помещичье-дворянскую сущность славянофильства. Славянофилы мечтали о «желто-сафьянной эпохе» (IX, 339) потому, писал Белинский, что «желтые сафьянные сапоги доказывали, по славянскому обычаю, ...дворянское достоинство» (IX, 338). В глазах Белинского славянофилы, являвшиеся защитниками дворянских привилегий, были враждебны народу и все их слова о народе, все стремления подделаться под народность и национальность носили демагогический характер.
Белинский доказывал, что в интересах большинства угнетенного народа необходима беспощадная борьба с крепостнической действительностью. Только эта борьба и могла, по мысли Белинского, обеспечить национальную самобытность русской культуры и развитие творческих сил народа. Белинский отстаивал национальное значение Гоголя именно потому, что в обличительной бичующей силе творчества автора «Мертвых душ» он видел один из могучих факторов роста России, русского народа и его национальной культуры.
Жизнь подтвердила чаяния и прогнозы Белинского. Через несколько лет после выхода в свет первого тома «Мертвых душ» Белинский мог наблюдать реальные плоды своей борьбы за Гоголя. Гоголевское направление, разъясненное и истолкованное Белинским, теоретически расширенное и углубленное им, сделалось столбовой дорогой русской литературы 40-х годов. Как представители гоголевского обличительного направления вступили в литературу в 40-е годы Некрасов, Герцен, Тургенев, Григорович, несколько позднее Гончаров и др. Русская литература в 40-е годы пошла по пути, указанному ей Белинским и Гоголем, — по пути демократизации своей тематики, по пути все большего приближения к нуждам и потребностям общества.
Весной 1846 года Белинский ушел из «Отечественных записок». Обычно этот факт объяснялся только тем, что Краевский, издатель этого журнала, безудержно и цинично эксплуатировал Белинского, не давая ему даже минимального материального обеспечения. Все это действительно имело место. Но не только это толкнуло великого критика на разрыв с Краевским. Он ушел из «Отечественных записок» главным образом потому, что либерал Краевский всячески препятствовал развитию в журнале революционно-демократических идей Белинского, общественное значение которых колоссально выросло к середине 40-х годов, и это свидетельствовало о росте демократических сил в России.
Разрыв Белинского с Краевским неизбежно ставил вопрос о журнале, который объединил бы всю передовую литературу. Ободренный друзьями, Белинский предполагал выступить с изданием альманаха «Левиафан». В этом альманахе должны были принять участие виднейшие представители передовой литературы и науки. Альманах предполагался к выпуску осенью 1846 года, и Белинский деятельно стал собирать для него материал. Обеспечено было сотрудничество в альманахе Герцена, Некрасова, Достоевского, Кавелина и других видных литераторов того времени.
Но прежде надо было поправить здоровье, подорванное работой в «Отечественных записках». С этой целью Белинский отправился в путешествие
- 53 -
по югу России вместе со знаменитым актером М. С. Щепкиным, который ехал на гастроли в Калугу, Харьков, Николаев, Херсон, Одессу, Крым. На деле поездка эта, продолжавшаяся с мая по октябрь 1846 года, отнюдь не способствовала улучшению здоровья Белинского. Он вернулся в Петербург еще более больным, чем уехал. Но поездка по югу России произвела на Белинского большое впечатление: ему пришлось воочию утвердиться в мнении об огромной популярности его имени в России, о чем он писал Герцену еще 6 апреля 1846 года. «Я просто изумлен тем, как имя мое везде известно и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось» (Письма, III, 111). Белинский был растроган и даже подавлен теми знаками внимания, которые оказывали ему на юге его многочисленные почитатели.
Вернувшись в Петербург, Белинский узнал об организации нового журнала. Панаев и Некрасов приобрели у Плетнева пушкинский «Современник», влачивший в те годы жалкое существование.
Внутриредакционные отношения в «Современнике» складывались очень сложно, но при всем том Белинский идейно возглавил журнал и стал его вдохновителем. Именно он создал в «Современнике» те боевые революционно-демократические традиции, преемниками которых были Чернышевский и Добролюбов.
Первая же книжка «Современника» за 1847 год открылась программной статьей Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года». В течение 1847 и первой четверти 1848 года Белинский напечатал в «Современнике» несколько больших критических статей программного характера («Ответ „Москвитянину“», «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и др.), а также несколько десятков рецензий. В «Современник» Белинским передан был и весь материал, который он собрал для задуманного им альманаха «Левиафан».
«Повести у нас — объядение, роскошь; — писал Белинский Боткину, в ноябре 1847 года, — ни один журнал никогда не был так блистательно богат в этом отношении» (Письма, III, 271). При Белинском на страницах «Современника» появился ряд выдающихся произведений русской литературы. Герцен напечатал в «Современнике» роман «Кто виноват?» и повесть «Из записок доктора Крупова»; Гончаров выступил с «Обыкновенной историей»; Тургенев напечатал рассказы из цикла «Записок охотника». Ко всем этим произведениям нужно присоединить повесть Григоровича «Антон-Горемыка» и повесть Дружинина «Полинька Сакс».
Новые замечательные явления в русской литературе и выдвижение новых писательских имен Белинский связывал с ростом общественного самосознания в России. Это было осуществлением его заветных чаяний и надежд, его перспектив.
В этом свете становятся понятными то возмущение и тот гнев, с которыми обрушился Белинский на реакционную книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Эта книга была воспринята Белинским как тяжелый удар по освободительному движению.
Белинскому приходилось и раньше отмечать опасные симптомы в творчестве Гоголя. Еще в 1842 году Белинский подчеркивал недостаточность у Гоголя «интеллектуального развития, основанного на неослабном преследовании быстро-несущейся умственной жизни современного мира» (VII, 439). Он говорил об умственном аскетизме Гоголя — аскетизме, «который заставляет поэтов закрывать глаза на все в мире, кроме самих себя» (VII, 439). Белинский, однако, не ожидал, что из этих симптомов вырастут «Выбранные места из переписки с друзьями». Поэтому в своей, проникнутой
- 54 -
негодованием, рецензии на «Выбранные места» он бросал Гоголю обвинения в неискренности, что было понятно, поскольку Белинскому приходилось свою многолетнюю борьбу за Гоголя, отрицателя феодально-крепостнической России, заканчивать борьбой с самим Гоголем, ставшим на путь защиты самодержавия и крепостничества.
Весной 1847 года в состоянии здоровья Белинского произошло резкое ухудшение. По предписанию врачей он срочно должен был выехать за границу. В Зальцбрунне Белинский получил письмо от Гоголя по поводу отрицательной оценки, которую критик дал «Выбранным местам из переписки с друзьями». Гоголь пытался доказать Белинскому, что его отзыв о «Выбранных местах» продиктован личными мотивами, якобы обидами на него, Гоголя.
Чтобы рассеять недоразумение и объяснить Гоголю страшное значение того, что с ним произошло, Белинский ответил ему письмом, отправленным 15 июля 1847 года. По свидетельству П. В. Анненкова, находившегося тогда в Зальцбрунне, письмо к Гоголю смертельно больной Белинский писал в течение трех дней, причем дважды переписывал его. Белинский безусловно учитывал, что значение этого письма выйдет далеко за рамки личной переписки. В Париже, куда он направился из Зальцбрунна, Белинский прочитал копию своего письма Герцену. Тот сказал на ухо Анненкову: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».1
Зальцбруннское письмо к Гоголю, выразившее, как отмечал Ленин, «настроение крепостных крестьян против крепостного права»,2 было действительно завещанием Белинского и итогом всей его деятельности. В этом знаменитом письме, которое после его смерти стало распространяться по России во множестве нелегальных списков, Белинский с огромной силой выразил свои революционные взгляды, заклеймив крепостничество и самодержавие.
Констатируя полный и позорный провал «Выбранных мест», Белинский предупреждал Гоголя: «И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!..».3 В заключение своего письма Белинский подчеркивал: «Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России...».4
В своем письме к Гоголю Белинский сформулировал ту программу минимум, за которую боролась революционная демократия в 40—50-е годы. «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: — писал Белинский, — уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть».5
- 55 -
Практическое осуществление сформулированных Белинским требований означало бы значительные достижения России на пути прогресса, серьезное облегчение участи народа. Заботой о народе, о росте его самосознания, о его судьбе пронизана вся философия истории Белинского, все его размышления о будущем. О будущем России и русского народа Белинский думал неустанно и глубоко. Он сознавал неизбежность прохождения России через стадию капитализма. И сознавая это, он отдавал себе отчет в том, что капитализм принесет народу массу новых бедствий и лишений.
Уяснению отрицательных сторон капитализма немало способствовали заграничные впечатления Белинского. В письмах к друзьям он не жалел красок для характеристики капиталистического строя, господствовавшего в Западной Европе.
В письме к Боткину из Дрездена 7 (19) июля 1847 года Белинский писал: «Что за нищета в Германии, особенно в несчастной Силезии, которую Фридрих Великий считал лучшим перлом в своей короне. Только здесь я понял ужасное значение слов: пауперизм и пролетариат» (Письма, III, 244). В другом письме к Боткину уже из Петербурга, в декабре 1847 года, делясь своими впечатлениями о Франции, Белинский замечал, что «владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором...» (Письма, III, 326). И дальше, в том же письме: «...я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значит только возвышение или упадок фондов — далее этого они ничего не видят» (Письма, III, 329).
В 1847 году Герцен напечатал в «Современнике» «Письма из Avenue Marigny», в которых он обрушивался на французскую буржуазию. Боткин, Грановский и другие «западники» резко осудили новое произведение Герцена. Белинский же стал на сторону Герцена, хотя и не во всем соглашаясь с ним. Белинский признавался, что он не принадлежит «к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуазия — зло, что ее надо уничтожить, что только без нее все пойдет хорошо... Пока буржуазия есть и пока она сильна, — подчеркивал Белинский, — я знаю, что она должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества...» (Письма, III, 331).
В Париже Белинский встречался с М. Бакуниным и спорил с ним о путях развития России. Этот спор, о котором Белинский рассказывал в письме к Анненкову 15 февраля 1848 года, был, в известном смысле, предвестием будущих споров марксистов с народниками. В то время как воззрения М. Бакунина предвещали народнические теории, Белинский защищал взгляды, пролагавшие путь марксизму. «Мой верующий друг <т. е. М. Бакунин>, — писал Белинский Анненкову, — доказывал мне... что избави-де бог Россию от буржуази. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази» (Письма, III, 339).
Понимая историческую неизбежность капитализма в России, Белинский в силу всего сказанного не стал и не мог стать его апологетом. Глубина его понимания исторических судеб страны способствовала все более острой постановке вопроса об улучшении участи народа. В письме к Гоголю он ставит как первоначальные три требования: 1) «уничтожение крепостного права», 2) «отменение телесного наказания», 3) «введение, по возможности,
- 56 -
строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть...».1 Из этих трех задач уничтожение крепостного права, как совершенно справедливо считал Белинский, было для России основной и центральной задачей.
Белинский не оставлял надежд на возможность реформ «сверху» и внимательно следил за деятельностью назначенной Николаем I комиссии по «обеспечению положения крестьян». Но Белинский предвидел и возможность крестьянской революции. В письме к Анненкову от начала декабря 1847 года Белинский отмечал, что если вопрос о крепостном праве не будет разрешен сверху, то «тогда он решится сам собою, другим образом, в 1000 раз более неприятным для русского дворянства. Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение...» (Письма, III, 316—317).
Призывы к борьбе с крепостничеством и самодержавием, идеи революционного переустройства общества, защита материализма и критического реализма — вот что составляло содержание статей и писем Белинского последних лет его жизни.
Последние статьи Белинского, напечатанные в «Современнике», и его письма 1847—1848 годов исполнены такой энергии мысли, одушевлены такой горячей страстью, что никак, казалось бы, нельзя было предполагать, что их автор на пороге смерти.
Поездка за границу для лечения не принесла ожидаемых результатов. К началу 1848 года Белинский уже с трудом передвигался по комнате, а последние статьи и письма ему пришлось диктовать. Когда Белинского вызвали в III Отделение, он уже физически не мог выполнить это предписание.
Измученный непосильной работой и болезнью, в лишениях и нужде, Белинский скончался 7 июня (н. ст.) 1848 года на тридцать восьмом году жизни. Управляющий III Отделением Дубельт «яростно сожалел» о смерти Белинского. «Мы бы его сгноили в крепости», — заявил он. Наступала пора необузданного реакционного террора в связи с революционными событиями на Западе в 1848 году.
После смерти Белинского имя его и литературное наследие стали запретными. В 1853 году Некрасов написал стихотворение памяти Белинского, которое могло быть напечатано только в 1855 году, после смерти Николая I.
Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели:
Кипел, горел — и быстро ты угас!...
И, с каждым днем окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила...(«Памяти приятеля»).2
Имя Белинского было поднято на щит его великими преемниками Чернышевским и Добролюбовым. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский как бы заново открыл Белинского русскому
- 57 -
обществу и дал первое глубокое истолкование литературного наследия великого критика-революционера.
Чернышевский считал, что «немного найдется в нашей литературной истории явлений, вызванных таким чистым патриотизмом», как критика Белинского. «Любовь к благу родины, — писал Чернышевский, — была единственною страстью, которая руководила ею: каждый факт искусства ценила она по мере того, какое значение он имеет для русской жизни. Эта идея — пафос всей ее деятельности. В этом пафосе и тайна ее собственного могущества».1
Когда в 1859 году вышел первый том первого собрания сочинений Белинского, Добролюбов горячо откликнулся на это. «Давно мы ждали его и, наконец, дождались! — писал Добролюбов. — Сколько счастливых, чистых минут снова напомнят нам его статьи, — тех минут, когда мы полны были юношеских беззаветных порывов, когда энергические слова Белинского открывали нам совершенно новый мир знания, размышления и деятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятельности и искренно надеялись встретить когда-нибудь таких людей и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности...».2
Если для Чернышевского и Добролюбова имя Белинского стало знаменем, символом служения родине и свободе, то противники революционной демократии или откровенно боролись с Белинским, или стремились представить его «мирным» деятелем, отождествляя воззрения Белинского с буржуазно-либеральными взглядами. Былые «друзья» Белинского, выступая в качестве мемуаристов, разными путями и методами развенчивали его как политического деятеля и борца. Так, Анненков открыто утверждал, например, что у Белинского будто бы «не было первых, элементарных качеств революционера и агитатора, каким его хотели прославить».3
В борьбе с влиянием Белинского буржуазно-либеральная публицистика и критика то пыталась изобразить его историческое дело законченным, а идеи его отжившими, то заявляла о слабости теоретического мышления Белинского, о недостаточности его образования и проч. и проч. В 1893—1894 годах А. Волынский выступил с циклом статей о Белинском, в которых хотел доказать, что Белинский будто бы «не был мыслителем, философом, призванным вырабатывать какие-нибудь новые идеи, раскрывать новые духовные горизонты».4 В 1913 г. Ю. Айхенвальд опубликовал злобную статью о Белинском, в которой прямо объявил его славу легендарной и ни на чем не основанной.
Вслед за Чернышевским и Добролюбовым подлинными наследниками Белинского явились революционные марксисты. Много сделал для восстановления идейного облика Белинского Г. В. Плеханов, посвятивший Белинскому несколько специальных статей. Хотя в статьях Плеханова содержатся ошибочные положения, потребовавшие пересмотра в советской критике, все же эти статьи после «Очерков гоголевского периода» Чернышевского явились большим и важным этапом в деле выяснения исторической роли Белинского как революционного мыслителя. Неопровержимыми и справедливыми являются, в частности, слова Плеханова о том, что «главнейший предмет его <Белинского> умственной работы есть отрицание
- 58 -
абстрактного, утопического идеала, стремление развить идею отрицания, опираясь на закономерное развитие самой общественной жизни».1
Великая Октябрьская социалистическая революция до конца раскрыла подлинный исторический смысл деятельности Белинского. После революции Белинский впервые предстал перед народом во всем богатстве своей мысли. Оценки Белинского, которые дал В. И. Ленин в своих работах, написанных еще до Октябрьской революции, сделались незыблемой основой для понимания всего творчества Белинского.
2
В годы «Телескопа» и «Молвы» (1834—1836) определилась общественная и литературная судьба Белинского. Именно в эти годы Белинский выдвинулся на первое место среди современных ему критиков, вызывая одобрения и похвалы в передовых кругах общества и яростные нападки представителей литературных «староверов» и реакционной печати. «Литературные мечтания» Белинского явились крупным этапом в истории русской общественной мысли и в развитии критики.
Значение этой статьи в творческой биографии Белинского исключительно велико. Теоретические вопросы о сущности и назначении литературы, о ее народности, о задачах художественной критики и многие другие вопросы, занимавшие Белинского на протяжении пятнадцати лет, — все они впервые были намечены уже в «Литературных мечтаниях». В этой своей «элегии в прозе» Белинский сделал также критический пересмотр всего прошлого русской литературы, дав тем самым первый набросок своей историко-литературной концепции.
«Литературные мечтания» нередко рассматриваются как произведение, наиболее ярко отражающее ранний идеализм Белинского. Действительно, обозрение исторических судеб русской литературы предваряется в статье рассуждениями о сущности и назначении литературы и развитием многих идеалистических философских положений. Однако некоторые из этих положений в какой-то мере преодолеваются Белинским в дальнейшем изложении.
Отвечая на вопрос, что такое литература, Белинский сначала приводит два определения. Согласно первому, «под литературою какого-либо народа должно разуметь весь круг его умственной деятельности, проявившейся в письменности» (I, 312). Согласно второму определению, под словом «литература» нужно понимать «собрание известного числа изящных произведений, то есть, как говорят французы, chefs d’oeuvre de littérature» (I, 312). Исходя из этих двух определений, вопрос о том, существует ли литература в России, может быть разрешен только в положительном смысле. Но Белинский выдвигает третье определение, которое заставляет его сделать прямо противоположный вывод. Он так определяет литературу: «...литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений» (I, 312).
- 59 -
Существование русской литературы не отделимо у Белинского от ее народности. В свою очередь вопрос о народности восходит к более общей и широкой проблеме источников и национального своеобразия русской культуры.
Основополагающее значение для всего развития русской культуры, с точки зрения Белинского, имели реформы Петра Великого. По мысли Белинского, в результате петровских реформ, «народ, или лучше сказать, масса народа и общество пошли у нас врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своих заунывных песнях, в коих изливалась его душа в горе и в радости; второе же, видимо изменялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже говорить русский язык, забыло поэтические предания и вымыслы своей родины, эти прекрасные песни, полные глубокой грусти, сладкой тоски и разгулья молодецкого, и создало себе литературу, которая была верным его зеркалом» (I, 329).
Итак, в результате петровских реформ, как утверждает Белинский, создалась литература, ставшая достоянием общества, которое было отделено от народа и которое не выражало его духа. С этих позиций Белинский производит пересмотр всего прошлого русской литературы и приходит к отрицательным выводам.
Характеризуя своеобразие взглядов Белинского на процесс литературного развития в России, следует особо выделить его понимание народного творчества как выражения духа народа и как основу всякого подлинного большого искусства. Именно народное творчество, воплощающее народное мировоззрение, становится у Белинского высшим мерилом его критических суждений и оценок.
Белинский потому и выступил с отрицанием русской литературы, что в ее развитии он видел отрыв от поэтического творчества народа.
Обращение к стихии народного творчества характеризует Белинского как самобытного русского мыслителя. В стремлении понять и осмыслить всю русскую литературу на основе народного творчества отчетливо выступает нерасторжимая связь Белинского с коренными национально-русскими традициями.
Стихийное и бессознательное выражение народного миросозерцания Белинский находил в творчестве Крылова, который «был народен, потому что не мог не быть народным: был народен бессознательно, и едва ли знал цену этой народности» (I, 383). Все та же бессознательная и стихийная народность, являющаяся главным свойством народного творчества, воплощена, по мнению Белинского, в творчестве Грибоедова и Пушкина.
Характерно, что Пушкин в представлении Белинского был подлинно народен только тогда, когда он «не старался быть народным» (I, 383). Напротив, сознательное обращение Пушкина к народному творчеству, стремление Пушкина овладевать разными поэтическими стилями — все это обозначало для Белинского снижение и упадок пушкинского творчества. В эпоху «Литературных мечтаний» Белинский восторженно принимает Пушкина как гениального лирика, автора «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», но вместе с тем говорит и о «закате таланта Пушкина».1
Державин и Крылов, Грибоедов и Пушкин — эти четыре имени, особо выделенные в «Литературных мечтаниях», не колеблют, однако, в глазах Белинского вывода его статьи. Белинский ограничивается риторическим вопросом: «Но могут ли составить целую литературу четыре человека, являвшиеся
- 60 -
не в одно время? И притом, разве они были не случайными явлениями?» (I, 393).
Своеобразие русской культуры Белинский рассматривает в процессе ее движения на основе развития общественных противоречий. Говоря о следствиях петровских реформ, Белинский подчеркивает социальную дифференцированность русской нации. «Надобно заметить, — говорит он, — что, как масса народа, так и общество, подразделились, особливо последнее, на множество видов, на множество степеней. Первая показала некоторые признаки жизни и движения в сословиях, находившихся в непосредственных сношениях с обществом, в сословиях людей городских, ремесленников, мелких торговцев и промышленников... Что касается до нижнего слоя общества, т. е. среднего состояния, оно разделилось в свою очередь на множество родов и видов, между коими по своему большинству занимают самое видное место, так называемые, разночинцы... Высшее же сословие общества из всех сил ударилось в подражение, или лучше сказать, передражнивание иностранцев...» (I, 329—330).
Оценивая прошлое и настоящее русской литературы, Белинский постоянно отмечает соотнесенность литературных явлений с фактами социального порядка. Характеризуя русское общество, которое пошло по пути, указанному реформами Петра, Белинский ссылается на «Недоросля», «Горе от ума», «Евгения Онегина» и другие произведения.
Все сказанное свидетельствует о том, что, наряду с идеалистическими положениями, в «Литературных мечтаниях» выступают и тенденции социального подхода к действительности. Несмотря на антиисторические выводы, понимание процесса развития русской литературы, развернутое Белинским в «Литературных мечтаниях», проникнуто историзмом, несравненно более глубоким, чем тот, который был заложен в принципах идеалистической философии. Изменение взглядов Белинского на русскую литературу определится впоследствии ростом его политического сознания, в конечном счете переходом его на революционно-демократические позиции.
«Когда же наступит у нас истинная эпоха искусства?» — спрашивает Белинский и отвечает на этот вопрос так: «...для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, взращенное на родной почве» (I, 394). Белинский настаивает на том, что России «нужна не литература, которая без всяких с нашей стороны усилий явится в свое время, а просвещение» (I, 395).
В «Литературных мечтаниях» мы не найдем революционных высказываний. Белинский в ту пору еще питал иллюзии относительно того, что правительство даст просвещение народу. И тем не менее первая статья Белинского дает основание говорить о демократических началах у молодого критика. Демократизм Белинского в «Литературных мечтаниях» выразился и в социальных материалистических тенденциях статьи, и в высокой оценке народной поэзии как первоосновы развития литературы, и, наконец, в чаяниях видеть русский народ просвещенным народом.
«Литературные мечтания» с начала и до конца пронизаны едкой иронией по отношению к современной Белинскому «торговой» литературе, с ее идейной незначительностью и фальшивым патриотизмом. «Ныне на наших литературных рынках наши неумолимые герольды вопиют громко: „Кукольник, великий Кукольник, Кукольник — Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира! На колена перед Кукольником!“. Теперь Баратынских, Подолинских, Языковых, Туманских, Ознобишиных сменили гг. Тимофеевы, Ершовы; на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы,
- 61 -
Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословице, на безлюдьи и Фома дворянин» (I, 309).
Тот период литературы, современником и участником которого являлся Белинский, он называет смирдинским периодом — по имени известного петербургского издателя и книгопродавца, на средства которого стала издаваться «Библиотека для чтения». В 30-х годах торгово-капиталистические отношения уже властно вторгались в развитие литературы, принося ей серьезный ущерб. «Какие же гении смирдинского периода словесности? — спрашивает Белинский. — Это гг. Барон Брамбеус, Греч, Кукольник, Воейков, Калашников, Масальский, Ершов и мн. др. Что сказать о них? Удивляюсь, благоговею — и безмолвствую!» (I, 392).
Огромный вред развитию передовой общественной мысли наносила «охранительная теория», декларированная в 1832 году. Важнейшей и неотъемлемой частью «охранительной теории» являлась борьба с возникновением в России революционных идей. Все без исключения области государственной и общественной жизни были подчинены системе строжайшей правительственной опеки. Соответственной регламентации подвергались также наука и литература, журналистика и театр. И. С. Тургенев вспоминал впоследствии, что тогда «правительственная сфера, особенно в Петербурге, захватывала и покоряла себе всё».1 К середине 30-х годов, по свидетельству того же И. С. Тургенева, уже «не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики».2 В поэзии, в живописи, даже на театральной сцене создалась «ложно-величавая» школа официальной народности. «Произведения этой школы, — вспоминал Тургенев, — проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличению России, во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался».3
Герцен также говорил, что в 30-е годы был введен «такой род литературы, который с первого взгляда казался блестящим, но со второго подделанным». Называя имена Кукольника, Бенедиктова и Тимофеева, Герцен добавлял, что «такие цветы могли распускаться только у подножия императорского трона и под сенью Петропавловской крепости».4
Все это говорит о том, что тезис Белинского в «Литературных мечтаниях» — в России нет литературы — имел для своего времени особую остроту.
Всем духом и смыслом своей «элегии в прозе» Белинский открывал боевую полемику с «ложно-величавой» школой официальной народности. Вместе с тем нужно учитывать также, что «Литературные мечтания» заканчивались сочувственными словами о правительстве. В литературе о Белинском высказывалась мысль, что эти строки были продиктованы цензурными соображениями или вставлены в текст статьи Белинского редактором «Молвы» Надеждиным (I, 426). Однако нет достаточных оснований присоединяться к подобной мысли. Отрицательный взгляд Белинского на русскую литературу объективно шел, конечно, наперекор официальному курсу, но Белинский, вероятно, еще не осознавал политического смысла своей позиции.
- 62 -
В «Литературных мечтаниях» Белинский доказывал, что «наша народность состоит в верности изображения картин русской жизни» (I, 386). От литературы и поэзии Белинский прежде всего требовал правдивости и объективности. Однако объективность всегда неотделима от оценок художником изображаемого. Эту мысль Белинский подчеркивал, когда он писал о лицах «Горя от ума», которые «не выдуманы, а сняты с натуры во весь рост, почерпнуты со дна действительной жизни» (I, 373), но которые «заклеймены печатию своего ничтожества, заклеймены мстительною рукою палача-художника» (I, 373).
Проблема соотношения объективного и субъективного в произведениях искусства, намеченная Белинским в «Литературных мечтаниях», обстоятельно и притом в историческом плане, начиная с античной литературы, разработана им в статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835). Вся первая половина статьи посвящена рассуждению об «идеальной» и «реальной» поэзии: очевидно, что оценка гоголевского творчества связана была у Белинского с постановкой и решением этой проблемы.
Понятия реальной и идеальной поэзии имели огромное значение для Белинского. Они позволяли ему говорить не только о том, насколько верны действительности повести Гоголя, но и о том, какой авторской тенденцией они проникнуты. Точно так же понятия реальной и идеальной поэзии давали Белинскому необходимые критерии для оценки произведений ряда прозаиков — современников Гоголя — А. Марлинского, Вл. Одоевского, М. Погодина, Н. Павлова и Н. Полевого.
В «Литературных мечтаниях» Белинский назвал Марлинского одним «из самых примечательнейших наших литераторов» (I, 374), причем отметил, что «он теперь безусловно пользуется самым огромным авторитетом: теперь перед ним все на коленах» (I, 374). Сейчас даже трудно представить себе, насколько велика была популярность Марлинского в 30-е годы. Но Белинский, вопреки восторженному общему мнению о Марлинском, в «Литературных мечтаниях» сказал о нем, что это талант, «но талант не огромный, талант обессиленный вечным принуждением, избившийся и растрясшийся о пни и колоды выисканного остроумия» (I, 376). Отсутствие простоты и естественности, а потому непрерывные натяжки, «более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражений чувства» (I, 375) — таковы, по мнению Белинского, были отличительные черты прославленных романтических повестей Марлинского.
Когда в 1835 году вышли из печати «Арабески» и «Миргород» Гоголя, Белинский, сопоставляя Гоголя с Марлинским, мог высказать свое мнение о Марлинском еще более ясно и определенно. В статье «И мое мнение об игре Г. Каратыгина» он писал: «В искусстве есть два рода красоты и изящества, так же точно, как есть два рода красоты в лице человеческом. Одна поражает вдруг, нечаянно, насильно, если можно так сказать; другая постепенно и неприметно вкрадывается в душу и овладевает ею. Обаяние первой быстро, но не прочно; второй медленно, но долговечно; первая опирается на новость, нечаянность, эффекты и не редко странность; вторая берет естественностию и простотою. Марлинский и Гоголь — вот вам представители того и другого рода красоты в искусстве» (II, 100—101).
По мысли Белинского, произведения Марлинского — «это не реальная поэзия — ибо в них нет истины жизни, нет действительности, такой, как она есть»; «это не идеальная поэзия — ибо в них нет глубокой мысли, пламени чувства, нет лиризма...» (II, 201).
Борьба с Марлинским, начатая Белинским в «Литературных мечтаниях», была продолжена им и в последующие годы, пока, наконец, он не
- 63 -
нанес страшного удара по Марлинскому и по всему русскому ультраромантизму в специальной статье, написанной в связи с выходом в свет посмертного собрания сочинений Марлинского в 1840 году.
В произведениях Вл. Одоевского Белинский видел аллегорическую основу и утверждал, что повесть для Одоевского была «не целию, но, так сказать, средством, не существенною формою, а удобною рамою» (II, 203). Исключение Белинский сделал лишь для некоторых бытовых повестей Одоевского, встретивших его сочувственную оценку.
Сочувственно отнесся Белинский к повестям Погодина, но, по его мнению, талант Погодина «есть талант нравоописателя низших слоев нашей общественности, и потому он занимателен, когда верен своему направлению, и тотчас падает, когда берется не за свое дело» (II, 205). Между тем, по мнению Белинского, «отличительная черта, то, что составляет, что делает истинного поэта, состоит в его страдательной и живой способности, всегда и без всяких отношений к своему образу мыслей, понимать всякое человеческое положение» (II, 206—207). Переходя к повестям Н. Полевого, Белинский отметил, что «эта способность понимать явления жизни очень не чужда г. Полевому» (II, 207). Однако у Полевого Белинский находил «излишнее владычество мысли» — «как будто автор задал себе психологическую задачу и хотел решить ее в поэтической форме» (II, 207). Отзыв Белинского о Полевом по существу сдержанный: сочувственные нотки по его адресу отчасти объясняются еще и тем, что журнал Полевого «Московский телеграф» был только что запрещен царским правительством. Наконец, коснувшись повестей Н. Павлова, Белинский отметил некоторые их достоинства, но тут же подчеркнул, что «они не проникнуты слишком глубокою истиною жизни» (II, 208). Белинский не находил у Павлова характеров, индивидуальных и типических, «которые бы доказывали не одно знание общества, но и сердца человеческого...» (II, 209).
Таким образом, прежде чем обратиться к разбору повестей Гоголя, Белинский не только определил в своей статье понятия идеальной и реальной поэзии, но он дал также критическую оценку произведений виднейших писателей-прозаиков того времени. Выяснилось, что все эти писатели, несмотря на известные достоинства каждого из них, не удовлетворяют условиям истинного творчества. Только один Гоголь мог быть назван подлинным поэтом, «поэтом жизни действительной».
Простота вымысла, совершенная истина жизни, народность и оригинальность — вот, с точки зрения Белинского, основные критерии подлинно художественных произведений. Этим критериям полностью отвечали повести «Миргорода» и «Арабесок», заключавшие в себе еще одну важную черту, уже специфически гоголевскую. «Комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния» (II, 213) — такова формула, найденная Белинским для определения особенностей повестей «Миргорода» и «Арабесок» и оказавшаяся справедливой не только для них, но и для последующих произведений — «Ревизора», «Шинели» и «Мертвых душ».
У Гоголя Белинский нашел не только верность жизни, но и верность чувству, т. е. черты, характерные, с одной стороны, для реальной, а с другой, — для «идеальной» поэзии. В повестях Гоголя верность жизни оказалась неразрывно объединенной с верностью чувству. Если простота вымысла, совершенная истина жизни, народность и оригинальность с точки зрения Белинского являлись общими чертами, которые роднили Гоголя с другими художниками, его субъективность и самый характер этой субъективности («комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния») — все это представляло черты индивидуальные, отличительно
- 64 -
гоголевские. Гоголевская субъективность совпадала с объективным изображением жизни. Комизм Гоголя Белинский рассматривал как один из элементов его реализма.
К подобной постановке вопроса Белинский был близок уже в «Литературных мечтаниях», когда он давал оценку комедии Грибоедова, но лишь повести Гоголя позволили ему не только наметить, но и дать более углубленную, хотя и не свободную еще от противоречий, постановку этого вопроса. Противоречия же Белинского сказались в том, что он стремился найти у Гоголя как представителя реальной поэзии черты такого же «бесстрастия», какие он приписывал Шекспиру и Вальтеру-Скотту. Отсюда ошибочное утверждение Белинского, что Гоголь «только рисует вещи так, как они есть, и ему дела нет до того, каковы они, и он рисует их без всякой цели, из одного удовольствия рисовать» (II, 227). Вместе с тем, признав субъективность Гоголя в качестве специфической и индивидуальной черты его творчества, Белинский с большой проницательностью отметил обличительные черты гоголевского реализма, «смех, растворенный горечью» (II, 226), и дал глубокое определение гоголевского юмора, который «не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение» (II, 227).
В Гоголе Белинский увидел поэта, рисующего «картины жизни пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии» (II, 226). Задачу гоголевского творчества Белинский видел в том, чтобы «извлекать поэзию жизни из прозы жизни» (II, 220).
Основные положения статьи Белинского во многом были близки и эстетическим позициям самого Гоголя. Достаточно вспомнить хотя бы некоторые тезисы статей Гоголя о картине Брюллова «Последний день Помпеи» и особенно «Несколько слов о Пушкине», чтобы убедиться в этом. Как и Белинский, Гоголь отстаивал «простоту» и «безэффектность» в искусстве, полагая, что величайшая задача художника состоит в том, чтобы изобразить «обыкновенное»: «...чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина».1
Однако Белинский, конечно, не случайно в своей статье о Гоголе не только прошел мимо названных выше теоретических статей Гоголя, напечатанных в «Арабесках», но даже осудил их. Впоследствии (в 1840 году) Белинский признал эту свою ошибку, которую он совершил под влиянием защищавшейся им теории бессознательности художественного творчества.
Белинский не написал в 1834—1836 годах задуманной им тогда специальной работы о Пушкине, но он касался творчества Пушкина и в «Литературных мечтаниях» и в других статьях и рецензиях этих лет.
Если во всем историческом развитии русской литературы Белинский тогда не видел еще закономерности, то это сказывалось и в подходе его к отдельным литературным явлениям и писателям.
В связи с этим и эволюция творчества Пушкина еще не могла быть осознана в то время Белинским как исторически обусловленная и закономерная. Восторженно оценивая гений Пушкина, признавая Пушкина главой русской литературы первой трети XIX века, Белинский вместе с тем указывал на кратковременность пушкинского периода в истории русской литературы и писал о закате таланта Пушкина, о том, что «Борис Годунов был последним великим его подвигом» и что «в третьей части полного
- 65 -
собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры» (I, 364). «Теперь мы не знаем Пушкина; он умер или, может быть, только обмер на время, — писал Белинский в «Литературных мечтаниях». — Может быть его уже нет, а может быть он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское быть или не быть скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме Анджело и по другим произведениям, обретающимся в Новоселье и Библиотеке для чтения, мы должны оплакивать горькую невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска, где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего грудь, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою, где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми была бледна жизнь и природа?» (I, 364).
Впоследствии (в 1838 году) Белинский безоговорочно отказался от своего тезиса о «закате» таланта Пушкина в 30-е годы, но отрицательное отношение к сказкам Пушкина и к «Повестям Белкина» он сохранил навсегда. Точно так же навсегда у него осталось глубоко ошибочное мнение, что якобы Пушкину «стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви».1
Отрицательно оценив «Повести Белкина» и сказки Пушкина, Белинский, тем не менее, в 1834—1836 годах неоднократно возвращался к Пушкину и не раз со всей силой подчеркивал громадное значение его как преобразователя русской литературы и создателя величайших художественных творений. Пушкин, как и Гоголь, убеждал Белинского, что простота вымысла, совершенная истина жизни, народность и оригинальность и составляют основу подлинной художественности.
Свое понимание искусства Белинский отстаивал и защищал, развертывая борьбу с эпигонами классицизма и представителями романтической школы.
По отношению к Марлинскому нужно и должно было говорить о его заслугах перед русской литературой, о чем Белинский, развенчивая Марлинского, никогда не забывал. Совершенно иным явлением был Бенедиктов, дебютировавший в 1835 году книжкой стихотворений и восторженно принятый публикой и многими критиками и писателями. Так, Шевырев посвятил Бенедиктову апологетическую статью в «Московском наблюдателе», противопоставляя его Пушкину якобы как «поэта мысли». Белинский развенчал сборник стихов Бенедиктова, как поэтический пустоцвет, показав, что в стихах Бенедиктова нет поэтических идей, что автор обладает лишь изощренной стихотворной техникой, которой и пользуется для создания разного рода эффектов. Белинский подчеркнул, что «простота языка не может служить исключительным и необманчивым признаком поэзии; но изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии» (II, 279).
Прогрессивный смысл литературно-эстетических взглядов, которые развивал Белинский, сотрудничая в «Телескопе» и «Молве», вскрывается с особенной ясностью из его полемики с Шевыревым, идейным руководителем «Московского наблюдателя». Белинский противопоставлял чувство, как начало свободного творчества, вкусу, являвшемуся, по мнению Белинского,
- 66 -
стеснительной для искусства нормой. Между тем именно «вкус» лежал в основе эстетических суждений Шевырева, выступавшего с защитой «светскости» в искусстве и предпочитавшего Бенедиктова и Кукольника Пушкину. Белинский объявил «светскости» непримиримую войну. «Художественный и „светский“ не суть слова однозначащие, так же как дворянин и благородный человек, — писал Белинский. — Художественность доступна для людей всех сословий, всех состояний, если у них есть ум и чувство; „светскость“ есть принадлежность касты» (II, 508). На ряде конкретных примеров Белинский показывал реакционную сущность критических взглядов Шевырева. С особой силой расхождения Белинского и Шевырева проявились в их оценках Гоголя. Шевырев претендовал на роль критика, впервые раскрывшего истинные особенности автора «Миргорода» и «Арабесок». Он истолковывал Гоголя как комического писателя, причем стихия комического, стихия смешного, с точки зрения Шевырева, состояла в «безвредной бессмыслице». Напротив, для Белинского комизм Гоголя был наиболее характерной чертой его реализма: «И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни» (II, 227).
Статьи Белинского производили громадное впечатление в литературных кругах, за ними внимательнейшим образом следил сам Пушкин. В библиотеке Пушкина сохранились книжки «Телескопа» и «Молвы», где печатался Белинский в 1834—1836 годах. Эти книжки разрезаны Пушкиным по большей части только на статьях Белинского. Пушкин безусловно положительно оценил выступление Белинского против «Московского наблюдателя». После нашумевшей полемической статьи Белинского против этого журнала, Пушкин в мае 1836 года, через П. В. Нащокина и «тихонько от Наблюдателей», послал Белинскому первый том своего «Современника» и просил передать ему свое сожаление, что «с ним не успел увидеться».1
Белинский рецензировал и первый и второй томы пушкинского журнала «Современник». Первый том он встретил сочувственно за обзор «О движении журнальной литературы», принадлежавший Гоголю и обличавший «Библиотеку для чтения». Зато второй том «Современника» Белинский резко критиковал. В статьях П. А. Вяземского и В. Ф. Одоевского Белинский справедливо усматривал тенденции цеховой замкнутости и узкой корпоративности. Безоговорочно осудив эти тенденции как выражение той же «светскости», которую он констатировал в «Московском наблюдателе», Белинский еще не смог выделить в «Современнике» установки самого Пушкина. Белинский не мог знать, что позиция Пушкина вовсе не была тождественна с позициями П. А. Вяземского и В. Ф. Одоевского. Не мог знать Белинский и того, что автором «Письма к издателю» за подписью А. В. в третьем томе «Современника» был сам Пушкин. Есть основание предполагать, что это «Письмо к издателю» писалось Пушкиным под известным влиянием рецензии Белинского на «Современник». Характерно, что в «Письме к издателю» Пушкин высказался и о Белинском, упомянув о нем, как о молодом критике, который «обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений, — писал далее Пушкин, — и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного».2
- 67 -
Белинский так и не встретился с Пушкиным лично, но о пристальном и сочувственном внимании к себе великого поэта он знал. Тотчас же после запрещения «Телескопа», где работал Белинский, П. В. Нащокин по поручению Пушкина вступил с критиком в деловые переговоры о переезде его в Петербург для работы в «Современнике». «Теперь, коли хочешь, — писал Нащокин Пушкину в конце 1836 года, — он <Белинский> к твоим услугам — я его не видал — но его друзья, в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать».1
Письмо это осталось без ответа: в январе 1837 года Пушкин был убит.
Через несколько лет, когда имя Белинского стало известно всей мыслящей России, в 1842 году, он признавался в письме к Гоголю: «Я не заношусь слишком высоко, но признаюсь — и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и — что́ еще лестнее — имел счастие приобрести себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастию, дошедших до меня из верных источников, и я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин» (Письма, II, 309—310).
После гибели Пушкина началась напряженная борьба вокруг оставленного им литературного наследия. Ближайшие друзья поэта (Жуковский, Вяземский) создали легенду о христианской кончине Пушкина, об «отеческом» внимании к нему царя, о «благодарном» и «примиренном» с самодержавием Пушкине. Только после исследований советских литературоведов (П. Е. Щеголева и других) мы узнали, как создавалась эта легенда, как искажался и фальсифицировался облик Пушкина. Но именно эта легенда была единственным источником, из которого вся Россия 30-х годов узнала о последних днях великого поэта.
Пересказ этой легенды мы можем найти и у Белинского, жившего в 1837—1838 годах еще в Москве и не осведомленного о подлинных обстоятельствах гибели Пушкина.2
После смерти Пушкина впервые были напечатаны «Медный Всадник», «Русалка», «Галуб» (как тогда называлась поэма о Тазите), «Сцены из рыцарских времен», «Египетские ночи», отрывки «Арапа Петра Великого», «Летописи села Горохина» (под таким названием печаталась «История села Горюхина»), «Каменный гость», ряд лирических стихотворений, критических статей и прозаических набросков. Нечего и говорить, в каком обескровленном и совершенно обезображенном цензурою виде печатались тогда некоторые из этих произведений Пушкина.
Белинский в эти годы не только отказался от своего прежнего мнения о «закате» таланта Пушкина, но и с большой резкостью печатно осудил самого себя на страницах «Московского наблюдателя». О своем недавнем отношении к Пушкину Белинский отзывался теперь как о «жалком воззрении», как о «детском прекраснодушии», «которое, выглядывая из узкого окошечка своей ограниченной субъективности, мерит действительность своим фальшивым аршином...» (III, 284).
В пору «Московского наблюдателя» преклонение Белинского перед творческим гением Пушкина достигло своего апогея. Когда появился в печати
- 68 -
«Каменный гость», Белинский заявил даже о своем бессилии «разоблачить перед читателем тайны его красоты, сделать прозрачною для глаз его форму» (IV, 189). Для времени «примирительных» умонастроений Белинского характерно восприятие им Пушкина как величайшего поэта «внутренней гармонии», стоящего в одном ряду с мировыми гениями искусства — Гомером, Шекспиром, Гёте. В поэзии Пушкина, как и в творчестве Шекспира и Гёте, Белинский неправомерно усматривал художественное воплощение того учения о «разумной действительности», которое он тогда развивал. Тезис о том, что Пушкин, воспринятый им таким образом, — «поэт не одной какой-нибудь эпохи, а поэт целого человечества, не одной какой-нибудь страны, а целого мира» (IV, 271), Белинский принимал в 1838—1839 годах как «одну из самых основных опор» своей внутренней жизни, как «одно из самых пламеннейших верований», которыми он жил (IV, 271).
Правильно оценивая Пушкина как мирового гения, Белинский исходил при этом из неверно понятых причин его мирового значения. Он так прямо и заявлял, что характер последних произведений Пушкина («Медный всадник», «Русалка» и др.) заключается в примирении «путем объективного созерцания жизни».
Эти идеи не только не способствовали отказу Белинского от трактовки художественного творчества как бессознательной стихии, но, напротив, заставляли Белинского еще больше углублять эту ошибку. Так Белинский дошел до отрицания всяких связей между искусством и общественно-политической борьбой.
Если в 1835 году наряду с «реальной» поэзией Белинский оправдывал также и «идеальную» поэзию шиллеровского типа, причем в Гоголе он видел черты той и другой, — теперь «идеальная» поэзия была осуждена им. Делая известное отступление от завоеванных уже позиций, Белинский вместе с тем углубил постановку проблемы «объективности» искусства. Так он произвел переоценку творчества Пушкина, зачислив теперь и его в разряд «объективных» художников.
Под впечатлением одной из рецензий в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» Белинский 10 августа 1838 года писал И. И. Панаеву: «Нет ли слухов о Гоголе? Как я смеялся, прочтя в „Прибавлениях“, что Гоголь, скрепя сердце, рисует своих оригиналов. Во время оно и я сам тоже врал...».1 Белинский решительно отказывался теперь признать наличие субъективности у Гоголя, что представлялось ему существенно важным прежде, но он вовсе не снимал прежнего своего тезиса о Гоголе как о «поэте жизни действительной». Именно этот тезис Белинский продолжал развивать в статьях и рецензиях «Московского наблюдателя», истолковывая «реальную» поэзию как поэзию «объективную».
В статье о романах Лажечникова «Ледяной дом» и «Басурман» Белинский пользуется произведениями Гоголя в качестве примеров чисто объективного творчества. Белинский утверждает, что «поэт не судья, а свидетель, и свидетель беспристрастный» (IV, 37), и для подтверждения своей мысли приводит «Ревизора», отрицая в комедии Гоголя авторскую оценку персонажей: «Загляните в „Ревизора“ Гоголя: дивный художник не сердится ни на кого из своих оригиналов, сквозь грубые черты их невежества
- 69 -
и лихоимства он умел выказать и какую-то доброту, по-крайней мере, в некоторых» (IV, 37—38). Повести Гоголя также привлекались Белинским для подтверждения этих мыслей. «Загляните в его дивную „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“, — продолжал Белинский, — посмотрите, с какою любовию описал он этих чудаков, с каким сожалением расстался он с ними, а между тем и нисколько не прикрасил, но показал их совершенно „в натуре“» (IV, 38).
Понимая «объективность» художественного творчества как «бесстрастие» художника, Белинский глубоко заблуждался. Но при всем том он попрежнему понимал реалистическое искусство как правдивое и типическое отображение действительности. Тем самым он признавал огромное значение роли личности художника в художественном творчестве, его страстного отношения к изображаемым предметам.
В статье о «Современнике» (тт. XI и XII за 1838 г.) Белинский обращался к читателю с вопросом, который сам же и разъяснял: «Вы знакомы с майором Ковалевым? — Отчего он так заинтересовал вас, отчего так смешит он вас несбыточным происшествием с своим злополучным носом? — Оттого, что он есть не майор Ковалев, а майоры Ковалевы, так что после знакомства с ним, хотя бы вы за́раз встретили целую сотню Ковалевых, — тотчас узнаете их, отличите среди тысячей. Типизм есть один из основных законов творчества и без него нет творчества...». Наряду с этим законом типизации явлений в искусстве Белинский говорит и о законе индивидуализации: типическое для него немыслимо, если оно не есть одновременно нечто конкретно индивидуальное. «Только при этом условии, только чрез примирение этих противоположностей, и может оно быть типическим лицом» (IV, 73), — заключает Белинский свою мысль. Индивидуальное для Белинского — необходимая форма проявления типического. Так, гоголевский майор Ковалев не есть просто копия с натуры, а широкое обобщение реальности в конкретной образной форме.
В рецензии на «Повести и рассказы» Вл. Владиславлева Белинский разъяснял, что в творчестве «не отвлекается какая-нибудь одна сторона, какой-нибудь один элемент человека; но все стороны, все элементы взаимно сопроникают друг друга и представляются в живом конкретном, а не эклектическом единстве» (III, 428). И опять-таки за примером Белинский обращался к Гоголю, к его образу Тараса Бульбы. Отметив, что «воспитание, образ жизни и привычки кладут на нас неизгладимое пятно», что «в этом и состоит особенность и характеристика человека», Белинский писал: «Посмотрите на Тараса Бульбу Гоголя: какое колоссальное создание! Это гомеровский герой, Аякс — Телемонид своего рода и по железной мощи его характера и по художественной, резкой определенности его индивидуальности; а между тем он дерется на кулачки с своим сыном и советует ему всякого тузить так же, как он тузил своего отца...» (III, 428).
Еще в 1835 году Белинский доказывал, что простота вымысла является одним из важнейших условий истинной художественности. Этому своему положению Белинский всегда оставался верен. В той же рецензии на «Повести и рассказы» Вл. Владиславлева он утверждал, что «истинное дарование не нуждается в изысканных или запутанных предметах: оно торжествует в обыкновенном, в том, что всякий видит ежедневно вокруг себя, и в чем каждый сам принимает бо́льшее или меньшее участие» (III, 429).1
- 70 -
Правильное осознание законов типизации и индивидуализации в искусстве позволяло Белинскому дать такое решение вопроса о художественной форме, которое исключало и формализм, отождествляющий форму с внешними по отношению к содержанию приемами художественного выражения, и натуралистический эмпиризм. Как доказывал Белинский, художественная форма всегда содержательна, идейно наполнена: форма является особым состоянием идеи, а конкретность идеи достигается ее единством с формой.
Положения об объективности художественной формы, о ее содержательности стали одной из важнейших сторон эстетики Белинского, его учения о реализме. Именно поэтому, анализируя конкретные художественные произведения, Белинский не отрывал формы от содержания; напротив, от раскрытия содержания он шел к объяснению особенностей художественной формы.
Нужно подчеркнуть, что все эти важнейшие эстетические вопросы — о законах типизации и индивидуализации, о форме и содержании — Белинский ставил и решал преимущественно на материале произведений Гоголя. Автор «Миргорода» и «Арабесок» попрежнему оставался знаменем Белинского, и тезис о Гоголе как «поэте жизни действительной» оставался для Белинского непоколебленным.
В пору «Телескопа» и «Молвы» Белинскому не пришлось обстоятельно высказаться о «Ревизоре», выход которого из печати и постановка на сцене явились крупным событием русской литературы 1836 года. Однако мы знаем, что Белинский с восторгом отнесся к великой комедии Гоголя и, по словам И. И. Панаева, «от „Ревизора“ он был вне себя».1
2 декабря 1839 года Грановский писал Станкевичу из Москвы: «Был здесь Гоголь. Я поругался за него с Белинским и Катковым».2 Дело заключалось в том, что Гоголь, присутствовавший в театре на представлении «Ревизора», не вышел на восторженные вызовы зрительного зала и тем вызвал неудовольствие Каткова и Белинского. Случай, о котором вспоминал Грановский, произошел не позже октября 1839 года, когда Белинский был еще в Москве и находился в апогее своих «примирительных» умонастроений. Однако еще за год до указанного случая на страницах «Московского наблюдателя» в своих статьях и рецензиях Белинский совершенно ясно сформулировал свое отношение к «Ревизору».
В заметке о водевиле Н. Соколова «Невеста под замком» Белинский резко критиковал тогдашние водевили за их «безжизненность», за то, что «актеры играют их, ничего не понимая». В качестве примера художественной комедии, повышающей уровень актерской игры, Белинский указывал на «Ревизора». «Посмотрите, какою общностью игры отличается представление „Ревизора“ на Петровском театре, — писал Белинский. — А отчего? Оттого, что актеры в сфере своей, русской жизни, а потому и естественны. А в водевилях они какие-то образы без лиц» (III, 300).
Белинский подходил к «Ревизору» с точки зрения той роли, которую должна была сыграть и действительно сыграла гоголевская комедия в реформе русского театра. Обратившись к сфере русской жизни, создав замечательные типические образы, Гоголь открыл театру новые пути его развития. На это Белинский указывал в цитированной заметке, к этому же вопросу он возвращался в театральной рецензии «Г. Сосницкий на московской
- 71 -
сцене в роли городничего». «Вообще „Ревизор“ у нас идет хоть куда, — писал Белинский, — есть общность в ходе целой пьесы, а это не шутка» (III, 303). «Общность в ходе» пьесы, то есть принцип ансамбля, Белинский подчеркнул и в заметке о Петровском театре, когда он отмечал, что «ход пьесы отличается удивительною целостию; все актеры, даже играющие немые роли, превосходно выполняют свое дело» (III, 469). Принцип ансамбля объяснялся цельностью представленной в «Ревизоре» жизни, типичностью характеров, логикой внутреннего развития пьесы. Вот почему Белинский, как и сам Гоголь, решительно осуждал водевильные приемы игры, которые вступали в противоречие с реалистической сущностью комедии. «Ленский на этот раз делал такие фарсы, что портил ход всей пьесы» (III, 469), — писал Белинский об актере, игравшем на московской сцене Хлестакова. Но вот Щепкин в роли городничего вызывал восхищение Белинского: «Актер понял поэта: оба они не хотят делать ни карикатуры, ни сатиры, ни даже эпиграммы; но хотят показать явление действительной жизни, явление характеристическое, типическое» (III, 334).
Развивая свои общие взгляды на значение «Ревизора» для русского театра, Белинский приходил к смелому и глубоко верному выводу о том, что «драматические поэты творят актеров». Поэтому «самобытная поэзия должна создать театр» в России (III, 335). Считая Гоголя национальным поэтом-драматургом, Белинский утверждал, что «его творческого пера достаточно для создания национального театра» (III, 335). Доказательство тому Белинский видел в необычайном успехе «Ревизора», который представлялся ему «глубоким, гениальным созданием». В смысле сценического успеха Белинский мог сопоставить «Ревизора» только с «Горем от ума», причем комедию Грибоедова он ставил после «Ревизора».
Гоголевский «Ревизор» знаменовал для Белинского настоящий переворот не только в литературе, но и на сцене. Гоголь, провозглашенный Белинским «главой литературы, главой поэтов», объявлялся также преобразователем русского театра. В оценке «Ревизора», так же как и в оценке повестей Гоголя, Белинский исходил из основных положений своей эстетики — реализма и связанной с ним народности.
К статьям Белинского о «Бородинской годовщине» Жуковского и об «Очерках Бородинского сражения» Ф. Глинки примыкают статьи «Менцель, критик Гёте» и «О „Горе от ума“».
Статья «О „Горе от ума“» в большей своей части была посвящена анализу «Ревизора» Гоголя. Нельзя не согласиться с Чернышевским, который проницательно отмечал, что и в пору «примирительных умонастроений» Белинского ему «нетерпеливо хотелось поговорить о Гоголе, и это одно уже служит достаточным свидетельством за направление, еще тогда преобладавшее в нем».1
Статью «О „Горе от ума“», так же как статью «О русской повести и повестях Гоголя» Белинский начинал с утверждения общеэстетических положений: «Наше новейшее искусство, начатое Шекспиром и Сервантесом, не есть ни классическое, потому что „мы не греки и не римляне“, и не романтическое, потому что мы не рыцари и не трубадуры средних веков» (V, 30). И дальше Белинский разъяснял, что характер новейшего искусства состоит «в примирении классического и романтического, в тождестве, а следственно и в различии от того и другого, как двух крайностей». По мысли Белинского, новейшее искусство исторически произошло от романтизма, но «оно примирило богатство своего романтического содержания
- 72 -
с пластицизмом классической формы» (V, 30). В этом синтезе романтических и классических элементов, с точки зрения Белинского, и заключалось своеобразие новейшего искусства, ставшего на путь трезвого раскрытия законов жизни, реализма беспощадного и глубокого, хотя термина «реализм» Белинский еще не употреблял.
Полемизируя с защитниками романтического искусства (Киреевский, Баратынский), Белинский с чрезвычайной резкостью спрашивал: «И что́ за жалкая, что́ за устарелая мысль о положительности и индюстриальности нашего века, будто бы враждебных искусству? Разве не в нашем веке явились Байрон, Вальтер Скотт, Купер, Томас Мур, Уордсворт, Пушкин, Гоголь, Мицкевич, Гейне, Беранже, Эленшлегер, Тегнер и другие? Разве не в нашем веке действовали Шекспир и Гёте» (V, 34). Для Белинского «действительность — вот пароль и лозунг нашего века, действительность во всем — и в верованиях, и в науке, и в искусстве, и в жизни» (V, 34).
Исходное положение Белинского, которое он кладет в основу своего критического анализа, данного в статье, заключается в определении поэзии как непосредственного созерцания истины или мышления в образах.
«Поэт мыслит о́бразами; он не доказывает истины, а показывает ее. Но поэзия не имеет цели вне себя — она сама себе цель; следовательно, поэтический образ не есть что-нибудь внешнее для поэта, или второстепенное, не есть средство, а есть цель... Поэту представляются о́бразы, а не идея, которой он из-за о́бразов не видит, и которая, когда сочинение готово, доступнее мыслителю, нежели самому творцу. Посему поэт никогда не предполагает себе развить ту или другую идею, никогда не задает себе задачи: без ведома и без воли его возникают в фантазии его о́бразы...» (V, 33—34).
Понятие образа как специфики искусства Белинский связывал, следовательно, с прежней своей теорией бессознательности художественного творчества. Теоретически он осуждал всякую тенденциозность в художественном произведении, что и приводило его в этот период к отрицанию сатиры. В этом заключалась слабость концепции Белинского.
Художественный образ, согласно взглядам Белинского, является концентрацией и типизацией явлений действительности, а совокупность образов и типов составляет конкретное единство содержания и формы художественного произведения. Белинский подчеркивал далее, что идея, лежащая в основе произведения, — это есть «общее», которое выражается в своей противоположности — в частном и индивидуальном. Идея должна в самой себе заключать «и свое развитие, и свою причину, и свое оправдание». В этом состоял один из важнейших признаков художественности, который Белинский называл «замкнутостью» и к которому постоянно возвращался. Смысл «замкнутости» — в совершенной полноте и типичности действия.
С «замкнутостью» был связан и другой признак художественности — «непроизвольность» или «нечаянность», т. е. отсутствие в произведении искусства всякого внешнего принуждения. В структуре художественного произведения должна господствовать внутренняя «разумная необходимость». Белинский доказывал, что сущность естественности и простоты искусства и состоит в этой необходимости.
Итак, художественный образ как типизация и конкретизация действительности, «замкнутость», «непроизвольность» и простота — вот основные критерии подлинной художественности, сводящиеся к одному главному критерию — воспроизведению действительности в ее истине. Сопоставляя все эти критерии с определением художественности в статье о Гоголе 1835 года, мы видим, что признаки художественности, намеченные четыре года назад, не только не отменены Белинским, но, напротив, развиты и углублены.
- 73 -
И подобно тому, как в 1835 году теоретические представления Белинского об искусстве формулировались им под впечатлением повестей Гоголя, так и в 1840 году все его положения в области эстетики поверяются и оправдываются творчеством автора «Ревизора».
Задача, которую поставил себе Белинский в статье «О „Горе от ума“», заключалась в том, чтобы «вывести разделение драматической поэзии на трагедию и комедию не по внешним признакам, а из их сущности, и на этих основаниях сделать критическую оценку знаменитому произведению Грибоедова» (V, 33).
Собственно к «Горю от ума» Белинский подходит только в заключении статьи: большая же ее часть посвящена детальному разбору идеи трагического и комического, причем в качестве примеров берутся произведения Гоголя, в частности «Ревизор».
Трагическое и комическое, согласно определению Белинского, шире отдельных жанров. «Трагедия может быть и в повести, и в романе, и в поэме, и в них же может быть комедия. Что́ же такое, как не трагедия „Тарас Бульба“, „Цыганы“ Пушкина, и что́ же такое „Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем“, „Граф Нулин“ Пушкина, как не комедия?.. Тут разница в форме, а не в идее» (V, 47). Белинский доказывает, что «элементы трагического находятся в действительности, в положении жизни, так сказать; а элементы комического в призрачности, имеющей только объективную действительность, в отрицании жизни» (V, 47).
Поэзии действительности Белинский противопоставляет поэзию призрачного, которая имеет дело с эгоистическим существованием, с личным и частным. Призрачное лишено положительной действительности, но оно тоже имеет объективный характер и включается в действительность, как ее отрицание, как «уклонение от нормальности».
К поэзии действительности Белинский относит трагедию, сущность которой он видит в столкновении «между влечением сердца и нравственным долгом» (V, 47). К поэзии призрачного относится комедия, изображающая «отрицательную сторону жизни». При определении сущности трагедии Белинский останавливается на «Тарасе Бульбе»; повесть об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче служит ему примером комедии. Разбирая эту повесть, Белинский выясняет, как «призрачность получает характер действительности, и следовательно, может и должна быть предметом искусства» (V, 44).
Той же мыслью Белинский руководствуется и при разборе «Ревизора». Комедия Гоголя — это замкнутый в себе мир, «в котором все выходит из одного источника — основной идеи, и все туда же возвращается» (V, 88). Рассмотрением «Ревизора» Белинский полностью оправдывал свои положения о художественном образе как типизации и конкретизации действительности и о содержательности художественной формы.
Центральный драматический конфликт комедии Гоголя состоит в ошибке городничего, принявшего Хлестакова за ревизора. Почему Гоголем избран именно этот анекдотический, несообразный случай? Белинский говорит, что через нее мы проникаем в идею и содержание пьесы. «Не грозная действительность, а призрак, фантом, или лучше сказать, тень от страха виновной совести, должны были наказать человека призраков» (V, 57—58). С точки зрения Белинского, призрачная неразумная действительность, наполненная «деятельностью мелких страстей и мелкого эгоизма» (V, 56), необходимо должна и развиваться в неразумных формах. Анекдотический, несообразный случай является, таким образом, наиболее типическим выражением действительности.
- 74 -
Разбирая характеры гоголевской комедии, Белинский показывает, как из идеи призрачности развивается все действие «Ревизора». Такие признаки художественности, как «замкнутость» или «непроизвольность», иллюстрируются Белинским многими примерами. Художественная структура «Ревизора» в комментированном пересказе Белинского очень ярко выступает перед читателем как организованная по внутренней необходимости. Из анализа Белинского становится очевидно, что в «Ревизоре» нет ничего неестественного, нет никакого внешнего принуждения. Не только каждая сцена, но и каждая деталь характерны своей полнотой и типичностью и оправданы основной идеей комедии.
П. В. Анненкову принадлежит совершенно правильное наблюдение о том, что «множество мыслей» Белинского, высказанных им в разборе «Ревизора», впоследствии «были усвоены самим Гоголем и встречаются в его собственной защите своей комедии, как, например, мысль, что грубая ошибка городничего, принявшего мальчишку Хлестакова за ревизора, есть действие встревоженной совести».1 Анненков отмечал, что «даже знаменитое положение Гоголя, что честное существо в „Ревизоре“ есть смех, даже и оно было сказано Белинским прежде».2
Свои наблюдения Анненков основывал лишь на предположении, что Гоголь мог читать статью Белинского. Однако в том, что Гоголь читал ее, не должно быть никаких сомнений. Это подтверждается письмами Белинского. 10 января 1840 года Белинский писал К. С. Аксакову: «Бога самого ради, уведомь меня тотчас же, какое произведет впечатление статья о „Горе от ума“ на Гоголя. Я что-то и почему-то не ожидаю хорошего, — но во всяком случае не церемонься: надо все знать» (Письма, II, 24). Через два месяца Белинский получил интересующее его уведомление. 14 марта 1840 года он сообщал В. П. Боткину: «Гоголь доволен моею статьею о „Ревизоре“, говорит — многое подмечено верно. Это меня обрадовало» (Письма, II, 94).
Трактовка Белинским «Ревизора» свидетельствовала о том, что в вопросе об отношении к действительности он начал осознавать свою ошибку; он признал, что не всякая действительность разумна и что существует еще «призрачная» действительность, противоречащая разумному сознанию. Поняв это, Белинский был недалек от того, чтобы объявить «призрачной» действительности беспощадную борьбу. Но Белинский еще только нащупывал пути к обоснованию идеи революционного отрицания. Вследствие этого он еще не мог в то время отказаться от убеждения, что «общество всегда право», он не находил еще пока оправдания восстанию личности против общества. С этих позиций он и продолжал отстаивать свой взгляд, что идея противоречия личности и общества не может быть положена в основу истинно художественного произведения. Противоречие личности и общества, по мнению Белинского, могло составить только идею сатиры, а сатиру, поскольку она ставила себе «внешние цели», Белинский исключал из разряда художественных произведений.
Белинский полагал, что в противоположность «Ревизору» — классическому образцу комедийного рода искусства — «Горе от ума» Грибоедова «не комедия в смысле и значении художественного создания» (V, 88), а сатира. В комедии Грибоедова «нет целого, потому что нет идеи..., — заявлял Белинский, — идея Грибоедова была сбивчива и неясна самому ему, а потому и осуществилась каким-то недоноском» (V, 84—85). Белинский
- 75 -
настаивал, что «Горе от ума» — не художественное произведение, ибо «художественное произведение есть само себе цель и вне себя не имеет цели», а Грибоедов «ясно имел внешнюю цель — осмеять современное общество» (V, 88). Белинский добавлял при этом, что «общество всегда правее и выше частного человека, и частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до какой она выражает собою общество» (V, 84). Исходя из этой мысли, Белинский решительно осуждал образ Чацкого, говоря, что это — «лицо комическое» (V, 85), «вырвавшийся из сумасшедшего дома» (V, 52), «мальчик на палочке верхом» (V, 85), а вся комедия — «буря в стакане воды» (V, 81). При всем том Белинский относил Грибоедова «к самым могучим проявлениям русского духа», полагая, что в комедии «он является еще пылким юношею, но обещающим сильное и глубокое мужество» (V, 89). Не видя в «Горе от ума» художественного создания в целом, Белинский отмечал «ряд отдельных картин и самобытных характеров, без отношения к целому, художественно нарисованных кистию широкою, мастерскою, рукою твердою» (V, 89).
В отношении этой статьи Белинского «О „Горе от ума“» Чернышевский справедливо указывал, что в ней и разбор «Ревизора» и разбор «Горя от ума» сделан с художественной точки зрения. «На то, какое значение для жизни имеет „Ревизор“ и имело „Горе от ума“, не обращено почти никакого внимания».1
Через год Белинский сам понял свою ошибку. 11 декабря 1840 года он признавался Боткину, что в своей статье говорил о «Горе от ума» «свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это — благороднейшее, гуманистическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар-развратников, против нашего... светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр. и пр. и пр.» (Письма, II, 186).
Белинский упрекал себя за то, что общественное значение «Горя от ума» было оставлено в его статье без внимания, и неоднократно подчеркивал впоследствии громадное общественное значение комедии («Горе от ума до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть», XII, 84), усматривая пафос «Горя от ума» в «негодовании на действительность». В пору «Московского наблюдателя» Белинский заново переоценил и творчество Пушкина. Выдвигая тезис о Пушкине как о величайшем «объективном» художнике и мировом поэте, Белинский, однако, ни в какой мере не ослаблял своего внимания к Гоголю.
«Скажи Грановскому, — писал Белинский Боткину 22 ноября 1839 года из Петербурга, — что чем больше живу и думаю, тем больше кровнее люблю Русь, но начинаю сознавать, что это с ее субстанциальной стороны, но ее определение, ее действительность настоящая, начинают приводить меня в отчаяние — грязно, мерзко, возмутительно, нечеловечески...». И тут же Белинский сообщал: «Гоголя видел два раза, во второй обедал с ним у Одоевского. Хандрит, да есть от чего, и все с ироническою улыбкою спрашивает меня, как мне понравился Петербург» (Письмо, II, 9).
Цитированное письмо к Боткину послано Белинским не более чем через месяц после написания статьи «О „Горе от ума“», где «примирительные» идеи продолжали еще отстаиваться. Характерно, однако, что, судя по этому письму, Белинский понимал раздражительное состояние великого русского
- 76 -
писателя, хандрящего от окружающей его действительности, и оправдывал это.
«Поклонись от меня Гоголю, — писал Белинский К. С. Аксакову 10 января 1840 года, — и скажи ему, что я так люблю его, и как поэта, и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества» (Письма, II, 25). В другом письме к Боткину, в феврале 1840 года, Белинский снова вспоминал об авторе «Ревизора» и о его страданиях от русской действительности. «Вполне понимаю страдания Гоголя и сочувствую им, — писал Белинский. — Родная действительность ужасна» (Письма, II, 56). Белинский отчетливо сознавал, что от этой ужасной действительности самодержавно-крепостнического строя не может быть выхода ни «в сфере природы», ни в сфере «семейного блаженства»: «...и там найдет тебя предводитель, исправник, земский суд, русский поп, окончивший курс богословия, пьяный лакей... Страшная и гадкая действительность» (Письма, II, 56—57).
Увлечение Гоголем как поэтом и человеком вместе с Белинским разделяли в это время и многие из его друзей, в частности К. С. Аксаков, вскоре перешедший в лагерь идейных противников Белинского. Но свой взгляд на Гоголя Белинский продолжал развивать совершенно самостоятельно.
В начале 1840 года Белинский вместе с К. С. Аксаковым готов был видеть в Гоголе мирового поэта, но, в противоположность К. С. Аксакову, на первое место все же ставил Пушкина.
«Вот мы и сошлись с тобою, — писал Белинский К. С. Аксакову 10 января 1840 года, — только у меня на месте Гоголя стоит Пушкин, который всего поглотил меня, и которого чем более узнаю, тем более не надеюсь узнать. Это Россия и единственный русский национальный поэт, полный представитель жизни своего народа. Да, велик Гоголь, поэт мировой: это для меня ясно, как 2 + 2 = 4; но... Пушкин... Впрочем, надо еще подождать. Эти вещи трудны для выговаривания. Впрочем, личное знакомство с поэтом лучше знакомит с его творениями, или, по крайней мере, усугубляет наслаждение превозносить его» (Письма, II, 24). Через несколько месяцев в письме к тому же К. С. Аксакову от 14 июня 1840 года, развивая свои мысли о соотношении Пушкина и Гоголя, Белинский утверждал, что Пушкин выше Гоголя, так как «выразил и исчерпал собою всю глубину русской жизни, и в раны которого мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать их». Заключая свои суждения о Гоголе и Пушкине и указывая, что «в форме все художественные произведения равны, но содержание дает различную ценность», Белинский заявлял: «„Тарас Бульба“ выше всего остального, что напечатано из сочинений Гоголя» (Письма, II, стр. 137—138).
Если в статье о Гоголе 1835 года Белинский особенно страстно и одушевленно писал о таких повестях, как повесть об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, то теперь на первое место он поставил «Тараса Бульбу». Еще не расставшись с идеями «примирения с действительностью» и в свете этих идей продолжая оценивать творчество Пушкина, Белинский видел в обличительных произведениях Гоголя известную его ограниченность как художника сравнительно с всеобъемлющей полнотой и объективностью пушкинского творчества. Только «Тарас Бульба» по своему эпическому характеру
- 77 -
выделялся среди других гоголевских произведений, и потому-то Белинский поставил его выше всего, написанного Гоголем.
Постановка вопроса об историческом и художественном соотношении Пушкина и Гоголя отразила противоречивость взглядов Белинского в тот момент, когда «примирительные» умонастроения не были еще им преодолены. Тогда же перед Белинским встал другой сложнейший вопрос, помимо вопроса об идейном и художественном соотношении Пушкина и Гоголя, вопрос о Лермонтове.
3
Лермонтов начал привлекать пристальное и сочувственное внимание Белинского почти с первых же своих произведений, появившихся в печати.
В 1838 году в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (№ 18) без имени автора была напечатана «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Рецензируя в «Московском наблюдателе» того же года поэму Е. Бернета «Елена», Белинский в специальном примечании отметил эту «Песню» как «прекрасное стихотворение». «Не знаем имени автора этой песни, которую можно назвать поэмою, в роде поэм Кирши Данилова, — писал Белинский, — но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование» (III, 394).
В 1839 году в «Московском наблюдателе» Белинский дал необычайно высокую оценку «Бэлы», появившейся в «Отечественных записках», и откликнулся на несколько стихотворений Лермонтова, также только что напечатанных в «Отечественных записках».
«Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск, — писал Белинский о «Бэле», — мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него. Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей Марлинского» (IV, 277).
«Прекрасными стихотворениями» Белинский счел «Ветку Палестины» и «Не верь себе». Он отмечал, что «первое поражает художественностию своей формы, а второе глубокостию своего содержания и могучестию формы» (IV, 279). Приведя далее стихотворение «Не верь себе», Белинский заключал: «Заметьте, что здесь поэт говорит не о бездарных и ничтожных людях, обладаемых метроманиею, но о людях, которым часто удается выстрадать и то и другое стихотворение, и которые вопли души своей, или кипение крови и избыток сил, принимают за дар вдохновения. Глубокая мысль!.. Сколько есть на белом свете таких мнимых поэтов! И как глубоко истинный поэт разгадал их!..» (IV, 280). Характерны в той же статье оценки центральных стихотворений Лермонтова «Дума» и «Поэт». «Думу» Белинский выделил как «энергическое, могучее по форме, хотя и прекраснодушное несколько по содержанию стихотворение». О «Поэте» Белинский упоминал как о произведении, «примечательном многими прекрасными стихами и также прекраснодушным по содержанию» (IV, 278, 279).
Обличительный, гневный пафос «Думы», «Поэта», а также и стихотворения «Не верь себе» противоречил взглядам Белинского, которые он разделял в пору примирения с действительностью. Термином «прекраснодушие» Белинский характеризовал тогда всякие беспочвенные идеалистические порывы, всякий бессильный протест против действительности.
- 78 -
П. В. Анненков в своих воспоминаниях рассказывает, что Белинский «не успел отделаться от Лермонтова одним решительным приговором. Несмотря на то, что характер лермонтовской поэзии противоречил временному настроению критика, молодой поэт, по силе таланта и смелости выражения, не переставал волновать, вызывать и дразнить критика. Лермонтов втягивал Белинского в борьбу с собою, которая и происходила на наших глазах».1
Прочитав в «Отечественных записках» в августе 1839 года «Три пальмы» Лермонтова, Белинский писал Краевскому: «Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое» (Письма, I, 336). Месяцем позже, в письме к Станкевичу, Белинский приводил целиком «Три пальмы» и заявлял: «На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов» (Письма, I, 339). В январе 1840 года Белинский спрашивал о Лермонтове К. С. Аксакова: «Каков его „Терек“? Дьявольский талант!» (Письма, II, 23). С тем же вопросом Белинский обращался и к Боткину, причем замечал: «Чорт знает — страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт, и что Пушкин умер не без наследника» (Письма, II, 31). Так, еще в начале 1840 года, когда не было ни «Героя нашего времени», ни сборника стихотворений Лермонтова, Белинский предсказывал Лермонтову место в литературе вслед за Пушкиным и Гоголем.
С восторгом встретил Белинский стихотворения «И скучно и грустно» и «Памяти А. И. Одоевского», от «Колыбельной песни» он был «без ума». Только к двум вещам — «Ангелу» и «Узнику» — Белинский остался холоден. Другие же лермонтовские стихотворения, появившиеся в 1839—1840 годах, глубоко взволновали и, как правильно заметил Анненков, втягивали Белинского «в борьбу с собою».
С конца 1839 года Белинский начинает осознавать несостоятельность своего истолкования «разумной действительности». У Белинского вместе с изживанием его прежних взглядов неуклонно нарастал протест против крепостнической действительности, развивалась и углублялась идея отрицания, идея революционной борьбы. Естественно, что в период пересмотра старых взглядов и перехода на новые революционные позиции Белинский так глубоко заинтересовался Лермонтовым. Ненависть и сарказм по отношению к «гнусной расейской действительности» николаевского времени, неугасимое стремление к свободе, жажда деятельной жизни и борьбы — вот что привлекало Белинского в поэзии Лермонтова. Она была созвучна его собственным думам, думам его единомышленников. Недаром Герцен говорил о Лермонтове, что «он всецело принадлежит к нашему поколению».2
Белинский впервые встретился и познакомился с Лермонтовым еще летом 1837 года в Пятигорске, на квартире у Н. М. Сатина, приятеля Герцена и Огарева. После своего переселения в Петербург Белинский встречался с Лермонтовым у Краевского, в редакции «Отечественных записок», а также у В. Ф. Одоевского. Однако и тогда сколько-нибудь близких отношений между ними не завязалось.
В первой половине апреля 1840 года Белинский посетил Лермонтова в ордонанс-гаузе, где поэт сидел под арестом за дуэль с Барантом. Это историческое свидание Белинского с Лермонтовым, по словам И. И. Панаева, продолжалось «часа четыре» и произвело на Белинского огромное впечатление. В письме к Боткину 16 апреля 1840 года Белинский отзывался
- 79 -
о только что вышедшем из печати «Герое нашего времени» и рассказывал о своем свидании с Лермонтовым. «Кстати: вышли повести Лермонтова, — писал Белинский. — Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Печорин — это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: дай бог! Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве. Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей» (Письма, II, 108).
Вскоре после этой встречи и беседы с Лермонтовым Белинский написал свою статью о «Герое нашего времени». В русской критике это был первый глубокий анализ гениального произведения и вместе с тем его восторженная оценка.
Реакционная критика встретила роман Лермонтова с ожесточением. Самое заглавие, имеющее у Лермонтова горько-иронический и трагический смысл, было понято в буквальном значении.
В ряде критических отзывов по поводу «Героя нашего времени», принадлежавших перу защитников самодержавно-крепостнического строя, была одна общая линия — резкое порицание и осуждение образа Печорина: Печорин — безнравственный и развратный человек, и объявлять его «героем нашего времени» значит клеветать на Россию. Из всех писавших о «Герое нашего времени» громадное значение образа Печорина понял только один Белинский. В образе Печорина Белинский увидел правдивое и бесстрашное отражение трагедии целого поколения передовых русских людей 40-х годов. Человек сильный духом, гордый и смелый, Печорин растрачивает свою энергию впустую, в жестоких забавах и в мелких интригах. Печорин — это жертва того общественного строя, который мог только глушить и калечить все лучшее, передовое и сильное.
Друг и соратник Белинского Герцен впоследствии охарактеризовал общественную атмосферу николаевского времени как царство «мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту».1 В таких условиях и вырастали люди, подобные Печорину, которые, говоря словами Белинского, или бездействовали, или занимались пустой деятельностью. Для реакционной критики Печорин — это выдуманный образ, не существующий в действительности. Белинский же увидел в нем человека, искалеченного самой жизнью.
Белинский считал, что Печорин должен был духовно и нравственно выздороветь и стать «торжествующим победителем над злым гением жизни» (V, 372). «Судя о человеке, — говорил Белинский, — должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многих отношениях, дурное настоящее обещает прекрасное будущее» (V, 365). Такой взгляд на Печорина вытекал из глубокой веры Белинского в торжество
- 80 -
правды и разума, а также из уверенности в том, что передовым людям 40-х годов удастся найти пути к свободному и здоровому общественному строю.
Белинский видел в образе Печорина отзвуки личной трагедии и самого Лермонтова. Элементы авторского сочувствия к Печорину, которые имелись в романе, дали Белинскому право утверждать, что Лермонтов еще не смог совершенно отделиться от Печорина и смотреть на него со стороны.
При свидании с Лермонтовым в ордонан-гаузе Белинский имел возможность убедиться, что у поэта были черты характера, сходные с чертами Печорина. По мнению Белинского, эти черты выражались в «рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей». Вместе с тем Белинский наблюдал у Лермонтова и «семена глубокой веры» в достоинство жизни. Белинский считал, что поэту необходимо было преодолеть свою рассудочность и раздраженность. Об этом Белинский говорил самому Лермонтову, об этом же он говорит и в своей статье. Предсказывая «прекрасное будущее» для Печорина и защищая его, Белинский в то же время защищал и самого Лермонтова. Он полагал, что укрепление веры в достоинство жизни и людей является непреложной основой будущего развития Лермонтова, залогом его художественного роста.
В пору написания своей статьи о «Герое нашего времени» Белинский еще не до конца освободился от своих «примирительных» умонастроений. Эти умонастроения особенно ясно выступают в тех местах статьи, где Белинский утверждает, что противоречия и диссонансы необходимо должны разрешаться в гармонию.
Впоследствии Чернышевский, оценивая статью Белинского о «Герое нашего времени», подчеркивал, что анализ образа Печорина сделан в этой статье «почти исключительно с художественной точки зрения» и что Белинский еще не ставил вопроса о том, почему именно Печорин, а не другой тип людей порождается нашей действительностью. Отмечая эти недостатки статьи Белинского, Чернышевский в то же время не мог не признать, что из всех критических статей по поводу «Героя нашего времени», появившихся в 40-е годы, только статья Белинского давала действительно глубокую оценку романа Лермонтова и отвечала интересам прогрессивных слоев русского общества. Чернышевский говорил, что, несмотря на «отвлеченность» критических взглядов Белинского в 1840 году, никто еще не проникался элементами нашей действительности так глубоко и живо, как и в то время была уже проникнута ими критика Белинского. По поводу трактовки Белинским образа Печорина Чернышевский справедливо отметил, что Белинский и в 1840 году стоял на почве идеи развития и что в этом была его сила. Он «никогда не любил останавливаться на половине пути из боязни, что с развитием соединены свои опасности, как соединены они со всеми вещами на свете; все-таки эти опасности, по его мнению, вовсе не так страшны, как та нравственная порча, которая бывает необходимым следствием неподвижности; притом же, они с неизмеримым избытком вознаграждаются положительными благами, какие дает развитие».1
Непосредственным продолжением статьи Белинского о «Герое нашего времени» явилась его статья о «Стихотворениях М. Лермонтова», напечатанная через полгода. За эти полгода Белинский окончательно преодолел свои «примирительные» умонастроения, вышел на «широкое поле действительности», стал на путь революционного отрицания и борьбы. В период работы над статьей о «Стихотворениях М. Лермонтова» Белинский писал
- 81 -
Боткину: «Вообще, все общественные основания нашего времени требуют строжайшего пересмотра и коренной перестройки, что и будет рано или поздно. Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности...» (Письма, II, 203).
С идеей личности связано было у Белинского и понятие «субъективности», которое он обосновал в статье о «Стихотворениях М. Лермонтова». «Субъективность» в понимании Белинского означала способность художника откликаться на общественные вопросы своего времени и произносить суд над явлениями жизни.
Именно поэтому обличительная гражданская лирика Лермонтова получила особенно высокую оценку со стороны Белинского. Он восхищался пафосом стихотворения «Поэт» и особо выделял «Думу», говоря, что «эти стихи писаны кровью» (VI, 40). Белинский показывал, как «похоронная песнь жизни» (VI, 50) переплеталась у Лермонтова с тоской по жизни, с неукротимой жаждой жизни.
Вторая статья Белинского, как и первая, проникнута глубочайшей верой в торжество правды и разума: «Нет, это не смерть и не старость: люди нашего времени так же или еще больше полны жаждою желаний, сокрушительною тоскою порываний и стремлений. Это только болезненный кризис, за которым должно последовать здоровое состояние лучше и выше прежнего. Та же рефлексия, то же размышление, которое теперь отравляет полноту всякой нашей радости, должно быть впоследствии источником высшего, чем когда-либо блаженства, высшей полноты жизни» (VI, 38).
Белинский говорит сначала о стихотворениях Лермонтова, в которых он «является не безусловным художником, но внутренним человеком, и по которым одним можно увидеть богатство элементов его духа и отношения его к обществу» (VI, 36). К таким стихотворениям Лермонтова Белинский причисляет «Думу», «Поэта», «Не верь себе», «И скучно, и грустно». Во всех этих пьесах — «громы негодования, гроза духа, оскорбленного позором общества» (VI, 40). Особую лирическую группу составляют стихотворения «В минуту жизни трудную», «Памяти А. И. Одоевского», «Молитва», «1-ое января», «Журналист, читатель и писатель», «Ребенку», «Сосед».
Белинский отмечает тематическое многообразие лирики Лермонтова, находит в его стихотворениях «все силы, все элементы, из которых слагается жизнь и поэзия». «Гармонически и благоуханно, — пишет он, — высказывается дума поэта в пьесах: „Когда волнуется желтеющая нива“, „Расстались мы, но твой портрет“ и „Отчего“, — и грустно, болезненно в пьесе „Благодарность“» (VI, 49).
Другую группу стихотворений Лермонтова Белинский называет «чисто-художественными». Сюда он относит «Ветку Палестины», «Тучи», «Русалку», «Три пальмы», «Дары Терека», «Казачью колыбельную песню», «Воздушный корабль» и «Горные вершины».
Собственно говоря, термин «чисто-художественные стихотворения» носит в статье Белинского условный классификаторский характер. Особенности одной группы стихотворений Лермонтова Белинский усматривает в том, что в них открыто поэт высказал свое отношение к современному ему обществу. Другую группу стихотворений Белинский называет «чисто-художественными» только потому, что в них поэт выдвигает на первый план изображение действительности, порою совершенно скрывая отношение к изображаемому.
В заключительной части статьи Белинский останавливается на поэме «Мцыри», сопоставляя ее с «Демоном», тогда еще не напечатанным, но распространявшимся в списках. «Мысль этой поэмы, — пишет Белинский
- 82 -
о «Демоне», — глубже и несравненно зрелее, чем мысль „Мцыри“, и хотя исполнение ее отзывается некоторою незрелостию, но роскошь картин, богатство поэтического одушевления, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образов, ставят ее несравненно выше „Мцыри“ и превосходят все, что можно сказать в ее похвалу» (VI, 60).
Для Белинского Лермонтов был не только наследником Пушкина, но и продолжателем его традиции, поэтом, который двинул далеко вперед русскую поэзию. Отличительной чертой Лермонтова, как и Гоголя, Белинский считал страстное отношение поэта к изображаемым явлениям мира, сочетавшееся с глубокой верностью жизненной правде. Субъективность Лермонтова Белинский истолковывал как гражданский пафос, как волнующую думу поэта о судьбах родины.
В статье о стихотворениях Лермонтова Белинский писал о кровной связи гражданина и человека с родной страной, о любви к родине как животворящем начале индивидуальной жизни: «В полной и здоровой натуре тяжело лежат на сердце судьбы родины; всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством» (VI, 9). Важно подчеркнуть, что Белинский в пору написания этих строк не мог знать лермонтовской «Родины», так как стихотворение появилось в печати только через два месяца после опубликования цитируемой статьи.
Когда «Родина» стала известна Белинскому, он с восторгом отозвался об этом стихотворении. В письме к Боткину от 13 марта 1841 года Белинский сообщал: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его „Родина“ — то, аллах-керим, — что за вещь — пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских» (Письма, II, 227).
15 (27) июля 1841 года Лермонтов погиб на дуэли. Второе издание «Героя нашего времени» Белинский встречал «горькими слезами о невозвратимой утрате, которую понесла осиротелая русская литература в лице Лермонтова» (VI, 312). В этой рецензии Белинского по поводу второго издания романа есть строки, бросающие свет на последний этап творческого развития Лермонтова. Характеризуя жизнь и личность Лермонтова, Белинский писал: «Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся „Последним из Могикан“, продолжающейся „Путеводителем в пустыне“ и „Пионерами“ и оканчивающейся „Степями“...» (VI, 316).
Драгоценно это единственное дошедшее до нас свидетельство о неосуществленном грандиозном замысле Лермонтова, о котором он сам сообщал Белинскому.
Естественны вопросы: какое же значение в творческом развитии Лермонтова имело его общение с Белинским, его споры с критиком? Какое значение для Лермонтова имели статьи Белинского?
Чернышевский, располагавший, вероятно, данными, которые до нас не дошли, в «Очерках гоголевского периода» говорит по поводу объединения кружков Герцена и Станкевича, что Лермонтов «самостоятельными симпатиями своими принадлежал новому направлению, и только потому, что
- 83 -
последнее время своей жизни провел на Кавказе, не мог разделять дружеских бесед Белинского и его друзей».1 Вождем «нового направления», о котором говорит Чернышевский, был именно Белинский. «Самостоятельные симпатии» к Белинскому могли определиться у Лермонтова не только в связи с чтением его критических работ, но также и в пору личного общения с критиком в начале 1841 года, когда Лермонтов снова был в Петербурге.
4
Положения, высказанные Белинским в статье о «Стихотворениях М. Лермонтова», нашли применение и развитие в последующих его статьях. В связи с признанием «субъективности» в искусстве Белинский восстановил в своих правах сатиру, которую в 1838—1839 годах он изгонял из области искусства. «Если под „сатирою“ должно разуметь не невинное зубоскальство веселеньких остроумцев, а громы негодования, грозу духа, оскорбленного позором общества, — то „Дума“ Лермонтова есть сатира, и сатира есть законный род поэзии» (VI, 40—41). Белинский более критически стал подходить к Вальтер Скотту, который для него еще так недавно был образцом объективного художника. В статье «Разделение поэзии на роды и виды» Белинский писал: «В большей части романов Вальтера Скотта и Купера есть важный недостаток... это решительное преобладание эпического элемента и отсутствие внутреннего субъективного начала. Вследствие такого недостатка, оба эти великие творца являются, в отношении к своим произведениям, как бы какими-то холодными безличностями, для которых все хорошо, как есть...» (VI, 79). Характерно, что Белинский тут же добавлял, что «конечно, это может почитаться недостатком только в наше время...».
Требование субъективного отношения художника к изображаемому им миру; Белинский выдвигал, исходя из условий и потребностей современной общественной жизни. Несомненна органическая связь между политической позицией Белинского, ставшего на путь революционной борьбы с «гнусной расейской действительностью», и основными принципами его новой эстетической программы. Новая эстетическая программа Белинского, позволила ему внести существенные коррективы в истолкование творчества Гоголя, углубить и расширить это истолкование. После трагической гибели Лермонтова Гоголь оставался единственным великим писателем тогдашней России, писателем, который подвергал беспощадному отрицанию крепостническую действительность.
Новый период в отношении Белинского к Гоголю начинается статьей «Разделение поэзии на роды и виды». В этой статье критик решительно порывал с защищавшейся им некогда теорией «объективности» искусства. Белинский полагал теперь, что «личности поэта» в комедии Гоголя «не видно только по наружности; но его субъективное созерцание жизни, как arrière-pensée,2 непосредственно присутствует в ней». Белинскому прояснился общественный смысл гоголевской комедии, в которой писатель выступал в то же время и учителем жизни. По определению Белинского, «в комедии, жизнь для того показывается нам такою, как она есть, чтоб навести нас на ясное созерцание жизни так, ка́к она должна быть» (VI, 112). Эстетические критерии сочетались теперь у Белинского с общественными,
- 84 -
а в связи с этим по-новому истолковывался и «Ревизор», этот «превосходнейший образец художественной комедии».
Определив общественное значение «Ревизора», Белинский выяснил и ту историко-литературную традицию, которая подготовила его появление. В статье о «Деяниях Петра Великого» Голикова Белинский вспоминал обличительную литературу XVIII века в России и таких ее представителей, как Сумароков, Капнист, Фонвизин. «Муза Сумарокова, — писал Белинский, — объявила непримиримую войну подьячим и клеймила лихоимство и казнокрадство печатью позора и отвержения» (XII, 269). Если еще недавно Белинский ставил Сумарокова гораздо ниже Ломоносова, теперь он утверждал, что «литературное направление Сумарокова было, так сказать, жизненнее чисто-реторического направления Ломоносова» (XII, 269). Белинский с уважением вспоминал о том, что «„Ябеда“ Капниста была сильным ударом ябеде» (XII, 269), что «Нахимов составил себе громкое имя в литературе своего времени постоянным вдохновением против кривосудия» (XII, 269) и что «хотя остроумие Фонвизина было устремлено преимущественно против невежества, но мимоходом доставалось от него порядком сутяжничеству» (XII, 269). Называя «Ревизора» Гоголя, который был «истинным бичом этого порока» и в котором была продолжена обличительная традиция русской литературы, Белинский не забывал и о Грибоедове, о его служении «святому делу преследования лихоимства бичом сатиры» (XII, 269).
В той же статье, касаясь вопроса о «мнимом, искаженном европеизме», Белинский дал меткую характеристику образа Хлестакова, назвав его одним «из таких известного рода европейцев нашего времени» (XII, 283). Белинский саркастически отмечал, что «наши галломаны, англоманы, львы, онагры, петиметры, агрономы, комфортисты так и просятся в комедию Гоголя — кто рассуждать с Анною Андреевною о столичной жизни и обращении в кругу посланников и министров, кто рассуждать с почтмейстером Шпекиным и судьею Ляпкиным-Тяпкиным о политических отношениях Франции и Турции к России» (XII, 283).
Мысли Белинского об особенностях творчества Гоголя, высказанные им в статье «Разделение поэзии на роды и виды» и в статье о «Деяниях Петра Великого» Голикова, получили дальнейшее развитие в обзоре «Русская литература в 1841 году». Здесь Белинский писал, что юмор Гоголя состоит в «противоположности созерцания истинной жизни, в противоположности идеала жизни — с действительностию жизни» (VII, 43). Таким образом, реализм Гоголя понимался Белинским не только как бесстрашная критика уродливой и грязной действительности, но и как страстный призыв к лучшему будущему. По мысли Белинского, изображаемая Гоголем «грязная действительность» наводит читателей «на созерцание идеальной действительности, и то, что́ есть, яснее представляет им то, что́ бы должно быть...» (VII, 43). В этом смысле Белинский по-новому оценил «дивную повесть о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», усмотрев в ней более яркое, чем в других повестях «Миргорода», проявление авторской «субъективности». В этом же смысле он оценил и «Ревизора», заявив, что «комедия Гоголя... сто̀ит всякой трагедии» (VII, 43). Учитывая влияние Гоголя на современную литературу, Белинский назвал его родоначальником русского романа и русской повести. До Гоголя повесть «играла роль ученицы, и только в отрывке из романа Пушкина „Арап Петра Великого“ на минуту явилась мастером...» (VII, 41). Только «с Гоголя начался русский роман и русская повесть, как с Пушкина началась истинно-русская поэзия...». Вот почему, по мнению Белинского, «Гоголь внес в нашу литературу
- 85 -
В. Г. Белинский.
Литография В. Ф. Тима 1862 года. С рисунка К. А. Горбунова
1843 года.
- 86 -
- 87 -
новые элементы, породил множество подражателей, навел общество на истинное созерцание романа, каким он должен быть; с Гоголя начинается новый период русской литературы, русской поэзии...» (VII, 41).
К отчетливому пониманию того, что Гоголь внес в русскую литературу новые идейные и эстетические принципы и что он стал главою нового литературного периода, Белинский пришел еще в 1835 году, в статье «О русской повести и повестях Гоголя». В начале 40-х годов Белинский осознал великое общественно-политическое значение гоголевского творчества. С этого момента начинается новый период в его борьбе за гоголевское направление. Борясь за Гоголя с позиций революционного демократа, Белинский подвергал теперь суровой критике слабые и даже реакционные стороны, которые стали обозначаться в произведениях автора «Ревизора». Революционно-демократическая программа Белинского далеко не совпадала и не сливалась с общественными идеалами и эстетическими требованиями Гоголя, демократизм которого был далеким от революционности.
С 18 октября 1841 года Гоголь, возвратившийся из вторичной поездки за границу, жил в Москве и был занят хлопотами по продвижению в печать первого тома «Мертвых душ». В это время Гоголь был уже близок к московским славянофильским кругам, к редакции «Москвитянина» и поддерживал дружеское общение с Шевыревым, с которым близко сошелся за границей. Шевырев же, апологет и проповедник реакционной охранительной теории, яростно ненавидел Белинского.
В Москве в конце 1841 года Белинский встретился с Гоголем, который передал ему не пропущенную московской цензурой рукопись «Мертвых душ» с просьбой вручить ее по приезде в Петербург В. Ф. Одоевскому. Белинский предложил Гоголю сотрудничать в «Отечественных записках». Гоголь отклонил это предложение и, таким образом, сделал выбор между журналом, вдохновлявшимся Белинским, и «Москвитяниным» в пользу последнего. В письме к В. Боткину Белинский 31 марта 1842 года писал: «...в этом кружке он как раз сделается органом „Москвитянина“» (Письма, II, 291).
С осуждением отнесся Белинский и к повести Гоголя «Рим», опубликованной в «Москвитянине». В том же письме к Боткину он заметил, что в повести «много хорошего; но есть фразы, а взгляд на Париж возмутительно гнусен» (Письма, II, 291).1 Белинский имел в виду то, что Гоголь устами героя повести осуждал политическую жизнь Парижа и нелестно отзывался о всей французской нации.
У Белинского никогда не было личной близости с Гоголем, но дело с отправкой рукописи «Мертвых душ» из Москвы в Петербург, к которому Белинский был привлечен, дало ему повод для ответного письма, написанного 20 апреля 1842 года (Письма, II, 308—310). В этом замечательном письме великий критик откровенно высказал свою непримиримость по отношению к тем реакционным кругам, с которыми был тесно связан великий писатель. Вместе с тем Белинский высказал в письме и свое новое понимание громадного общественного значения гоголевского творчества. Письмо было проникнуто безграничным уважением к автору «Ревизора», но в то же время оно носило принципиально резкий характер. Сообщая Боткину черновик своего письма, Белинский подчеркивал, что он «повернул круто... к чорту ложные отношения — знай наших — и люби, уважай; а не любишь, не уважаешь — не знай совсем» (Письма, II, 306).
- 88 -
Белинский писал Гоголю: «Судьба... давно играет странную роль в отношении ко всему, что́ есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова — и оставляет в добром здоровье Булгарина, Греча и других подобных им негодяев в Петербурге и Москве; она украшает „Москвитянин“ вашими сочинениями и лишает их „Отечественные записки“» (Письма, II, 308). Со всей решительностью Белинский утверждал, что «„Отечественные записки“ теперь единственный журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и — смею думать — умное мнение...» (Письма, II, 308). Белинский подчеркивает резкое различие позиций «Отечественных записок» и «Москвитянина».
Белинский прозрачно намекал в письме на отрицательный характер своего мнения о новой повести Гоголя «Рим», однако самого мнения, «не получив предварительно позволения на откровенность», не сообщил. Можно думать, что отзыв о «Москвитянине» Белинский счел достаточно сильным, чтобы не осложнять его еще дополнительной критикой повести Гоголя.
Белинский действительно «повернул круто», но он делал это только потому, что с именем Гоголя связывал надежды и чаяния всей передовой и мыслящей России. «Дай вам бог здоровья, душевных сил и душевной ясности, — писал Белинский. — Горячо желаю вам этого, как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь один — и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою; не будь вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества...» (Письма, II, 310).
Сообщая в письме о своем намерении по случаю предстоящего выхода «Мертвых душ» написать несколько статей о Гоголе, Белинский признавался в том, что он теперь пришел к более верному пониманию художественных замыслов Гоголя и по-новому оценил сущность его творчества. Белинский вспоминал о «милых» ему теперь «Арабесках» и сознавался в несправедливости своей прежней оценки (в статье 1835 года) помещенных в них статей «ученого» содержания. Одну из этих статей «Несколько слов о Пушкине», на которую в свое время Белинский не обратил внимания, он впервые цитировал в обзоре «Русская литература в 1841 году», ссылался на нее при характеристике народности пушкинского творчества (ср. XI, 374, 390—392). «... Во мне много нового с тех пор, как, в 1840 году, в последний раз врал я о ваших повестях и „Ревизоре“» (т. е. в статье о «Горе от ума»), — писал Белинский, имея в виду истолкование повестей Гоголя в плане защищавшейся им в ту пору «объективности» художественного творчества. «Теперь я понял, — продолжал далее Белинский, — почему вы Хлестакова считаете героем вашей комедии, и понял, что он точно герой ее; понял, почему „Старосветских помещиков“ считаете вы лучшею повестью своею в „Миргороде“, также понял, почему одни вас превозносят до небес, а другие видят в вас нечто в роде Поль-де-Кока...» (Письма, II, 309).
Осознание громадного обобщающего смысла образа Хлестакова связано было у Белинского с переоценкой всей комедии, которая представляла собой грозный обвинительный акт всему общественному строю николаевской монархии. Сам Гоголь дал Хлестакову следующую характеристику в «Отрывке из письма к одному литератору»: «Словом, это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре... И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым,
- 89 -
и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым».1
Гоголь не ответил Белинскому, но в письме к Н. Я. Прокоповичу 11 мая 1842 года просил, однако, благодарить Белинского и сообщить ему, что не пишет ему потому, что «обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний проезд мой чрез Петербург», — писал Гоголь.2 Через несколько дней, 15 мая 1842 года, в письме к тому же Н. Я. Прокоповичу, разрешая объявить о выходе в свет первого тома «Мертвых душ», Гоголь поручал попросить Белинского, чтобы сказал что-нибудь о книге «в немногих словах, как может сказать не читавший ее»,3 — имелось в виду предварительное оповещение о «Мертвых душах» на страницах «Отечественных записок». Эта просьба была немедленно выполнена Белинским, который в шестой книжке «Отечественных записок» 1842 года в разделе «Библиографические и журнальные известия» сообщил о выходе в свет книги Гоголя и о получении ее в Петербурге. Отмечая, что он еще не успел ознакомиться с книгой, Белинский писал: «Но имевшие случай читать этот роман, или, как Гоголь назвал его, эту поэму, в рукописи или слышать из нее отрывки говорят, что в сравнении с этим творением все, доселе написанное Гоголем, кажется бледно и слабо: до такой высоты достиг вполне созревший и развившийся талант нашего единственного поэта-юмориста!» (XII, 368).
Перед отъездом за границу, между 27 мая и 5 июня 1842 года, будучи в Петербурге, Гоголь встречался с Белинским, однако сближения между ними не произошло.
Выход в свет первого тома «Мертвых душ» явился событием огромного политического и культурного значения в жизни тогдашней России. Именно так понял и оценил великое творение Гоголя Белинский.
Характерно, что Белинский решительно противопоставил творение Гоголя не только всей современной литературе, где торжествовали «мелочность» и «бездарность», но и официальной общественной жизни с ее «ложными чувствами» и «фарисейским патриотизмом». Величие Гоголя, по мнению Белинского, состояло в «смелом и прямом» взгляде на русскую действительность, в глубоком юморе писателя, в «его бесконечной иронии». «Мертвые души» подтверждали сложившееся убеждение Белинского в том, что непременным качеством современного передового художника должна быть «субъективность». Бесстрашный протест против окружающей действительности и разоблачение ее ложных сторон, сила негодования, которым было проникнуто новое творение Гоголя, — во всем этом Белинский видел шаг вперед в художественном развитии автора «Миргорода», «Арабесок» и «Ревизора». «Величайшим успехом и шагом вперед считаем мы со стороны автора то, — писал Белинский, — что в „Мертвых душах“ везде ощущаемо и, так сказать, осязаемо проступает его субъективность» (VII, 253). Белинский имел в виду «не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность», которая не допускает писателя «с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому», которая «заставляет его проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу...» (VII, 253—254).
- 90 -
Белинский восхищался пафосом субъективности не только в «высоколирических отступлениях» поэмы Гоголя, но также в многообразных проявлениях этого пафоса, «даже и среди рассказа о самых прозаических предметах, как, например, об известной дорожке, проторенной забубенным русским народом...». Белинский отмечал, что музыку пафоса Гоголя «чует внимательный слух читателя и в восклицаниях, подобных следующему: „Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!“...» (VII, 254).
Другим важным шагом «вперед со стороны таланта Гоголя» Белинский считал то, что в «Мертвых душах» Гоголь «стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова» (VII, 254).
Для Белинского содержание произведения всегда являлось истинным мерилом достоинства поэта, причем под «содержанием» Белинский разумел отнюдь не сюжет и не систему верований и убеждений автора, а «нечто высшее, из чего вытекают все верования, убеждения и начала», т. е. миросозерцание. Белинский восставал против ложного взгляда, согласно которому «содержание» понималось только внешним образом, как сюжет произведения, тогда как «содержание», с точки зрения Белинского, «есть душа, жизнь и сюжет этого сюжета» (VII, 29—30). Совершенно понятно поэтому, что Белинский считал «Мертвые души» не соответствующими «понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом женились и стали богаты и счастливы». Белинский подчеркивал, что «поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не „сюжет“» (VII, 255). Исходя из мысли о том, что «Мертвые души» по своему содержанию не соответствуют традиционному понятию романа, Белинский готов был согласиться отнести гоголевское произведение к роду «поэмы». Впрочем, Белинский тут же делал оговорку, что первый том «Мертвых душ» «есть только экспозиция, введение в поэму, что автор обещает еще две такие же большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица, в которых Русь выразится с другой своей стороны...» (VII, 256).
После выхода в свет «Мертвых душ» перед Белинским стояла задача разъяснить «социальное, общественное и историческое» значение великого произведения и отстоять его от нападений врагов. А Гоголь подвергся обвинениям в том, что он клевещет на Россию, что в «Мертвых душах» нет ничего, кроме карикатур, что Гоголь изобразил особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать. Наиболее яростными врагами «Мертвых душ» выступили: Греч в «Северной пчеле» (1842, № 137), Сенковский в «Библиотеке для чтения» (1842, т. 53, кн. 8), Н. Полевой в «Русском вестнике» (1842, кн. 5—6). Реакционная журналистика в один голос кричала о том, что Гоголь грязен, неприличен, что он не умеет даже грамотно писать.
Сокрушительный отпор Гречу на его критику «Мертвых душ» Белинский дал в «Журнальных и литературных заметках», напечатанных в той же седьмой книжке «Отечественных записок» 1842 года, где была помещена рецензия самого Белинского на «Мертвые души». Греч обвинял Гоголя в том, что действующие лица в «Мертвых душах» будто бы «все дураки и негодяи». Белинский указал, что такого рода обвинение не справедливо и не ново (оно высказывалось еще в 1836 году по поводу «Ревизора»). Белинский ссылался на самого Гоголя, в частности на его рассуждение, почему добродетельный человек не был им взят в герои, и еще на гоголевские слова, что «теперь у нас подлецов не бывает; есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили
- 91 -
бы свою физиономию под публичную оплеуху, отыщется каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели» (VII, 274).
Вопрос о человеческих пороках и порочных характерах Белинский из области отвлеченно-моральной переносил в плоскость общественно-социальную: пороки и уродства человека были обусловлены не его природой, а теми общественными отношениями, в которых он жил и развивался. В одной из своих рецензий Белинский писал, «в наше время все — или штатские, или военные, или мещане, купцы, художники, ученые, земледельцы, все, что́ угодно — только не „люди“; титло „человека“ священно и велико только на словах да в книгах, а в жизни о нем никто не заботится, никто не спрашивает... В юности мы учимся всем наукам, исключая той, которая научает каждого быть человеком» (VII, 387).
Другой упрек Греча, который пришлось отводить Белинскому, — это обвинение Гоголя в безидейности, в отсутствии у него «содержания». Белинский иронически отметил, что «рецензент, как заметно по тону и смыслу его статьи, человек прошлого века, и „содержание“ смешивает с „сюжетом“, идеал же романа видит в бабьих сплетнях и россказнях о разной небывальщине, составляющей сюжет какой-нибудь „Черной женщины“» (VII, 274). Этот роман Греча, о котором упоминал Белинский, был построен как раз на «сюжете» и на необычайных приключениях героев.
Нападение Греча на Гоголя за употребление им «неприличных и неупотребляемых в высшем обществе слов» повторяло давние нападки Сенковского, который считал автора «Ревизора» «грязным» писателем и ставил его ниже Поль де-Кока. Белинский остроумно ответил Гречу выдержкой из старой статьи П. Вяземского о «Ревизоре» (1836), в которой тот, ядовито возражая Сенковскому, заявлял, что «жеманство, чопорность, щепетность, оговорки, отличительные признаки людей — не живущих в хорошем обществе, но желающих корчить хорошее общество» (VII, 275).
В издевательском фельетоне Сенковского по поводу «Мертвых душ», в сущности, варьировались нападки Булгарина. На этот фельетон Белинский ответил острой полемической статьей «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке». Белинский утверждал в этой статье, что противники Гоголя, находя лица, изображаемые им «особенно безнравственными и глупыми, довольно ребячески преувеличивают дело и грубо его понимают. Эти лица дурны по воспитанию, по невежественности, а не по натуре...» (VII, 334). Белинский твердо отстаивал то важнейшее положение, что обличительный пафос Гоголя был направлен не на отдельных чиновников и помещиков, а на весь тогдашний общественный строй, на всю крепостническую систему в целом. Белинский отстаивал типичность гоголевских героев, которые имели не только русское, но и международное значение. «Неужели в иностранных романах и повестях вы встречаете все героев добродетели и мудрости? — спрашивал Белинский и отвечал: — Ничего не бывало! Те же Чичиковы только в другом платье; во Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а подкупают живые души на свободных парламентских выборах! Вся разница в цивилизации, а не в сущности. Парламентский мерзавец образованнее какого-нибудь мерзавца нижнего земского суда; но в сущности оба они не лучше друг друга» (VII, 334). Гневные слова Белинского о «парламентских мерзавцах» неопровержимо свидетельствуют о том, что Белинский ненавидел и обличал не только отечественных крепостников и эксплуататоров, но также и западноевропейские буржуазные порядки.
В отношении критики на «Мертвые души» у Белинского была двоякая задача: с одной стороны, отразить атаки ненавистников и врагов Гоголя,
- 92 -
с другой — раскрыть реакционное содержание апологетических отзывов о гоголевской поэме. Последнее было особенно важно потому, что в качестве «ценителей» Гоголя были критики из круга славянофилов и «Москвитянина», с которыми писатель был связан узами личной близости.
С восторженной апологией «Мертвых душ» выступил К. С. Аксаков, в недавнем прошлом один из друзей самого Белинского по кружку Станкевича. К. С. Аксаков издал брошюру «Несколько слов о поэме Гоголя», в которой он сопоставлял Гоголя с Гомером. В «Мертвых душах», заявлял К. С. Аксаков, «древний эпос восстает пред нами».1 «Только у Гомера и Шекспира можем мы встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусства».2 Разъясняя особенности своего подхода к «Мертвым душам» в письме к самому Гоголю, К. Аксаков признавался, что «главная трудность» для него «лежит в настоящем уразумении слова: поэма... Когда стал я говорить о „Мертвых душах“, то нашел согласным с собой Хомякова и Самарина. Это древний эпос с его великим созерцанием, разумеется, современный и свободный, в наше время — но это он».3
В отвлеченно-идеалистическом толковании К. Аксакова «Мертвые души» оценивались в духе «примирения с жизнью» и совершенно утрачивали свой обличительный характер. К. Аксаков доходил даже до утверждения, что и на Манилова читатель смотрит будто бы «без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием».4 Такого рода утверждение было близко взгляду Шевырева, который хотел видеть в героях Гоголя положительные черты и в своей статье по поводу «Мертвых душ» отмечал доброту Манилова и набожность Коробочки. Впрочем, Шевырев отнесся к «Мертвым душам» несколько иначе, чем К. Аксаков: он упрекал Гоголя за то, что «комический юмор автора мешает иногда ему охватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме».5 Односторонними представлялись Шевыреву даже русский пейзаж в «Мертвых душах» и общая картина русской бедности. Свои надежды Шевырев возлагал на вторую часть поэмы, где автором обещаны были положительные картины русской жизни.
Незадолго до выхода в свет «Мертвых душ» Белинский с убийственной силой разоблачил политическую и литературную позицию Шевырева в памфлете «Педант», в силу чего, вероятно, он и ограничился краткими, но уничтожающими отзывами по поводу статьи Шевырева в своих «Литературных и журнальных заметках» (VII, 408—411). Но вот К. Аксакову он дал принципиальный бой в специальной статье, на которую К. Аксаков отвечал особым «Объяснением», опубликованным в «Москвитянине», что вызвало новую обширную статью Белинского «Объяснение на объяснение».
Отвлеченно-идеалистическим суждениям К. Аксакова по поводу гоголевской поэмы Белинский противопоставил четкие общественно-исторические и материалистические тезисы. В то время как К. Аксаков считал современный европейский роман искажением и вырождением древнего эпоса, Белинский защищал понимание романа как зеркала общественной жизни и показателя отнюдь не упадка искусства, но его прогрессивного развития. «Что выражает собою дух всемирно-исторической нации, — писал Белинский, имея
- 93 -
в виду французский роман, — то не может быть вздором, и та философия, которая называет вздором подобные вещи, сама — вздор, хотя б она была и абсолютная...» (VII, 287). В этих словах Белинский полемически выразил свою оценку гегелевской «абсолютной» философии, в плену которой оставался К. С. Аксаков. С понятием о сущности современного романа, в котором К. С. Аксаков усматривал вырождение подлинного искусства, а Белинский видел в высшей степени прогрессивное явление, связан был и вопрос о литературной генеалогии Гоголя. К. С. Аксаков соотносил «Мертвые души» с «Илиадой» Гомера, а Белинский, отвергая это сопоставление как совершенно произвольное, рассматривал гоголевский реализм в общем русле исторического движения новейшего искусства, т. е. в русле развития критического реализма XIX века.
Произвольным и умозрительным считал Белинский и положение К. Аксакова о том, что «эпическое созерцание Гоголя — древнее, истинное, то же, какое и у Гомера».1 «В смысле поэмы, — писал Белинский, — „Мертвые души“ диаметрально-противоположны „Илиаде“. В „Илиаде“ жизнь возведена на апофеозу; в „Мертвых душах“ она разлагается и отрицается; пафос „Илиады“ есть блаженное упоение, проистекающее от созерцания дивнобожественного зрелища; пафос „Мертвых душ“ есть юмор, созерцающий жизнь сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» (VII, 288). Одна из отличительнейших черт гоголевского реализма заключалась для Белинского в его обличительном характере.
К. Аксаков, говоря о полноте жизни, изображенной в «Мертвых душах», доходил до того, что утверждал, будто Гоголь «не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения».2 И здесь Белинский решительно возразил К. Аксакову, подчеркнув, что он «не точно выразился»: «...надо было сказать — иногда не лишает каких-нибудь человеческих движений, или что-нибудь подобное. А то, чего доброго! окажется, что и дура Коробочка, и буйвол Собакевич не лишены ни одного человеческого чувства и, потому, ничем не хуже любого великого человека» (VII, 288—289).
Из сопоставления Гоголя с Гомером Аксаков выводил мысль о мировом значении Гоголя, совершенно не ставя вопроса о его национальном значении. Напротив, пафос статей Белинского о Гоголе — в доказательстве «бесконечно-великого значения» Гоголя для России и для русской жизни. В обличительной бичующей силе «Мертвых душ» Белинский полагал одно из условий подъема русской национальной культуры. Вот почему он стал видеть в Гоголе «более важное значение для русского общества, чем в Пушкине». Белинский писал, что «Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени; он также менее теряется в разнообразии создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создания поэта нашего времени» (VII, 291—292). Смысл противопоставления Гоголя Пушкину не будет для нас ясным, если мы не учтем тот полемический контекст, в котором была дана эта ставшая впоследствии знаменитой формулировка Белинского.
Продолжая полемизировать с К. Аксаковым, в статье «Объяснение на объяснение» Белинский внес новые и существенные моменты в истолкование общественного значения и художественного своеобразия «Мертвых душ».
- 94 -
В этой статье Белинский углубил и развил свой взгляд на соотношение эпоса и романа, что составляло главный предмет полемики.
Основное отличие «эпоса нового мира», явившегося «преимущественно в романе», по Белинскому, составляет «проза жизни, вошедшая в его содержание и чуждая древне-эллинскому эпосу. И потому, роман отнюдь не есть искажение древнего эпоса, но есть эпос новейшего мира, исторически-возникнувший и развившийся из самой жизни и сделавшийся ее зеркалом, как „Илиада“ и „Одиссея“ были зеркалом древней жизни» (VII, 428—429). Соглашаться с К. Аксаковым и «думать, что в наше время возможен древний эпос», с точки зрения Белинского, «так же нелепо, как и думать, чтоб в наше время человечество могло вновь сделаться из взрослого человека ребенком, а думать так — значит быть чуждым всякого исторического созерцания и пустые фантазии праздного воображения выдавать за философские истины...» (VII, 430). Гениальные мысли Белинского о соотношении между эпосом и общественно-историческим развитием, намеченные им еще в статье «Разделение поэзии на роды и виды», близко подходят к известным положениям Маркса, сформулированным во введении «К критике политической экономии» о невозможности классических форм эпоса в новейшее время.
В ходе полемики с К. Аксаковым у Белинского зародилось сомнение относительно определения Гоголем «Мертвых душ» как «поэмы», определения, которое послужило Аксакову одним из оснований для всех его построений. В «Объяснении на объяснение» Белинский писал: «Мы еще не понимаем ясно, почему Гоголь назвал „поэмою“ все произведение, и пока видим в этом названии тот же юмор, каким растворено и проникнуто насквозь это произведение. Если же сам поэт почитает свое произведение „поэмою“, содержание и герой которой есть субстанция русского народа, — то мы не обинуясь скажем, что поэт сделал великую ошибку... субстанция народа может быть предметом поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только...» (VII, 433—434).
Для Белинского как революционного демократа, отрицавшего и бичевавшего современный ему крепостнический строй, «субстанция русского народа» заключалась в ее «разумном определении», тогда как К. Аксаков и другие славянофилы принимали свои мечты за действительность. На этой почве и росло славянофильское понимание искусства как примирения с жизнью. Подобного же рода тенденции Белинский угадал и у автора «Мертвых душ», безоговорочно квалифицируя их как реакционные. В этой своей статье Белинский резче и острее, нежели в своей первой рецензии, указал на опасности, угрожавшие великому писателю.
Подхватывая тревожный вопрос самого Гоголя «кто знает, впрочем, как раскроется содержание „Мертвых душ“», Белинский с сомнением повторил: «Именно кто знает?.. Много, слишком много обещано, так много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на свете; нам как-то страшно, чтоб первая часть, в которой все комическое, не осталась истинною трагедиею, а остальные две, где должны проступить трагические элементы, не сделались комическими — по крайней мере, в патетических местах...» (VII, 432).
Величие Гоголя Белинский полагал в удивительной силе непосредственного творчества, которая, однако, при одностороннем развитии ее изменяла гениальному писателю. Кроме силы непосредственного творчества, Белинский требовал от современного писателя «эрудиции, интеллектуального развития,
- 95 -
основанного на неослабном преследовании быстро несущейся умственной жизни современного мира» (VII, 439). По мысли Белинского, всего этого как раз и нехватало Гоголю. Белинский доказывал, что «удивительная сила непосредственного творчества... много вредит Гоголю» потому, что «она, так сказать, отводит ему глаза от идей и нравственных вопросов, которыми кипит современность и заставляет его преимущественно устремлять внимание на факты и довольствоваться объективным их изображением» (VII, 441—442). Белинский был убежден в том, что «при богатстве современного содержания и обыкновенный талант чем дальше, тем больше крепнет, а при одном акте творчества и гений наконец начинает постепенно ниспускаться» (VII, 440).
Как неудачи Гоголя Белинский отмечал повести «Вечер накануне Ивана Купала» и «Страшная месть». Эти повести Белинский считал «какими-то уродливыми произведениями» из-за «ложного понятия о народности», на основе которого они были построены. К неудачам Гоголя Белинский относил и повесть «Портрет», переработанную Гоголем, но оставшуюся несвободной от «фантастических затей», а также повесть «Рим» (VII, 439, 440).
Срывы, хотя и немногочисленные, Белинский видел и в «Мертвых душах». Так, он указал, что размышления Чичикова о мертвых и беглых душах, — сами по себе являвшиеся одним из лучших мест в поэме, — совсем не идут к Чичикову и должны быть «выговорены» от лица автора. Равным образом, размышления Чичикова «о Собакевиче, когда тот писал расписку..., следовало бы автору сказать от своего лица» (VII, 440—441).
Критикуя ошибочные тенденции автора «Мертвых душ», Белинский не ослаблял, а усиливал борьбу за Гоголя как великого обличителя феодально-крепостнического строя.
Гоголь покинул Россию 5 июня 1842 года, т. е. менее чем две недели спустя после выхода в свет «Мертвых душ». Таким образом, он не был непосредственным свидетелем той общественно-литературной борьбы, которая развернулась вокруг его поэмы. Об этой борьбе он получал тенденциозные информации в письмах от своих московских друзей, а с критическими статьями в журналах знакомился с большим запозданием. В отсутствие Гоголя вышло в свет (в январе 1843 года) четырехтомное издание его сочинений, где впервые были напечатаны «Шинель», «Театральный разъезд», «Женитьба», «Игроки» и драматические сцены («Тяжба, «Лакейская» и «Отрывок»). В отсутствие Гоголя на петербургской и московской сценах были поставлены «Женитьба», «Игроки» и «Тяжба». В отсутствие Гоголя, наконец, сформировалось и выросло связанное с его художественными традициями гоголевское направление русской литературы, теоретиком и организатором которого стал Белинский.
После издания первого тома «Мертвых душ» и четырех томов «Сочинений» Гоголь на несколько лет замолчал, как бы ушел из литературы, и только летом 1846 года прервал свое молчание статьей «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Статья эта была включена в состав вышедших через полгода «Выбранных мест из переписки с друзьями». Переход Гоголя в лагерь реакции и отречение его от своих великих созданий явились большим ударом для всей передовой литературы, для дела освободительного движения и глубочайшим ударом для Гоголя-художника. Борьбу за Гоголя, которую в течение ряда лет вел Белинский, ему пришлось завершить борьбой с самим Гоголем, чтобы отстоять его великое наследие и защитить его великие традиции.
В рецензии на четырехтомное издание «Сочинений Николая Гоголя» (1842) Белинский выделил «Шинель» — «новое произведение, отличающееся
- 96 -
глубиною идеи и чувства, зрелостию художественного резца»; указал на «Тараса Бульбу» («великое создание») и «Вия», которые были напечатаны в новых измененных редакциях; повторил свои критические замечания по поводу «Портрета» и «Рима» и, наконец, специально остановился на драматических произведениях Гоголя. Среди последних особенное восхищение Белинского вызвал «Театральный разъезд», где Гоголь, как отмечал Белинский, «является столько же мыслителем-эстетиком, глубоко-постигающим законы искусства, которому он служит с такою же славою, сколько поэтом и социальным писателем...» (VIII, 90, 89, 91).
«Теперь сильнее завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отмстить за пренебрежение, за насмешку. Не более ли имеет теперь электричества денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?». Эти строки из «Театрального разъезда» Белинский сочувственно цитировал в своем обзоре «Русская литература в 1843 году» (VIII, 388), противопоставляя гоголевское требование общественной комедии господствовавшим в то время на сцене пьесам, где «интрига всегда завязана на пряничной любви, увенчивающейся законным браком, по преодолении разных препятствий» (VIII, 387). Теорию общественной комедии, которую автор «Ревизора», обобщая свой собственный опыт, сформулировал в «Театральном разъезде», Белинский горячо поддерживал и стал пропагандировать.
9 декабря 1842 года состоялось первое представление «Женитьбы» на сцене Александринского театра. «Я сейчас из театра, — писал Белинский в тот же день Боткину. — „Женитьба“ пала и ошикана. Играна была гнусно и подло, Сосницкий не знал даже роли. Превосходно играли Сосницкая (невесту), и очень, очень был недурен Мартынов (Подколесин); остальное все — верх гнусности. Теперь враги Гоголя пируют» (Письма, II, 328).
Белинский не ошибся. Вскоре же на страницах «Северной пчелы» (1842, № 279) появился фельетон Булгарина, в котором, после изложения содержания комедии «для доказательства, что она никуда не годится», следовали «радостные, исполненные торжественности известия о падении пьесы, о единодушном шикании, похвалы тонкому изящному вкусу и светской разборчивости публики Александринского театра...» (VIII, 58).
Еще до знакомства с печатным текстом «Женитьбы» Белинский в очередной книжке «Отечественных записок» (1843, № 1) дал, во-первых, отповедь Булгарину (VIII, 57—59), а во-вторых, напечатал небольшую статью, в которой он для назидания актерам сделал характеристику всех персонажей комедии. Можно думать, что Сосницкому, провалившему роль Кочкарева, были адресованы следующие слова Белинского: «...если актер, выполняющий роль Кочкарева, услышав о намерении Подколесина жениться, сделает значительную мину, как человек, у которого есть какая-то цель, — то он испортит всю роль с самого начала» (VIII, 54—55). Очевидно, такую «значительную мину» и сделал Сосницкий, испортивший всю роль. Характеристики персонажей гоголевской комедии Белинский заключил общей восторженной оценкой: «Сколько юмора, какой язык, какие характеры, какая типическая верность натуре! Но, увы, словно нетопыри прекрасным зданием, овладели нашею сценою пошлые комедии с пряничною любовью и неизбежною свадьбою! Это называется у нас „сюжетом“» (VIII, 56).
Причины провала «Женитьбы», а затем и более чем холодного, даже неприязненного приема «Игроков» (поставлены 26 апреля 1843 года) на сцене Александринского театра Белинскому были совершенно ясны: «...литература
- 97 -
наша хотя и медленно, но все же идет вперед, — писал он, — а театр давно уже остановился на одном месте...» (VIII, 224). «Одно уже то, что лица в пьесах Гоголя — люди, а не марионетки, характеры, выхваченные из тайника русской жизни, — одно уже это делает их скучными для большей части публики Александрынского театра. Сверх того, в пьесах Гоголя нет этого пошлого, избитого содержания, которое начинается пряничною любовью, а оканчивается законным браком...» (VIII, 226).
Но уже во времена Белинского закладывались основы реалистического театра великим русским актером, другом Гоголя и Белинского — М. С. Щепкиным.
Белинский восхищался сценическим дарованием Щепкина, который своей игрой осуществлял именно те эстетические требования, за которые так ратовал Белинский. В игре Щепкина Белинский находил «наивность и искренность», «естественное воспроизведение характера». Великой победой Щепкина Белинский считал то, что своей игрой он поколебал понятие о существовании двух родов актеров — трагических и комических. О Щепкине нельзя было сказать — трагический он актер или комический. Белинский объяснял это тем, что «ни трагических, ни комических актеров в природе нет и быть не может, как нет и быть не может людей с одним патетическим элементом в характере, без примеси чего-нибудь смешного, и наоборот. Отсюда, следовательно, не может быть... и ролей ни трагических, ни комических по преимуществу. Истинный актер изображает характер, страсть, развиваемую автором, и чем вернее, полнее передаст он ее, какова бы она ни была, возвышенная или низкая, тем более он истинный актер» (XIII, 177). Таким «истинным актером», по мысли Белинского, и был Щепкин, утверждавший подлинный реализм на сцене. Но защита сценического реализма для Белинского являлась неотъемлемой и составной частью его общей борьбы за реализм, за гоголевское направление. Можно предполагать, что образы гоголевских персонажей, воссозданные Щепкиным, помогли Белинскому глубже войти в природу гоголевского творчества. Показательно, что, характеризуя дарование Щепкина, Белинский сразу же переходит к гоголевской драматургии, которой только Щепкин мог дать замечательное сценическое воплощение.
Из отказа Белинского от разделения ролей на трагические и комические, естественно, следовал вывод, что разделение театральных пьес на трагедии и комедии тоже, в сущности, не должно существовать. К такому выводу Белинский и приходил: «„Ревизор“ Гоголя столько же трагедия, сколько и комедия», — писал он (XIII, 177).
Мысль о том, что у Гоголя комическое переходит в трагическое и сливается с ним в неразделимое единство, Белинский положил в основу своего понимания гоголевского творчества. Когда сам Гоголь, определяя свое собственное дарование, утверждал, что «еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека», — Белинский не совсем согласился с Гоголем. «В этих словах много правды; но их нельзя принимать за полное окончательное суждение о Гоголе» (XI, 21—22), — замечал Белинский в статье «Ответ Москвитянину». И в этой же статье он подробно развил свой взгляд на природу гоголевского творчества. Правда, Гоголь создал типы Ивана Федоровича Шпоньки, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и многие другие, в которых он «является великим живописцем пошлости жизни, который видит насквозь свой предмет во всей его глубине и широте и схватывает его во всей полноте и целости его действительности. Но зачем же забывать, что тот же Гоголь написал Тараса Бульбу, поэму,
- 98 -
герой и второстепенные действующие лица которой — характеры высоко трагические? И между тем видно, что поэма эта писана тою же рукою, которою писаны Ревизор и Мертвые души. В ней является та особенность, которая принадлежит только таланту Гоголя... У Гоголя Тарас Бульба так же исполнен комизма, как и трагического величия; оба эти противоположные элемента слились в нем неразрывно и целостно в единую, замкнутую в себе, личность; вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и смеетесь над ним... Если в Тарасе Бульбе Гоголь умел в трагическом открыть комическое, то в Старосветских помещиках и Шинели он умел уже не в комизме, а в положительной пошлости жизни найти трагическое. Вот где, нам кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это — не один дар выставлять ярко пошлость жизни, а еще более — дар выставлять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности» (XI, 22). Глубокое своеобразие и оригинальность гоголевского дарования не подлежали для Белинского никакому сомнению, и из всех европейских писателей он мог привести в пример только Сервантеса, давшего в «Дон-Кихоте», подобно Гоголю, целостное и неразделимое соединение комического с трагическим.
Гениально осуществляя это «слияние серьезного и смешного, трагического и комического» в своих произведениях, Гоголь создавал не карикатуры, а образы живых людей, порочность которых отнюдь не была у них прирожденной, а явилась следствием воспитавшей их уродливой общественной среды. В этом заключалась причина широты и силы гоголевских типических обобщений. По Белинскому, «создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества, нигде не скрыться, никуда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоятельно, вне влияния общества, сообщает человеку какую-то странность, придает ему что-то уродливое, в чем опять видна печать общества же. Вот почему у нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми...» (XII, 127).
Творчество Гоголя, с небывалой силой разоблачившее строй крепостничества и самодержавия, для Белинского имело объективно-революционный смысл. Именно поэтому с гоголевскими художественными обобщениями Белинский неразрывно связал свою революционную проповедь, призывая к борьбе с античеловеческой общественной средой, к ниспровержению того строя, который искажал и уродовал человека. Именно поэтому из первого тома «Мертвых душ» Белинский сделал определенный и ясный вывод о несоответствии между великими возможностями русского народа и варварскими общественно-политическими условиями, в которых он жил.
Об объективно-революционном содержании творчества Гоголя, и особенно «Мертвых душ», Белинский не мог, конечно, открыто высказаться в подцензурной печати, и, вероятно, в силу этого обстоятельства он из года в год откладывал написание многократно обещанного им читателям «Отечественных записок» и потом «Современника» обширного критического разбора произведений Гоголя. После выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» говорить о революционном смысле гоголевского творчества Белинскому стало еще более трудно. Характерно, что в письме к Кавелину 7 декабря 1847 года, разъясняя, что «комизм — слово узкое для выражения гоголевского таланта», и в то же время соглашаясь, что у гоголевских героев собственно «нет ни пороков, ни добродетелей», Белинский признавался: «Вот почему заранее чувствую тоску при мысли, что мне надо будет писать о Гоголе, может быть, не одну статью, чтобы сказать
- 99 -
о нем мое последнее слово; надо будет говорить многое не так, как думаешь. В этом отношении о Лермонтове писать гораздо легче» (Письма, III, 312). Есть все основания предполагать, что своего «последнего слова» о Гоголе Белинский не сказал не столько в силу личных обстоятельств (занятость, болезнь и пр.), сколько в силу цензурных условий и необходимости для него «говорить многое не так, как думаешь».
Хотя Белинский и не оставил целостного критического разбора творчества Гоголя, но его статьи, заметки и суждения о Гоголе, содержащиеся в статьях и рецензиях по другим вопросам, наконец, его замечания в письмах, — все это образует единую и внутренне законченную концепцию гоголевского творчества. Эта концепция рисует нам облик великого деятеля страны «на пути сознания, развития, прогресса»,1 как назвал Гоголя Белинский в своем знаменитом Зальцбруннском письме, каким он видел и любил Гоголя, а с ним и вслед за ним — вся передовая Россия.
Когда Гоголь издал свои «Выбранные места из переписки с друзьями», славянофил Ю. Самарин, оправдывая эту книгу, утверждал, что все творчество Гоголя было не чем иным, как только «выражением личной потребности внутреннего очищения».2 Тогда же Ап. Григорьев в статье «Гоголь и его последняя книга» пытался доказать, что Гоголь «даже и не думал изменять своей прежней деятельности, что последняя книга только поясняет эту же самую деятельность».3 При таком подходе к Гоголю его идейно-художественное развитие представляется чрезвычайно простым и прямолинейным: последняя книга Гоголя оказывалась логически закономерным этапом в развитии его консерватизма, которым он якобы был преисполнен всегда.
Однако в характеристике Гоголя вся правда была на стороне Белинского, который умел принципиально и резко вскрывать ошибочные тенденции в его творчестве, но который в то же время сумел отделить автора «Ревизора», «Мертвых душ» и «Шинели» от автора «Выбранных мест из переписки с друзьями».
В рецензии на второе издание «Мертвых душ» Белинский писал, что «мистико-лирические выходки» Гоголя «были не простыми, случайными ошибками со стороны их автора, но зерном, может быть, совершенной утраты его таланта для русской литературы» (X, 428). Однако это не могло изменить у Белинского и не изменило его прежней оценки революционного значения гоголевского творчества и, в частности, «Мертвых душ». Славянофилы в лице Ю. Самарина готовы были торжествовать, указывая на «Выбранные места из переписки с друзьями» для посрамления Белинского. В статье «Ответ Москвитянину» Белинский энергично и твердо заявил, что «великое значение Гоголя в русской литературе основывается вовсе не на этой „Переписке“, а на его прежних творениях, положительно и резко антиславянофильских» (XI, 6). Именно эти требования были близки и дороги Белинскому, родственны его собственным идеям. В. И. Ленин говорил об идеях «Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими... всякому порядочному человеку на Руси...».4
В ходе борьбы за Гоголя Белинскому приходилось обосновывать проблему исторической закономерности «гоголевского» направления в русской литературе. Главное и неуклонное устремление русской литературы он видел
- 100 -
в том, чтобы овладеть методом «возведения в перл создания прозы жизни» (VII, 363). Именно по этой линии Белинский и устанавливал ту историческую связь, которая существовала между Гоголем и предшествовавшими ему русскими писателями. Задача «возведения в перл создания прозы жизни», с точки зрения Белинского, была продиктована органическими потребностями общества, выражением которого являлась литература. Белинский доказывал, что «стремление общества к самосознанию» отразилось в нашей литературе прежде всего в том, что в нее с давних пор «начал проникать... элемент исторический и сатирический» (VII, 470).
Однако сатира, основание которой было положено Кантемиром, не могла остаться одинаковой на всех этапах развития русской исторической действительности. Она сама изменялась и развивалась. Характерной чертой сатиры Кантемира Белинский считал ее откровенный дидактизм. Во времена Кантемира, когда критическое направление в русской общественной мысли делало еще только первые шаги, это имело прогрессивный смысл. Спустя сто лет литературные приемы Кантемира невероятно устарели.
Гоголя от Кантемира отделяло несколько поколений русских прогрессивных писателей, которые достигли громадных успехов на пути развития русской сатиры. Одним из ближайших предшественников Гоголя, в этом отношении, был Нарежный. Высоко оценивая Нарежного, Белинский в то же время доказывал, что только в Гоголе сатирическое направление в русской литературе первой половины XIX века «нашло себе вполне достойного и могучего представителя» (VII, 471).
Сила гоголевского юмора, по мнению Белинского, заключалась в его всеобъемлющей и глубокой реалистичности, между тем как сатирики старого времени «смотрели на пороки и слабости людей, как на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, как на что-то произвольное, что это лицо могло иметь и не иметь по своей воле и что приобрести или от чего избавиться оно легко могло по прочтении убедительной сатиры...» (VIII, 400).
В обзоре «Русская литература в 1845 году» Белинский доказывал, что «романтизм проиграл» свое дело «всячески — и в литературе и в жизни», а проиграв — стал смешным. «Для всего ложного и смешного один бич, меткий и страшный — юмор. Только вооруженный этим сильным орудием писатель мог дать новое направление литературе и убить романтизм» (X, 106).
Понятие гоголевского юмора раскрывалось Белинским как понятие общественной сатиры, глубоко реалистической и потому народной. Народность же как подлинная основа гоголевского творчества была унаследована автором «Ревизора» и «Мертвых душ» от Пушкина. «Главное влияние Пушкина на Гоголя, — писал Белинский, — заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, „состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа“» (VIII, 397).
Явившись продолжателем дела Пушкина, Гоголь выступил также и наследником Грибоедова, потому что «вместе с Онегиным Пушкина его Горе от ума было первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова» (XII, 84). Белинский утверждал, что «без Онегина был бы невозможен Герой нашего времени, так же как без Онегина и Горя от ума Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины» (XII, 84).
Так, Белинский устанавливал историческое и историко-литературное значение гоголевского творчества.
- 101 -
Творчество Гоголя, осветившее заново прошлое русской литературы, естественно побуждало Белинского к решительной переоценке этого прошлого. Без всякого преувеличения можно сказать, что в борьбе за Гоголя и «гоголевское» направление окончательно определились историко-литературные взгляды Белинского.
В Гоголе Белинский видел осуществление той цели, к которой русская литература стремилась на протяжении целого столетия.
Современная Белинскому действительность помогала ему глубже понять историю русской литературы, но обращение к истории для Белинского диктовалось необходимостью находить правильные решения неотложных и боевых задач современности. В практической политической деятельности Белинского основным вопросом оставался вопрос о борьбе с самодержавно-крепостническим строем, а в этой связи решался и вопрос о перспективах дальнейшего развития русской литературы.
Реализм Белинский определял как воспроизведение действительности в ее возможности. Реалистическое искусство он мыслил как искусство демократическое по своей основе. Серьезные заслуги в деле формирования реализма Белинский признавал за Крыловым, которого он в то же время относил к числу народных художников. Белинский считал, что если произведение правдиво, верно, то оно не может не быть народным. Крылову он противопоставлял Дмитриева — тоже баснописца — для доказательства, что сам по себе жанр басни еще ничего не определяет. Дмитриев эпизодически изображал в своих баснях крестьян; «но его басни, имеющие свои неотъемлемые достоинства, нисколько не отличаются натуральностью, и его крестьяне говорят в них каким-то общим, не принадлежащим исключительно ни одному сословию языком». Причина этого в том, что Дмитриев, как и Карамзин, смотрел «на искусство глазами французов XVIII века. А известно, что французы того времени понимали искусство как выражение жизни не народа, а общества, и притом только высшего, дворского, и приличие считали главным и первым условием поэзии» (XI, 85).
Таким образом, реалистическое изображение крестьян в баснях Крылова связано с демократической природой его мировоззрения, с близостью баснописца к народу. А то, что образы крестьян в баснях Дмитриева не являются реалистическими, объясняется прочной связью этого баснописца с идеологией и жизненной практикой дворянства.
Реалистическое искусство воспроизводит действительность в ее существенных чертах, изображает типические характеры в типических обстоятельствах, раскрывает общественную жизнь в ее движении, подчиненном объективным законам. Реалистическое изображение мира доступно только художникам, которые в своей деятельности опираются на передовые силы общества, на их жизненную практику. Реакционные силы общества всегда были враждебны реализму. Революционные демократы, настаивая на том, что литература должна изображать типичные явления и характеры, стремились еще более сблизить ее с передовыми силами общества, с народом. Русская реалистическая литература являлась орудием политической, революционной борьбы масс.
Белинский — первый теоретик реализма. В реалистическом искусстве он видел могучее средство познания и изменения действительности, воздействия на широкие читательские массы. Существенной особенностью реализма он считал его способность воспроизводить действительность в типических образах. В своей ранней статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) он писал: «Один из самых отличительных признаков творческой оригинальности, или, лучше сказать, самого творчества, состоит в... типизме,
- 102 -
если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора. У истинного таланта каждое лицо — тип, и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнакомец» (II, 224).
Под типическими образами Белинский подразумевал такие, в которых раскрывается действительность в ее закономерном развитии, в борьбе нового со старым. Поэтому от реалистической литературы он требовал изображения типических явлений как отрицательного, так и положительного порядка. «Он, — говорит Белинский о Гоголе в своей ранней статье, посвященной его повестям, — не льстит жизни, но и не клевещет на нее: он рад выставить наружу всё, что́ есть в ней прекрасного, человеческого, и, в то же время, не скрывает нимало и ее безобразия» (II, 221).
От реалистического искусства Белинский требовал слияния объективного и субъективного элементов. Он утверждал, что без глубоко развитой субъективности, т. е. без страстного, заинтересованного отношения художника к изображаемому миру не может быть создано полноценное реалистическое произведение искусства. Изображая те или иные явления действительности, художник в то же время и оценивает их. Только в этом случае, по мысли Белинского, художник может последовательно осуществлять принципы типизации.
В суждениях о Пушкине, Гоголе и других писателях Белинский показывает, что художник-реалист тем больших успехов достигал бы в создании типических образов, чем глубже проникал в изображаемый мир, чем более определенные позиции занимал в своем отношении к различным явлениям общественной жизни — положительным и отрицательным. Последовательное проведение принципов типизации, устанавливает Белинский, соответствует интересам передовых классов.
Главнейшей заслугой Пушкина и Гоголя Белинский считал сближение искусства и действительности, то, что в самой действительности, которая их не удовлетворяла, они искали идеал, силы, способные к ее преобразованию. Отсюда и стремление Пушкина и Гоголя к широким обобщениям, к воспроизведению типических явлений и типических характеров.
Реализм Гоголя, говорил Белинский, можно охарактеризовать «как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые становит друг другу автор созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением» (XI, 89).
Положение о том, что характерной чертой Гоголя как художника является слияние в его творчестве комического и трагического элементов, имело для Белинского чрезвычайно важное теоретическое и политическое значение. Это положение означало: Гоголь не только отрицает, но и утверждает; он не только негодует против пошлой действительности, но и всеми силами борется за действительность прекрасную, тоскует об ее отсутствии. Гоголь для Белинского сатирик, но вместе с тем и лирик. Очень часто даже в том, что вызывало его безжалостный и беспощадный смех, Гоголь отыскивал черты, которым он вместе со своим читателем глубоко сочувствовал. Для Белинского творчество Гоголя является доказательством, с одной стороны, того, что существующий общественный и государственный строй подлежит бесповоротному осуждению, а с другой, — что в самой русской действительности содержались возможности ее коренного преобразования. Враги Белинского и Гоголя доказывали, что Гоголь все отрицает и ничего не утверждает и потому является писателем антипатриотическим. Белинский заявлял, что творчество Гоголя пронизано горячей любовью
- 103 -
к родине, высоким пафосом патриотизма, так как он отрицает социальное зло во имя утверждения социального добра. Белинский издевается над теми якобы патриотами, которые увидят в «Мертвых душах» как сатирическом произведении «следствие холодности и нелюбви к родному, к отечественному...» (VII, 258).
«Мертвые души» — величайшее сатирическое произведение. Но сатира Гоголя вызывалась не холодной нелюбовью, а пламенной любовью писателя «к родному к отечественному». Благодаря этому сатирическая тема в «Мертвых душах» нередко переключалась в трагическую, выражающую тоску писателя об отсутствии прекрасной действительности. По поводу лирических отступлений в «Мертвых душах» Белинский замечал: «Грустно думать, что этот высокий лирический пафос, эти гремящие, поющие дифирамбы блаженствующего в себе национального самосознания, достойные великого русского поэта, будут далеко не для всех доступны, что добродушное невежество от души станет хохотать от того, от чего у другого волосы встанут на голове при священном трепете...» (VII, 257—258).
Разрабатывая теорию сатиры, Щедрин выдвинул положение о том, что писатель-сатирик только тогда достигает серьезных результатов, когда его точка зрения совпадает с точкой зрения народа. Гоголь был именно таким писателем-сатириком. Так его и понимает Белинский.
Гоголь — обличитель всего пошлого. И в этом отношении он выступал как продолжатель лучших традиций русской литературы. Белинский говорит, что попытки «ввести изображение пошлого в область художества» относятся к самым ранним периодам развития русской литературы. Эту черту он находит уже у Кантемира, называя его сатириком. В сатирическом направлении «блистательно отличался Фонвизин», сатира отразилась «во многих лучших созданиях Державина». Сатириком нередко выступал и Пушкин. Белинский называет при этом «Арапа Петра Великого», «Графа Нулина», «всего посвященного изображению пошлости», «Евгения Онегина», «в котором изображение пошлости играет не последнюю роль» (XI, 30).
В творчестве Гоголя русская сатира поднялась на новую ступень развития. Белинский дает подробную характеристику русской сатире вообще, сатире Гоголя в частности и в особенности.
Обличение пошлого, по мысли Белинского, не было самоцелью для Гоголя, а являлось следствием его проникновения в изображаемый мир. Поэтому наряду с сатирическими образами в его творчестве возникали и образы иного порядка, содержащие в себе отдельные положительные качества или в целом являющиеся положительными.
Следствием глубокого проникновения Гоголя в изображаемый мир является его субъективность, лиризм, пронизывающий его произведения. Белинский постоянно отмечал сочетание сатиры и лирики у Гоголя.
Говоря об особенности сатиры Гоголя, Белинский подчеркивал и то, что Гоголь отрицал пошлое, в каком бы виде оно ни выступало. В то же время он строго различал природу, социальные корни и истоки многообразных явлений действительности и в зависимости от этого определял свое и читателя отношение к ним.
В 30-х, а тем более в 40-х годах прошлого столетия очень многие писатели брались за изображение крестьянства. Однако далеко не все добивались успеха. Неудачи объяснялись тем, что они за грубой внешностью народной жизни не видели ничего хорошего. Таких писателей резко осуждал Белинский. В изображении этих писателей жизнь народа могла показаться отталкивающей и пошлой. Белинский говорил, что для того, «чтоб изобразить
- 104 -
жизнь мужиков, надо уловить... идею этой жизни, — и тогда в ней не будет ничего грубого, пошлого, плоского, глупого» (VI, 305). Гоголь в своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки» уловил эту идею. Поэтому они и «дышат такою полнотою художественности, очаровывают такою неотразимою прелестью, такою дивною поэзией» (VI, 305).
На этом примере Белинский показывает великое умение Гоголя отличить сущность от внешности. Благодаря этому Гоголю и удалось показать, что народная жизнь по сущности своей, по идее ничего пошлого в себе не содержит.
С сочувствием и даже с состраданием изобразил Гоголь героев повести «Старосветские помещики». Сам Белинский, по его собственному признанию, «чуть не плакал» над судьбою странных героев Гоголя. При всем том отношение Гоголя к Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне коренным образом отличается от его отношения к героям «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Суть дела в том, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна принадлежат к помещичьей действительности, пошлой по самой сущности своей, по идее.
Говоря о том, что те или иные герои Гоголя вызывают различное отношение к себе, мы, в сущности, признаем различные способы типизации, применявшиеся Гоголем и, конечно, имевшие единую для себя основу — гоголевский реализм.
В образах Манилова, Собакевича, Коробочки и им подобных Гоголь воплощал такие черты современной ему действительности, которые необходимо было отрицать полностью и до конца. При создании Гоголем образов этого порядка наиболее ярко проявили себя принципы сатирической типизации в творчестве Гоголя.
Плюшкина, указывает Белинский, в таком виде, как его изобразил Гоголь, не было в действительности. Но зато было немало людей в помещичьей среде, обладавших в той или иной мере свойствами Плюшкина и, следовательно, содержавших в себе возможность стать Плюшкиными. Образ Плюшкина с особой силой и остротой выражает сущность определенной стороны крепостнического строя. Образ Плюшкина — создание реалистического искусства, воспроизводящего действительность в ее возможности. В каком смысле это надо понимать? В том, что в образе Плюшкина обобщены и сознательно преувеличены черты, встречающиеся у людей помещичьего круга, в той или иной мере приближавшихся к Плюшкину, двигавшихся в его сторону. По отношению к ним Плюшкин — действительность в ее возможности, т. е. их будущее. Но по отношению к действительности, породившей и порождавшей людей, подобных Плюшкину, он — воплощение самых гнусных черт ее в ее настоящем.
Такое заключение об особенностях принципов сатирической типизации можно вывести из суждений Белинского о некоторых образах Гоголя. Эти принципы служили делу отрицания крепостничества и самодержавия. Благодаря этим принципам крепостническая действительность выступала в изображении Гоголя-сатирика во всем своем страшном облике, становилась, как позже скажет Щедрин, «фантастической действительностью», нисколько не переставая быть реальностью.
Отрицание, как неоднократно говорил Белинский, не достигает своей цели, если оно не опирается на утверждение положительных начал. Отрицая старое, препятствующее дальнейшему движению и развитию жизни, реалистическое искусство обязано утверждать новое, в том числе и только что зарождающееся, всячески способствовать его развитию. Решая эту задачу, реалистическое искусство, говорил Белинский, воспроизводит действительность
- 105 -
в ее возможности в том смысле, что как бы намечает реальные черты, соединяющие настоящее с будущим.
В типических образах современной ему литературы Белинский видел отражение борьбы между народом и враждебными ему силами общества. В связи с этим литературе он отводил выдающуюся общественно-преобразующую роль.
5
Историко-литературные проблемы всегда занимали виднейшее место в работах Белинского. Первая выдающаяся его работа, статья «Литературные мечтания», была историко-литературной работой. Историко-литературный подход был характернейшей особенностью всех выступлений Белинского, посвященных творчеству Гоголя.
Гоголь был современником Белинского, он был тем писателем, творчество которого послужило великому критику надежной опорой для разработки теории реализма. Все основные требования к реалистической литературе Белинский формулировал, опираясь прежде всего на произведения Гоголя.
По значению для русской литературы рядом с именем Гоголя Белинский ставил только имя Пушкина. В период расцвета критической деятельности Белинского, т. е. в 40-е годы, Пушкин был для него уже историей, итогом всего прошлого русской литературы и залогом ее будущего развития. Естественно, что в центре историко-литературных построений Белинского оказался Пушкин, а исследование, посвященное великому русскому поэту, явилось крупнейшей историко-литературной работой Белинского.
Мысль о написании большого «Теоретического и критического курса русской литературы» возникла у Белинского в начале 40-х годов. Специально для курса была написана статья «Разделение поэзии на роды и виды», ряд статей о русской народной поэзии, статьи «Идея искусства», «Общее значение слова литература» и другие. Сюда же относятся одиннадцать статей Белинского о Пушкине (1843—1846), вслед за которыми должны были идти статьи о Гоголе и Лермонтове.
Статьи о Пушкине (вместе с примыкающими к ним статьями о Державине) являются систематическим изложением историко-литературной концепции Белинского. Понимание исторического прошлого русской литературы созревало у Белинского одновременно с пониманием всего исторического хода развития России.
В своих статьях о Пушкине Белинский прослеживает весь ход русского литературного развития, начиная от Ломоносова — «основателя и отца русской литературы и поэзии». Главное свое внимание он уделяет вопросу — как русская литература боролась за свою национальную самобытность, за то, чтобы стать действительно народной.
Чрезвычайно высоко Белинский оценивал поэзию Державина. «С Державина начинается новый период русской поэзии, и как Ломоносов был первым ее именем, так Державин был вторым, — писал Белинский. — В лице Державина поэзия русская сделала великий шаг вперед» (XI, 203). Отмечая в стихотворениях Державина «о́бразы и картины чисто русской природы, выраженные со всею оригинальностию русского ума и речи», Белинский считал, однако, что «все это только промелькивает и проблескивает, как элементы и частности, а не является целым и оконченным, как создания выдержанные и полные...». Причина этому заключалась «не в недостатке или слабости таланта» Державина, «богатыря нашей поэзии»
- 106 -
как его называл Белинский, «а в историческом положении и литературы и общества того времени» (XI, 204). Белинский писал, что «поэзия Державина была первым шагом к переходу вообще русской поэзии от реторики к жизни, но не больше» (XI, 204).
Параллельно с риторическим направлением, родоначальником которого, по ошибочному мнению Белинского, был Ломоносов, а продолжателем — Державин, Белинский различал и другое — сатирическое — направление, которое ввел в русскую поэзию Кантемир. Это сатирическое направление развивалось далее в творчестве Сумарокова и Фонвизина. «Сын XVIII века, умный и образованный, Фонвизин умел смеяться, вместе и весело и ядовито», — замечал Белинский об авторе «Бригадира» и «Недоросля». «Его письма к вельможе из-за границы, по своему содержанию, несравненно дельнее и важнее „Писем русского путешественника“:1 читая их, вы чувствуете уже начало французской революции в этой страшной картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником... Язык его хотя еще не карамзинский, однако уже близок к карамзинскому» (XI, 205).
Творчеством Карамзина Белинский обозначил начало нового периода русской литературы. «С Карамзиным кончился ломоносовский период русской литературы, период тяжелого и высокопарного книжного направления, и весь период от Карамзина до Пушкина следует называть карамзинским» (XI, 223).
Историческое значение деятельности Карамзина Белинский видел в том, что Карамзин «ввел русскую литературу в сферу новых идей, — и преобразование языка было уже необходимым следствием этого дела» (XI, 216).
К карамзинскому периоду русской литературы Белинский незакономерно относил и Крылова, который «создал национальную русскую басню, и тем первый внес в литературу русскую элемент народности» (XI, 223). К карамзинскому периоду русской литературы принадлежали также Жуковский и Батюшков.
Жуковский, согласно взгляду Белинского, по самой сущности своего творчества был чужд русским национальным элементам. Поэзия Жуковского «чужда всякого исторического созерцания, всякого чувства прогресса, всякого идеала высокой будущности человечества» (XI, 264). Мир поэзии Жуковского — это «мир скорбей без исцеления, борьбы без надежды и страдания без выхода» (XI, 264) — тот мир, который составляет сущность «романтизма средних веков». Белинский доказывал, что этот давно пройденный этап в развитии русской поэзии был исторически необходимым и важным этапом. Жуковский, «одухотворив русскую поэзию романтическими элементами... сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развиться, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина» (XI, 293). «И если мы в поэзии Пушкина найдем больше глубокого, разумного и определенного содержания, больше зрелости и мужественности мысли, чем в поэзии Жуковского, — это потому, что Пушкин имел своим предшественником Жуковского» (XI, 261).
Другим замечательным поэтом «карамзинского» периода, творчество которого непосредственно вело к Пушкину, Белинский считал Батюшкова. «Что́ Жуковский сделал для содержания русской поэзии, — утверждал Белинский, — то́ Батюшков сделал для ее формы: первый вдохнул в нее душу живу, второй дал ей красоту идеальной формы» (XI, 319).
- 107 -
Говоря о взглядах Белинского на Карамзина и его школу, следует при этом иметь в виду не только положительные, но также и отрицательные стороны их деятельности. Нет сомнения в том, что школа Карамзина сыграла свою определенную роль в развитии русской литературы. Карамзин был одним из основателей первых литературных журналов в России. Он внес свой вклад в дело развития русского литературного языка. Карамзин направил внимание русской литературы на изображение частного быта частных людей. Достоинством поэзии Жуковского является то, что в ней была сделана попытка углубленного изображения человеческой души, психологии человека. Однако и Карамзин, и Жуковский находились в теснейшей зависимости от западноевропейской литературы, они не поднимались до творческого воспроизведения русской национальной действительности в ее конкретном историческом выражении. Поэтому, говоря о «карамзинском» периоде и направлении, следует иметь в виду не только его заслуги перед русской литературой, но и те вредные последствия, которые неизбежно были связаны с ним.
Развитие русской литературы и поэзии Белинский мыслил как сложный и противоречивый процесс, связанный с историческим ходом развития русского общества. Вся русская поэзия, начиная от Ломоносова, подготовляла почву для появления Пушкина. Но Пушкин не явился только итогом всего предшествующего развития поэзии: своим творчеством Пушкин открыл новый исторический период. И Белинский в первой же статье пушкинского цикла заявлял, что «писать о Пушкине — значит писать о целой русской литературе: ибо как прежние писатели русские объясняют Пушкина, так Пушкин объясняет последовавших за ним писателей» (XI, 193). В творчестве Пушкина Белинский искал объяснения творчеству Лермонтова и Гоголя. Пушкинский период русской литературы, как доказывал Белинский, предшествовал гоголевскому периоду.
В борьбе за гоголевский реализм, отстаивая и развивая свою революционно-демократическую программу, Белинский критически подходил к наследию Пушкина. Он даже преувеличивал свое расхождение с Пушкиным, недооценивая его как мыслителя.
Белинский постоянно противопоставлял «созерцательный» пушкинский реализм «субъективному» реализму Гоголя. Вместе с тем Белинский никогда не забывал, что творчество и Лермонтова, и Гоголя подготовлено Пушкиным, принимая творчество Пушкина в этом отношении как необходимый и закономерный этап становления нового искусства, проникнутого пафосом отрицания.
Белинский выдвинул положение о гуманизме как о важнейшем отличительном качестве пушкинского реализма. С гениальной прозорливостью великий критик увидел в Пушкине поэтического предвестника таких отношений между людьми, которые невозможны были в обществе, основанном на угнетении человека человеком.
Еще Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине», которую Белинский положил в основу своего разбора лирики Пушкина, сказал, что Пушкин — «это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».1 Мысль Белинского шла в том же направлении.
Белинский утверждал, что источник пушкинской поэзии «заключался уже не в одном безотчетном стремлении к поэзии, но в том, что почвою поэзии Пушкина была живая действительность и всегда плодотворная идея» (XI, 336). Недаром появление Пушкина Белинский непосредственно
- 108 -
связывал с пробуждением национального сознания в России и особое внимание обращал на эпоху 1812 года. О декабризме в подцензурной печати 40-х годов невозможно было упоминать, но Белинский, конечно, не мог не иметь в виду деятелей декабристского движения, когда он говорил о подъеме общественного самосознания, вызванного событиями 1812 года.
Белинский первым в истории русской критики выдвинул положение о возможности расхождения и противоречия между субъективными тенденциями художника и объективным значением его творчества. Каких бы политических убеждений ни придерживался писатель, какими бы ни были его общественные взгляды, но если в художественной практике этого писателя торжествовала жизненная правда, Белинский всегда умел это понять и оценить. По отношению к Пушкину он развивал свою мысль следующим образом:
«Как человек, Пушкин отразил на себе всю неопределенность и шаткость направлений и убеждений своего времени, и в уме его как-то странно уживались вместе тенденции поэта и помещика, человека и дворянина, мещанина и аристократа. Как поэт, Пушкин противоречил себе как человеку, по крайней мере, везде, где был он верен своей артистической натуре, где он был преимущественно художником. Повторяем: сила его всегда была в его художественной натуре. Становясь человеком (лицом частным — particulier), он суеверно благоговел перед карамзинскими идеями; становясь поэтом, он опережал их на целые веки...» (X, 317—318).
Говоря о «благоговении» Пушкина перед карамзинскими идеями, Белинский, несомненно, был не прав, но самая мысль его о возможности противоречий между субъективными тенденциями художника и объективным значением его творчества была исключительно глубокой и плодотворной. В этой мысли, основополагающей для всей революционно-демократической критики и не потерявшей своей ценности и в наши дни, сказалась гениальность Белинского. Именно эта мысль помогла ему победоносно преодолевать ограниченность некоторых своих чисто просветительных суждений о Пушкине.
В своих статьях о Пушкине Белинский дает почти исчерпывающую характеристику многообразного творчества великого поэта, глубоко раскрывает его идейную и художественную эволюцию.
В «Руслане и Людмиле» он еще не видит личности автора, не усматривает в поэме откликов писателя на современные ему жизненные интересы.
Первым произведением, в котором Пушкин, по словам Белинского, «явился вполне самим собою и вместе с тем вполне представителем своей эпохи» (XII, 15—16), был «Кавказский пленник». В этой поэме уже нашла отражение действительная жизнь. «Впрочем, пафос этой поэмы, — замечает Белинский, — двойственный: поэт был явно увлечен двумя предметами — поэтическою жизнию диких и вольных горцев, и потом — элегическим идеалом души, разочарованной жизнию» (XII, 16). В «Кавказском пленнике» поэт открыл русскому обществу Кавказ, «давно уже знакомый России по оружию». «Муза Пушкина как бы освятила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценною кровию сынов ее и подвигами ее героев. И Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина — сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова...» (XII, 16).
Белинский указывал, что герой «Кавказского пленника» развивается в следующих поэмах Пушкина, — он изменяется вместе с ростом общественного сознания: «...следя за ним, вы беспрестанно застаете его в новом
- 109 -
Иллюстрация:
«Сочинения Александра Пушкина». Статья (первая) В. Г. Белинского.
Журнальный текст. «Отечественные записки». 1843.
- 110 -
моменте развития и видите, что оно это лицо> движется, идет вперед, делается сознательнее, а потому и интереснее для вас» (XII, 20).
Сила пушкинского реализма, по Белинскому, в том и состоит, что в противоречиях общественной борьбы поэт сумел найти и выделить типические черты героев своего времени и воплотить их в художественные образы. «Но не Пушкин родил или выдумал их, — подчеркивает Белинский, — он только первый указал на них, потому что они уже начали показываться еще до него, а при нем их было уже много. Они — не случайное, но необходимое, хотя и печальное явление. Почва этих жалких пустоцветов не поэзия Пушкина, или чья бы то ни было, но общество» (XII, 18).
Одной из решающих проблем реализма Пушкина является проблема взаимоотношения личности и общества, проблема возрождения личности в результате ее возвышения над окружающей средой. Белинский находит, что идея «Бахчисарайского фонтана» — «перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство любви. Мысль великая и глубокая! Но молодой поэт не справился с нею, и характер его поэмы в ее самых патетических местах является мелодраматическим» (XII, 23).
Большим этапом в идейно-художественном развитии Пушкина Белинский считал поэму «Цыганы». Образ разочарованного героя, как его впоследствии называли, намеченный Пушкиным в «Кавказском пленнике», по-новому и более глубоко раскрыт в «Цыганах».
Идейную концепцию «Цыган» Белинский разъясняет следующим образом: «...желая и думая из этой поэмы создать апофеозу Алеко, как поборника прав человеческого достоинства, поэт — вместо этого, сделал страшную сатиру на него и на подобных ему людей, изрек над ним суд неумолимо-трагический и вместе с тем горько-иронический» (XII, 29—30). Приведя далее известные строфы из «Современной песни» Д. Давыдова об отечественных «либералах», о наших Мирабо и Лафайетах, которые «мужиков под пресс кладут вместе с свекловицей», Белинский заключает: «Глупец, который корчит из себя Мирабо, есть не что иное, как маленький эгоизм, который не любит для себя тех самых стеснительных форм, которыми любит душить других. Дайте этому эгоизму огромный объем, придайте к нему большой ум, сильные страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину, пока она не противоречит ему, — и перед вами весь Алеко, такой, каким создал его Пушкин. Не страсти погубили Алеко! „Страсти“ — слишком неопределенное слово, пока вы не назовете их по именам: Алеко погубила одна страсть, и эта страсть — эгоизм! Проследите за Алеко в развитии целой поэмы, и вы увидите, что мы правы» (XII, 30—31).
Белинский решительно осуждает эпилог поэмы. По мнению критика, в эпилоге «рефлексия поэта взяла на минуту верх над непосредственностью творчества и, вследствие этого, он пришелся совершенно не кстати к содержанию поэмы, в явном противоречии с ее смыслом:
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!...
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед.
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет».Белинский спрашивает: «К чему тут судьбы и к чему толки о том, что счастья нет и между бедными детьми природы? Несчастие принесено к ним
- 111 -
сыном цивилизации, а не родилось между ними и через них же» (XII, 41). Белинский здесь неправ, поскольку общественный строй цыган, противопоставленный в поэме порочной городской цивилизации, отнюдь не являлся для Пушкина тем идеальным общественным строем, который был бы способен разрешить противоречия между свободой и неволей и создать условия разумной и счастливой жизни. Это и утверждается эпилогом «Цыган», где поэт говорит, что счастья нет и между бедными детьми природы. Пушкин указывает лишь на трагическую коллизию, выхода из которой он, однако, пока не видит.
Белинский требовал от поэта усиления отрицательных черт в образе Алеко. Если бы Пушкин пошел по этому пути, то образ Алеко стал бы действительно близок к сатирическому, и тогда получилось бы, что этот отрицательный образ уравновешивается положительным образом старого цыгана, что, в конечном счете, привело бы к идеализации жизни цыган. Пушкин не пошел по этому пути и дал в эпилоге к поэме трагическую коллизию.
Не принимая этой коллизии, Белинский вынужден был сделать существенные оговорки, указав, что «несмотря на всю возвышенность чувствований старого цыгана, он не высший идеал человека: этот идеал может реализоваться только в существе сознательно-разумном, а не в непосредственно-разумном, не вышедшем из-под опеки у природы и обычая» (XII, 42). Но старый цыган и не является ведь у Пушкина «высшим идеалом человека». Таким он мог бы рисоваться только в том случае, если бы Пушкин отказался от своего эпилога.
Разбор «Цыган» у Белинского, как видим, несколько противоречив. Высказав некоторое несогласие с поэтом в трактовке отдельных образов поэмы, он затем, в ходе анализа, в сущности, принимает его концепцию.
Белинскому был дорог идейный пафос поэмы, ее устремленность к человеческому счастью, к разумному и справедливому общественному строю. Начиная разбор «Цыган», Белинский заявил, что именно с этой поэмы «Пушкин уже перестал быть выразителем нравственной настроенности современного ему общества, а что отселе он явился уже воспитателем будущих поколений» (XII, 28).
«Евгения Онегина» Белинский всегда считал вершиной творческих достижений Пушкина. «Энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением» (XII, 144) называл Белинский этот роман. «Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова — Горе от ума, — писал Белинский, — стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе» (XII, 83).
Еще в статье «Русская литература в 1840 году» Белинский определил пушкинский роман замечательной формулой: «В нем жизнь является в противоречии с самой собою, лишенною всякой субстанциальной силы» (V, 479). Раскрытию этой формулы, в сущности, и посвящены восьмая и девятая статьи Белинского о Пушкине.
Онегин — это дворянский герой, «лишний человек», выросший в условиях крепостнического строя. Белинский писал, что Онегина «можно назвать эгоистом поневоле; в его эгоизме должно видеть то, что древние называли „fatum“. Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения? Зачем? зачем? — Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать...» (XII, 100). Несколько далее Белинский пишет: «Что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных потребностей, указываемых самою действительностью,
- 112 -
а не теориею»; но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних?» (XII, 101).
Всем ходом своих рассуждений Белинский дает читателю понять, что, показав Онегина в русской действительности, Пушкин поднял на невиданную высоту критику этой действительности.
«Заметим одно, — пишет Белинский, — личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою гуманною, но в то же время по преимуществу артистическою. Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование... Это было причиною, что в „Онегине“ многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из „Онегина“ такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся...» (XII, 144). Белинский считал, что самые недостатки Пушкина являются в то же время и его величайшими достоинствами. «И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки Онегина суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом — „старо́“; но разве вина поэта, что в России все движется так быстро? — и разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества? Если б в Онегине ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, — это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней изображено не действительно существовавшее, а воображаемое общество: в таком случае, что ж бы это была за поэма и стоило ли бы говорить о ней?..» (XII, 89).
Историческое значение «Евгения Онегина» Белинский видел в том, что роман Пушкина явился актом развития самосознания русского общества: созерцание уродливой и эгоистической жизни, создавшей Онегина и воспроизведенной в романе, пробуждало стремление к поискам разумных и здоровых человеческих отношений.
Разбирая образ Татьяны, Белинский показывает пагубное влияние на человека крепостнического строя, стесняющего и ограничивающего богатую человеческую натуру, не дающего ей жизни и развития. По богатству своей душевной организации Татьяна является исключением из «мира нравственно-увечных явлений». Но она делается жертвой «собственного своего превосходства» (XII, 122). «Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, — пишет о ней Белинский, — Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был занят» (XII, 130). И дальше, в таких выражениях характеризует Белинский Татьяну: «Создание страстное, глубоко-чувствующее, и в то же время не развитое, наглухо запертое в темной пустоте своего интеллектуального существования, Татьяна, как личность, является нам подобною не изящной греческой статуе, в которой все внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте, но подобною египетской статуе, неподвижной, тяжелой и связанной» (XII, 131).
Пушкин в своем романе впервые показал тип «лишнего человека», дворянского «героя», созданного эгоистической, уродливой жизнью. Он первым заглянул в глубину этой жизни и создал гениальное поэтическое
- 113 -
обобщение, пронизанное глубокой грустью. Пушкин искал «настоящего дела» и настоящих людей.
Его искания были продолжены передовыми деятелями последующих поколений. Творчество Пушкина сыграло выдающуюся роль в развитии освободительной борьбы в России и передовой общественной мысли.
Наряду с «Евгением Онегиным» к величайшим творческим достижениям Пушкина Белинский всегда относил и «Бориса Годунова». Совершенно неправильно распространенное мнение, будто в статье о «Борисе Годунове» взгляд Белинского совпал со взглядами Н. Полевого, который осудил пушкинскую трагедию. Действительно, Белинский усматривал зависимость Пушкина в «Борисе Годунове» от Карамзина и считал это большим недостатком, но он же утверждал, что в «Борисе Годунове» Пушкин «дал нам истинный и гениальный образец народной драмы» (X, 151). Белинский, критикуя ошибочно понятую им историческую концепцию, положенную Пушкиным в основу его трагедии, тем не менее высоко оценил громадную реалистическую силу Пушкина.
Особенности подхода Белинского к «Борису Годунову» связаны с общим взглядом критика на возможность расхождения субъективных тенденций художника с объективным значением его творчества.
В статье о «Борисе Годунове» Белинский указывает, что «Пушкин был окружен людьми карамзинской эпохи и сам был воспитан и образован в ее духе» (XII, 166). Исходя из этого своего положения, слабую сторону трагедии Пушкина Белинский видит в самом характере Годунова, который воссоздан поэтом якобы не поэтическим инстинктом, а путем рабского следования Карамзину. Белинский обращает внимание на то, что «пушкинский Годунов является читателю то честным, то низким человеком, то героем, то трусом, то мудрым и добрым царем, то безумным злодеем, и нет другого ключа к этим противоречиям, кроме упреков виновной совести...» (XII, 167).
В связи с этим Белинский следующим образом обосновывает свое толкование исторического значения и исторической судьбы Годунова: «...он хотел играть роль гения, не будучи гением, — замечает Белинский, — и зато пал трагически и увлек за собою падение своего рода...» (XII, 157). Понятие гения — одно из существеннейших понятий в системе общественно-исторических воззрений Белинского. Гений в понимании Белинского — это такой исторический деятель, который выражает объективные интересы народа и работает на благо народа: «Имя гения — миллион, потому что в груди своей носит он страдания, радости, надежды и стремления миллионов. И вот в чем заключается всеобщность его идей и идеалов: они касаются всех, они всем нужны, они существуют не для избранных, не для того или другого сословия, но для целого народа, а через него для всего человечества» (X, 277—278).
Трагедия исторического Годунова, с точки зрения Белинского, состояла в том, что он не был гением; «верно понять Годунова исторически и поэтически, — замечает Белинский, — значит понять необходимость его падения равно в обоих случаях — виновен ли он был в смерти царевича, или невинен. А необходимость эта основана на том, что он не был гениальным человеком, тогда как его положение непременно требовало от него гениальности» (XII, 165).
В понимании Белинского, трагедия падения Годунова — все же глубокая социально-историческая трагедия. Белинский указывает, что царь и боярство были оторваны от коренных интересов народа; возвышение и падение Годунова «ничего не значили для будущих судеб русского народа»
- 114 -
(XII, 149). Народ был еще задавлен, забит, но он и тогда был «непогрешительно истинен и прав в своих инстинктах» (XII, 162). Он не верил Годунову, который из интригана стал тираном, он отвернулся и от «удалого пройдохи» Дмитрия Самозванца. Белинский доказывал, что судьба Годунова, как и судьба Самозванца, целиком зависит от судьбы народной.
Вопреки своим же указаниям на недостатки трагедии Пушкина и на рабскую зависимость его от Карамзина, Белинский глубоко вскрывает сущность пушкинской трагедии именно как трагедии народной. В заключение статьи критик цитирует знаменитый конец пушкинской трагедии и говорит, что «в этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды...» (XII, 175).
В статье о «Борисе Годунове» мы наблюдаем очевидную противоречивость критики Белинского. Начав с прямого порицания Пушкина, по ходу своего анализа, в основных и решающих моментах Белинский фактически сходится с Пушкиным. Заявив, что гений Пушкина потерпел в «Борисе Годунове» «решительное поражение», Белинский, тем не менее, говорит о народности пушкинской трагедии. Народность «Бориса Годунова», по Белинскому, состоит прежде всего в том, что в этой трагедии воплотилось все содержание русской жизни допетровского времени. Глубоко проникнутой русским духом, глубоко верной исторической истине Белинский считает не только знаменитую сцену в келье Чудова монастыря, которую он особенно выделяет, но и всю трагедию в целом.
Белинский предсказывал всемирно-историческую роль русскому народу и русской литературе. С гениальной прозорливостью он утверждал в 1846 году, что «наше политическое величие есть несомненный залог нашего будущего великого значения и в других отношениях... В будущем мы, — добавлял Белинский, — кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни еще и русскую мысль...» (X, 142).
В этих перспективах будущего Белинский осознавал и судьбы пушкинской поэзии. Он первым сказал о неумирающей ценности пушкинского наследия для будущих поколений. И в этом одна из наиболее замечательных сторон в отношении Белинского к Пушкину.
«К особенным свойствам его поэзии, — писал Белинский, — принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека...». Белинский предсказывал то время, когда Пушкин «будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...» (XII, 218—219).
6
После появления в печати первого тома «Мертвых душ» и тех ожесточенных споров, которые вызвала гоголевская поэма, Белинский наблюдал все возрастающее влияние Гоголя на русских писателей. К середине 40-х годов, когда революционно-демократические взгляды Белинского окончательно сформировались, вопрос о значении критики в литературном развитии перерастал у него в вопрос о возможностях и путях руководства литературой. Объективно революционное значение поэмы Гоголя для Белинского не подлежало никакому сомнению, и в своей рецензии на первый том «Мертвых душ» он намекнул на это, поскольку позволяли условия подцензурной печати. Отдавая себе полный отчет в том, что творчество
- 115 -
Гоголя служит делу освободительной борьбы, Белинский понимал также и то, что сам Гоголь сознательно не ставил перед собой такой цели. В полемике с К. Аксаковым по поводу «Мертвых душ» Белинский отметил «удивительную силу непосредственного творчества» Гоголя, но в то же время и подчеркнул, что эта сила «много вредит Гоголю». «Она, так сказать, отводит ему глаза от идей и нравственных вопросов, которыми кипит современность, и заставляет его преимущественно устремлять внимание на факты и довольствоваться объективным их изображением» (VII, 441—442).
Проблема соотношения стихийности и сознательности в художественном творчестве является одной из центральных проблем в критической деятельности Белинского 40-х годов. Окончательно отвергнув как реакционное и ложное мнение о губительности сознательной мысли для искусства, Белинский вплотную подошел к задаче внесения сознательности в литературу. Белинский знал, что только развитием и укреплением сознательности можно было прочно связать литературу с делом освободительной борьбы.
В этом отношении особенное значение в системе литературно-общественных взглядов Белинского приобретали уже отмеченные выше суждения его о гении и таланте.
Гений, — в понимании Белинского, — по самой своей сущности, отражает прогрессивные тенденции исторического развития, он выражает интересы народа, хотя бы народ и не сознавал еще этих интересов. Талант не создает новых идей, но только подхватывает и развивает идеи гения, он популяризирует их и делает всеобщим достоянием.
Мысли Белинского о гении и таланте были источником тех теоретических предпосылок, на основе которых он построил целостную программу в области литературы, ориентируясь на «обыкновенные таланты» и на развитие «беллетристики». Такой программой явилась статья Белинского, опубликованная в качестве введения к сборнику «Физиология Петербурга».
Коснувшись состояния русской литературы, Белинский прежде всего констатировал то положение, что у нас «гениальные действователи», такие, как Пушкин, Лермонтов и Гоголь, «не окружены огромною и блестящею свитою талантов, которые были бы посредниками между ними и публикою, усвоив их идеи и идя по проложенной ими дороге» (XII, 479).
Белинский обрушивался в своей статье на «так называемые „исторические“ романы» и «так называемые нравоописательные романы», потому что в них не было верного «взгляда на вещи», не было идей, не было знания русского общества. Белинский звал писателей к изучению действительности, к воспитанию верного «взгляда на вещи», предостерегая от мелочной сатиры и школьного критиканства. Но изучение русской действительности, с точки зрения Белинского, неотделимо было от сознательной критики сложившихся общественных отношений. Поэтому он и настаивал на том, чтобы устремлять внимание на «дикие понятия», на «ревущие противоречия между европейскою внешностию и азиатскою сущностию...» (XII, 477).
Белинский писал, что для беллетристических произведений Россия представляет неисчерпаемое богатство материалов: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь, — все это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и, особенно, по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему!» (XII, 478). В частности, Белинским была поставлена проблема изучения и художественного отображения такого нового социально-экономического явления, как большой
- 116 -
город. Однако, несмотря на такое богатство материалов для изображения, многие литературные издания, ставившие себе целью знакомить читателей «с русским обществом, а, следовательно, и с самими собою» (XII, 478), не имели успеха. «Какая причина всех этих неуспехов? — спрашивал Белинский. — Причина не одна, их много, но главная из них — отсутствие верного взгляда на общество, которое все эти издания взялись изображать... Это тем удивительнее, что литераторы, принимавшие участие в этих изданиях, могли бы, кажется, найти для себя готовую и притом верную точку зрения на общество в произведениях тех немногих русских поэтов, которые умели постигнуть тайну русской действительности» (XII, 479). «Верную точку зрения на общество» «обыкновенные таланты» могли найти у «гениальных действователей» — у Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Все дело, следовательно, состояло лишь в том, чтобы, усвоив их идеи, идти далее по проложенной ими дороге. Подобного рода задачу и стремились осуществить участники «Физиологии Петербурга», которые, как заявлял Белинский, были «совершенно чужды всяких притязаний на поэтический или художественный талант». «Все самолюбие составителей этой книги, — писал Белинский, — ограничивается надеждою, что читатели найдут, может быть, в некоторых, если не во всех, из наших очерков петербургской жизни более или менее меткую наблюдательность, и более или менее верный взгляд на предмет, который взялись они изображать» (XII, 484—485).
Вероятно, по тактическим соображениям, Белинский не оговаривал в своей статье, что участники «Физиологии Петербурга» продолжали гоголевские традиции и шли по путям, намеченным Гоголем. Тем не менее такой вывод напрашивался сам собою, — сам же Белинский указывал на «многие сочинения Гоголя», в которых «нравственная физиономия Петербурга воспроизведена со всею художественною полнотою и глубокостию...» (XII, 484).
Издание «Физиология Петербурга» явилось для читающей публики неопровержимым свидетельством того, что толки о новой литературной школе вполне реальны и что такая школа действительно существует. Обсуждая «Физиологию Петербурга», журналисты и критики полным голосом заговорили о гоголевской школе, заговорил о новой школе и сам Белинский. Как раз в то время, когда шли споры о «Физиологии Петербурга», Белинский писал в «Отечественных записках»: «Мертвые души, заслонившие собою все написанное до них даже самим Гоголем, окончательно решили литературный вопрос нашей эпохи, упрочив торжество новой школы» (IX, 282). И еще: «С Гоголя начинается новый период русской литературы, которая, в лице этого гениального писателя, обратилась преимущественно к изображению русского общества» (IX, 482).
«Физиология Петербурга» вышла под редакцией Некрасова, и поэтому вместе с Белинским Некрасов разделял ответственность за направление сборника. Реакционно-рептильная «Северная пчела» и напала прежде всего на Некрасова за его «Петербургские углы» и ему же приписала авторство анонимного вступления к сборнику. Резко отрицательной оценкой встретила «Физиологию Петербурга» и славянофильская критика в лице К. С. Аксакова. В прошлом один из ближайших друзей Белинского и недавний его противник в полемике о «Мертвых душах», К. С. Аксаков прекрасно знал, что вдохновителем «Физиологии Петербурга» был Белинский. Поэтому свою рецензию на первую часть сборника1 К. С. Аксаков посвятил исключительно Белинскому и преимущественно его вступительной
- 117 -
статье. Стремление Белинского к внесению сознательности в литературу, установка на «обыкновенные таланты» и на развитие беллетристики — все это в глазах К. С. Аксакова было святотатственным покушением на свободу художественного творчества, самая сущность которого представлялась ему неразлучной со стихией иррационального и бессознательного.
Иллюстрация:
«Современник». Обложка первого номера журнала. 1847.
В числе печатных откликов на «Физиологию Петербурга» рецензию К. С. Аксакова следует выделить потому, что она носила наиболее принципиальный характер, и неслучайно, что на нее Белинский реагировал особенно остро и гневно. Достаточно сказать, что на протяжении 1845 года Белинский в своих работах вспоминал эту рецензию четыре раза: он разъяснял свои взгляды и опровергал мнения К. Аксакова, никогда, впрочем, не называя его по имени.
В полемике с К. С. Аксаковым Белинский защищал выдвинутую им программу новой школы, но одновременно вел борьбу и за самого Гоголя, за направление, которое Гоголь дал литературе. Булгарин в «Северной пчеле» продолжал давно начатое глумление над Гоголем, а после издания «Физиологии Петербурга» распространил это глумление и на новую школу.
В первом же отклике на «Физиологию Петербурга» Булгарин обратил особенное внимание на «Петербургские углы» Некрасова и обвинял эту вещь в «грязности». Из состава всех участников сборника Булгарин сочувственно выделил лишь Казака Луганского (В. Даля), но и по поводу его очерка недоуменно восклицал: «Петербургский дворник В. Луганского, описание ежедневных занятий и образа жизни дворника Григория! Думал ли Григорий дожить до такой почести! Это, так сказать, очерк или эскиз наружной жизни дворника, и какую это имеет цену в нравственном и философическом отношениях, мы этого не постигаем».1 Булгарину вторил сотрудник «Северной пчелы» Л. Брант, который издевался над «Петербургскими углами», сожалел, что очерк Казака Луганского попал в сборник, изданный Некрасовым, а статью Белинского «Петербург и Москва» называл произведением «какого-нибудь ученика, еще не кончившего курса в гимназии».
Глумлению и осмеянию со стороны Л. Бранта подвергалось также стихотворение Некрасова «Чиновник».2
- 118 -
Преследуя Некрасова, преследуя гоголевскую школу, «Северная пчела» от времени до времени пыталась противопоставлять Гоголю то одного, то другого писателя, руководствуясь групповыми и внелитературными соображениями. Так, о Казаке Луганском «Северная пчела» сочувственно отзывалась потому, что он не принадлежал к лагерю «Отечественных записок», печатался в разных изданиях, в том числе и в «Северной пчеле». Своего бывшего сотрудника Буткова, издавшего в 1845 году первую книжку «Петербургских вершин», Булгарин демонстративно противопоставил Гоголю, уверяя читателей, что «г. Гоголь смешит карикатурами, и, сидя на высоте, пишет картины грязью; г. Бутков сидит внизу, но рисует с натуры и светлыми красками».1 Подобного рода беспринципные тактические маневры получали сокрушительный отпор со стороны Белинского. Принадлежность писателя к той или иной журнальной группе в глазах Белинского не имела решающего значения при оценке сущности и направления его творчества. Казака Луганского, например, вопреки ожиданиям «Северной пчелы» и нисколько не смущаясь ее сочувствием к этому писателю, Белинский хвалил и ставил высоко. В статье «Русская литература в 1845 году» Белинский заявил, что «после Гоголя» Казак Луганский «решительно первый талант в русской литературе» (X, 116). Белинский хвалил Луганского за создание особенного рода поэзии — «физиологического» (X, 115) — и в этом роде считал его истинным поэтом, «потому что <он> умеет лицо типическое сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и глупом значении этого слова, т. е. не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле — воспроизведения действительности во всей ее истине» (X, 116).
Обвинения, выдвинутые Л. Брантом, будто Гоголь и созданная им школа «стыдится чувствительного, патетического, предпочитая „сцены грязные, черные“», потребовали от Белинского специальных пояснений. «Что эта школа стыдится чувствительного — правда, — утверждал Белинский, — потому что чувствительное или сантиментальное теперь — то́ же, что́ пошлое, и его любит только школа, которая мы не знаем кем основана, но которая порождает нелепые и вздорные произведения... Но чтоб основанная Гоголем школа стыдилась патетического, это решительно ложь. Где больше патетического, как не в сочинениях Гоголя: Тарас Бульба, Старосветские помещики, Невский Проспект и Шинель?» (X, 94).
В пору полемики по поводу «Физиологии Петербурга» Белинский с замечательной ясностью сформулировал основополагающий для эстетики руководимой им школы тезис о необходимости включения в литературу в качестве равноправной темы человека низших социальных слоев. Когда «Северная пчела» изъявила свое неудовольствие тем, что дворник Григорий дождался чести видеть себя предметом литературного изображения, Белинский ответил, что «никакой истинный аристократ не презирает в искусстве и литературе изображения людей низших сословий и вообще так называемой низкой природы... Уж не́чего и говорить о том, что люди низших сословий прежде всего — люди же, а не животные... и презрение к ним, особенно изъявляемое печатно, очень неуместно...» (IX, 471). Так Белинский боролся за расширение границ литературы, за демократическое понимание человека. Вот почему Белинский и звал писателей изображать и изучать не «исключительных» героев, а обыкновенных людей. Вот почему «Чиновника» Некрасова он противопоставил всем героям Марлинского и
- 119 -
заявил, что «эта пьеса — одно из лучших произведений русской литературы 1845 года» (IX, 474).
В изображении обыкновенного человека Белинский видел не только развенчание и разоблачение всякого рода идеализации существующих общественных отношений, но и более глубокую сторону. Обыкновенные люди противостояли «всем возможным Наполеонам» и героям «наглой силы»; именно обыкновенных людей Белинский считал подлинными строителями жизни и творцами истории. «Человек сильный, могущественный, огромный — еще не всегда в то же время и великий человек», — писал Белинский в рецензии на стихотворение П. Штавера (IX, 434). «Нет спора, что, как воитель, Наполеон не имеет себе соперников в истории человечества; но в глазах истинно-мудрых, простой скромный, неблестящий Вашингтон в тысячу раз более всех возможных Наполеонов имеет право на имя великого человека...». Предостерегая поэтов от увлечения «одним огромным — оно часто только чудовищно, а не велико» (IX, 434), Белинский видел «благороднейшую миссию поэта» в том, что «ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же, как ему же принадлежит по праву преследование ложных и неразумных основ общественности, искажающей человека...» (IX, 432).
Так борьба за новую школу была для Белинского вместе с тем и борьбой за переустройство общества, за социалистические идеалы. «Благородно, велико и свято призвание поэта, который хочет быть провозвестником братства людей!» (IX, 432). Эти слова Белинского могли бы быть взяты лозунгом борьбы, которую он развернул за новую школу.
Вслед за «Физиологией Петербурга» явился «Петербургский сборник», вышедший в свет в самом начале 1846 года и тоже изданный Некрасовым.
Извещая о выходе сборника, Булгарин подчеркнул его преемственность от «Физиологии Петербурга» и в целях унижения новой литературной школы впервые презрительно назвал ее «натуральной».
Центральным произведением «Петербургского сборника» был первый роман Достоевского «Бедные люди», вслед за которым на страницах «Отечественных записок» (1846, № 2) появился его же «Двойник». Белинский приветствовал «Бедных людей» и восхищался «трагическим элементом», глубоко проникавшим весь роман. Но вот по поводу «Двойника» Белинский уже заколебался в оценке Достоевского, что и нашло свое отражение в его критической статье о «Петербургском сборнике». Причины колебаний Белинского по отношению к Достоевскому, которые очень скоро привели к расхождению с ним, а затем и разрыву, состояли в том, что идейное развитие Белинского шло по линии все возрастающей критики идеализма и утопизма, по линии все большего и большего приближения к материалистическим позициям. Критикуя и отбрасывая спиритуалистические элементы, заключавшиеся в гоголевском творчестве, Белинский теоретически обосновал и развил дальше в демократическом направлении завоеванное Гоголем социальное понимание человека. Напротив, Достоевский, наметив уже в «Бедных людях» поворот от социальных проблем к психологическим, в последующих произведениях углубил расхождение с гоголевскими традициями («Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка»).
Особенности литературно-идеологических требований Белинского уясняются наиболее отчетливо тогда, когда мы сопоставляем его позицию в борьбе за новую школу с позицией его младшего современника Вал. Майкова. Майков заявлял себя сторонником Гоголя и его школы, но полагал, что деятельность этой школы «бессознательна и смутна, потому что
- 120 -
сам Гоголь только увенчан, а не объяснен критикой».1 По мнению Майкова, Гоголь был величайшим поэтом-аналитиком, давшим «надолго нашей литературе направление критическое».2 Однако «эпоха критики должна быть в то же время эпохою утопии (принимая это слово в его первоначальном, разумном значении): иначе человечество утратило бы всю энергию живых стремлений и осталось бы без ответа на призывы бытия».3 Следовательно, по мнению Майкова, гоголевское критическое направление односторонне и должно быть дополнено положительным утверждением идеалов: критика и утопия должны быть неразрывны друг с другом. Майков считал, что произведения Кольцова «положительно выразили собою тот идеал, на который остальные поэты наши указывают путем отрицания».4 Задачу искусства Майков видел не столько в общественно-исторических социальных проблемах, сколько в постановке и решении психологических проблем.
Примечательна в этом отношении сравнительная характеристика, которую Майков дал Гоголю и Достоевскому. «И Гоголь, и г. Достоевский изображают действительное общество, — писал он в статье «Нечто о русской литературе в 1846 году». — Но Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума».5 Майков восхищается психологическими чертами необыкновенной тонкости и глубины в «Бедных людях», а «Двойнику» он дал следующую восторженную оценку: «В „Двойнике“ манера г. Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машинацию человеческих чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением „Двойника“, можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи... „Двойник“ развертывает перед вами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности частных интересов в благоустроенном обществе...».6
Эти отзывы Майкова о Достоевском подводят нас к сути его расхождений с Белинским. Поворот от социальных проблем к психологическим, от изображения общественной среды к изображению самого человека — вот как неправомерно мыслилась Майковым перспектива развития гоголевской школы. Белинский же стремился укрепить и обосновать общественно-историческое понимание человека: психологические проблемы рассматривались им как производные от социальных и не противопоставлялись друг другу. Когда Белинский колебался в оценке «Двойника», он словно предвидел те неприемлемые для себя тенденции, которые нашли оправдание и теоретическую защиту у Майкова.
Воспитанный на изучении истории, социологии и политической экономии, Майков был вовлечен в сферу идей позитивизма. Отсюда его требование положительности как «разумного признания действительности», отсюда его мысли о гармоническом соединении анализа и синтеза, умозрения
- 121 -
с опытом и т. д. В своих теоретических построениях Майков отправлялся от идеального понятия личности как свободно разумного существа, созданного «по образу и подобию бога».1 Идеальное понятие личности, естественно, приводило его к отказу от общественно-исторического подхода, что в свою очередь вело к отрицанию национальности. Майков и отрицал национальность, полемизируя в этом отношении с славянофилами и утверждая, что «истинная цивилизация всего на все одна, как одна на свете истина, одно добро; следовательно, чем меньше особенностей в цивилизации народа, тем он цивилизованнее, если только не считать особенностью то, что в нем могут быть развиты такие стороны, которые у других народов остаются в неразвитии...».2
Свои «космополитические» взгляды Майков особенно ярко выразил в статье о Кольцове, где он вступил в прямую полемику с Белинским, который характеризовал Кольцова как поэта национального по преимуществу. Отрицание социального понимания личности и отрицание национальности — таковы основные пункты, которые определяли возражения Майкова Белинскому. Именно по этим пунктам Белинский и дал сокрушительный отпор молодому критику в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года».
Для Белинского было важно размежеваться с Майковым прежде всего потому, что вопрос о личности и национальности, как определяющем ее развитие начале, имел первостепенное значение в системе славянофильских взглядов. А ведь Майков выступал противником славянофилов, причем в полемике с ними он ссылался на традиции «Отечественных записок», которые были созданы Белинским. Показывая ложность «космополитизма» Майкова, Белинский получал в то же время возможность вскрыть реакционный характер славянофильской трактовки проблемы народности и национальности.
Ни разу не назвав Майкова по имени, Белинский обрушился на него как на «гуманического космополита» (X, 408) и сурово осудил его «абсолютный способ суждения». «Идея истины и добра признавалась всеми народами, во все века, — писал Белинский, — но что́ непреложная истина, что́ добро для одного народа или века, то́ часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век. Поэтому безусловный, или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным, или отвлеченным. Ничего нет легче, как определить, чем должен быть человек в нравственном отношении, но ничего нет труднее, как показать, почему вот этот человек сделался тем, что он есть, а не сделался тем, чем бы ему, по теории нравственной философии, следовало быть» (X, 403).
Абстрактному, или отвлеченному способу суждения у Майкова Белинский противополагал другой способ — материалистический. «Психология, не опирающаяся на физиологию, так же не состоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить физический процесс нравственного развития» (X, 406). Опираясь на материалистические предпосылки, Белинский утверждал общественно-историческую обусловленность личности, а отсюда следовал вывод, что невозможно «разделить народное и человеческое на два... враждебные
- 122 -
одно другому начала» (X, 405). Белинский писал: «Что личность в отношении к идее человека, то́ народность в отношении к идее человечества. Другими словами: народности суть личность человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения» (X, 408). Так Белинский ставил и решал проблему личности и национальности.
По определению Белинского, Майков бросился в «фантастический космополитизм во имя человечества» (X, 405), и это было крайностью, с которой необходимо было бороться. Точно так же нужно было бороться и с другой крайностью — «фантастической народностью» (X, 405) славянофилов. Последние или смешивали с народностью обычаи, или указывали «на смирение, как на выражение русской национальности» (X, 403). Принцип «кротости и смирения», из которого исходили славянофилы Хомяков и Ю. Самарин, Белинский в одном из своих писем назвал «неблагопристойным принципом» (Письма, III, 137).
Как материалист и революционный демократ, Белинский звал к «исправлению нравов... не во имя мечтательного и невозможного обращения к прошедшему, а во имя возможного развития будущего из настоящего» (X, 422). Белинский нашел замечательные слова, проникнутые глубоким патриотизмом и чувством национальной гордости. «Нам русским, — писал Белинский, — нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен, только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честию не одно суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели, и всегда успевали спасаться от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости... Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль...» (X, 401).
Четкое и ясное самоопределение Белинского в вопросе о национальном развитии имело огромное значение для судеб русской литературы. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский дал очерк исторического подготовления новой школы, связав ее с прошлым русской литературы и показав движение литературы «от абстрактного начала мертвой подражательности... к живому началу самобытности» (X, 395). Белинский был очень далек от мысли канонизировать кого-либо из писателей новой школы. Прогресс литературы для него выражался «не в талантах, не в их числе», а «в их направлении, их манере писать» (X, 396), в том, что литература стала, наконец, органом общественного самосознания.
Силу новой литературной школы Белинский видел в ее критическом, «отрицательном» направлении. «Но если бы... преобладающее отрицательное направление и было одностороннею крайностию, — писал Белинский, — и в этом есть своя польза, свое добро: привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям, или их последователям, когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически» (X, 397).
Литературно-критические выступления Майкова и вообще вся идеологическая обстановка конца 1846 года бросали новый свет на содержание и направление творчества Достоевского. Совершенно естественно поэтому, что в программной статье «Современника» Белинский должен был сформулировать свое отношение к Достоевскому иначе, чем это было годом раньше. Многое, казавшееся неясным тогда, раскрывалось теперь во всей отчетливости.
- 123 -
Иллюстрация:
«Взгляд на русскую литературу 1846 года». Статья В. Г. Белинского.
«Современник», № 1, 1847.
- 124 -
Заслуживает быть отмеченным то обстоятельство, что, обращаясь в своей статье к произведениям Достоевского, Белинский отнес их к произведениям «беллетристической прозы» (X, 418). Это было уже определенное снижение в оценке Достоевского. Гораздо более сдержанно Белинский отозвался теперь даже о «Бедных людях», а в «Двойнике» он констатировал «чудовищные недостатки» (X, 419) и решительно осудил фантастический колорит романа. Белинский никогда не отрицал законности фантастики и фантастических жанров, но в «Двойнике» фантастика носила антисоциальный и патологический характер. В этом смысле Белинский со всей резкостью утверждал по поводу «Двойника», что «фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов» (X, 420). По поводу новой повести Достоевского «Господин Прохарчин» Белинский высказался совсем отрицательно. Он писал об этой повести: «В ней сверкают искры таланта, но в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю... Не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то в роде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии... иначе она не была бы такою вычурною, манерною, непонятною, более похожею на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, нежели на поэтическое создание» (X, 420). Свои критические замечания Белинский заканчивал характерной оговоркой о том, что «мы не в праве требовать от произведения г. Достоевского совершенства произведений Гоголя; но тем не менее думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером еще бо́льшего» (X, 420—421).
Продолжавшийся отход автора «Бедных людей» от гоголевских традиций настраивал Белинского отнюдь не в пользу Достоевского. Годом спустя, когда появилась «Хозяйка», Белинский окончательно разочаровался в Достоевском. Повесть «Хозяйка» свидетельствовала о глубоком разрыве Достоевского с гоголевскими традициями и «натуральной школой». Гоголевское социальное или, другими словами, «отрицательное» направление русской литературы являлось для Белинского таким громадным завоеванием, измена которому, с его точки зрения, неизбежно вела к губительным последствиям.
Защищать и отстаивать гоголевские традиции особенно было важно еще и потому, что сам Гоголь отрекся от своего искусства, открыто солидаризировался с теми, кто бранил его сочинения, и объявлял несогласие с теми, кто защищал и хвалил его, кто провозгласил его главой новой литературной школы. В статье, посвященной разбору «Выбранных мест из переписки с друзьями», проникнутой величайшим гневом, Белинский писал: «Когда некоторые хвалили сочинения Гоголя, они не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях... Так точно и теперь и мы не пойдем к нему спрашивать его, как теперь прикажет он нам думать о его прежних сочинениях и о его Выбранных местах из переписки с друзьями... Какая нам нужда, что он не признает достоинства своих сочинений, если их признало общество? Это факты, которых действительности не в состоянии же опровергнуть он сам...» (X, 453).
Появление «Выбранных мест из переписки с друзьями» не только не ослабило борьбы Белинского за гоголевские традиции, но, напротив, усилило и обострило эту борьбу. Установку на внесение сознательности в литературу как непременное условие ее связи с освободительным движением в новых исторических обстоятельствах Белинский стал защищать еще более решительно и страстно.
- 125 -
В последней своей программной статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский обосновал и раскрыл историческую закономерность новой школы. Попрежнему отстаивая «отрицательное» направление, Белинский дал в этой статье и свое решение проблемы идеала в литературе.
Сила и жизненность новой школы заключались, по Белинскому, в том, что, отправляясь от Гоголя, она расширила и углубила гуманистические и демократические тенденции его творчества. Предметом изображения для писателей критического направления стали не только помещики и чиновники, как это было у самого Гоголя, но обыкновенные люди разных общественных слоев, в том числе и крестьяне.
«Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик — не человек?» (XI, 95) — спрашивал Белинский и с несокрушимой последовательностью развивал выдвинутое им еще в полемике вокруг «Физиологии Петербурга» демократическое понимание человека. О противниках новой школы Белинский отзывался как об особом роде читателей, «который по чувству аристократизма не любит встречаться даже в книгах с людьми низших классов... не любит грязи и нищеты, по их противоположности с роскошными салонами, будуарами и кабинетами» (XI, 93). Голос революционного демократа и защитника народных интересов слышится в саркастических словах Белинского, обращенных к противникам критического направления: «Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, голодный свой голод, стоны страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон...» (XI, 93).
Эстетические принципы реализма Белинский утверждал в борьбе против «чистого» искусства, а также против искусства дидактического и ложного. И то и другое, в конечном счете, вело к отрыву от жизни. «Выбранные места из переписки с друзьями» Белинским и расценивались как потрясающее по своей наглядности свидетельство того, что глубина и сила искусства именно и заключаются в его связях с современностью, с передовыми идеями общественной жизни и что когда поэт отклоняется от интересов современности, от передовых идей века — он роковым образом идет к своему концу и как художник. Такова именно была трагедия Гоголя, ставшая грозным предупреждением для его последователей.
Конечно, далеко не все писатели критического направления полностью могли усвоить те требования, которые предъявлял им Белинский. Так, например, Достоевский решительно разошелся с Белинским. Однако идеи Белинского осветили путь для целой плеяды писателей. Для всех передовых писателей критика Белинского была направляющей и организующей силой. Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском рассказывает, что когда появилась «Деревня» Григоровича, Белинский «не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности».1 Многим обязан был Белинскому и сам Тургенев. Такие очерки из «Записок охотника», как «Бурмистр» и «Контора», содержавшие наиболее резкие выпады против крепостничества, писались Тургеневым в период его близости с Белинским. Показательно, что дата «Бурмистра» (Зальцбрунн, июль 1847 года) совпадает с датой знаменитого зальцбруннского письма Белинского к Гоголю. Недаром Тургенев впоследствии заявлял, что
- 126 -
Белинский и его письмо к Гоголю — «вся его религия».1 Мы знаем теперь, как велико и плодотворно было влияние Белинского и на Гончарова.
Внесение революционного сознания в литературу Белинский полагал основным и решающим условием ее прогрессивного развития. Красной нитью проходит эта мысль через статьи Белинского последних лет его жизни.
Белинский прекрасно понимал, что писатели — последователи Гоголя — в идеологическом отношении были различны. Белинский отдавал себе отчет также в том, что могли быть писатели, неспособные осознать свое искусство; могли быть иные — осознававшие его неправильно и ложно; наконец, могли быть такие, своеобразие которых состояло в органическом слиянии искусства и передовой сознательной мысли. К числу последних относился Некрасов.
Сравнительно с другими писателями критического направления Некрасов наиболее последовательно осуществлял в своем творчестве требования Белинского. Недаром в письме к Кавелину 7 декабря 1847 года Белинский писал о Некрасове: «...его теперешние стихотворения тем выше, что он, при своем замечательном таланте, внес в них и мысль сознательную и лучшую часть самого себя» (Письма, III, 306). Именно через Некрасова была осуществлена преемственность между Белинским и революционными демократами 60-х годов — Чернышевским и Добролюбовым, продолжавшими на новом этапе общественного развития борьбу за литературу высокой идейности.
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил об народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...(«Медвежья охота»).
Так обращался впоследствии Некрасов к многострадальной тени Белинского. Салтыков-Щедрин вспоминал «полное страсти слово Белинского»,2 которое наполняло сердце скорбью и негодованием и вместе с тем указывало благородные цели.
*
Значение Белинского в истории освободительного движения в России, русской общественной мысли и русской национальной культуры исключительно велико. Наследник Радищева и декабристов, Белинский сделал шаг вперед в развитии революционных идей. Он явился прямым предшественником и учителем Н. Г. Чернышевского — вождя крестьянской революции в 60-е годы. Белинский внес много существенно нового в разработку принципов материалистической философии. В последние годы жизни он особенно интересовался вопросом о законах, которые управляют движением истории. Белинский стремился к познанию законов истории с той целью, чтобы, познав их, указать народным массам на то, как они могут изменить условия своего экономического и политического бытия, установить справедливый общественно-экономический строй. Вопрос о народе как движущей силе истории был одним из центральных вопросов в работах Белинского последних лет его жизни.
- 127 -
Политические и философские идеи Белинского во многом послужили теоретической почвой для Чернышевского в разработке программы крестьянской революции в России.
Сила Белинского как литературного критика, теоретика и историка литературы объясняется прежде всего именно тем, что он во всем руководился интересами народа и защищал их с революционных позиций. Это дало ему возможность создать самую передовую для мирового искусства его времени теорию художественного реализма.
Замечательная особенность этой теории заключается в том, что она указывает художнику путь для создания правдивейших художественных произведений, глубоко раскрывающих существенные стороны эпохи, и одновременно обязывает его служить своей родине, своему народу. Реалистическое искусство Белинский понимал как искусство, которое должно появиться и неизбежно появляется в эпоху высоко развитого национального самосознания. На этой ступени своего развития нация лишь в реалистическом искусстве может познать самое себя, критически отнестись к себе, чтобы определить путь своего дальнейшего развития. Реалистическое искусство всегда — глубоко национальное искусство. Теория реализма Белинского не оставляет камня на камне от всякого рода суждений космополитов о литературе. К космополитам всякого рода Белинский относился, как к своим непримиримым врагам. Реалистическое искусство в то же время — глубоко народное искусство. Оно не может не быть проникнуто величайшей любовью к родине. Истинным носителем этих двух чувств — заботы о родине и любви к родине — является народ, трудящиеся массы.
Основываясь на принципах созданной им теории реализма, Белинский впервые дал научное обоснование истории русской литературы, вскрыл закономерность ее развития на протяжении более чем столетия — от Кантемира до Гоголя и его последователей. Белинский показал, что на протяжении всего этого времени русская литература неуклонно и стремительно шла вперед, все глубже и полнее раскрывая сущность непрестанно растущего национального самосознания, все ближе и непосредственнее подходя к пониманию подлинных интересов народа. Рост русской литературы, по Белинскому, выражался прежде всего в том, что она становилась все более национально самобытной и народной, что критическое начало в ней все более усиливалось и крепло, пока в творчестве Гоголя не стало основным и определяющим. Забота о родине, любовь к родине, дума о ее будущих судьбах — все это могло найти выражение только в беспощадно критическом изображении всех устоев и последствий строя крепостничества и самодержавия.
Белинскому как революционному демократу важно было, чтобы русская литература непосредственно служила делу освобождения русского народа. В конечном счете именно этой цели, этой задаче была подчинена вся литературно-критическая деятельность Белинского. Белинский был вождем и организатором передовой русской литературы, он разъяснял ей ее истинные задачи, указывал единственно правильный путь для ее дальнейшего движения вперед.
Идеи Белинского, его учение о реализме, его оценки крупнейших литературных явлений оказывали огромное и непосредственное влияние на русскую литературу и эстетическую мысль на протяжении всего XIX века. Дело Белинского продолжали Чернышевский и Добролюбов. В соответствии с новыми задачами, встававшими перед освободительным движением, перед нарастающей крестьянской революцией, они выдвигали и новые требования к литературе, опираясь при этом на эстетику Белинского, на
- 128 -
его истолкование народности литературы, ее обязанностей служить делу народа. Эстетика Чернышевского и Добролюбова, а также их литературно-критические принципы — прямое и непосредственное продолжение эстетики и литературно-критических принципов Белинского. В эстетике Белинского Чернышевский и Добролюбов видели один из могучих источников движения и развития русской литературы. Они боролись против всяческих искажений идейного и жизненного облика великого критика. В частности, эта задача с непревзойденной глубиной и блеском была выполнена Чернышевским в его знаменитых «Очерках гоголевского периода русской литературы».
Белинский явился создателем тех великих освободительных традиций русской литературы, которые продолжают жить и в советской литературе. А. А. Жданов недаром назвал марксистскую литературную критику «продолжательницей великих традиций Белинского, Чернышевского, Добролюбова».1 «Начиная с Белинского, — говорил А. А. Жданов в докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград», — все лучшие представители революционно-демократической русской интеллигенции не признавали так называемого „чистого искусства“, „искусства для искусства“ и были глашатаями искусства для народа, его высокой идейности и общественного значения».2 Советская наука о литературе, так же как и советская литературная критика, идя вперед и преодолевая всякого рода ошибки и заблуждения, многому училась и продолжает учиться у Белинского.
СноскиСноски к стр. 37
1 А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. III, Пгр., 1919, стр. 55. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию (тт. I—XXII, 1919—1925). Цитирование по другим изданиям оговаривается особо.
2 И. С. Тургенев, Сочинения, т. XI, 1934, стр. 402.
3 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 342.
4 См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 108.
5 В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 223.
Сноски к стр. 38
1 «Терек», 1911, 29 мая, № 4032; перепечатано в журнале «Красная новь», 1939, № 10—11, стр. 147.
Сноски к стр. 39
1 Белинский в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1948, стр. 91.
2 Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., тт. I—XI (1900—1917) под редакцией С. А. Венгерова, тт. XII—XIII (1926—1948) под редакцией В. С. Спиридонова. Цитирование по другим изданиям оговаривается особо.
3 Дата метрической записи о рождении и крещении В. Г. Белинского. В. С. Нечаева, основываясь на сопоставлении ряда свидетельств, считает эту дату ошибочной и приводит доказательства тому, что Белинский родился 30 мая 1811 года (В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности. Изд. Академии Наук СССР, 1949, стр. 47).
Сноски к стр. 41
1 Белинский. Письма. Редакция и примечания Е. А. Ляцкого, тт. I—III, СПб., 1914. В дальнейшем письма Белинского цитируются по этому изданию.
Сноски к стр. 44
1 А. И. Герцен, т. XIII, стр. 15.
Сноски к стр. 47
1 А. И. Герцен, т. XIII, стр. 24.
2 Там же, стр. 22.
Сноски к стр. 51
1 «Москвитянин» на 1842 год, № 1, М., стр. I—XXXII.
2 Там же, стр. XXI.
3 Там же, стр. XXIX.
4 Отчет императорской Публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893, стр. 43—45.
Сноски к стр. 54
1 П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1928, стр. 582.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 108.
3 «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 579.
4 Там же, стр. 581.
5 Там же, стр. 572.
Сноски к стр. 56
1 «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 572.
2 Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. I, Гослитиздат, М., 1948, стр. 89.
Сноски к стр. 57
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 138.
2 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, Гослитиздат, 1935, стр. 470.
3 П. В. Анненков. Литературные воспоминания. 1928, стр. 569.
4 А. Л. Волынский. Русские критики. СПб., 1896, стр. 6.
Сноски к стр. 58
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. X. изд. 2-е, Госиздат, 1925, стр. 349.
Сноски к стр. 59
1 Подробнее об отношении Белинского к Пушкину в 1834—1836 годах см. ниже, стр. 67 и далее.
Сноски к стр. 61
1 И. С. Тургенев, Сочинения, т. XI, Гослитиздат, Л., 1934, стр. 391.
2 Там же.
3 Белинский в воспоминаниях современников. Гослитиздат, 1948, стр. 358.
4 А. И. Герцен, Избранные сочинения, Гослитиздат, М., 1937, стр. 403.
Сноски к стр. 64
1 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, Изд. Академии Наук СССР, 1952, стр. 54.
Сноски к стр. 65
1 Слова Белинского из его знаменитого письма к Гоголю 15 июля 1847 года («Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 578).
Сноски к стр. 66
1 Пушкин, Полн. собр. соч., т. XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1949, стр. 121.
2 Там же, т. XII, 1949, стр. 97.
Сноски к стр. 67
1 Там же, т. XVI, 1949, стр. 181.
2 См., например, отзыв Белинского в «Литературной хронике» 1838 года о письме Жуковского к отцу Пушкина по поводу гибели поэта (III, 285—286).
Сноски к стр. 68
1 Письма, т. I, стр. 213. В анонимной рецензии на повести и рассказы П. Каменского, Вл. Владиславлева и М. Маркова было, между прочим, отмечено, что «Гоголь схватывает только резкие черты характеров и, обрисовывая их своею волшебною кистию, сам, скрепя сердце, смеется над ними и заставляет других смеяться» («Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», 1838, № 21, 21 мая, стр. 410).
Сноски к стр. 69
1 Ср. позднейшую формулировку: «Простота есть необходимое условие художественного произведения, по своей сущности отрицающее всякое внешнее украшение, всякую изысканность. Простота есть красота истины, — и художественные произведения сильны ею, тогда как мнимо-художественные часто гибнут от нее и потому по необходимости прибегают к изысканности, запутанности и необыкновенности» (V, 142).
Сноски к стр. 70
1 И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1928, стр. 285.
2 Т. Н. Грановский и его переписка, т. II, М., 1897, стр. 374—375.
Сноски к стр. 71
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, стр. 240.
Сноски к стр. 74
1 П. В. Анненков. Литературные воспоминания. 1928, стр. 258—259.
2 Там же, стр. 259.
Сноски к стр. 75
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 240.
Сноски к стр. 78
1 П. В. Анненков. Литературные воспоминания. 1928, стр. 247.
2 А. И. Герцен, Избранные сочинения, 1937, стр. 405.
Сноски к стр. 79
1 А. И. Герцен, т. V, стр. 386.
Сноски к стр. 80
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 243.
Сноски к стр. 83
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 223.
2 Задняя мысль. — Ред.
Сноски к стр. 87
1 Ср. еще более резкий отзыв о «Риме» в письме Белинского к Боткину от 4 апреля 1842 года (Письма, II, стр. 295).
Сноски к стр. 89
1 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. IV, 1951, стр. 101.
2 Там же, т. XII, 1952, стр. 59.
3 Там же, стр. 60.
Сноски к стр. 92
1 <К. Аксаков>. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души. М., 1842, стр. 1.
2 Там же, стр. 16.
3 Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. Изд. «Федерация», М., 1931, стр. 249.
4 <К. Аксаков>. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души, стр. 14.
5 «Москвитянин», 1842, № 8, стр. 368.
Сноски к стр. 93
1 <К. Аксаков>. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души, стр. 5.
2 Там же, стр. 13.
Сноски к стр. 99
1 «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 571.
2 «Москвитянин», 1847, ч. 2, стр. 193.
3 «Московский городской листок», 1847, № 56, стр. 226.
4 В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 286.
Сноски к стр. 106
1 Н. М. Карамзина. — Ред.
Сноски к стр. 107
1 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 50.
Сноски к стр. 116
1 «Москвитянин», 1845, №№ 5 и 6 (май — июнь), Смесь, стр. 91—96.
Сноски к стр. 117
1 «Северная пчела», 1845, № 79, 7 апреля.
2 Там же, №№ 234, 235 и 236, 17, 18 и 19 октября.
Сноски к стр. 118
1 «Северная пчела», 1845, № 243, 27 октября.
Сноски к стр. 120
1 В. Майков. Критические опыты. СПб., 1891, стр. 5.
2 Там же, стр. 115.
3 Там же.
4 Там же, стр. 114.
5 Там же, стр. 325.
6 Там же, стр. 327.
Сноски к стр. 121
1 Там же, стр. 67.
2 Там же, стр. 389.
Сноски к стр. 125
1 Белинский в воспоминаниях современников, М., 1948, Гослитиздат, стр. 354.
Сноски к стр. 126
1 Ив. Иванов. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь. — Личность. — Творчество. Нежин, 1914, стр. 181.
2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. III, 1934, стр. 210.
Сноски к стр. 128
1 А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, 1952, стр. 19.
2 Там же, стр. 18.