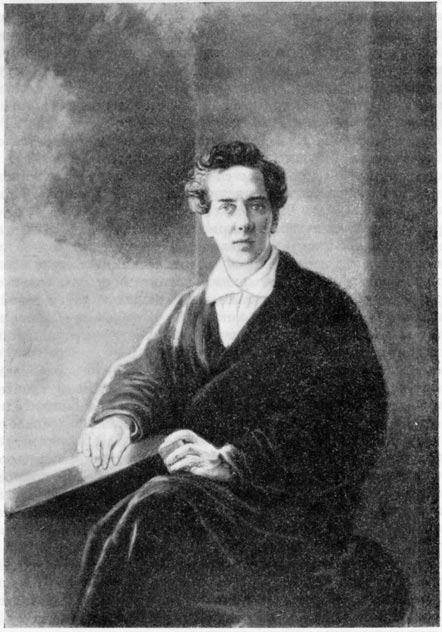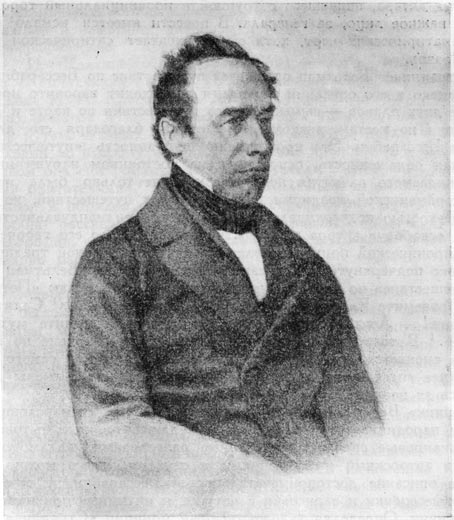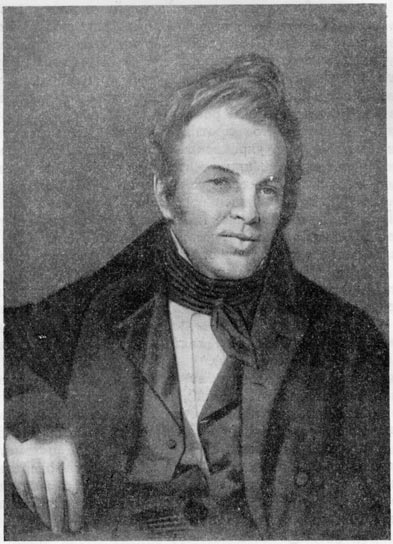- 501 -
Прозаики двадцатых — тридцатых годов
В своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», появившейся в 1835 году, Белинский писал о наступлении нового этапа в развитии русской литературы, о совершившемся переходе от поэтических жанров к прозе, еще недавно занимавшей весьма небольшое место:
«Теперь совсем не то: теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть... Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя. Какие книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и повести. Какие книги доставляют литераторам и домы и деревни? Романы и повести. Какие книги пишут все наши литераторы, призванные и непризванные, начиная от самой высокой литературной аристократии до неугомонных рыцарей Толкуна и Смоленского рынка? Романы и повести. Чудное дело! но это еще не все: в каких книгах излагается и жизнь человеческая, и правила нравственности, и философические системы и, словом, все науки? В романах и повестях.
Вследствие каких же причин произошло это явление? Кто, какой гений, какой могущественный талант произвел это новое направление?.. На этот раз нет виноватого: причина в духе времени, во всеобщем и, можно сказать, всемирном направлении» (II, 188).
«Дух времени», т. е. обращение к социальным вопросам, стремление глубже и конкретнее познать и понять действительность, по мнению Белинского, определил и это обращение литературы к прозе, к роману и повести.
Этот интерес к прозаическим жанрам начинается еще в 20-е годы, когда повесть, прозаические жанры приобрели свое равноправие с поэзией.
В 20—30-е годы XIX века интерес к прозе, к прозаическим жанрам тесно связан с расширением круга тем, с стремлением к массовости литературы, которое выражало усиление общественной роли и значения самой литературы в условиях нарастания освободительного движения. Проза выдвигала новые темы и жанры, способствовала разрешению назревших общественных вопросов, шире и многостороннее откликалась на запросы политической жизни, чем это можно было сделать лишь в одних поэтических жанрах. Наконец, в прозе образ современного героя возникал в своей большей конкретности и многообразии, чем он был дан в классицистической или сентиментально-чувствительной субъективистской поэзии.
На протяжении двух десятилетий — 20—30-х годов — в русскую литературу вошел широкий круг писателей-прозаиков, способствовавших быстрому развитию русской прозы. К 30-м годам относятся уже такие замечательные прозаические произведения, как «Повести Белкина», «Пиковая
- 502 -
дама» и «Капитанская дочка» Пушкина, повести Гоголя «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Невский проспект» и др. На протяжении сравнительно короткого промежутка времени появился ряд талантливых писателей-прозаиков, способствовавших своей деятельностью расцвету повествовательных жанров. Такие писатели, как А. Бестужев-Марлинский, Н. Павлов, В. Одоевский, Н. Полевой и другие, менее заметные литераторы, как, например, О. Сомов или А. Погорельский, также внесли свой вклад, хотя бы и скромный, в становление русской прозы.
Русская проза уже в начале XIX века развивалась своим путем, выражавшим своеобразие русского исторического процесса. Продолжая лучшие национальные традиции Новикова, Фонвизина, Радищева, русская проза в своих ведущих тенденциях, подобно всей русской литературе, способствовала делу прогресса, просвещения и воспитания народа. Лучшие русские писатели бесстрашно выступали на борьбу с деспотизмом самодержавия, с разнообразными проявлениями крепостничества, во имя передовых, освободительных идеалов.
Литературная деятельность писателей-декабристов, Пушкина, Грибоедова, Гоголя являлась ярким свидетельством тесной связи литературы с освободительным движением, бесстрашного служения писателей народу. Передовые русские писатели в своих произведениях ставили наиболее острые и актуальные вопросы современной общественной жизни, отражали ее коренные противоречия. Не только Пушкин и Гоголь, но и многие из второстепенных писателей той эпохи обличали самодержавно-крепостнический строй, правдиво показывали в своих произведениях угнетенное, бесправное положение народа.
Проникнутые пафосом протеста повести А. Бестужева с их утверждением героической личности, борющейся за справедливость, горячая защита Н. Полевым прав демократических слоев общества, выступление Н. Павлова против крепостнических отношений, — все это явилось одним из выражений общей идейной направленности передовой литературы 20—30-х годов.
Тесной связью с освободительным движением, и прежде всего в 20-е годы с движением декабристов, определялись идейная направленность и национальное своеобразие русской литературы. После подавления восстания декабристов великие традиции русской литературы не были оборваны и продолжали развиваться в новых условиях.
Борьба двух культур — передовой, демократической и «культуры» реакционного господствующего класса — сказалась и в русской прозе тех лет. Русская литература 20—30-х годов развивалась в условиях острой общественно-политической, идейной борьбы сторонников прогресса, передовых идей с черными силами реакции. Литература не представляла собой единого потока, как это утверждалось буржуазными литературоведами, а отражала размежевание различных общественных сил. В обстановке феодальной реакции, насаждаемой самодержавно-крепостническим режимом, лучшие русские писатели являлись застрельщиками борьбы с ним, носителями передовых идей. С каждым десятилетием это размежевание прогрессивных, а затем и нарождавшихся демократических сил, с одной стороны, и сил феодальной реакции, с другой, становилось все острее. На стороне правительственной реакции оказались наиболее бездарные, беспринципные писаки, которые бессильны были оказать сколько-нибудь существенное влияние на развитие русской литературы. Представители реакционного лагеря — Булгарин, Греч, Сенковский, Кукольник — в своей защите незыблемости самодержавно-крепостнических основ вызывали
- 503 -
резкий отпор и презрение к себе со стороны прогрессивно настроенных писателей, шедших вслед за Пушкиным, Грибоедовым, Гоголем, Белинским. Фальшивые и бездарные «произведения» реакционной группки литераторов, всячески поддерживавшихся правительственными кругами, оказались в обозе литературы, а вскоре были справедливо забыты, тогда как творения Пушкина, Гоголя, Лермонтова и лучшие произведения даже второстепенных писателей, проникнутые передовыми стремлениями, сыграли огромную роль в воспитании широких читательских кругов.
Как отмечалось в исследовательской литературе, «борьба нового со старым, столкновение противоположных социально-политических тенденций преломлялись и в творчестве прозаиков 20—30-х годов. При изучении литературы пушкинской поры мы видим, что сила и достоинство произведений тех или иных писателей зависели от того, в какой степени эти писатели сумели отразить прогрессивные идеи своего времени и приблизиться к пониманию народных чаяний. Идейная слабость писателя неизменно влекла за собой недостатки и слабости его произведений, а разрыв с прогрессивными идеями приводил к полной творческой катастрофе».1
Чувство национальной гордости, любви к родине у лучших русских писателей сочеталось с передовой идейностью, с протестом против угнетения народа господствующими силами реакции. В противовес фальшивому, «квасному патриотизму» представителей реакционного лагеря, льстиво прославлявших царей и видевших в патриархальной косности, в православии и самодержавии национальное «своеобразие» России, передовые писатели гордились могучей силой и талантливостью русского народа, его вольнолюбивыми традициями, его героизмом в борьбе с иноземными захватчиками.
Именно декабристы, продолжая радищевскую традицию, называли себя «сынами Отечества» и прославляли в своих произведениях патриотические и гражданские подвиги славных сынов России. Этим патриотическим характером русской литературы, в частности, объясняется то большое место, которое занимают в прозе 20—30-х годов исторические повести и романы. Патриотическим пафосом проникнуты повести А. Бестужева-Марлинского, с гордостью рассказывающего в «Мореходе Никитине» и «Лейтенанте Белозоре» о подвигах русских моряков, о героизме русского человека. В исторических романах Лажечникова сочетается изображение прошлого России с защитой прогрессивных начал в ее историческом развитии.
Внимание к родной стране, ее прошлому, ее народу, ее необъятным просторам сказалось в появлении в 20—30-е годы многочисленных произведений, рисующих различные области России и населявшие их народы: украинские повести О. Сомова и А. Погорельского, кавказские повести А. Бестужева-Марлинского, романы И. Калашникова о Сибири и др. Русской народной жизни посвящены и наиболее интересные страницы фольклорных романов А. Вельтмана и лучшие из произведений В. Даля, свидетельствующие не только об этнографических интересах этих писателей, но и о любви к родной земле.
Конечно, далеко не у всех писателей того времени понимание неразрывности подлинного патриотического чувства с защитой интересов народа было вполне осознанным. Но писатели прогрессивного лагеря, при всех
- 504 -
своих заблуждениях и ошибках, связывали свое обращение к истории с глубоким интересом к чаяниям народа, стремились показать в своих произведениях героические черты русского национального характера. Так, в «Разговоре между Сочинителем „Русских былей и небылиц“ и Читателем», помещенном в качестве авторского предисловия к роману «Клятва при гробе господнем» (ч. I, М., 1832), Н. Полевой подчеркивал в нем различие между подлинным патриотизмом, возникающим из преданной любви к родине, и «квасным патриотизмом» господствующих кругов. Во имя любви к Отчизне, говорит Н. Полевой, писатель должен критиковать и обличать недостатки, выступать в защиту просвещения и облегчения положения народа: «Патриотизм высший должен быть уделом народов просвещенных и великих».1
Основным вопросом эпохи 20—30-х годов был вопрос о крепостничестве. Для русской передовой мысли борьба с этим злом была первоочередной. Писатели-декабристы, Пушкин, Гоголь, Лермонтов и лучшие писатели тех лет, шедшие за ними, с большей или меньшей последовательностью и осознанностью своих задач продолжали борьбу с самыми разнообразными проявлениями социального и духовного крепостничества.
В повестях А. Бестужева-Марлинского страстно осуждается бездушие и эгоизм светского общества, создан образ передового человека той эпохи, борца с несправедливостью и угнетением. Н. Павлов решительно выступил в повести «Именины» с осуждением крепостного права, правдиво показал жестокую судьбу крепостного интеллигента. Н. Полевой в своих рассказах из крестьянского и солдатского быта с горячим сочувствием рисует горькую жизнь крепостного крестьянина и царского солдата. Даже такие писатели, как В. Одоевский, далеко стоявшие от передового движения эпохи, создают произведения, осуждающие безобразные проявления крепостного права («Катя, или история воспитанницы») или едко осмеивающие светское и чиновническое общество («Пестрые сказки», «Княжна Мими» и др.).
Эти прогрессивные, передовые тенденции, стремление к жизненной правде, к положительным идеалам, критика несправедливости существовавших общественных отношений и определяли поступательное развитие русской литературы в целом и прозы в частности. Этим объясняется и постепенное нарастание реалистических элементов в прозе 20-х годов и приход к торжеству реализма в 30-е годы.
Писатели 20—30-х годов, которым посвящается эта глава, являлись современниками, а лучшие из них — и литературными спутниками Пушкина и Гоголя, во многом следуя теми путями, которые пролагались этими корифеями русской прозы.
Определяющей тенденцией в развитии русской прозы 20—30-х годов, как уже указывалось, являлась борьба за реализм. Не следует, однако, представлять положение в русской прозе тех лет как уже сложившееся противопоставление романтизма и реализма, резко отграниченных друг от друга. Дело во многом обстояло иначе, сложнее. Реалистические тенденции все более властно входили в произведения лучших писателей, считавших себя романтиками. Откликаясь на запросы жизни, выражая передовые идеи своего времени, писатели-романтики приходили к утверждению существенных сторон действительности, к созданию образов, в той
- 505 -
или иной степени отражающих типические явления. В образе положительного героя, который дан был в повестях писателей-декабристов, заключены характерные, существенные черты героической свободолюбивой личности, которая сложилась в среде декабристов.
В то же время в прозе 20-х и в особенности 30-х годов нашли свое продолжение и дальнейшее развитие сатирические, обличительные традиции русской литературы XVIII и начала XIX века. Сатирические тенденции в повестях направляются к критике отрицательных сторон современной действительности. Расширение круга тем, обличение существовавших порядков, более полный охват жизни различных сословий, усиление внимания к положению демократических слоев общества, правдивое изображение положения бедняка — мелкого чиновника, разночинца, крестьянина — завоевывали все большее место в литературе, делали все более значительной ее роль в освободительном движении.
В прозе все более и более усиливается значение реалистической типизации. Уже самое обращение к действительности, стремление показать ее ведущие, существенные стороны приводило писателей к созданию типических образов, помогавших понять основные, существенные особенности тогдашней жизни и сохранивших до сих пор познавательное и художественное значение.
Высокий пример Пушкина, Грибоедова и Гоголя, показавших в своих произведениях широчайший круг типических образов, оказал решающее воздействие на многих второстепенных писателей 20—30-х годов.
В своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский приветствовал поворот литературы к жизни, усиление в ней критического, реалистического начала. Белинский видел в обращении литературы к прозе переход от «идеальной» поэзии к поэзии «реальной», к правдивому изображению действительности: «... поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности, наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер состоит в верности действительности...» (II, 194). Именно за такую поэзию боролся Белинский, выступая против противопоставления искусства и жизни в эстетике романтизма. Это обращение к действительности наиболее отчетливо и последовательно обозначилось в русской прозе 30-х годов. Творчество Пушкина и Гоголя прежде всего указывало путь к реализму. Однако на этом пути русской прозе пришлось решительно преодолевать идеалистические тенденции романтической эстетики, бороться за правдивое и типическое изображение действительности. Лишь в результате настойчивой борьбы за принципы реалистического искусства, возглавляемой Белинским, русская проза пришла к реализму.
Одной из важнейших задач, стоявших перед русской литературой 20—30-х годов, являлась также разработка языка художественной прозы. Правда, русская проза начала XIX века получила богатое наследство от XVIII века. Но это наследство нуждалось в дальнейшем развитии, в дальнейшем расширении речевой базы, в сближении языка литературы с языком народа.
Язык прозаических произведений не только 20-х, но и начала 30-х годов нередко не имел еще того разнообразия, богатства и выразительности, которыми уже обладал язык поэзии. Поэтому та работа над стилем и языком русской прозы, которая была начата Пушкиным и продолжена Гоголем и другими писателями 20—30-х годов XIX века, имела исключительно большое значение. Необходимо было создать литературный прозаический язык, который вобрал бы в себя все богатство общенародной речи,
- 506 -
явился бы нормой для литературной практики. Именно в этом направлении и шла работа писателей 20—30-х годов над литературным языком художественной прозы.
1
В истории становления русской прозы 20-е годы представляют особый, существенный этап. В эти годы перед русской литературой с особой остротой выдвигается задача создания оригинальной, самостоятельной прозы, откликающейся на запросы современной жизни. «Повесть наша началась недавно, очень недавно, а именно с двадцатых годов текущего столетия», — писал Белинский в своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (II, 200). Белинский дал суровую оценку почти всем «повестям, писавшимся до двадцатых годов», «высокопарным и надутым», «скучно-поучительным». Этот отрицательный отзыв объясняется прежде всего тем, что свою оценку Белинский произнес с позиций борьбы за реализм, за «поэзию действительности», на новом этапе в развитии русской прозы в 30-е годы, ознаменованном появлением прозы Пушкина и Гоголя. Сурово осуждая прозу сентименталистов, чувствительные повести последователей Карамзина, характерные для первого десятилетия XIX века, Белинский приветствовал те явления в русской литературе, которые были показательны как начало нового периода русской реалистической прозы.
Отрицательная оценка Белинского относилась лишь к непосредственным продолжателям Карамзина, представителям дворянского сентиментализма. Замечательный пример Радищева, революционизирующая и реалистическая сила его «Путешествия из Петербурга в Москву» сохраняли все свое значение и для прозы XIX века.
Различие путей и тенденций развития русской литературы начала XIX века отражало борьбу разных общественных сил, определявших литературное движение 20-х годов. Прогрессивные тенденции декабристского литературного движения вызывали реакцию со стороны правительственных кругов, стремившихся подчинить себе развитие литературы, направить ее в своих охранительных интересах.
Задача создания национальной литературы, выдвинутая патриотическим подъемом в войнах с Наполеоном, проблема народности литературы решались прогрессивными, декабристскими кругами. Представители же охранительных, консервативных кругов проблему «народности» и национальной самобытности решали в духе утверждения незыблемости патриархального крепостнического уклада, сохранения в неприкосновенности царской власти и религиозно-нравственных «основ», смирения и подчинения помещику крестьянских масс. Это приводило к борьбе со всеми передовыми идеями, к национальному шовинизму, к оправданию классового неравенства и крепостного права как исконно-национальных устоев. Ярый реакционер адмирал Шишков, собиратель древнерусских памятников и фольклора князь Цертелев, монархист Сергей Глинка, автор крикливых псевдонародных «афишек» Растопчин и многие другие являлись последовательными защитниками реакционно-монархических взглядов.
У идеологов передового дворянства, в первую очередь у декабристов, вопрос о национальном характере русской культуры, о народности литературы являлся прежде всего утверждением ее общенационального характера, выражением борьбы за самобытный и вместе с тем «гражданский», вольнолюбивый характер литературы.
- 507 -
В своих обзорах литературы, помещенных в декабристском альманахе «Полярная звезда», А. Бестужев отстаивал общий для всех декабристов взгляд на литературу как на выражение народного характера и передовых идеалов своего времени, резко нападая на космополитические настроения дворянских верхов, на неуважение их ко всему народному и национальному.
Обращение к героическим страницам прошлого должно было, по мнению декабристов, воспитывать гражданское мужество, вольнолюбивые настроения в русском обществе. Именно из этих принципов исходила теория и эстетика русского прогрессивного романтизма, сочетавшего требование национальной самобытности с гражданской направленностью литературы. Эта точка зрения высказана была в очерках «О романтической поэзии» Ореста Сомова, близкого к кругу декабристов. По мнению Сомова, романтическая поэзия и есть литература национальная, выражающая характер народа, она должна быть оригинальной, самостоятельной, тесно связанной с народным творчеством, с национальной историей. В народных преданиях и песнях, утверждал Сомов, следует искать «свежесть мыслей», «живое, пламенное воображение», «твердость духа, презирающую все опасности».1
Эти принципы сказались как в поэзии, так и в прозе писателей-декабристов и писателей, с ними идейно связанных, к ним примыкающих.
В 20-е годы основным, главенствующим направлением в русской литературе являлся романтизм, в его прогрессивном, революционном варианте. Под знаком этого действенного, прогрессивного романтизма развивалась и проза тех лет. Для передовой литературы 20-х годов эстетика романтизма отнюдь не являлась попыткой уйти от действительности, замкнуться в узкую сферу личности, противопоставить искусство жизни. Писатели-декабристы решительно отвергали пассивный, идеалистический романтизм Жуковского и западноевропейских романтиков, с его уходом в иррационально-мистический мир, культом личности, ее субъективных переживаний и настроений. Для писателей-декабристов романтическая эстетика прежде всего являлась выражением протестующего, свободолюбивого начала. Отказ от условности классицизма, его сковывающих литературу правил, призыв к утверждению национального начала в литературе, превращение литературы в рупор передовых идей своего времени, — таковы основные принципы эстетики революционного русского романтизма. «Свобода, изобретение и новость составляют главные преимущества романтической поэзии перед так называемою классическою позднейших европейцев», — писал в своей программной статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие» декабрист В. Кюхельбекер. «Да создастся для славы России поэзия истинно-русская...», — указывал этот представитель передовой эстетической мысли.2 Те же взгляды развивал и К. Рылеев в своей статье «Несколько мыслей о поэзии», видя в романтизме прежде всего отказ от омертвевших форм классицистической эстетики и противопоставляя им требование такой «поэзии», в которой нашли бы наиболее полное выражение «идеалы высоких чувств» и «мыслей».3
Этими принципами прогрессивного романтизма определялось и обращение писателей-декабристов к прозе.
- 508 -
Следует подчеркнуть самостоятельность и своеобразие русской романтической прозы, глубоко и принципиально отличной от произведений западноевропейских романтиков. Прогрессивный русский романтизм 20-х годов возник на совершенно иной социальной и политической почве. Если немецкие писатели-романтики видели в романтизме средство ухода от социальных противоречий, бегство от действительности в иллюзорно-мистический мир (таков реакционный романтизм Тика, Гофмана и др.), то русский романтизм 20-х годов, являясь выражением передовых, революционных настроений и будучи тесно связан с декабристским движением, знаменовал протест против угнетения личности и народных масс в условиях крепостнической действительности, выражал стремления к ее переделке, к активному воздействию на жизнь. Прогрессивный, а в иных случаях и революционный характер русского романтизма сказался с особенной отчетливостью в романтических южных поэмах Пушкина, в стихах Рылеева, в повестях Бестужева-Марлинского. Направление прогрессивного романтизма, выдвинувшее в русской литературе новые идейно-художественные принципы, сказалось в появлении романтической повести, постепенно занимавшей в прозе 20-х и 30-х годов все большее и большее место. Действенный, протестующий характер романтических повестей решительно противостоял благонамеренным «нравоописательным» очеркам и романам Булгарина и Греча и им подобных, пытавшихся фальсифицировать действительность в духе реакционно-правительственных «предначертаний».
Ведущее место среди прозаиков 20-х годов безусловно принадлежало писателям-декабристам и писателям, близким им по своим идейным взглядам. Писатели-декабристы в своих произведениях выступали с пропагандой идей патриотизма, разоблачали деспотизм самодержавия, фальшь и лицемерие светского общества. В прозаических произведениях писателей-декабристов А. Бестужева, Ф. Глинки, А. Корниловича и других, рассчитанных на прохождение через цензуру, мы не найдем столь явной пропаганды революционных взглядов, как в стихах Рылеева, Кюхельбекера, В. Ф. Раевского, однако содержание их повестей и рассказов во многом сближается с идейными стремлениями поэзии декабристов.
Эстетика прогрессивного романтизма обосновывала право художника на выражение своего внутреннего мира, переносила основное внимание на изображение человека в его отношении к действительности, выдвигала мотивы протеста против косности и неподвижности в общественной жизни.
Прозаики декабристского круга объединены были не только общностью воззрений, но и общностью художественных принципов, которые, хотя и не могут быть сведены к понятию литературной школы, тем не менее сближали их между собой. Проза писателей-декабристов, так же как и их стихи, носила в значительной мере агитационный характер. Писатели-декабристы в своих произведениях выступали с распространением тех прогрессивных идей, которые вдохновляли участников тайных революционных обществ. Любовь к отечеству, любовь к своему народу и свободе, защита прав личности, отрицательное отношение к сословным привилегиям находили свое выражение в их произведениях.
Патриотические настроения декабристов сказались в широкой программе национального подъема России, в стремлении к созданию национальной культуры, не зависимой от иностранных влияний, в обращении к русскому историческому прошлому. Программные статьи А. Бестужева-Марлинского в «Полярной звезде», наряду с аналогичными высказываниями других писателей декабристского круга, прежде всего отстаивали
- 509 -
национальную независимость русской культуры и литературы, возражали против ее «безнародности». Однако патриотизм декабристов был чужд национальной нетерпимости и сочетался с мечтами о благосостоянии и счастье народа. Один из наиболее горячих приверженцев романтизма — декабрист А. Бестужев-Марлинский в «Полярной звезде» на 1825 год выступал против подражательности в литературе, призывая к созданию произведений, посвященных «нравам русского народа», и возражал против копирования французской литературы, «вовсе несходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка».1 Стремление к созданию национальной литературы было тесно связано с общеполитическими идеалами декабристов, с их патриотизмом, с их обращением за политическими аналогиями к русской истории, к национальной старине. В произведениях писателей-декабристов, в «Думах» Рылеева, в повестях А. Бестужева-Марлинского, в историческом романе А. Корниловича «Андрей Безымянный» — прежде всего звучит этот национально-патриотический пафос. Писатели-декабристы изображали особенно охотно исторические события, в которых они видели соответствия с современностью, прежде всего движения народных масс, борьбу с деспотизмом и тиранией, — события, отражающие героическое прошлое русского народа. Новгородская вольность, борьба с иноземными завоевателями, тевтонскими рыцарями и польскими интервентами, — таковы сюжеты исторических повестей А. Бестужева-Марлинского.
Правда, в исторических повестях писателей-декабристов мы не найдем еще подлинного историзма, понимания исторической обусловленности явлений. История являлась для них в значительной мере источником для исторических и политических аналогий, патетически-эффектной декорацией, на фоне которой изображались одушевлявшие их мысли и чувства. Революционная настроенность писателей-декабристов сказывалась в приподнятости и эмоциональности их стиля, в героической идеализации исторических образов, ими создаваемых.
Вольнолюбивые и патриотические настроения декабристов находили свое выражение и в том образе романтического героя, борца с несправедливостью и пламенного патриота, который занимает центральное место в произведениях поэтов и прозаиков декабристского круга. Сообщая Вяземскому о поэме Рылеева «Войнаровский», А. Бестужев писал о ее герое, что он «полон благородных чувств и резких возвышенных мыслей».2 Этими «благородными чувствами» и «возвышенными мыслями» отличались герои повестей и самого А. Бестужева. Будут ли это древнерусские герои его ранних повестей или рыцарственный капитан Правин (в «Фрегате „Надежда“»), — все они полны благородной смелости и негодования против насилия и несправедливости. При всей своей исторической, классовой ограниченности они, «энтузиасты всего высокого и благородного», всегда являются борцами с косностью и несправедливостью во имя своих героических идеалов.3
Творчество писателей-декабристов не ограничивается рамками первой половины 20-х годов. И после 14 декабря 1825 года, после разгрома на Сенатской площади, многие из них продолжали писать в тюремных одиночках и в гибельных кавказских походах. Несмотря на положение ссыльных, декабристы в своих позднейших произведениях во многом продолжали развивать те же мотивы, что и раньше. Повести А. Бестужева, его
- 510 -
брата Н. Бестужева, А. Корниловича, написанные ими в заключении и в ссылке, сохранили основные черты декабристской литературы 20-х годов, ее темы и мотивы, ее стиль.
2
Для писателей 20-х годов, находившихся в орбите декабристского движения, как уже указывалось, прежде всего характерно обращение к национальной тематике, повышенный интерес к родной стране, к ее изображению в путевых «Письмах», «Записках» и прочих публицистических и научно-популярных жанрах. Однако жанр «Путешествий» и «Записок» у писателей 20-х годов значительно и принципиально отличается от «чувствительных путешествий» начала 1800-х годов П. Шаликова, В. Измайлова и других эпигонов Карамзина. В «Записках» и «Письмах» Ф. Глинки, А. Бестужева, Н. Бестужева даны не условные, «чувствительно» приукрашенные картинки из жизни «добродетельных поселян», а правдивые зарисовки действительности, меткие наблюдения, фактические сведения.
Среди прозаиков начала XIX века заметное место принадлежало Ф. Н. Глинке, автору «Писем русского офицера» и многочисленных стихотворений.1 «Письма русского офицера», второе, полное издание которых вышло в 1815—1816 годах,2 сохранили и до сих пор свое значение как один из замечательных мемуарно-литературных памятников о войне 1812 года.
«Письма русского офицера» Ф. Глинки передавали патриотические настроения, национальный подъем, которые во многом определили идеологию декабристов. Отечественная война 1812 года, которой посвящены «Письма русского офицера», показывается Глинкой как война народная. Глинка описывает готовность всего народа бороться с завоевателями, всеобщий патриотический подъем: «Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие селы возжигают огнь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оружия оборонительные, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!..». Рисуя героические картины сражений, самопожертвования и великодушия солдат и офицеров, Глинка говорит о героизме русских солдат: «... люди охотно жертвуют своею жизнию! Жертва сия тем важнее и благороднее, чем более клонится к пользе и спасению сограждан».3 Это патриотическое восприятие войны как защиты всем народом своего отечества проходит через все его письма, изображающие многочисленные сцены и примеры народного патриотизма.
Показывая общенародный патриотический подъем и героизм русского народа, Ф. Глинка в то же время резко критикует недостаток подлинного патриотизма в высших дворянских кругах, русские общественные порядки, жестокость помещичьего произвола, «бедность в народе». В последних
- 511 -
частях своих «писем» он говорит о впечатлениях при возвращении в Россию, с горечью отмечая, что «пожары не просветили умов и злополучие не успело еще смягчить сердец. Прежние страсти и прихоти выползают из пепла и старое свое господство утверждают в новых домах. Роскошь и богатство запевают прежние песни».1 Эти впечатления контраста между жертвами, принесенными народом, и несправедливостью крепостной действительности во многом способствовали созреванию революционной настроенности декабристов. «Письма русского офицера» по своей стилистической манере являются своеобразной публицистикой, образцом художественной «гражданской» прозы декабристов.
Литературная деятельность Ф. Глинки-прозаика не ограничивалась «Письмами русского офицера». Помимо этой лучшей своей книги и многочисленных поэтических произведений, Ф. Глинка является автором известной книги «Письма к другу» (1816—1817), а также «исторического повествования» «Зинобий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия» (1817). Повесть Глинки о Богдане Хмельницком, рисующая эпизоды казацких войн против панской Польши, отдаленно предваряет мотивы «Тараса Бульбы» Гоголя изображением «великого негодования» украинского народа «к притеснителям его». Тема национального освобождения Украины сочетается здесь с идеей гражданской свободы. Борьба украинского народа с польской шляхтой за свою национальную независимость служит как бы примером для возбуждения гражданского мужества и вольнолюбивых чувств у современников, подобно историко-героическим сюжетам «Дум» Рылеева. Для Глинки Богдан Хмельницкий прежде всего свободолюбивый патриот, борющийся за народные права. Поэтому так современно звучали слова Хмельницкого о «прелести свободы», с которыми он обращается в повести к своему отцу: «Нет, родитель мой! Не рабу даровал ты жизнь; не для рабства воспитал меня... Ах, не сам ли ты возвысил дух мой, внушил мне благородство чувств, открыл всю прелесть свободы и весь позор рабства?.. Не ты ли озарил ум мой светом наук? Не ты ли наградил меня средствами пользоваться опытами древности, восхищаться бытоописаниями греков и римлян? Удел рабства, родитель мой! есть невежество». Эта интерпретация истории, обращение к героическим страницам прошлого русского и украинского народов и к образцам античного вольнолюбия чрезвычайно характерны для устремлений декабристов, искавших аналогий для современности в прошлом, в истории.
*
С историческими произведениями выступал в 20-е годы член Южного общества Александр Осипович Корнилович (1800—1834), автор ряда исторических работ и художественных произведений из эпохи Петра I. Разносторонне образованный литератор, он играл значительную роль среди деятелей тайных обществ как человек, имевший доступ к государственным историческим архивам. Своими популярными очерками об эпохе Петра I Корнилович немало содействовал распространению «сведений», «сообразных с целью общества». Эпоха реформ Петра I неоднократно привлекала к себе внимание декабристов, видевших в Петре I социального реформатора, заботившегося о просвещении и переустройстве страны. В своих исторических воззрениях Корнилович стоял на позициях декабризма.
- 512 -
Он критически относился к «Истории государства Российского» Карамзина и противопоставлял прогрессивные нововведения петровской эпохи — XVII веку, считая задачей историка «следить эту борьбу занимающегося просвещения с предрассудками» (как писал он в письме к брату из Петропавловской крепости).
Очерки Корниловича «Частная жизнь имп. Петра I», «Частная жизнь русских при Петре I», «Увеселения русского двора при Петре I» и «Первые балы в России» были объединены им в отдельную монографию «Нравы русских при Петре Великом», помещенную вместе с монографией В. Сухорукова «Общежития донских казаков в XVII и XVIII веках» в альманахе «Русская старина». В отличие от «Истории государства Российского» Карамзина, Корнилович изображает в своих очерках частный гражданский быт, историю просвещения народа, рост национальной культуры. Эта просветительно-демократическая направленность исторических очерков Корниловича была сочувственно встречена Н. Полевым, писавшим в «Московском телеграфе», что «издатели „Русской старины“ выбрали предметы, любопытные по всем отношениям, и говорят об них не голосом крикливого патриотизма, но голосом пламенной любви к отечеству, рассудительного благоговения к обычаям предков».1
Свой альманах Корнилович посвятил памяти Петра I, отметив в предисловии его роль в «просвещении» и «возвеличении» России. Первый свой очерк о петровской эпохе — «Частная жизнь имп. Петра I» — Корнилович начинал с указания на его «постоянную любовь к России». Петр, по словам Корниловича, «истребил остатки деспотизма». В беллетризованных очерках Корнилович рисует не внешнюю, парадную сторону петровского царствования, а представляет Петра I как «гражданина», в его повседневном частном быту. Петр в изображении Корниловича любит «правду» и простоту в обращении с людьми «без чинов», защищает интересы простого народа от феодальной знати. Петр трудится и работает «во благо России», мечтает о «благодетельных последствиях просвещения», насаждаемого им. Отдельные черты, характеризующие образ Петра I, так же как и целый ряд фактических деталей и исторических сведений, сообщаемых Корниловичем о быте и нравах петровского времени, в известной мере использованы были Пушкиным в «Арапе Петра Великого». Описание ассамблеи, старинного боярского быта, самый образ и внешность Петра, его обращение с окружающими, его деятельный характер, его прямота и порывистость — намечены были уже в очерках Корниловича.
Сочетая детальное знание исторического материала с легким и занимательным изложением, исторические очерки Корниловича отличаются живым и красочным изображением эпохи. К очеркам о петровской эпохе примыкают и повести Корниловича: «За богом молитва, а за царем служба не пропадет» («Полярная звезда» на 1825 год), «Татьяна Болтова» и «Утро вечера мудренее» (помещенные под псевдонимами в «Альбоме северных муз» 1828 года, уже во время нахождения Корниловича в ссылке). В этих рассказах, так же как и в написанной во время пребывания в Петропавловской крепости в 1828 году большой исторической повести о петровской эпохе — «Андрей Безымянный»,2 Корнилович изображает Петра I прогрессивным государственным деятелем. В повести «Андрей Безымянный» рассказывается история провинциального дворянина, преследуемого всемогущим князем Меньшиковым и нашедшего поддержку
- 513 -
у Петра. Историческая сторона в «Андрее Безымянном» — описание эпохи, быта и нравов петровского времени — показана уверенно, точно. Корниловича интересует изображение нравов эпохи, тщательное описание костюмов, домов, утвари, подробности свадебных обрядов, детальное описание строящегося Петербурга, заседаний Сената, образ жизни Петра и его приближенных. Исторические очерки и повести А. Корниловича сыграли положительную роль в развитии русского исторического романа.
Среди писателей-декабристов следует назвать и брата Александра Бестужева-Марлинского — Николая Бестужева, автора ряда повестей и очерков, вошедших впоследствии в его книгу «Рассказы и повести старого моряка», изданную в 1860 году. Повести и очерки Н. Бестужева печатались в начале 20-х годов в «Соревнователе просвещения и благотворения», «Полярной звезде» и других журналах и обратили на себя внимание современников. Н. Бестужев, морской офицер, принадлежал вместе с братом Александром к левому крылу Северного общества и принимал активное участие в его деятельности и в событиях 14 декабря. Свою литературную деятельность он начинает с писем путешественника — «Записки о Голландии» (1821). В «Записках» Н. Бестужев выступает не как чувствительный путешественник, подобно многочисленным эпигонам Карамзина, но как острый наблюдатель, как человек с большим политическим кругозором. Он с интересом говорит в них о республиканских учреждениях. С величайшим сочувствием он рассказывает о Гизелере, «молодом, пылком человеке», «жарчайшем патриоте», который «решился пожертвовать жизнью своею за отечество и возбудить нерешительных республиканцев» для борьбы с Вильгельмом V, «готовившим рабство республике».
Путевые очерки Н. Бестужева включают обширный исторический и экономический материал, дают сжатые, но меткие зарисовки общественной жизни и нравов, отличаются простотой и деловой ясностью стиля от сентиментально-чувствительных «путешествий» его современников. Этой же ясностью и реалистической простотой выделяются и другие очерки и рассказы Н. Бестужева. Исключение представляет единственная историческая повесть «Гуго-фон-Брахт», написанная в духе повестей его брата А. Бестужева-Марлинского.
Для очерков и рассказов Н. Бестужева примечателен их автобиографический характер, подготовивший и его мемуарную прозу. Н. Бестужев стремился к освобождению от сентиментальной и мелодраматической манеры, намечая пути к бытовой, психологической повести. Эта психологическая углубленность сказалась уже и в его ранних повестях, написанных в начале 20-х годов, но наиболее полное воплощение получила в произведениях, писавшихся позже, в ссылке.
Из повестей Н. Бестужева наибольший интерес представляют написанные им уже в ссылке «Путешествие на катере» и «Шлиссельбургская станция» («Отчего я не женат?»). Обе эти повести, так же как и большая повесть «Русские в Париже 1814 года», в значительной мере автобиографичны.1
Мотивы автобиографизма связаны в этих повестях Н. Бестужева с теми декабристскими настроениями, которые он не утратил и после 14 декабря. Об этом же свидетельствуют и мемуары Н. Бестужева — наиболее значительное из всего им написанного. Изображению личной драмы самоотверженного революционера посвящена повесть «Отчего я не женат?». В отличие
- 514 -
от романтических повестей 20-х годов, в повестях Н. Бестужева приводится большой фактический материал, нет увлечения внешней эффектностью стиля. В его скупой, слегка иронической манере уже намечаются принципы реалистического изображения действительности, стремление к точности психологического анализа.
В своей повести «Шлиссельбургская станция» (опубликованной в искаженном виде в сборнике его рассказов под заглавием «Отчего я не женат?») Н. Бестужев выступает с резкой критикой самодержавного деспотизма. Вид Шлиссельбургской крепости приводит автора к гневным обличительным рассуждениям. Выступая против расправы самодержавных палачей с революционерами, против того, что люди служат безответной игрушкой для насилия и самоуправства, Н. Бестужев пишет: «Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества? Когда же это общество, строющее здание храма законов, потребует отчета в законности Бастилии и Шлиссельбургов?..».1
3
Заметным представителем романтического направления в русской прозе 20-х годов был О. Сомов, писатель, тесно связанный с кругом декабристов. Орест Михайлович Сомов (1793—1833), украинец по происхождению, обучался в Харьковском университете; в петербургских литературных кругах появился в 1818 году, напечатав до этого несколько стихотворений в харьковском «Украинском вестнике». Связь с украинской культурой продолжалась на протяжении всей его дальнейшей литературной деятельности. По переезде в Петербург О. Сомов принял участие в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств и, несколько позже, в Вольном обществе любителей российской словесности, в течение нескольких лет ведая изданием журнала Общества («Соревнователь просвещения и благотворения»). Сблизившись с Рылеевым и А. Бестужевым (вместе с Рылеевым он служил в Российско-американской компании), Сомов принимал ближайшее участие и в издании «Полярной звезды».
После событий 14 декабря 1825 года Сомов был арестован и привлечен по делу декабристов, однако, благодаря показаниям Рылеева и А. Бестужева о непричастности его к Северному обществу, Сомов был освобожден. С 1825 по 1829 год он сотрудничал в «Сыне отечества» и «Северной пчеле», откуда ушел после столкновения с Булгариным. С 1826 года Сомов — ближайший помощник Дельвига по изданию альманаха «Северные цветы», а в 1830—1831 годах — по редактированию «Литературной газеты».
Сомов — один из первых литераторов-профессионалов, писатель-разночинец, критик и журналист. С самого начала 20-х годов он выступает как защитник и теоретик романтизма. В своих статьях «О романтической поэзии», напечатанных в 1823 году в «Соревнователе» (и тогда же вышедших отдельной брошюрой), Сомов делает попытку определить основные характерные черты складывающегося романтического движения. Центральное место в статьях Сомова занимает утверждение национального характера литературы, ее «народности и местности». Исходя из того основного положения, что «словесность народа есть говорящая картина его нравов, обычаев
- 515 -
и образа жизни», Сомов настаивает на том, что именно в «одном объеме России» имеется много «разных обликов, нравов и обычаев» народов, ее населяющих, которые могут дать «неисчерпаемый источник для искусства».
Эти же теоретические взгляды легли в основу и критических статей Сомова, из которых наибольший интерес представляют его обзоры в «Северных цветах», продолжавшие традиции обзоров А. Бестужева в «Полярной звезде». Выступая с программой создания национальной литературы, которая обращалась бы к родной истории, к народному быту и творчеству, Сомов примыкает в этом к писателям-декабристам. Обращение к Украине, с ее героическим прошлым, с ее поэтическими народными песнями, определяло и характер творческой деятельности самого Сомова и тот интерес к украинскому быту и фольклору, который в 20—30-х годах сказался в появлении ряда произведений, посвященных украинским темам, и столь ярко проявился в творчестве раннего Гоголя.
Повести Сомова не были ни разу собраны отдельной книжкой, они разбросаны по журналам и альманахам тех лет. Он печатал их в «Украинском вестнике», в альманахах «Полярная звезда», «Северные цветы», «Подснежник», в «Петербургском альманахе», в «Сыне отечества», в «Литературной газете» и др. В своих «малороссийских повестях» — «Гайдамак», «Русалка», «Клады», «Киевские ведьмы» и др. — Сомов стремился передать своеобразную картину украинского быта и нравов, народные поверья, легенды, местный бытовой колорит и язык. Так, наряду с романтическими и традиционно-сентиментальными сюжетами, в повестях Сомова уже чувствуется бытовая, реалистическая тенденция, отказ от условно-идиллического изображения Украины в чувствительных путешествиях в «Полуденную Россию» В. Измайлова и П. Шаликова или в «Малороссийской деревне» Кулжинского (учителя Гоголя по Нежинскому лицею). Особый интерес в этой связи представляет отзыв самого Сомова о книге Кулжинского. В своем отзыве Сомов резко протестует против сентиментально-идиллической манеры Кулжинского, являющейся шагом назад, к карамзинским пасторальным описаниям «поселян»: «„Малороссийская деревня“ Кулжинского описана, кажется, с тем, чтобы представить малороссиян в таком виде, как испанские и французские пастухи Флориановы; но имея честь быть земляком Кулжинского, замечу ему, что наш отчетливый век требует в описаниях существенности, а не мечтательности, в картинах верности красок, а не изнеженности, и в эпитетах точности, а не натяжки».1 Существенно отметить в этом отзыве требование этнографического правдоподобия и реального изображения быта.
Сам Сомов в своих «малороссийских повестях» сознательно стремится передать местный, бытовой украинский колорит, обильно пользуясь этнографическими описаниями и подробностями, украинскими пословицами и песнями. Правда, в его повестях этот бытовой и этнографический материал нередко сочетается еще с традиционной сентиментальной интригой. Такова, например, повесть «Юродивый», хотя и названная «малороссийской былью», но почти не связанная, за исключением нескольких пейзажных подробностей, с украинским материалом, а воспроизводящая традиционно-романтические мотивы. Однако в своих лучших повестях Сомов дает яркие жанровые сценки, включая в них много бытовых и этнографических подробностей из реальной украинской жизни. Описания ярмарки и свадебного
- 516 -
обряда в «Гайдамаке», быта мелкопоместных украинских «панков» в повести «Клады», сельского быта, вечерниц в «Русалке» и т. п. предвещают уже бытовую живопись Гоголя: «Жупан или свита нараспашку, казачья шапка с красным суконным верхом, красные или желтые чоботы, иногда цветной шелковый платок, небрежно повязанный на шее, — таков был убор молодого малороссияна до танцу».1 Таково, например, изображение ярмарки в повести «Гайдамак», по своей живописности, бытовым краскам заставляющее вспомнить о гоголевской «Сорочинской ярмарке»: «В ятках на площади толпились веселые казаки в красных и синих жупанах и те беззаботные головы, кои, уставши чумаковать, пришли к ярманке на родину, попить и погулять... Крик торговок и крамарей, жиды с цимбалами и скрипками, цыгане с своими песнями, плясками и звонкими ворганами, слепцы-бандуристы с протяжными их напевами — везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки неподдельного веселья».2
Следует указать и на обращение Сомова к фольклору, к сказкам, песням, легендам как украинским, так и русским, из которых он заимствовал сюжеты для своих повестей. В примечаниях к повести «Клады» Сомов так определяет свою задачу: «... цель сей повести: собрать сколько можно более народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии и Украине между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих археологов и поэтов».3 В его малороссийском предании «Русалка» рассказывается о девушке, оставленной женихом и бросившейся в реку. Утопленница становится русалкой. Возвращенная колдовством матери в свою деревню, она вновь убегает к русалкам.
Пользуясь мотивами народных преданий и сказок, Сомов, даже прибегая к фантастике, сохраняет простоту и реалистическую основу фольклора. В своих повестях Сомов широко пользуется народной речью, вводя в литературу сказ. Таким народным сказом написана «Сказка о медведе костоломе», рассказ «русского крестьянина на большой дороге» — «Кикимора» и другие, в которых переданы особенности устной крестьянской речи («Вот, видите ли, батюшка-барин, было тому давно, я еще бегивал босиком, да играл в бабки... А сказать правду, я был мастер играть...»).
Для большинства повестей Сомова характерно сочетание традиционно-чувствительного сюжета с бытовым или фольклорным материалом. Таковы его повести «Гайдамак», «Самоубийца», «Юродивый» и т. п. В более поздних повестях Сомова явственно сказалось уже влияние пушкинских «Повестей Белкина», усилившее их реалистические тенденции. Эти реалистические тенденции особенно явны в повести «Матушка и сынок» (альманах «Альциона» на 1833 год), в которой Сомов иронически пародирует чувствительную слащавость.
4
В обзоре наиболее значительных явлений русской прозы 20-х годов должны быть названы и повести А. Погорельского (псевдоним А. А. Перовского, 1787—1836), вошедшие в его книгу «Двойник, или мои вечера в Малороссии» (1828). Лучшая повесть Погорельского «Лафертовская маковница», появившаяся еще в 1825 году, явилась одним из первых опытов показа жизни простых, маленьких людей.
- 517 -
А. А. Перовский (Антоний Погорельский)
Портрет работы К. П. Брюллова (1836 г.).В повести «Лафертовская маковница» А. Погорельский с мягким юмором изобразил мирную будничную жизнь представителей московской мещанской среды. Этот интерес к быту, насмешливо-сатирическая фантастика, заключенная в повести, кот, превращающийся в важного чиновника Аристарха Фалалеевича Мурлыкина и делающий предложение внучке «маковницы», вызвали сочувственный отклик Пушкина. Пушкин, ознакомившись с повестью Погорельского, писал брату: «... что за прелесть бабушкин кот! я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр. Фал. Мурлыкиным» (XIII, 157). Почтальон Онуфрич, жена его Ивановна, даже колдунья-бабушка показаны Погорельским с такой бытовой естественностью и подкупающим теплым юмором, которые не были еще знакомы русской прозе. Даже фантастическое превращение черного кота колдуньи в титулярного советника Аристарха Фалалеевича Мурлыкина,
- 518 -
«с приятностью выгибающего свою круглую спину» и сватающегося за дочку почтальона красавицу Машу, не разрушает бытового колорита повести, подчеркивая лишь ее сатирический замысел: разоблачение корыстолюбия и филистерства замкнутого мещанского мирка. Недаром современная критика отмечала, что в этой повести «фантазия не преступает позволенных границ чудесного», так как все образы «яснее и живее говорят воображению». Здесь уже ощутимы новые методы и принципы бытовой сатиры, преодолевшей дидактизм нравоописательной традиции XVIII века.
Несколько позже Погорельский издал свое лучшее произведение — роман «Монастырку» (I часть вышла в 1830 году, II — в 1833 году), являющийся характерным примером сочетания элементов сентиментального романтизма с реалистическими тенденциями. В «Монастырке» описываются провинциальные нравы и быт мелкопоместных помещиков на Украине, с той уверенностью бытовых характеристик и тем мягким юмором, которые отдаленно напоминают гоголевскую художественную манеру. В центре романа, изобилующего традиционно-романтическими ситуациями, — образ дворянской девушки — «монастырки» (воспитанницы Смольного института), обрисованной живыми чертами, ярко выделяющейся своей добротой и благородством на фоне корыстолюбивого и мелочного провинциального мирка. Погорельскому удалось наметить типические черты, показать правдиво и жизненно своих героев.
Своей естественностью и правдивостью роман Погорельского противостоял бесцветным и безжизненным романам и нравоописательным очеркам Булгарина и ему подобных. Несмотря на пережитки сентиментально-романтической традиции, современники увидели в романе Погорельского «настоящий и вероятно первый у нас роман нравов».1 Рецензент «Северных цветов» подчеркивал, что «быт и нравы второстепенных малороссийских помещиков... представлены в очерках, схваченных с самой природы».2 Особенно удались Погорельскому бытовые типы: хозяйственная, по-мужски деловитая, внешне грубоватая тетушка Анна Андреевна и наглый, скупой опекун Клим Сидорович Дюндик, находящийся под башмаком своей властной супруги. Выдержанность бытового колорита сказывается и в обрисовке второстепенных персонажей романа (вроде доморощенного учителя Софроныча, обучавшего дочерей Дюндика выдуманному им самим французскому языку). Повесть показывает наблюдательность и художественную самостоятельность Погорельского, обратившегося к реалистическому изображению украинской провинциальной поместной дворянской жизни. Однако и в этой повести реальные жизненные конфликты и социальные противоречия показаны еще с позиций патриархальной идеализации усадебной жизни.
5
Одной из первых попыток описания современного быта и нравов «средних сословий» явились повести М. Погодина («Повести Михаила Погодина», 3 части, М., 1832), которые печатались в журналах 20-х годов. Как и Погорельский, Погодин далек был от круга писателей-декабристов. Выходец из крепостного крестьянства, Погодин очень скоро вступил на путь официальной благонамеренности, однако в его повестях 20-х годов еще слышатся демократические нотки. В своих повестях Погодин отказывался от принципов «нравственно-сатирических» романов, от их дидактизма
- 519 -
и авантюрной интриги. Такие повести Погодина, как «Нищий», «Черная немочь», «Невеста на ярмарке», являлись одним из первых опытов создания бытовой повести из «простонародной» жизни, из быта низших социальных слоев мещанства, мелкого чиновничества и крестьянства. Эту задачу ставил перед русской прозой М. Погодин в своем программном «Письме о русских романах», помещенном в альманахе «Северная лира» на 1827 год. В этой статье Погодин указывал как на первоочередную задачу литературы — на необходимость изображения русской народной жизни, изображения быта и нравов разных сословий, подчеркивая «различие у нас в званиях»: «У каждого есть свой язык, свой дух, своя одежда, даже своя походка, свой почерк. Одним языком говорит у нас священник, другим купец, третьим помещик, четвертым крестьянин».1
В 20-х годах Погодин еще не был тем консервативным идеологом «официальной народности», каким он стал впоследствии. В это время Погодин, хотя и далекий от каких-либо подлинно демократических взглядов, стремился своими повестями возбудить сочувствие к горестной участи людей из низших слоев русского общества. В повести «Нищий» (1826) он рассказывает о крестьянине, мстящем своему барину за поруганную невесту, возвышаясь здесь до прямого протеста против крепостного права. Это позволило Белинскому дать положительную оценку ранних повестей Погодина, отметив, что «... мир его поэзии есть мир простонародный, мир купцов, мещан, мелкопоместного дворянства и мужиков, которых он, надосказать правду, изображает очень удачно, очень верно. Ему так хорошо известны их образ мыслей и чувств, их домашняя и общественная жизнь, их обычаи, нравы и отношения, и он изображает их с особенною любовью и с особенным успехом» (II, 204).
В «Черной немочи» (1829) Погодин изображает темное царство, застойный и дикий купеческий быт, который впоследствии с такой силой показал А. Островский. Герой повести, сын московского купца, стремится вырваться из той «подлой, гадкой, грязной, дикой, нечеловеческой» жизни, которая, по словам Белинского, в этой повести «изображена в ужасающей верности» (II, 205). Однако герой повести не находит в себе достаточно сил, чтобы порвать с этим «подлым» и «диким» миром, и кончает самоубийством. Критическое отношение к действительности, изображение ее темных сторон сказались и в ряде других повестей Погодина.
Колоритные бытовые зарисовки, жанровые сценки и бытовые персонажи, передача особенностей «простонародной» речи, — все это было новым в русской литературе 20-х годов. Сатирическое изображение чиновничье-мещанской среды, тянущейся за дворянством, в «Невесте на ярмарке», купеческого и крестьянского быта в таких повестях, как «Черная немочь», «Суженый», «Преступница», «Нищий», «Убийца», «Корыстолюбец», свидетельствовало о реалистических тенденциях повестей Погодина, хотя и заглушаемых сентиментальным призывом к состраданию.
В «Литературных мечтаниях» Белинский писал о повестях Погодина «Нищий» и «Черная немочь», что «обе они замечательны по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу» (I, 387). Несмотря на некоторые положительные стороны, повести Погодина не разрешали проблемы создания реалистической прозы. Слащавые сентиментальные сентенции, стремление смягчить жизненность бытовых картин нравственным поучением в духе религиозно-христианской морали мешали повестям Погодина достичь реалистической полноценности.
- 520 -
Погодин в них не пошел дальше воспроизведения отдельных жанровых, бытовых картин, не будучи в состоянии возвыситься до критического обобщения действительности. Белинский впоследствии отметил, что «... талант г. Погодина есть талант нравоописателя низших слоев нашей общественности, и потому он занимателен, когда верен своему направлению, и тотчас падает, когда берется не за свое дело» (II, 205). Когда Погодин от своих бытовых зарисовок, от «галлереи картин в Теньеровском роде» переходит, по выражению Белинского, к жизни «возвышенной», то фальшь проповеди христианского смирения и художественная надуманность превращают его повести в отвлеченные схемы.
6
По сравнению с произведениями писателей 20-х годов проза 30-х годов явилась новым, более высоким этапом развития русской прозы. На 30-е годы падает в основном деятельность таких величайших корифеев русской прозы, как Пушкин и Гоголь. 30-е годы XIX века — время напряженной борьбы за реализм в русской прозе. Но если появление произведений Пушкина и Гоголя означало уже торжество реалистических принципов, то в прозе остальных писателей 30-х годов еще господствовали преимущественно романтические тенденции, поворот к реализму только намечался. В общественной обстановке тех лет и самые романтические принципы имели различный характер. С одной стороны, они являлись продолжением того прогрессивного романтизма, который утверждала эстетика декабристов, — романтизма, имевшего активный, протестующий характер. Повести Н. Ф. Павлова, Н. А. Полевого и ряда других писателей продолжали эту прогрессивную тенденцию, сближавшую литературу с жизнью, утверждавшую передовые, прогрессивные идеи. С другой стороны, подавление декабристского восстания вызвало отход от революционных идеалов части дворянской интеллигенции, сказалось на обращении к отвлеченной, оторванной от жизни, противопоставленной действительности эстетике пассивного, философско-мистического романтизма, проявившегося прежде всего в творчестве такого писателя 30-х годов, как В. Ф. Одоевский.
Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» резко и решительно поставил вопрос о преодолении романтизма и идеалистической эстетики и создании реалистической прозы, правдиво отражающей действительность. Белинский указывает на необходимость «поэзии реальной, поэзии жизни, поэзии действительности», которая, как подчеркивал критик, и есть «истинная и настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер состоит в верности действительности; она не пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее, и, как выпуклое стекло, отражает в себе, под одною точкою зрения, разнообразные ее явления, выбирая из них те, которые нужны для составления полной, оживленней и единой картины» (II, 194).
Произведения Гоголя Белинский признавал образцом для писателей, основой дальнейшего развития русской прозы на путях реализма. Роман и повесть, по словам Белинского, и являлись теми литературными жанрами, которые с наибольшей полнотой могли передать эту «оживленную и единую картину» русской действительности. «Его объем, его рамы, — писал Белинский о жанре романа, — до бесконечности неопределенны; он менее горд, менее прихотлив, нежели драма, ибо, пленяя не столько частями и отрывками, сколько целым, допускает в себя и такие подробности, такие мелочи, которые при всей своей кажущейся ничтожности, если на них
- 521 -
смотреть отдельно, имеют глубокий смысл и бездну поэзии... Итак, форма и условия романа удобнее для поэтического представления человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни, и вот, мне кажется, тайна его необыкновенного успеха, его безусловного владычества» (II, 198—199).
Проза Пушкина, Гоголя, Лермонтова явилась новым этапом в истории литературы и сыграла огромную роль во всем ее последующем развитии.
Вопрос о положении народа в условиях жестокого гнета абсолютизма и крепостничества, протест против мертвящей обстановки николаевской монархии, благородные и гуманные идеалы, — все это нашло отражение в лучших произведениях передовых писателей 30-х годов.
Социально-политическая обстановка этих лет характеризовалась обострявшейся борьбой между прогрессивными силами русского общества, представителями передовой дворянской интеллигенции и первыми разночинцами, с одной стороны, и лагерем самодержавно-крепостнической реакции, с другой. Появление таких произведений, как повести А. Бестужева-Марлинского, «Именины» Н. Павлова, повести Н. Полевого, знаменовало неудовлетворенность настоящим, протест во имя лучших условий существования человека, не принадлежащего к господствующему классу. В то же время царское правительство всемерно стремилось распространить влияние реакционных идей на все стороны общественной жизни. Выдвинутая министром просвещения С. Уваровым формула: «православие, самодержавие и народность» — формула сохранения крепостнической самодержавной монархии и политического и духовного порабощения народа — широко насаждалась в литературе охранительно-дворянского лагеря: в исторических произведениях Загоскина, в «нравоописательных» романах Булгарина и пр.
Правительственный лагерь пытался подчинить себе русскую литературу, влиять на ее направление. «На поверхности официальной России, „фасадной империи“, — по словам Герцена, — видны были только потери, свирепая реакция...»; подлинная же жизнь шла под спудом: «... внутри совершалась великая работа, — работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная; всюду росло недовольство...».1 В этой подспудной работе немалая роль принадлежала и литературе, и прежде всего Пушкину. Значение творчества Пушкина для развития русской реалистической прозы-30-х годов было исключительно велико, так как он решительно противопоставил принцип жизненной правды — условности отвлеченного, пассивного романтизма, противопоставлявшего искусство — жизни.
Произведения Пушкина учили обращению к реальной действительности, отказу от сентиментально-мелодраматических штампов, с одной стороны, и от дидактического морализма, унаследованного от XVIII века,— с другой. Огромную роль в развитии реализма имела и проза Гоголя. О значении Гоголя Белинский писал: «Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний» (XI, 90). Пушкин и Гоголь дали замечательные образцы глубокой идейности и содержательности произведений, утвердив принцип типического изображения жизненных явлений.
Развитие творчества передовых писателей-прозаиков в 30-е годы шло под знаком стремления к наиболее правдивому и реальному показу жизни, раскрытию ее социальных противоречий. Именно с обращением к «поэзии реальной», к «поэзии действительности» связывал Белинский появление
- 522 -
того повышенного интереса к прозаическим жанрам и прежде всего к роману и повести, которым отмечены 30-е годы. Появление и широкий успех романа и повести в 30-е годы Белинский объясняет тем, что «форма и условия романа удобнее для поэтического представления человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни», а повесть — это «распавшийся на части... роман». «Жизнь наша, современная, — продолжал Белинский, — слишком разнообразна, многосложна, дробна: мы хотим, чтобы она отражалась в поэзии, как в граненом, угловатом хрустале, миллионы раз повторенная во всех возможных образах, и требуем повести» (II, 198, 199).
Одновременно с Пушкиным и Гоголем над созданием русской прозы в 30-е годы работал ряд писателей, содействовавших своими произведениями ее быстрому созреванию, хотя их творчество и развивалось в разных направлениях. «Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь, — писал Белинский в своей статье 1835 года «О русской повести и повестях г. Гоголя», — здесь полный круг истории русской повести» (II, 211).
Борьба за национальную самобытность литературы, за ее обращение к наиболее существенным вопросам современной жизни знаменовала передовые, прогрессивные тенденции развития русской литературы. Характеризуя этот период развития русской литературы после 14 декабря 1825 года, Герцен отмечает: «Влияние литературы значительно возрастает и проникает гораздо далее, чем прежде; она не изменяет своему призванию и остается либеральной и просветительной, насколько это возможно при цензуре»1 (Герцен употребляет здесь слово «либеральной» в смысле «прогрессивной»).
Литература 30-х годов во многом еще продолжала принципы романтической эстетики предшествовавшего десятилетия, но в то же время эти романтические принципы все в большей и большей мере вытеснялись победоносным развитием реализма. На примере таких писателей, как В. Одоевский или Н. Полевой, можно видеть, что, чем ближе подходили они к освещению коренных вопросов русской действительности, тем решительнее освобождались от отвлеченности и условности романтической поэтики. Н. Полевой в своих «Рассказах русского солдата» гораздо ближе к жизни, правдивее, чем в аффектированно-романтических повестях, вроде «Аббаддонны» и «Живописца». Точно так же и В. Одоевский в таких повестях, как «Княжна Мими» и «Княжна Зизи», переходит от отвлеченно-романтической манеры своих философско-идеалистических повестей к правдивому изображению и критике русской действительности.
Следует иметь в виду существенную разницу между прозой 20-х и 30-х годов. В 30-е годы совершается решительный переход к реализму. В этом преодолении отвлеченного романтизма и идеализма, как уже указывалось, главная, ведущая роль принадлежала Пушкину и Гоголю, чье творчество определило решающий поворот русской литературы к изображению жизни, к реализму.
Давая характеристику прозаической литературы этого периода и попыток «сближения романа с действительностью», Белинский писал в конце 40-х годов: «Между этими попытками были очень замечательные, но тем не менее все они отзывались переходною эпохою, стремились к новому, не оставляя старой колеи» (XI, 86—87).
- 523 -
Таким образом, говоря о прозе 30-х годов, необходимо иметь в виду довольно сложную картину упорной и настойчивой борьбы, которая велась во имя верности действительности, во имя передовых общественных идей.
Однако даже лучшим из второстепенных прозаиков 30-х годов не удалось полностью преодолеть ограниченность творчества условно-схематическими принципами моралистического и эмпирического изображения действительности.
Русская повесть 30-х годов была чрезвычайно разнообразна по своим художественным принципам и манере и проникнута обличительно-критическим отношением к господствующему дворянскому обществу, смело ставила волновавшие тогдашнее общество вопросы.
В романтических повестях А. Бестужева-Марлинского, Н. Павлова, Н. Полевого сказалась прогрессивная тенденция, активный протест против николаевской действительности. Произведения этих писателей касаются наиболее острых вопросов общественной жизни, кладут социальные моменты в основу отношения своих героев к окружающему их миру. Романтические герои Марлинского и Полевого противостоят косности и эгоизму окружающей их среды, они борются за права человека и за свободное проявление своей личности, хотя и выражают этот протест в слишком общей и неопределенной форме.
Романтический характер повестей Марлинского, Н. Полевого и других писателей романтического направления являлся в 30-е годы уже пройденным этапом в развитии русской прозы. Сибирская ссылка, солдатчина на Кавказе во многом оторвали Бестужева от развития русской литературы 30-х годов, и он оставался на позициях романтизма 20-х годов. Именно в силу своей внешней эффектности образ романтического героя, созданный Бестужевым-Марлинским, с его риторическим пафосом, стал своего рода литературным стандартом для обозначения преувеличенно-романтического героя «позы и фразы». Этим объясняется то, что Белинский, первоначально сочувственно оценивший повести Бестужева-Марлинского, в конце 30-х и в 40-х годах выступает с резкой критикой его романтической поэтики.
Приведя примеры романтической преувеличенности в стиле Марлинского, Белинский спрашивает: «Скажите, ради самого бога: неужели эти красивые, щегольские фразы, эта блестящая реторическая мишура есть голос чувства, излияние страсти, а не выражение затаенного желания рисоваться, кокетничать своим чувством или своею страстию?» (V, 151). Белинский произносит решительный приговор этому внешне эффектному, но всецело риторическому стилю: «Это поэзия, но поэзия не мысли, а блестящих слов, не чувства, но лихорадочной страсти; это талант, но талант чисто внешний, не из мысли создающий образы, а из материи выделывающий красивые вещи...» (V, 152).
Этот «орнаментальный», внешне эффектный романтический стиль в 30-е годы увлекал многих писателей. Так написаны и романтические повести Н. Полевого, в которых герои объясняются не менее книжным и вычурным языком. Вот как, например, объясняется живописец Аркадий со своим другом: «Судьба весит в эти минуты жребий мой на весах своих, и если не бросит она любви в мою чашку весов — расчет кончен: Аркадию не существовать более!».1
- 524 -
Патетика фразы, ее подчеркнутая метафоричность является характернейшей особенностью языка и стиля романтической прозы 30-х годов. Даже такой значительный писатель, как Н. Ф. Павлов, сохраняет эффектность языка, преувеличенную патетику и риторику: «Мысли, то кружатся над землей, как чистые голуби, то взвиваются к небу, как жужжащая ракета»; «розы воображения».
Белинский видел в романтизме Бестужева-Марлинского и писателей, идущих вслед за ним, те тенденции развития литературы, которые в обстановке 30-х годов уже мешали развитию реализма, искажали правдивое и типическое изображение действительности. Именно поэтому Белинский выступает против «натяжек» романтического метода, отсутствия «характеров», нарушения «истины положений» и «правдоподобия в интриге» (V, 148) и прежде всего риторически украшенного стиля. В особенности резко выступал Белинский против тех подражателей Марлинского, которые усвоили лишь внешнюю сторону его романтического стиля: «Между тем, — писал он, — подражатели Марлинского доходят до последней крайности, изображая диким и надутым языком разные сильные ощущения, и тем самым уясняют вопрос совсем не в пользу своего образца» (V, 134).
Н. Г. Чернышевский, указывая на историческую закономерность романтического направления, в то же время подчеркнул его ограниченность: «Мы не хотим смеяться над романтиками, — писал он, — напротив, помянем их добрым словом; они у нас были в свое время очень полезны; они восстали против закоснелости, неподвижной заплесневелости; если б им удалось повести литературу по дороге, которая им нравилась, это было бы дурно, потому что дорога вела к вертепам фантастических злодеев с картонными кинжалами, жилищами фразеров, которые тщеславились выдуманными преступлениями и страстями; но это не случилось, — романтики успели только вывесть литературу из неподвижного и пресного болота, и она пошла своей дорогой...» (III, 27). «Своя дорога» — это путь борьбы за реализм.
7
Одним из особенно ярких и примечательных явлений литературы 30-х годов были «Три повести» Н. Ф. Павлова. Книга эта, вышедшая в 1835 году, включала повести «Именины», «Аукцион» и «Ятаган». Содержавшаяся в повестях Павлова критика крепостнического строя и аракчеевской военщины вызвала возмущение Николая I, лично отметившего в книге «неприличные места» и запретившего ее переиздание.
Иначе восприняты были повести Павлова передовой литературной общественностью тех лет. «Три повести г. Павлова очень замечательны и имели успех вполне заслуженный», — писал о повестях Н. Павлова Пушкин (XII, 9). Эти повести Павлова привлекли сочувственное внимание не только Пушкина, но и всей прогрессивной общественности того времени, так как в них были смело поставлены наиболее важные и острые вопросы общественной жизни той эпохи и прежде всего вопрос о крепостном праве.
Необычна была и биография самого автора. Николай Филиппович Павлов родился в 1803 году в семье крепостного дворового человека московского барина. В 1811 году Павлов был отпущен «на волю» и вскоре отдан в театральное училище. По окончании училища Павлов, уже тогда обнаруживший способности к литературе, около двух лет выступал на сцене и лишь в 1822 году окончательно расстался с актерской карьерой,
- 525 -
поступив в Московский университет. По окончании университета он определяется в Московский надворный суд, а затем служит чиновником при московском генерал-губернаторе князе Д. В. Голицыне. Уже с 1825 года Павлов печатается в журналах, выступая с лирическими стихами, и издает переделку «Марии Стюарт» Шиллера. В эти же годы он сближается с кружком бывших «любомудров». Широкую известность как писатель Н. Павлов приобретает после выхода в свет «Трех повестей» (1835). В 1839 году Н. Павлов издал «Новые повести», фактически завершив ими свою писательскую деятельность. По обвинению в «вольнодумстве» Н. Ф. Павлов в 1852 году был выслан на жительство в Пермь, где и прожил около года. Обратив на себя внимание в 1847 году своими письмами к Гоголю, в которых он осудил реакционный характер «Переписки с друзьями», Павлов к началу 60-х годов сам переходит в либерально-реакционный лагерь. В 1860 году он предпринимает издание газеты «Наше время», а за год до смерти, в 1863 году, основывает «Русские ведомости».
Н. Ф. Павлов.
Литография с портрета работы Р. Брандта.Повесть «Именины» ставила один из самых острых вопросов современности — вопрос о крепостной интеллигенции. В центре повести — образ крепостного музыканта. Его судьба типична для крепостной интеллигенции
- 526 -
той эпохи. Он получает благодаря своему просвещенному владельцу-помещику музыкальное образование. Но его готовили «в куклы для прихотливой скуки, для роскошной праздности». Став замечательным певцом и музыкантом, он особенно болезненно переживает свое бесправие. В глазах дворянского общества он «только музыкант... певец... или, лучше сказать, машина, которая играет и поет».1
Бесправное и зависимое положение порождает мучительное чувство неловкости и робости, за которую он же сам себя презирает. Герой повести влюбляется в дочь одной из соседних помещиц. Но когда девушка, благосклонно принимавшая его ухаживания, узнает, что он крепостной, она не решается связать свою судьбу с рабом. В довершение несчастий крепостного артиста, владелец проигрывает его вместе с другими крепостными в карты. Оскорбленный и возмущенный герой повести решает отомстить, но в последний момент отказывается от убийства своего легкомысленного барина и убегает от него. Его арестовывают как беспаспортного бродягу, судят и отдают в солдаты. Солдатскую шинель он встречает как желанное избавление: «Я дышал свободно, я смотрел смело, меня уже не пугала барская прихоть».2 Попав на войну, он проявляет героизм, награждается георгиевским крестом и через несколько лет дослуживается до офицерского чина.
Образ крепостного музыканта, плебея-разночинца рисуется автором с большим сочувствием. Но в условиях крепостнического строя даже человек, случайно вырвавшийся из крепостной неволи, однако, лишь исключение. Он остается одиночкой, не обладает силой для последовательной борьбы с враждебным ему крепостническим обществом. Трагична поэтому и судьба героя повести. Возвращаясь из похода на родину, он случайно попадает на именины в помещичий дом и узнает в хозяйке любимую им некогда девушку, вышедшую замуж за богатого помещика. Он стреляется на дуэли с ее мужем и погибает. Этим концом повести Н. Павлов подчеркивает безвыходность и трагизм положения в дворянском обществе человека из низов. Образ крепостного интеллигента, наделенного большим мужеством, сознанием своего человеческого достоинства и выдающимся талантом, — это образ, уже намеченный в русской литературе Радищевым, знаменовавший появление в России новых социальных сил.
Белинский, сочувственно отнесшийся к повестям Павлова, отметил в них «поэзию самого содержания», выделив в особенности повесть «Именины», в которой видел «яркие проблески чувства, резкие черты характеров (особенно в главном персонаже)..., много истины в ситуациях» (II, 210).
Тема трагического, бесправного положения крепостной интеллигенции, талантливых людей из народа, погибающих в условиях крепостного права и жестокого произвола помещиков, неоднократно ставилась в русской литературе, начиная с Радищева (глава «Городня» в его «Путешествии»). Повесть В. Нарежного «Мария» (1824) и появившаяся почти одновременно с «Тремя повестями» Н. Павлова повесть В. Одоевского «Катя, или история воспитанницы», и в особенности «Художник» А. Тимофеева (1834) были проникнуты протестом против социальной несправедливости и вопиющей жестокости крепостного права. В «Художнике» Тимофеева крепостной художник, незаконный сын помещика (хотя и не знающий об этом), воспитывается вместе с законными детьми. После смерти помещика,
- 527 -
новый хозяин — сын его — заставляет своего недавнего друга бросить обучение живописи и стать лакеем. Герой повести не выдерживает унижений и издевательств и, после неудачной попытки отомстить за свою искалеченную жизнь, сходит с ума.
Среди всех этих повестей, затрагивавших острую и большую тему крепостной интеллигенции, повесть Павлова выделялась смелостью протеста против крепостного права и своей художественной цельностью. Не менее резким социальным протестом прозвучала и другая повесть Павлова «Ятаган», в которой показаны были жестокость и кастовый характер николаевской военщины. В «Ятагане» Павлов восстает не только против бессмысленного и грубого подавления человеческого достоинства, палочной муштры и жестоких истязаний солдат, но и против кастовой верхушки николаевской военщины, ее ничем не ограниченного произвола. Естественно, что именно «Ятаган» вызвал особенное негодование Николая I. «В „Ятагане“, — писал Белинский, — есть черты, с удивительною верностию схваченные: этот полковник, добрый, честный, но ограниченный по своему уму и чувству..., эта княжна, которая, сидя с своим милым солдатом, на доклад лакея о приезде полковника, отвечает протяжным „что?“, которая так хорошо умеет вести себя с полковником, не подавая ему никакой надежды и, в то же время, не лишая его надежды, — все эти тонкие черты, эти резкие оттенки доказывают, что автор смотрел на жизнь проницательным взором, что он внимательно изучал ее, что много видел, много заметил и много уловил...» (II, 209). Примечательна и третья повесть Павлова — «Аукцион». В ней писатель стремился показать эгоизм и бессердечие «света», фальшь и лицемерие светского общества. Павлову удается достичь тонкости и точности психологического рисунка в своем полуироническом описании «нравов» этого общества. Но разоблачительный характер повести не идет дальше обличения бессердечности и легкомысленности красавицы-княгини.
В своих позднейших повестях («Демон», «Маскарад», «Миллион») Павлов изображал лицемерие светского общества и подневольное положение женщины, принужденной скрывать свои истинные чувства: «... мне уже несносны уроки воспитанья и законы света, — говорит героиня повести Павлова «Миллион», — не правда ли, что наконец становится невыносимым наш ежедневный способ выражаться, т. е. лгать и обманывать друг друга».1 Разоблачая лицемерие светского общества, его эгоизм и кастовую замкнутость, Павлов создает психологически углубленные характеры, показывая общественные противоречия в самом столкновении этих характеров.
«Новые повести» Павлова во многом отличны от «Именин» и «Ятагана». На первое место в них выдвигаются уже не образы героев, выражающих социальный протест, не трагедия крепостного интеллигента-разночинца, а нравоописательная сатира. В повести «Миллион» эта сатира направлена на обличение нравственной развращенности дворянского общества. Гордая княжна не может устоять перед соблазном миллиона. Не любя и презирая богача — «буржуа», она готова продать себя за деньги. Развращающая власть золота, торжество корыстолюбивых, алчных интересов, возникших в светском обществе как следствие новых, капиталистических отношений, — таков лейтмотив «Новых повестей». Однако герои повестей Павлова, поднимающиеся до протеста против существующих общественных порядков, остаются одиночками, оторванными от народа,
- 528 -
гибнут в неравной и непосильной борьбе. Поэтому и их гибель является трагедией исключительной личности.
Сюжетная острота, драматизм ситуаций, тонкость психологических характеристик выделяют повести Павлова среди прозы 30-х годов. Легкость его несколько нарядного языка, внимание к деталям (за следование «близорукой мелочности» французских романистов его упрекнул Пушкин) — отличают его прозу и от сглаженно-спокойного языка Одоевского и от эффектно-риторического стиля Марлинского.
Белинский оценил заслуги Павлова как стилиста: «Что касается до правильности языка, до его плавности, чистоты, ясности и стройности, то эти качества, при большой зависимости от идеи, зависят и от навыка, упражнения, старания, и их точно можно причесть в заслугу автору. В этом отношении г. Павлов принадлежит к немногому числу наших отличных прозаиков» (II, 211).
Пушкин отметил художественное достоинство повестей Павлова, указав, что «они рассказаны с большим искусством, слогом, к которому не приучили нас наши записные романисты». Однако Пушкин требовал от автора этих повестей большего реализма, большей «глубины», находя, что в «Ятагане», «может быть, то же самое происшествие представляло в разительной простоте своей сильнейшие краски и положения более драматические, но требовало и кисти более смелой и более глубины в знании человеческого сердца» (XII, 9).
8
Видное место среди писателей 30-х годов занимает Н. А. Полевой, в творчестве которого тогда особенно наглядно сказались демократические тенденции.
Николай Алексеевич Полевой родился в купеческой семье 22 июня 1796 года в Иркутске. В 1811 году Полевые переехали в Курск. Будущему писателю вскоре удалось попасть в Москву, где он некоторое время посещал университет. С 1820 года Н. Полевой окончательно обосновывается в Москве и всецело отдается литературе, помещая в тогдашних журналах статьи и стихотворения. С 1825 года Полевой предпринимает издание «Московского телеграфа», наиболее передового и влиятельного журнала тех лет, закрытого в 1834 году по распоряжению правительства.
В годы издания «Московского телеграфа» Н. А. Полевой являлся прогрессивным литератором, настойчиво отстаивавшим в своем журнале идеи буржуазно-демократического порядка. Закрытие журнала, острые материальные затруднения, угроза политических репрессий содействовали той идейной и моральной катастрофе, которую пережил Полевой, и его переходу в лагерь правительственной реакции. Личная слабость писателя привела его к непоправимым ошибкам, оказавшим роковое воздействие на его творчество и на его писательскую судьбу. Отойдя от передовых идейных позиций, Полевой в 40-х годах становится третьеразрядным литератором, поставляя в изобилии псевдонародные, ремесленные пьесы, исполненные «квасного патриотизма» («Параша-сибирячка», «Купец Иголкин» и др.). Умер Н. А. Полевой в Петербурге в 1846 году.
Наряду с публицистическими и критическими статьями Н. Полевой в 30-х годах выступал как историк, автор «Истории русского народа», и как беллетрист, автор повестей, изданных им в 1834 году в четырех частях под общим названием «Мечты и жизнь», а также романа «Аббаддонна»
- 529 -
(в том же 1834 году) и исторического романа «Клятва при гробе господнем» (1832).
В 30-х годах Н. А. Полевой являлся одним из наиболее передовых и демократических представителей русской литературы и общественной мысли. В его повестях, в особенности в повести «Мешок с золотом» и в «Рассказах русского солдата» с глубоким сочувствием показаны крепостные крестьяне, правдиво раскрыта их горькая и безрадостная жизнь. В повести «Живописец» Полевой обращается к образу художника-разночинца, одному из первых образов разночинцев в русской литературе, и показывает трагическую судьбу художника в дворянско-буржуазном обществе. Эти социальные, демократические тенденции в творчестве писателя способствовали преодолению в его лучших произведениях тех искусственных и отвлеченных романтических штампов, которые отрицательно сказались в таких его повестях, как «Блаженство безумия» или «Эмма».
В своих рассказах о русском крестьянине и солдате Полевому удалось правдиво показать черты тогдашней крепостной действительности. Такие повести Н. Полевого, как «Мешок с золотом» и «Рассказы русского солдата», проникнуты глубоким сочувствием к положению крепостного крестьянина и царского солдата. «Рассказы русского солдата» («Крестьянин», «Солдат») в прозе 30-х годов, да и в творчестве самого Полевого, занимают особое место как по своей тематике, так и по художественной манере.
Демократические симпатии Н. Полевого сказались в сочувственном изображении народной жизни в этих повестях и в стремлении писателя правдиво показать крестьянскую жизнь, не приукрашивая крепостнической действительности, подобно писателям реакционно-правительственного лагеря. Этот принцип верного показа жизни народа Полевой сформулировал во вступлении к повести «Мешок с золотом»: «Наши сказочники, — писал он, — редко попадают на правду: они списывают большею частию не свое, а всего скорее ничего не пишут о русских деревнях. От того, мы представляем себе их и хуже и лучше, нежели каковы они в самом деле. Бульварный романист розовою водою разрисует вам счастье, милое, беззаботное веселье русского пастушка, нежную подружку его, сельскую красавицу, а читатель его, когда ехавши по большой дороге, въезжает в русскую деревню, тонет в грязи или колотится по деревянной мостовой, видит два ряда однообразных, запачканных или выбеленных хижин, несколько колодцев по обеим сторонам, пестрые перила вокруг дворов, толпу народа у питейного дома, сельских красавиц в понявах и сарафанах, совсем не поэтических, когда за ним бегут ощипанные, босые мальчишки и просят милостыни... признайтесь, что читателю идиллий розового романиста русская деревня кажется недостойною красок и лиры, а розовое описание просто враньем?».1
Полемически заостренная декларация Н. Полевого направлена прежде всего против карамзинского сентиментально-идиллического изображения русской деревни и является одним из наиболее ранних утверждений реалистического принципа изображения действительности.
Особого внимания заслуживают «Рассказы русского солдата». В первой их части — «Крестьянин» — Полевой рассказывает типичную историю русского крестьянина, рисуя его горькую судьбу, бесправное и нищее существование. Писатель правдиво и просто изображает жизнь крестьянина,
- 530 -
с глубоким сочувствием и любовью описывает он своих героев, видя в русском крестьянине «ум свежий, простой и, нередко, сильный».
В повести «Крестьянин» отставной солдат-инвалид рассказывает автору историю своей многострадальной жизни. Он вспоминает о детских годах, проведенных в грязной избе, в холоде и голоде, рисует правдивую и грустную картину старой крепостной деревни, в которой «несколько избушек, общипанных, как после пожара», «грязь по колено по улице», «зимою все занесено снегом, который едва очищен у входа каждой избушки, и привален грудами к стенам ее: без этого мы замерзли бы от холода...».1 В своей повести, проникнутой чувством протеста и горечи, Н. Полевой нашел верные и яркие краски. Но особенно горька и трагична судьба крестьянина вследствие крепостной неволи и произвола помещика. Здесь Полевой подымается до подлинного антикрепостнического пафоса, показывая, какие неисчислимые страдания и беды приходилось терпеть бедняку-крестьянину. Герой повести Сидор, полюбивший красавицу Дуняшу, не может жениться на ней, так как ее отец не отдает дочь за бедняка. Однако, преодолев трудности и препятствия, Сидор женится на Дуняше, но после кратковременного счастья он до конца испытывает на себе всю тяжесть и горесть крестьянской жизни. Сын его умирает от оспы, самого его берут в солдаты, красавица Дуняша от горя превратилась в старуху и вскоре умерла. «Горе сделалось у меня жильцом бесповоротным», — говорит о себе рассказчик.2
Достоинство рассказа Полевого в том, что он не смягчает краски, правдиво передает горькую жизнь крестьянина как типическую. Это не только судьба одного Сидора — такова судьба всей крестьянской массы, — как бы говорит он своей повестью. Характерна в этом отношении картина деревни, которую видит Сидор, возвратившись на родину после двадцатилетней солдатской службы: «Вся почти деревня переменила хозяев, раза два горела, строилась, но опять была она попрежнему, и хозяева такие же, как прежде, только не те, что прежде были».3 Таков горький круг, безрадостный удел крепостного крестьянина, правдиво показанный в повести Н. Полевого.
Н. Полевой не ограничивается в своих «Рассказах русского солдата» изображением его горькой доли, его подневольной участи. Он показывает в своем герое и типические черты русского солдата, простого русского человека — его скромный, повседневный героизм, находчивость, упорство, насмешливый, трезвый ум. Сидор, ставший рядовым солдатом, принимает участие в славных суворовских походах. Он почти не говорит о себе, со свойственной русскому солдату скромностью, но, рассказывая о походах Суворова, рисует подлинно героические деяния русских солдат, самоотверженно и смело сражавшихся.
Демократические тенденции этих повестей сказались и в самом их стиле. В рассказах старого отставного солдата Полевой стремится передать безыскусственность и спокойную рассудительность крестьянина, особенности живой народной речи. Таков, например, рассказ его о Суворове: «Ах! ты, господи боже! из див диво: стариченцо, худенький, седенький, маленький, в синей шинели, без кавалерии, на казацкой лошади; поворачивается в седле направо, налево, а за ним генеральства гибель».4
- 531 -
Белинский с большим сочувствием отметил «Рассказы русского солдата», найдя в них черты народности, которые отличали их от вульгарной стилизации: «Тут нет ни одной побранки, ни одного плоского слова, ни одной вульгарной картины, и между тем так много поэзии, и, мне кажется, именно потому, что автор старался быть верным больше истине, чем народности, искал больше человеческого нежели русского и, вследствие этого, народное и русское само пришло к нему» (II, 208).
Несравненно слабее повести Полевого, посвященные теме об искусстве и художниках. Герой повести «Живописец» Аркадий — сын бедного чиновника, «ничтожный разночинец», как он сам себя рекомендует. Полевой с искренним сочувствием показывает трудный и суровый путь бедняка-разночинца, вынужденного бороться не только за место в жизни, но и просто за кусок хлеба. Долгий и трудный путь унижений, мучительных сомнений и колебаний ведет художника к служению любимому искусству. Однако герой Полевого — не активно борющаяся натура, его ущемленное социальное положение вселяет в него не столько стремление к борьбе за свои права, сколько отчаяние, болезненное ощущение своей отверженности в этом обществе. Конфликт героя-разночинца с окружающим его враждебным дворянско-крепостническим обществом Полевой использует лишь для противопоставления духовной независимости героя — грубому и «пошлому» материальному миру, эгоистическим интересам «толпы».
В повести «Живописец» Полевой ставит вопрос об искусстве, о роли художника в обществе. Но разрешение этого вопроса дается им в духе идеалистической эстетики романтизма. В этом была слабость писателя. Романтические принципы эстетики Полевого основаны на противопоставлении искусства действительности. Во имя абстрактного, «божественного» и возвышенного идеала красоты творит у Полевого его художник Аркадий. «Я носил в душе моей безотчетный, но высокий идеал живописи, как искусства, изображающего божественное, — говорит он о себе. — А люди понимали под этим искусством какое-то черчение домов, глаз, носов, цветов. И мне указывали на такое занятие как на ничтожное дело, пустую забаву».1
Свои взгляды на искусство Аркадий высказывает, отстаивая свободу художника от светской толпы, его «убивает» отношение светского общества к искусству как к предмету роскоши. Подобное отношение к искусству развращает и самих художников, приводит их к униженному и жалкому положению в современном обществе: «Видя, что ему (искусству, — Ред.) нет места, как положительному занятию в жизни общественной, — бедное! как оно гнулось, изгибалось, какой позор терпело оно, чтобы только позволили ему, хоть как-нибудь существовать! Начиная с самого учения, оно делалось чем-то похожим на горшки с цветами, которые ставят на окошках, для того, что надобно ставить их, и что можно притом похвастать хорошим фарфором...».2
Аркадий мечтает о подлинном искусстве, в котором должна отразиться «самобытность века и народа», и гневно обличает тех «аматёров» и художников, которые служение подлинному искусству подменяют ловким ремесленничеством: «Они, эти восковые души, эти конфектные сердца хотят быть литераторами, поэтами, художниками, — с негодованием говорит он. — Пусть бы они переводили гравюрки на свои модные столики, разрисовывали цветами бархат для своих ридикюлей... Они судят, они
- 532 -
сами творят безобразные свои недоноски, своих кукол, одетых в лоскутья пошлого подражания!».1
Свой идеал искусства Аркадий воплотил в картине, изображающей Прометея. В ней он передал и протест против мира пошлости и мещанской ограниченности общества, и веру в свободную мысль человека, и свое понимание искусства, призванного будить в человеке высокие и благородные идеалы. «Идея, которую великий Эсхил заключил в своей чудной трагедии, которую потом так хорошо выразил Байрон — горделивое презрение воли тирана-Зевеса; величие духа, превышающее самую судьбу, и страшное терзание вещественное, соединенное со скорбью об участи человека, с пророческим видением, заставлявшим Прометея, среди мучений, прорицать гибель Зевеса — все это выражала картина Аркадия».2
Аркадий становится художником благодаря помощи богатого покровителя, воспитавшего его, как сына. После смерти благодетеля его наследники выгоняют молодого художника, ему дает приют старый слуга покойного покровителя. После неудачного увлечения девушкой из мещанской среды, не понявшей возвышенных страстей и стремлений художника, Аркадий отправляется за границу и вскоре умирает от чахотки. Повесть кончается умиротворяюще-христианским заключением — описанием последней картины Аркадия. Художник, создавший ранее картину, изображавшую Прометея, нарисовал теперь Христа, благословляющего детей, «исполненного любви и благости».
Трагедия Аркадия — типичная трагедия одиночки, резко и решительно противопоставляющего себя окружающему обществу «светского» круга. В горьких и гордых высказываниях художника, облеченных в романтически-пафосную форму, звучит дух протеста, осуждение несправедливости общественных отношений, сознание своей бесправной и жалкой доли плебея-разночинца. «Кто я? — восклицает Аркадий. — Сын бедного чиновника, ничтожный разночинец; братья мои подьячие; мне надобно было сделаться также подьячим. Пришел ко мне такой же мечтатель, как вы, наговорил мне бог знает чего; я заслушался его и поссорился с миром и с судьбою. Чего не вытерпел я за то, что отказался идти в гусиной веренице, которая тянется целыми поколениями от колыбели до гроба!».3 Этот протест против бесправия и несправедливости не принимает, однако, у Аркадия сколько-нибудь последовательного характера, он далек от сознания необходимости конкретной борьбы за свои права. Отсюда и его колебания, мотивы религиозного смирения.
В «Аббаддонне» Полевой, так же как и в «Живописце», попытался поставить проблему столкновения поэзии и «прозы жизни», однако содержание этого романа сводится главным образом к истории романтической любви героя — поэта Рейхенбаха к Генриетте, хорошенькой и доброй мещаночке. На пути этой любви встает великосветская «львица» Леонора. Рейхенбах колеблется между скромной мещаночкой Генриеттой и страстной Леонорой и, в конце концов, возвращается к Генриетте и тихой благонамеренной жизни с ней.
Впоследствии, в 40-х годах, Белинский дал беспощадно-ироническую характеристику этому одностороннему, оторванному от действительности романтизму 30-х годов, с его выспренно-риторическими идеалами, внешними эффектами, культом личности. Белинский сурово осудил этот мечтательный и прекраснодушный романтизм за его абстрактно-идеалистическую
- 533 -
суть, за отказ от изображения подлинной реальной действительности, за игру в гениальничанье, за отрыв от народа: «Видите ли, как ложная, натянутая идеальность, — писал Белинский по поводу «Аббаддонны», — сходится наконец с пошлою прозою жизни, мирится с нею на конфектных страстишках, картофельных нежностях и плоских шутках?.. Это не то, что на человеческом языке называется „любить“, а — то, что на мещанском языке называется „амуриться“...» (VI, 156).
Этот отход от действительности, нежизненность созданных Полевым образов, их нетипичность являлись одним из главных недостатков его романтического метода и его манеры «изображать бурные страсти и раздирательные положения неистово фразистым языком», — как говорил Чернышевский (III, 27).
Более поздние произведения Полевого, перешедшего в 40-х годах в лагерь реакции, не представляют никакого интереса, являясь бездарной ремесленной стряпней.
9
Если литература 20-х годов развивалась в значительной мере под знаменем прогрессивного романтизма, то в 30-е годы положение значительно меняется. В произведениях В. Одоевского, А. Вельтмана и многих других романтизм утрачивает свой прогрессивный, активный характер, становится средством отхода от действительности, приводит к идеализации «духовного», внутреннего мира, к уходу от современности в прошлое, показанное в тонах патриархальной идиллии. Такому романтизму все решительнее противостоят реалистические тенденции, также нашедшие свое выражение в прозе 30-х годов, в ее стремлении к разрешению острых вопросов современной действительности.
Наиболее последовательно тенденции к идеалистическому, ирреальному романтизму сказались в творчестве В. Ф. Одоевского.
Князь Владимир Федорович Одоевский родился в 1803 году и получил образование в Московском университетском пансионе. Влияние лекций университетских профессоров М. Г. Павлова и И. И. Давыдова, выступавших в качестве горячих приверженцев и проповедников идеалистической натурфилософии, сказалось и на интересах молодого Одоевского, определило как философские взгляды писателя, так и направление и характер его раннего художественного творчества. В 1822 году Одоевский окончил Московский университет. Из университета он вынес веру в силу науки и знаний. Сразу же по выходе из университета Одоевский становится постоянным посетителем кружка, собиравшегося у С. Раича, в котором помимо него участвовали М. Погодин, С. Шевырев, В. Титов и др. Вскоре Одоевский сближается с Д. В. Веневитиновым и уже в 1823 году, совместно с ним, организует и возглавляет Общество любомудрия, занимавшееся изучением идеалистической натурфилософии. В состав этого кружка, помимо Одоевского и Веневитинова, входили И. Киреевский, Кошелев, Рожалин, Титов, Мельгунов и др. Члены кружка «любомудров» живо интересовались литературными и общественными вопросами. В начале 20-х годов Одоевский поддерживал близкие отношения с декабристом В. К. Кюхельбекером, со своим двоюродным братом, также декабристом А. И. Одоевским и с А. С. Грибоедовым.
В. К. Кюхельбекер в одном из писем к Одоевскому призывал его, незадолго до декабрьского восстания, узнать людей «истинно просвещенных».
- 534 -
Свидетельством этой близости Одоевского к передовым кругам дворянской интеллигенции являлось совместное с Кюхельбекером издание альманаха «Мнемозина» в 1824—1825 годах.
События 14 декабря 1825 года прекратили собрания «любомудров». В. Ф. Одоевский предал сожжению протоколы Общества, опасаясь правительственных репрессий. В дальнейшем он отошел от этих либеральных настроений, окончательно утвердившись на позициях умеренного дворянского просветительства. В мировоззрении писателя сочетались как прогрессивные, критические элементы, сказавшиеся в его просветительских тенденциях, так и реакционно-патриархальные черты, склонность к мистическому, иррациональному «любомудрию».
Двойственность, противоречивость мировоззрения Одоевского сказалась и в его творчестве, в сочетании в нем тенденций отвлеченного, мистического романтизма с реалистическими и критическими элементами. Лучшие, прогрессивные устремления мировоззрения Одоевского определили его неудовлетворенность существующим порядком вещей, ту критическую направленность в его творчестве, которая и вызвала сочувственную оценку Белинского.
Одоевский был человеком разносторонних интересов. Он занимался химией и математикой, музыкой и естествознанием, но особенное внимание уделял литературе и философии. В 1826 году Одоевский переселился в Петербург, где поступил на службу в Цензурный комитет. В Петербурге у Одоевского собирались писатели, музыканты, ученые. Крылов и Гоголь, Лермонтов и Некрасов, Кольцов и Белинский и многие другие были постоянными посетителями его вечеров. В 1846 году Одоевский был назначен помощником директора Публичной библиотеки и заведующим Румянцевским музеем. В 1861 году, по переводе музея в Москву, переехал туда, где и умер в 1869 году.
Слабость массового революционного движения в 30-е годы создавала почву для распространения идеализма, характерного для тех кругов дворянской интеллигенции, которые оказались после разгрома декабристов в стороне от нарождавшегося демократического движения. Деятельность «любомудров» из «Московского вестника», философская позиция В. Ф. Одоевского знаменовали уход от активного участия в общественной борьбе, замыкание в кругу абстрактных представлений идеалистической философии, объективно приобретавшей все более и более реакционное значение. Однако, вопреки этой философии, в 20-е и 30-е годы позиция В. Ф. Одоевского имела еще прогрессивный характер. Одоевский выступал последовательным сторонником просвещения, выступал против тиранического обращения крепостников с крестьянами. Он был связан с кругом Пушкина и передовых писателей 30—40-х годов, хотя во многом и не разделял их убеждений.
Одоевский глубоко переживал крушение декабристского движения. В своей личной записи, не предназначавшейся для опубликования, он отмечал:
«Был ли этот заговор своевременен.
В нем участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России, — им не удалось, но успех не был безусловно невозможен.
Вместо брани, не лучше ли обратиться к тогдашним событиям с сериозной и покойной мыслию и постараться понять их смысл».1
- 535 -
В. Ф. Одоевский.
Литография Митрейтера с рисунка К. Горбунова.Отойдя от общественной деятельности, Одоевский принимает участие в разнообразных благотворительных и просветительных начинаниях. Подлинным социальным реформам он, как типичный представитель умеренно-либеральных дворянских кругов, противопоставлял мелочную филантропию, благонамеренное «просветительство». С этой целью он предпринял в 40-е годы издание журнала «Сельское чтение» (1843—1848), рассчитанного на крестьянского читателя. Эту «примиряющую» либеральную позицию умеренных дворянских кругов, стремление избежать классовых конфликтов и осуществлял Одоевский всей своей деятельностью. Он приветствовал реформу 1861 года и был ею вполне удовлетворен.
В. Ф. Одоевский выступил в литературе еще в 20-х годах. Первые его произведения — повесть «Элладий» и апологи — помещены были в «Мнемозине». В повести «Элладий», привлекшей сочувственное внимание Белинского, Одоевский дает сатирическую характеристику аристократического общества в духе моралистического осуждения светских нравов. Этой повестью в известной мере уже намечалась реалистическая струя в творчестве писателя. Наряду с «Элладием» Одоевский пишет аллегорические философские апологи, самая форма которых, условная и рассудочная, придавала его творчеству дидактический характер. В этих ранних
- 536 -
произведениях Одоевского 20-х годов Белинский отмечал как одну из основных особенностей писателя — «гумор» и их сатирический характер. В таких повестях, как «Элладий», «Старики, или остров Панхаи», «Бал», «Бригадир» и другие, «гумор» Одоевского, по словам Белинского, выражался «в глубоком чувстве негодования на человеческое ничтожество во всех его видах, в затаенном и сосредоточенном чувстве ненависти, источником которой была любовь» (II, 202, 203). Эта гуманная настроенность в раннем творчестве Одоевского, однако, никогда не переходила в отчетливый, осознанный протест против окружающей действительности.
Мировоззрение и творчество В. Ф. Одоевского чрезвычайно противоречивы. В нем уживались наряду с откровенно-идеалистическими, даже мистическими представлениями трезвое суждение о жизни, просветительские тенденции, критическое отношение к современной действительности.
В своих сатирических повестях 30-х годов, обличающих мир тупых и продажных чиновников, пустых и эгоистических представителей аристократического общества («Пестрые сказки», «Княжна Мими», «Княжна Зизи» и др.), Одоевский правдиво показал потерю положительных человеческих качеств у этих бездушных и пошлых представителей господствующего класса. Здесь сказались реалистические тенденции писателя. Там же, где он обращается к философско-нравственным проблемам и вопросам искусства, Одоевский создает рассудочные, абстрактные произведения, такие, как мистическая повесть «Косморама», «Сегелиель» и др. Здесь сказались, слабые стороны мировоззрения и творчества писателя, его отход от передовых идей, пассивное созерцательство, приводившее его к перенесению конкретных жизненных противоречий в мир фантазии.
В. Ф. Одоевский наделяет своих героев, носителей положительных идеалов, чертами гордого одиночества, делает их крайними индивидуалистами или безумцами, подчеркивая этим «аристократическую» избранность этих «высших» натур, их непризнание «толпой». Эта романтическая, реакционно-идеалистическая концепция тесно связана с социально-политическими взглядами писателя, стоящего на позициях философско-мистического объяснения исторического развития. Для Одоевского-романтика действительность представляется лишь внешней оболочкой, несовершенным и грубо материальным выражением идеальной духовной сущности человечества, которая раскрывается в мистическом постижении иррациональных, космических «законов», не доступных человеческому разуму. Отсюда и возникает реакционно-идеалистическая теория «двоемирия», противопоставление действительности иррационального мистического начала в таких «философских» повестях Одоевского, как «Сегелиель», «Косморама», «Сильфида». В этих повестях фантастика приобретает откровенно мистический характер, а подлинные противоречия действительности подменяются псевдоглубокомысленными рассуждениями о «вечном» духе человека, абстрактной идеей служения благу человечества.
В повестях Одоевского особенно наглядно сказались черты романтического идеализма, реакционное противопоставление мистически-таинственного, непознаваемого мира — действительности. Это обращение к иррациональному, мистическому началу выражало реакционные черты мировоззрения писателя, его стремление к реакционной патриархальной утопии, его уход от противоречий современности в иллюзорный мир фантастика и мистики. Идейный кризис, который переживала дворянская интеллигенция после разгрома декабристов, обусловил и эти настроения Одоевского. Иррациональное, мистическое начало противопоставлялось.
- 537 -
им реальной жизни, было для него уходом от реальных противоречий. Это иррациональное начало сказалось и на художественных особенностях повестей Одоевского, отличающихся условным символическим смыслом, абстрактностью образов, философским аллегоризмом сюжета.
Такие повести свидетельствуют об идейной двойственности Одоевского, о его стремлении к «примирению», к смягчению социальных противоречий и уходу от действительности, о реакционности его философских взглядов. Одоевский проводит в них идею «двоемирия», наличия в человеке двух начал — «доброго» и «злого», которые находятся в непримиримой борьбе между собой. Сам писатель выступает на стороне «доброго» начала, но это начало сводится к филистерскому утверждению «христианских добродетелей» — смирения, ухода в область религиозно-нравственных идеалов. В этом сказалось бессилие Одоевского разрешить острые вопросы действительности, уход от нее в мир моральных и религиозных «ценностей», свидетельствующий о патриархально-реакционных чертах в мировоззрении писателя. Отвлеченно-аллегорические фигуры героев этих повестей, надуманность и схематизм сюжетных ситуаций являются результатом отрыва от жизни, беспомощностью реакционно-ирреального романтического метода.
Иной характер имеют повести Одоевского, обращенные к действительности. В них писатель поднимается до создания реалистических образов, до метких и верных наблюдений над действительностью, до ее сатирически острых обобщений. Сатирическое начало творчества Одоевского с особенной яркостью сказалось в появившихся в 1833 году его «Пестрых сказках», рассказанных от лица Иринея Модестовича Гомозейки — магистра философии. Философский аллегоризм в этих сказках сочетался с ироническим изображением быта, давая возможность показать под прикрытием «эзоповского языка» сказки современное общество, пустоту и пошлость интересов его представителей. Белинский уже в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» указал на эту двойственность Одоевского как художника: с одной стороны, «поэта мира идеального» и, с другой стороны, писателя, «глубоко проникнувшего в жизнь действительную и верно воспроизводящего ее в своих поэтических очерках», прежде всего в «Пестрых сказках» и «Княжне Мими», в которых содержится много «верных картин нашего разнокалиберного общества» (II, 204).
В условно-фантастическую форму сатирического гротеска входит быт, реальная действительность, показанная в разоблачающем ее пошлость и бессмысленность аспекте романтической иронии. В «Сказке о том, как И. В. Отношение не мог поздравить своих начальников...» дана наиболее простая формула разоблачительного гротеска, формула бессмыслицы и непрочности чиновничье-филистерского благополучия
Но для писателя, стоявшего на позициях субъективистско-идеалистической романтики, ясно лишь неблагополучие и скрытая противоречивость этого внешне благообразного и устойчивого мира, соотношения которого построены на основе табели о рангах. Одоевский не понимает еще действительных противоречий буржуазно-капиталистического общественного строя, приближение которого его пугает, заставляя чувствовать непрочность и неустойчивость филистерски-благополучного мира. В творчестве Одоевского это ощущение социального неблагополучия сочетается с элементами реакционного утопизма. Отсюда и непреодолимый для Одоевского трагический разлад между идеалом и действительностью, рождающийся из невозможности примирить гуманистический идеал и жестокую несправедливость
- 538 -
современного общества. Этот конфликт изображается писателем в излюбленном им образе гениального чудака, человека искусства, стремящегося стать над миром и противопоставить ему «чистое» служение искусству или науке. Но, как ни близок автору этот идеализированный образ художника, якобы стоящего вне социальной борьбы (Бетховен, Пиранези и др.), живущего лишь интересами своего искусства, Одоевский понимает, что в реальной жизни это невозможно. Отсюда и тема трагического разлада человека с «низменной», материальной действительностью. Трагикомичен и в то же время величествен в гордом стремлении к созданию грандиозных замыслов своей фантазии архитектор Пиранези. Безумный старик одержим благородной мечтой создать для людей прекрасный город — произведение подлинного искусства, чуждого меркантильным расчетам современного общества. Однако его мечта соединить сводом Этну и Везувий для триумфальных ворот колоссального замка смешна и нелепа, далека от какой бы то ни было реальности.
В повести «Импровизатор» Одоевский рассказывает, как поэт-импровизатор получает от таинственного доктора-философа Сегелиеля чудесный дар всевидения. Киприано (герой повести) увидел не только всю фальшь человеческих отношений в современном обществе, но и самый механизм природы. Но это всепроникающее знание приводит его к безумию, так как он не в силах постигнуть законы человеческой жизни и природы.
Итак, знание, талант, подлинная человечность невозможны в современном обществе — к этому пессимистическому выводу приходит Одоевский, но выход из этого трагического противоречия он видит лишь в сфере искусства. Только искусство, согласно реакционно-идеалистическим взглядам Одоевского, дает подлинное знание и выводит человека из мира повседневных забот и противоречий социальной действительности. Это противопоставление мира «чистого» искусства, прежде всего музыки, реальной действительности составляет содержание таких рассказов Одоевского, как «Последний квартет Бетховена», «Себастиан Бах» и других, являвшихся своего рода программой идеалистической эстетики 30-х годов. В этих новеллах о музыкантах и художниках Одоевский решительней и последовательней всего пропагандирует принципы идеалистического романтизма, утверждает приоритет искусства над жизнью, противопоставляя бессознательное «вдохновение», идеальный мир музыки — «пошлой» и обыденной действительности.
В «Последнем квартете Бетховена» (1831) с особенной силой подчеркивается трагический разлад между искусством и буржуазно-дворянским обществом. Оглохший Бетховен живет в мире ему одному слышимых звуков и мелодий, которые посторонним кажутся бессмысленной какофонией. Трагический образ глухого Бетховена, охваченного «восторгом вдохновения», противопоставлен тем «глупцам», которые, по словам Одоевского думают, что душу музыканта можно «скроить по выдумкам ремесленников».
Противопоставление «пошлой действительности» миру поэзии, мечты о гармоническом развитии человеческой личности, грустное и подчас трагическое ощущение разлада между «мечтой» и действительностью, — таковы основные мотивы романтических повестей Одоевского, особенно отчетливо проявившиеся в «Сильфиде». Обывательскому благоразумию и практицизму (недаром повесть имеет подзаголовок «Из записок благоразумного человека»), «пошлой действительности», убивающей лучшие стороны личности, Одоевский противопоставляет иллюзорный мир мечты и фантазии.
- 539 -
Одоевский, однако, не остановился на позициях идеалистической эстетики. Рост реалистических тенденций в русской литературе 30-х годов оказал свое воздействие и на его творчество. В своих повестях из жизни светского общества — «Княжна Мими» и «Княжна Зизи» — Одоевский показал правдивую картину этой жизни. Эти повести получили положительную оценку Пушкина и Белинского. Образы, нарисованные здесь Одоевским, тяготеют к реалистической манере изображения, психологический рисунок характеров становится глубже и точнее. Обращение к реальной действительности наполняет новым содержанием его творчество, углубляет и расширяет его изобразительные средства.
В «Княжне Мими» Одоевский рисует тип озлобленной старой девы, отравляющей существование окружающим, злословящей и сплетничающей. Но для Одоевского важен не только психологический портрет, он хочет передать в нем типические черты высшего света, показать его бездушие, пустоту и фальшивость, показать представителя того «страшного общества», которое «держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев. Оно ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести».1 Одоевский не только показывает «жертвы приличий» и «развращенные нравы» аристократии, но и говорит о той моральной атмосфере, которая породила власть княжны Мими. Он осуждает систему воспитания, которая единственной целью жизни ставила для женщин замужество, осуждает среду, которая осмеивала бедную девушку, если она «имела слишком много благородства, чтобы не продать себя в замужество по расчетам!».2
В «Княжне Мими» чувствуется известное влияние грибоедовского «Горя от ума» (тема клеветы, характеристика отдельных представителей светского общества и т. д.). Повесть, однако, еще несколько схематична, положительные представители светского общества даны в тонах романтически благородных, возвышенных героев. Эти черты романтической условности и схематизации в значительной мере преодолены в следующей повести Одоевского «Княжна Зизи» (1839).
В «Княжне Зизи» не только психологически тоньше показан характер главной героини, но и глубже поставлена проблема общественного положения женщины. Княжна Зизи, человек большой душевной глубины и чистоты, приносит в жертву общественному лицемерию свою жизнь, свои лучшие чувства и мечты. Она отрекается от личного счастья, жертвуя всем во имя любви к негодяю, лицемерно и хладнокровно ее обирающему. Это женский образ большого душевного благородства и самоотверженной жертвенности. Не менее характерен и тип Городкова, холодного лицемера и эгоиста, человека без принципов, жадного и гнусного стяжателя, бессовестно грабящего слепо верящих в него женщин. Городков — типичный представитель ненавистного Одоевскому буржуазного мира, погрязшего в корысти и алчности, расчетливого и эгоистического.
Однако эта критика Одоевского была слишком умеренной и отвлеченной и отнюдь не рассчитана на коренные изменения существующего строя. Одоевский не ставил в своих произведениях основного решающего вопроса о крепостном праве, о положении народа, подменяя конкретные вопросы современной общественной жизни абстрактными морально-философскими исканиями. Эта позиция «прекраснодушного» либерала встречала резкое
- 540 -
осуждение со стороны демократического лагеря, так как дворянский филантропизм и розовые либеральные иллюзии затушевывали подлинное положение народа и противостояли обострившейся в 40—50-х годах политической борьбе. Недаром именно Одоевского зло высмеял Некрасов в ядовитой и злой сатире «Филантроп», больно задевшей прекраснодушного князя.
Бытовые повести Одоевского свидетельствовали уже об отходе его от романтической эстетики, от абстрактного философствования и о его приближении к принципам реализма. Отказываясь от отвлеченно-философского аллегоризма, он стремился воспроизводить общественную среду и порожденные ею характеры в их реальной, бытовой обстановке, показывая и те социальные причины, которые уродуют и развращают людей «светского круга»: жестокий эгоизм и хищническую алчность одних, беззащитность и неприспособленность к жизни других.
Тема женской судьбы, которой посвящены повести Одоевского «Княжна Мими» и «Княжна Зизи», была весьма актуальной. Она лежит и в основе повестей целой плеяды женщин-писательниц. Протест против косности семейных отношений, разоблачение моральной фальши и лжи звучат в повести «Елена, Т-ская красавица» Н. Дуровой, «Идеал» З. Р—вой, в повестях М. Жуковой. Жизнь женщины, искалеченная и загубленная светскими приличиями и предрассудками, бесправным положением, тиранией мужа, косностью и лицемерием окружающей среды, — таково содержание этих повестей.1 Но ни одна из перечисленных повестей не стоит на уровне произведений Одоевского благодаря однообразию конфликтов, сентиментальной морализации, схематизму характеров.
Противоречивость мировоззрения Одоевского с особенной силой отразилась в его «Русских ночах», составленных из повестей, написанных преимущественно в 30-х годах, и обрамленных философскими и критическими диалогами. (Впервые «Русские ночи» в таком виде вошли в собрание сочинений Одоевского, вышедшее в 1844 году). В «Русских ночах» Одоевский приходит к осуждению западноевропейской действительности, беззастенчивого хозяйничания буржуазии, ее бездушного «материализма», когда «потерялось чувство любви, чувство единства».
В «Русских ночах» В. Одоевский дает меткую критику отрицательных сторон буржуазной «культуры», с ее безжалостной и циничной властью денег, жестоким эгоизмом общественных отношений. Он высмеивает эгоистический принцип «пользы» в учении идеолога буржуазии Бентама,
- 541 -
с его проповедью личного обогащения. Жестокая мальтузианская теория обязательного вырождения и вымирания народных масс встречается Одоевским с решительным негодованием. «Если теория Мальтуса справедлива, — иронически писал Одоевский в «Русских ночах», — то действительно скоро человеческому роду не останется ничего другого, как подложить под себя пороху и взлететь на воздух...».1 Безотрадные результаты буржуазной цивилизации Одоевский изобразил в повести «Город без имени», вошедшей в «Русские ночи». В этой повести Одоевский едко разоблачает буржуазную «робинзонаду» Бентама. Он рассказывает о том, как группа предприимчивых людей — купцов, художников, ремесленников, запасшись земледельческими орудиями и инструментами, поселилась на необитаемом острове, стремясь основать здесь новый общественный строй на принципе «пользы» и личной выгоды.
Первоначально колония поселенцев процветала, земля была возделана, появились фабрики, машины и библиотеки, все материальные удобства жизни. Но общество, основанное на грубом эгоистическом расчете, на принципе одной лишь личной выгоды, оказалось недолговечным. Одоевский рисует злую пародию на буржуазный строй: «В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету — что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов».2 Колонисты не удовлетворились достигнутым ими благосостоянием и стали захватывать земли и имущество своих соседей. В результате неумеренной жажды обогащения и наживы пошли внутренние распри и междоусобные войны. Одоевский упоминает и о борьбе бедняков-рабочих, права которых были бесцеремонно нарушены богатыми предпринимателями, бессовестно повышавшими цены на жизненно необходимые продукты. В конце концов государство оказалось целиком в руках торговцев, банкиров, капиталистов. «Банкирский феодализм» привел к падению культуры, к новому одичанию: «Обман, подлоги, умышленное банкрутство, полное презрение к достоинству человека, обоготворение злата...»3 — вот что принес буржуазный строй человечеству.
Однако, резко осуждая капиталистическое общество, Одоевский не видит тех подлинных сил, которые могли бы спасти человечество. В его утопической повести рабочие и земледельцы, восставшие против купцов и промышленников, разоряют города, и наступает эпоха всеобщего одичания и возвращения к первобытному варварству. Критикуя буржуазно-капиталистический строй, Одоевский оказался не в силах понять пути подлинного выхода из его противоречий, оставаясь на позициях патриархального утопизма. Боязнь наступления капитализма толкала писателя к бегству от действительности, а непонимание истинных причин социальных противоречий приводило к грубо тенденциозному искажению роли рабочих и крестьян в общественной жизни, к осуждению их борьбы с капиталистическим строем.
Одоевский стремился предложить иной путь «улучшения» капитализма, типичный для либеральных реформаторов, путь примирения классовых противоречий, путь нравственного самоусовершенствования. Поэтому
- 542 -
в своей социальной утопии «4338-й год» (не опубликованной при жизни автора),1 изображая будущий общественный строй, Одоевский рисует его по образу и подобию современной ему николаевской монархии, сохраняя в полной неприкосновенности деление на классы и классовое неравенство, а также государственную бюрократическую организацию с «мирными судьями», избираемыми из богатейших людей, и с «министерством примирений» во главе. Эта пассивная и умеренная позиция Одоевского, вытекавшая из его боязни социальных потрясений, сказалась во всем характере его творчества, отражавшего двойственность мировоззрения писателя.
10
Уже из предыдущих разделов настоящего обзора можно заключить, насколько разнообразной и противоречивой была проза 20—30-х годов. Реалистические тенденции сплошь и рядом пробивались еще через романтическую идеализацию, абстрактное морализирование и т. д. У иных же писателей тенденции правдивого изображения жизни затемнялись и подавлялись ложными идейными предпосылками, мешавшими им преодолеть книжный, абстрактно-отвлеченный взгляд на окружающую действительность.
О сложности всей этой картины развития русской прозы свидетельствует и творчество известного в свое время писателя А. Ф. Вельтмана. Александр Фомич Вельтман родился в 1800 году в Петербурге в семье военного. После недолгого пребывания в Московском университетском пансионе Вельтман поступил в школу колонновожатых, а по окончании школы служил офицером. Во время войны с Турцией 1828—1829 годов находился в Бессарабии при генеральном штабе. В 1831 году Вельтман выходит в отставку и целиком отдается литературной и научной деятельности.
В 30-е годы Вельтман выступал преимущественно как поэт, автор стихотворных повестей «Беглец» (1831) и «Муромские леса» (1831), написанных на основе романтической интерпретации фольклора. Стиховые вставки характерны и для ряда его последующих прозаических произведений. Одно из его стихотворений «Что затуманилась, зоренька ясная...» стало популярной народной песней.
Литературную известность принес Вельтману роман «Странник» (1831—1832). Вслед за «Странником» последовал ряд романов, отразивших его интерес к истории, в частности, к истории древней языческой Руси: «Кащей бессмертный» (1833), «Святославич, вражий питомец» (1835), «Лунатик» (1836), «Александр Филиппович Македонский» (1836), «Виргиния» (1837), «Сердце и думка» (1838), «Генерал Каломерос» (1840), «Новый Емеля, или превращения» (1845). Из более поздних произведений Вельтмана наибольший интерес представляет роман «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (4 части, 1848—1864), переизданный в советское время (1933). В нем Вельтман рисует широкую картину нравов дореформенной России и создает убедительный и типический образ авантюриста Дмитрицкого.
- 543 -
А. Ф. Вельтман.
Литография П. Бореля (1853 г.).Кроме романов и повестей, перу Вельтмана принадлежит ряд исторических исследований, археологических и лингвистических работ. С 1842 года А. Ф. Вельтман сделался помощником, а с 1852 года директором Московской оружейной палаты, — должность, соответствовавшая историческим интересам писателя. В своих исторических и археологических работах («О Господине Новгороде Великом», «Древние славянские собственные имена», 1840; «Достопримечательности Московского кремля», 1843; «Московская оружейная палата», 1844, и др.) Вельтман зачастую выступал не столько как ученый, сколько как беллетрист, весьма произвольно обращаясь с историческими данными. Умер Вельтман в 1870 году.
Вельтману принадлежат также два сборника повестей (1836 и 1843 годов), в которых он выступает довольно занимательным, хотя и поверхностным рассказчиком. В его повестях встречаются подчас меткие и остроумные зарисовки быта разных сословий, живые жанровые сценки, любопытные этнографические подробности. Но в целом для его произведений характерны формалистические приемы смешения фантастических и бытовых элементов, беспорядочное нагромождение не связанных между собой происшествий. Среди повестей Вельтмана следует отметить повесть «Неистовый Роланд» (1834). В этой повести, совпадающей по своей сюжетной ситуации с гоголевским «Ревизором», рассказывается, как сошедшего
- 544 -
с ума актера, попавшего с труппой в провинциальный город, принимают за важное лицо, за генерала. В повести имеется немало метких и удачных сатирических черт, хотя ей и нехватает сатирической обобщенности образов.
В «Страннике» Вельтман описывает путешествие по Бессарабии и Молдавии, однако в его описании все время происходит нарочито ироническое смешение двух планов — вымышленного путешествия по карте и реального путешествия по местам, знакомым Вельтману благодаря его длительной службе в Бессарабии. Эта ироническая двупланность «путешествия», его пародийная обнаженность, основанная на постоянном нарушении закономерно ожидаемого развития повествования, не только была направлена против карамзинской традиции чувствительных путешествий, но и с особенней резкостью подчеркивала роль авторской индивидуальности, романтическую «свободу» автора и субъективистское начало его творчества.
Этот иронический принцип, полемика с чувствительной традицией особенно резко подчеркнуты уже с самого начала повести. Вельтман начинает свое «путешествие» по карте таким обращением к читателю: «Потрудитесь, встаньте, возьмите Европу за концы и разложите на стол! Садитесь! Вот она Европа!.. Локтем закрыли вы Подолию; ...сгоните муху!.. вот Тульчин!».1 В то же время это воображаемое путешествие по карте неожиданно сменяется реальной картиной путешествия самого автора: «Осторожнее спускайтесь по этой вырубленной снаружи скалы лестнице! Держитесь за перилы!..».2
«Странник» Вельтмана не исчерпывается, однако, этим условно-литературным и пародийным материалом, в нем даются сочные бытовые зарисовки и жанровые сцены, пересыпанные разговорами, каламбурами, постоянными авторскими отступлениями и стихами. Здесь можно найти и подробное описание достопримечательностей Бессарабии, и многочисленные бытовые сценки и зарисовки с натуры, и интимные признания автора о своей жизни. Определяя художественный принцип «Странника», Белинский писал, что он «отличается удивительною способностию соединять между собою самые несоединимые идеи, сближать самые разнородные образы...» (II, 449—450). Это та «калейдоскопическая игра ума», о которой сам Вельтман писал: «В руках писателя все слова, все идеи, все умствования подобны разноцветным камушкам калейдоскопа». Однако в произведениях Вельтмана имелись и некоторые положительные для того времени черты: интерес к народному быту и языку, осмеяние официальной реакционно-охранительной историографии, иногда живой, остроумный рассказ.
Творчество А. Ф. Вельтмана представляет характерный пример того, насколько противоречива была идеология ряда писателей 30-х годов, выступавших в период, когда отходило в прошлое дворянское просветительство и нарождалось новое, демократическое движение. Сильные стороны творчества Вельтмана связаны с критическим отношением к существовавшим порядкам, тогда как слабые вели его к идеализации патриархальных начал, к примирению с тем строем, который он сам ядовито осмеивал.
11
Заметное место в прозе 30-х годов занимали так называемые «нравоописательные романы», свидетельствовавшие об усиливавшемся интересе к быту и явлениям социальной жизни. Нравоописательные романы
- 545 -
этого периода, как правило, сочетали наивно-авантюрную схему традиционного старинного романа с бытовыми жанровыми картинами «нравов». Своеобразным и заметным явлением в этом отношении были провинциально-этнографические нравоописательные романы уроженца города Иркутска И. Калашникова (1797—1863) — «Дочь купца Жолобова» (1831) и «Камчадалка» (1833). Пушкин сочувственно передавал Калашникову слова И. А. Крылова о «Дочери купца Жолобова»: «Ни одного из русских романов я не читывал с бо́льшим удовольствием» (XV, 59).
«Здесь и там, — писал сам Калашников об этих двух своих романах в предисловии ко второму из них, — действие происходит в Сибири, и таким образом оба сии романа знакомят читателя с сибирской природою и туземными обитателями».1 Целые главы Калашников посвящает описанию быта, нравов и обрядов сибирских поселенцев, бурят, тунгусов, камчадалов, подробно рассказывает об обрядах шаманов, охотах, природе. Интерес к этнографии, к местному быту сказался и в языке романов Калашникова, обильно расцвеченном местными сибирскими словами и диалектизмами.
Этот этнографический колорит романов Калашникова сочетается, однако, с бесконечными приключениями, сложным авантюрным сюжетом, изобилующим мелодраматическими эффектами, разбойничьими нападениями, трагической гибелью героев, надуманными ситуациями. Но сквозь эту условную мелодраматическую схему авантюрного романа зачастую видна реальная основа, видны «местные нравы» во многом тогда еще мало известных краев. В «Дочери купца Жолобова» в изображении бесконечных злодеяний купца Груздева, хищника и жестокого насильника, чувствуются жизненные прототипы, угадывается подлинный облик сибирского купца-колонизатора, предприимчивого и жестокого. Калашников описывает и почти баснословные похождения помешавшегося начальника нерченских заводов Пирушкина, который объявил открытие «новой благодати», разбрасывал народу казенные деньги, устраивал даровые обеды и жаловал направо и налево офицерские чины (Калашников в примечании указывает, что «все сие основано на достоверных сведениях»).
Основной недостаток романов Калашникова — в неумении создать сколько-нибудь типичные и правдивые жизненные характеры. Белинский в своем отзыве на «Дочь купца Жолобова» осудил потуги Калашникова написать «плохой роман», вместо того, чтобы дать «что-нибудь в роде записок о Сибири», так как Калашников, «как видно из его романа, хорошо знает Сибирь и любит ее: описания его часто бывают увлекательны и живы...» (VII, 452, 453).
Этнографический элемент в прозе 30-х годов начинает занимать все большее место. Кавказские повести и очерки А. Бестужева-Марлинского, украинский быт в романах и повестях Квитки-Основьяненко, повесть В. Ушакова «Киргиз-кайсак» — говорят о широком интересе к быту и нравам провинции и окраин России.
Последнее из упомянутых произведений пользовалось в 30-е годы широкой известностью. Его автор Василий Аполлонович Ушаков (1789—1838) получил военное воспитание в Пажеском корпусе. Он участник Отечественной войны 1812 года, раненный на Бородинском поле. В 1819 году вышел в отставку и с середины 20-х годов занялся литературной деятельностью, выступая как критик, театральный рецензент и автор повестей и романов. В. Ушаков становится сотрудником «Московского телеграфа»,
- 546 -
«Сына отечества» и других журналов тех лет. Ему принадлежит ряд книг: «Киргиз-кайсак» (1831), «Кот Бурмосека» (1831), «Досуги инвалида» (1832—1835), «Последний из князей Корсунских» (1837) и др. Среди довольно большого количества весьма посредственных произведений В. Ушакова выделяется его роман «Киргиз-кайсак», написанный им в период его участия в «Московском телеграфе» Н. Полевого. В дальнейшем Ушаков отходит от передовых кругов и примыкает к реакционному лагерю Булгарина — Греча, что сказывается и в благонамеренно-реакционном характере его последующих произведений.
Появление в 1829 году на страницах «Московского телеграфа» первых глав романа Ушакова «Киргиз-кайсак» вызвало одобрительную оценку современной критики. «Литературная газета» писала в 1831 году: «„Киргиз-кайсак“ принадлежит к малому числу романов, достойных внимания и одобрения публики. Рассказ очень хорош. В подробностях вообще много истины и искусства. Многие сцены живы и занимательны».1 Белинский в 1834 году отметил в «Литературных мечтаниях», что «Киргиз-кайсак» Ушакова был явлением «неожиданным» и отличался «глубоким чувством» (I, 387).
В центре романа «Киргиз-кайсак» — молодой блестящий офицер Виктор Славин, который во время своего пребывания в Москве влюбляется в девушку из аристократической семьи. Он обручается с нею, но незадолго до свадьбы узнает, что он сын простой казашки, продавшей его в детстве во время голода Ипполиту Славину, который усыновил и воспитал купленного им казахского мальчика. Виктор считает, что он не вправе скрыть от невесты свое происхождение. В результате его признания свадьба расстраивается, а сам герой романа погибает на войне. Таков довольно сентиментальный и наивный сюжет романа. Славин показан в романе Ушакова как талантливый, пылкий человек, жаждущий деятельности. Он великодушен, искренен, благороден — и тем не менее он гибнет в обществе, в котором преимущество принадлежит не личным достоинствам человека, а происхождению и званию.
Несмотря на отдельные верные жизненные и этнографические штрихи, рассеянные по всему роману, и на его обличительную тенденцию, Ушаков находится еще во власти традиционно-сентиментальных литературных схем и приемов. Виктор Славин — условный герой чувствительных повестей и романов, его казахское происхождение призвано лишь оттенить необычность его судьбы, заинтриговать читателя. События, происходящие в романе, искусственно соединены друг с другом, автор стремится придать таинственность и мелодраматическую окраску своему сюжету. Характеры героев односторонни, искусственны, они обрисованы очень бледно, мало выразительно, зачастую играют лишь роль резонеров, необходимых для развития сюжета. Самая тема социального неравенства, злоключения героя становятся лишь средством для создания мелодраматических положений, в которых во многом теряется социальная острота замысла.
В своих обличительных мотивах Ушаков нередко обращается к комедии Грибоедова. Герой романа Ушакова наделен чертами Чацкого, героиня носит имя Софьи Павловны, отец ее напоминает во многом Фамусова, а упоминания о «рукописной комедии» и ее действующих лицах на всем протяжении романа еще больше подчеркивают связь романа с бессмертной комедией. Однако влияние грибоедовской комедии не было органическим — дальше благонамеренной морализации и сочувствия к людям, не попавшим в силу их рождения в «светский круг», Ушаков в своем
- 547 -
романе не пошел. Последующие его произведения («Досуги инвалида» и др.) знаменовали переход Ушакова в лагерь правительственной реакции, сопровождавшийся злобными нападками на Белинского (в повести «Пиюша»).
*
Среди бытовых нравоописательных романов начала 30-х годов следует назвать и роман Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских» (1832), посвященный быту и нравам провинциального дворянства и являющийся одной из ранних попыток создания «семейной хроники». Д. Н. Бегичев стремился в своем романе представить «современникам картины образа их жизни, изображение нравов, пороков, заблуждений, предрассудков, разврата, притеснения подвластных, ябедничества, несправедливости судей и прочих злоупотреблений». Но это сатирическое задание, критическое отношение писателя ко всем «порокам», которые он перечисляет и описывает в своем романе, не выходят, однако, за пределы благонамеренности: цель романа лишь «споспешествовать благотворным видам правительства».
Несмотря на художественный схематизм и бледность образов, роман «Семейство Холмских» имел успех и выдержал в 30-х годах три издания. В романе описывается история семьи провинциальных дворян Холмских, показан экономический упадок помещичьего хозяйства, дана картина провинциальных нравов. Но центральное место в нем занимает проблема семьи, отношений между членами семейства. Как и «Киргиз-кайсак», роман Д. Н. Бегичева связан с комедией Грибоедова (с которым брат писателя, С. Н. Бегичев, находился в тесной дружбе), но лишь внешне. Из «Горя от ума» берутся эпиграфы к главам, целому ряду действующих лиц присвоены грибоедовские фамилии (Фамусов, Чацкий, Молчалин, Скалозуб, графиня Хлестова и др.).
Из нравоописательных романов 30-х годов следует назвать и роман А. П. Степанова (1781—1837) — «Постоялый двор», вышедший в 1835 году. Этот роман, написанный в форме мемуаров — «записок покойного Горянова», претендовал на широкую картину быта и нравов провинциальной поместной жизни. Однако отдельные верные бытовые штрихи теряются среди искусственных и надуманных эпизодов, мелодраматически-сентиментальных ситуаций, рассчитанных на занимательность и дешевый эффект. Белинский, посвятивший этому роману специальную рецензию, жестоко высмеял нелепость и жизненное неправдоподобие его сюжета и мелодраматических героев, решительно осудив подобный род псевдозанимательного «чтива», «бестолковость» и «безграмотность» романа А. Степанова (II, 397).
Большой вред приносила беллетристика реакционного лагеря, заполнявшая книжные прилавки многочисленными, но равно бездарными поделками. Романы Булгарина имели даже известный успех у отсталых читательских кругов, захолустных провинциальных помещиков, мещанства, купечества. Эти романы Булгарина, так же как и Греча, отличались внешней занимательностью, авантюрной интригой, таинственными похождениями неправдоподобных героев, неожиданностью сюжетных ситуаций. Эта дешевая занимательность, сдобренная большим количеством «благонамеренных» сентенций, проводящих мысль о благодетельности монархической власти и ее «попечении» о верноподданных, определяла нищенски убогий уровень таких «произведений», как «Иван Выжигин» Булгарина.
Агент III Отделения Булгарин и его литературный компаньон Греч своими писаниями стремились пропагандировать реакционно-охранительные
- 548 -
взгляды, защищать крепостнические и монархические порядки. Более всего реакционная печать популяризировала «нравственно-сатирический» роман Булгарина «Иван Выжигин» (1829). В этом романе бесстыдно прославлялось циничное приспособленчество и утверждались реакционно-монархические «начала» консервативно-мещанских и крепостнических кругов дворянской провинции.
В романе описываются похождения проходимца Ивана Выжигина, жившего из милости у польского помещика и становящегося воспитанником знатной барыни. В дальнейшем герой попадает в подозрительное общество и отправляется в компании шулеров вслед за полюбившейся ему девушкой. Во время путешествия Выжигин попадает в плен в киргизам. Возвратившись в Москву, этот ловкий авантюрист узнает «тайну» своего «благородного» происхождения и после ряда неправдоподобных и нелепых похождений женится и поселяется в роскошной вилле на берегах Тавриды.
Пушкин в 1831 году в едкой статье «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов» беспощадно разоблачил и высмеял низкопробные романы Булгарина, их бездарность и пошлость. «Что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? — иронически спрашивал Пушкин. — Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под. Г. Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него Ножевым, взяточник Взяткиным, дурак Глаздуриным и проч.» (XI, 207).
Кроме «Ивана Выжигина», Булгарин написал еще ряд бездарных, холопски-верноподданнических псевдоисторических романов («Петр Иванович Выжигин», «Дмитрий Самозванец», «Мазепа» и др.). Сущность, реакционно-лубочных писаний Булгарина была разоблачена передовой русской критикой, а его «нравственно-сатирические» и псевдоисторические романы очень скоро были окончательно забыты.
Другой реакционный литератор Н. И. Греч издал в 1830 году роман в письмах «Поездка в Германию», в котором описывал быт обрусевших василеостровских немцев — ремесленников, аптекарей. Греч усиленно восхвалял буржуазно-мещанские «добродетели» этого круга, с его скопидомством и ограниченностью умственных интересов. Во втором своем романе «Черная женщина» (1834) Греч пытался сочетать принципы авантюрно-нравоописательного романа из «светской» жизни с фантастическим элементом, с чудесными явлениями «черной женщины». Реакционно-охранительные тенденции романов Греча сказались в умиленно-благонамеренной идеализации буржуазной патриархальности под сенью николаевской монархии, а их художественный уровень не подымался выше грубой ремесленной поделки.
К реакционному литературному лагерю принадлежал и Осип Иванович Сенковский (1800—1858), поляк по происхождению, перебравшийся в Россию в 1821 году. Он выступал в 30-х годах как прозаик и журналист, печатаясь под псевдонимом «Барона Брамбеуса». Этот беспринципный и ловко приспосабливавшийся к обстановке литератор заключил союз с Булгариным и Гречем, став проводником официально-монархической реакции. Он издавал популярный в 30-е годы журнал «Библиотека для чтения», рассчитанный на вкусы и уровень провинциального дворянского круга читателей, являлся наглядным выражением того охранительного направления в литературе, против которого ожесточенную борьбу вели и Пушкин, и Гоголь, и Белинский.
Сенковский напечатал в 30-х годах «Фантастические путешествия барона Брамбеуса», а также ряд бытовых рассказов, объединенных под
- 549 -
общим заглавием «Петербургские нравы», и повести — «Вся женская жизнь в нескольких часах» (1833), «Любовь и смерть» (1834), отличавшиеся низкопробным юмором и благонамеренно-реакционной направленностью. Бесславная «деятельность» таких литературных агентов правительственной реакции, как Булгарин, Греч и Сенковский, свидетельствовала о том, что господствующему классу не удавалось направить русскую литературу в нужное ему русло благонамеренности и служения интересам класса крепостников.
12
Среди писателей-прозаиков 30-х годов, обратившихся к изучению языка народа и народного быта, выделяется В. И. Даль (1801—1872), ученый-диалектолог, этнограф, впоследствии составитель знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» (4 тома, 1861—1867).
Владимир Иванович Даль — сын врача, работавшего на Луганском заводе (отсюда и псевдоним писателя — «Казак Луганский»). Первоначальное образование будущий писатель получил в Петербургском морском корпусе и недолгое время служил во флоте. По окончании медицинского факультета Дерптского университета В. Даль добровольно пошел в действующую армию, проявив себя прекрасным фронтовым хирургом во время русско-турецкой войны. На протяжении своей жизни Даль побывал в самых разнообразных местах России. Петербург, Москва, Нижний Новгород, Оренбургский край, Уральск, Молдавия, казахские степи — дали ему богатый материал для жизненных наблюдений и впечатлений, широко отразившихся в творчестве писателя.
Литературная деятельность Даля началась в 1827 году с опубликованием повести «Цыганка» в «Московском телеграфе». Уже здесь сказалась основная особенность творчества Даля — этнографизм. Пристальный интерес к этнографическим особенностям жизни народов России привел Даля к написанию повестей, в которых основное место занимают описания быта и нравов народов России, с которыми писатель познакомился в своих поездках.
За эти повести Белинский назвал Даля «живою статистикою живого русского народонаселения» (X, 466). Наряду с этими этнографическими повестями и очерками Даль в 30-е годы выступает как писатель-сказочник, как автор сатирических народных сказок, в которых, по словам Белинского, он «глубоко проник в склад ума русского человека» и «овладел его языком» (X, 466).
В творчестве Даля сказались прогрессивные тенденции: сочувственный интерес к жизни народа, обращение к фольклору. В лучших из его сатирических сказок высмеивались представители царизма и высшего общества. Правда, эти положительные тенденции в творчестве Даля не имели сколько-нибудь отчетливого демократического характера, не были достаточно последовательными из-за политической ограниченности взглядов писателя, позднее ставших откровенно консервативными.
В 1832 году Даль издает «первый пяток» своих «Русских сказок», озаглавленный им «Русские сказки из преданья народного, из устного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Вл. Луганским». Издание этих сказок навлекло на Даля неприятности — он был посажен под арест, так как по доносу Булгарина сказки его были сочтены оскорбительными
- 550 -
для высшего начальства. Только заступничество Жуковского избавило Даля от дальнейших преследований. Зато Пушкиным и его кругом сказки Даля встречены были с большим сочувствием. Пушкин, обратившийся в 30-х годах к изучению и собиранию народного творчества и писавший в это время свои сказки и песни западных славян, подарил Далю рукопись одной из своих сказок с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин».1
Меткой насмешкой над царизмом и царской бюрократией являлись сказки Даля «О Иване молодом сержанте, удалой голове, без роду, без племени, спроста без прозвища» и «Сказка о похождениях чорта-послушника, Сидора Поликарповича, на море и на суше, о неудачных соблазнительных попытках его и об окончательной пристройке его по части письменной». В первой из этих сказок «О Иване молодом сержанте» Даль едко высмеивал неблагодарного и коварного царя Додона, слепо верившего наговорам своих придворных на молодого сержанта Ивана и неоднократно пытавшегося его погубить. Но сержант Иван, женившись на прекрасной Катерине, при ее помощи избегает злых козней царя Додона и его «правдолюбивых придворных» — фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина и губернатора графа Чихиря, пяташной головы. Иван побеждает царя Додона — «золотого кошеля» и всех его «сыщиков и блюдолизов». Ирония сказки направлена по адресу неблагодарного и коварного царя. Царь Додон, увидев силу Ивана-сержанта, зовет его ко двору на чай и производит в военачальники, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры и в то же время отдает приказ — обезоружить и убить его. Это и вызвало донос шпиона Булгарина и последующую конфискацию книги, так как правительство усмотрело здесь недвусмысленный намек на самодержавие.
В другой сказке, подвергшейся также цензурным гонениям, «О похождениях чорта-послушника», рассказывалось о похождениях чорта, находящегося на послушании у сатаны, и заключалась резкая насмешка над бюрократическими порядками и всем чиновничьим аппаратом царской России. Чорт-послушник (с весьма прозаическим именем Сидора Поликарповича) отправляется сатаной из ада на землю «изведать на деле суть и глубь и быт гражданский и военный, и взять оседлость там, где для оборотов наших окажется повыгоднее...».2 Однако, попробовав солдатскую и матросскую службу, чорт убеждается в ее опасностях и тяжести. Разочаровавшись в солдатской и матросской службе, Сидор Поликарпович устроился чиновником на гражданскую службу — «остался при хлебном и теплом ремесле своем и при месте» — и даже супругу Василису Утробовну и сыновей Кулака, Зареза и Запоя выписал из преисподней и зажил припеваючи. «Он доходами и сам сыт и подушное, за себя, и за всю семью свою, по последней ревизии, сатане-настоятелю, Стопоклепу Живдираловичу, уплачивает, а супругу его, Ступожилу Помеловну, дарил неоднократно, к праздникам, камачею, камкою, ожерельями и платками; места же своего покинуть не думает, а впился и въелся так, что его теперь уже не берет ни отвар, ни присыпка».3 В этой сказке Даль показал сытую и прибыльную должность приказного, чиновника, благоденствующего благодаря взяткам и криводушию.
В своих сказках Даль прибегает к подчеркнуто комическому сказу, уснащает речь диалектизмами, поговорками, прибаутками. Однако при всей
- 551 -
установке на язык сказочника, на язык народный, Даль на деле не столько пользовался общенародным языком, сколько прибегал к стилизации «просторечия», диалектных говоров. Он до предела насыщает речь рассказчика пословицами, поговорками, прибаутками: «Есть притча короче носа птичья: жениться не лапоть надеть, а одни лапти плетутся без меры, да на всякую ногу приходятся! И истинно: жена не гусли; поигравши на стенку не повесишь, а с кем под венец, с тем и в могилу — приглядись, приноровись, а потом женись, примерь десять раз, а отрежь один раз; на горячей кляче жениться не езди!».1 Эта чрезмерная уснащенность сказа пословицами и прибаутками придает ему искусственный, нарочитый характер. За это осудил Даля впоследствии Белинский. Манера сказа приобретает у Даля нередко характер современного мещанского говора, отнюдь не сказочного: «Фортуна бона, — подумал чорт, Сидор Поликарпович, — а он думать научился по-французски — фортуна бона, — подумал он, когда изведал службу нашу на море; — я хоть языкам не мастер, а смекаю, что тютюн, что кнастер, мои губы не дуры, язык не лопатка, я знаю, что хорошо, что сладко!».2 Эта чрезмерность, избыточность языковой стилизации приводила к словесному штукарству, бесцельному балагурству, засорению языка диалектизмами и жаргонными словечками.
В 30-х годах Даль выступал в литературе почти исключительно как сказочник, издав, помимо «первого пятка сказок», четыре томика «Былей и небылиц», также преимущественно состоящих из сказок. В 40-х годах Даль выступает как автор ряда популярных тогда бытовых «физиологических очерков» («Петербургский дворник», «Денщик», «Чухонцы в Питере» и др.), к бытоописательным очеркам он возвращается постоянно и в дальнейшем.
Сказки и повести Даля, хотя и сыгравшие на определенном этапе литературного развития прогрессивную роль, не смогли, конечно, разрешить вопроса о народности русской прозы. Для Даля народность заключалась в этнографизме, в любовании патриархальными, отживающими пережитками крестьянского быта, в стилизации архаических форм фольклора. В силу этого и его проза превращалась нередко в искусственную стилизацию, в нарочитое языковое штукарство. Подлинная народность в литературе достигалась лишь правдивым изображением народа, его угнетенного положения, борьбой за его освобождение. Это понимание народности, выразившееся в творчестве таких корифеев, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, для большинства писателей 30-х годов оказалось еще недоступным в силу ограниченности их мировоззрения.
13
Отечественная война 1812 года и рост освободительного движения, поставившие перед русским обществом вопрос о дальнейших путях развития, — все это способствовало усилению интереса к героическим страницам прошлого России. Этим во многом определялся интерес к историческому роману, занявшему видное место в литературе 30-х годов.
«История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, — писал И. Киреевский в своем «Обозрении русской словесности за
- 552 -
1829 год», — единственное условие всякого развития: направление историческое обнимает все».1 «Мы живем в веке историческом; потом в веке историческом по превосходству..., — писал Бестужев-Марлинский в 1833 году по поводу исторического романа. — Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно; она проницает в нас всеми чувствами».2
Интерес к истории, стремление понять современность на основе уроков и примеров исторического прошлого во многом объясняют и определяют ведущую роль исторического романа в 30-х годах. Познавательное значение исторического романа прекрасно чувствовали современники. Критик «Телескопа» (вероятнее всего Н. И. Надеждин) так характеризовал в 1831 году значение исторического романа: «Своей беспредельной всеобъемлемостью, допускающей все формы представления и все тоны выражения, он представляет просторную раму для свободного живописания беспредельной пучины жизни».3
Опубликование в 1828—1830 годах глав из «Арапа Петра Великого» Пушкина знаменовало не только появление интереса к этому жанру, но и намечало самостоятельный, национальный путь его развития. Такие шедевры мирового значения, как «Капитанская дочка» Пушкина и «Тарас Бульба» Гоголя, свидетельствовали о том, насколько высоко подняла русская литература жанр исторического романа. Это объясняется тем, что и Пушкин и Гоголь, при всем различии своих художественных средств, создали произведения глубокой исторической правды, сумели раскрыть в них основные, важнейшие явления народной жизни, показать широко обобщенные, типические образы.
Многочисленные романы Загоскина, Лажечникова, Полевого, Вельтмана, появившиеся в начале 30-х годов, при всем различии идейных позиций их авторов, отражают возросшее значение исторической темы. «Кто не пишет в наше время романов и повестей, особенно исторических романов и повестей? Кто? — восклицал Белинский, — только люди, ничего не пишущие!» (VIII, 232).
Отсюда отнюдь не следует, что исторический роман 30-х годов однороден. В нем, как и во всей литературе, боролись различные течения и тенденции, отражавшие борьбу различных социальных сил, как реакционных, так и прогрессивных.
Поэтому и борьба за различные принципы исторического романа имела столь острый и напряженный характер. После подавления восстания декабристов русская передовая общественная жизнь не угасла, общественная борьба не прекращалась и в 30-е годы происходило накопление новых прогрессивных сил общественного развития. Передовые русские писатели обращались к русской истории в своей борьбе за будущее России.
Исторический роман не оставался в стороне от этой борьбы. Сусальная идеализация патриархально-монархических начал, якобы присущих русскому народу, в романах Загоскина и его единомышленников из правительственно-крепостнического лагеря служила средством пропаганды незыблемости дворянской монархии. Обращение Пушкина в «Арапе Петра Великого» к эпохе Петра, создание образа Пугачева в «Капитанской
- 553 -
дочке», героический облик Тараса Бульбы у Гоголя — свидетельствовали о передовой идейной направленности этих произведений, об обращении писателей к изображению народа как основной силы истории.
В 1834 году Сенковский в «Библиотеке для чтения» выступил со статьей, отрицавшей самую возможность исторического романа, называя его «незаконным детищем», «плодом соблазнительного прелюбодеяния истории с воображением».1 Этот демагогический выпад Сенковского был продиктован боязнью подлинного историзма, того историзма, который в эти годы утверждали в своем творчестве Пушкин и Гоголь, защитником которого выступал Белинский. Белинский в 1835 году решительно опроверг Сенковского, выдвигая принцип реалистического исторического романа, отстаивая право писателя на отражение существенных явлений истории, на право создавать образы исторических героев: «... сам историк более или менее есть творец характеров исторических, ибо при всем своем старании быть верным фактам, каждый историк более или менее придает особенный оттенок каждому историческому лицу... Почему же поэту не позволено понять по-своему то или другое историческое лицо и воспроизвести его в художественном создании сообразно с своим о нем понятием и обставив его обстоятельствами, частию истинными, но больше вымышленными, которые бы характеризовали его историческую и человеческую личность?..» (II, 263—264).
Русский исторический роман фактически появился в начале 30-х годов. Исторические романы XVIII века были в сущности моралистическими произведениями, не отражали исторических событий в их конкретности. Первые русские романы и повести, обращавшиеся к истории, появились лишь на рубеже XIX века. Но ни повести Карамзина — «Наталья — дочь боярская» (1793), «Марфа Посадница» (1803), ни появившиеся в начале XIX века исторические произведения В. Нарежного («Запорожец», «Бурсак») или Ф. Глинки («Зиновий Богдан Хмельницкий») не разрешали проблемы создания подлинно исторического романа. «Историзм» их был весьма условен и относителен. Кроме упоминания нескольких исторических имен и событий и ряда деталей, ничего исторического в этих романах не было. Авторы их не могли воссоздать изображаемую эпоху, раскрыть исторически обусловленные характеры, а наряжали современных им героев в условные исторические костюмы. К началу 30-х годов эти романы являлись уже анахронизмом и были основательно позабыты.
Перед русским историческим романом в 30-е годы стояла задача воспроизведения прошлого русского народа на основе новых требований, предъявленных к историческому жанру и вызванных новым этапом общественного развития.
На Западе задача создания исторического романа была поставлена Вальтер-Скоттом. Однако уже Белинский в середине 30-х годов настаивал на том, что интерес к историческому роману и широкое распространение последнего не следует объяснять лишь влиянием Вальтер-Скотта. «Капитанская дочка» Пушкина и «Тарас Бульба» Гоголя далеко превзошли романы В. Скотта и других западноевропейских исторических романистов своим несравненно более глубоким изображением народа и его ведущей роли в истории.
Среди русских романов 20—30-х годов были произведения различной идейной направленности и различного художественного уровня.
- 554 -
Одним из зачинателей русского исторического романа являлся М. Н. Загоскин, получивший широкую популярность в 30-е годы как автор «Юрия Милославского». Михаил Николаевич Загоскин родился в 1789 году в Пензенской губернии в помещичьей семье. В 1812 году он поступил в ополчение, участвовал в войне с Наполеоном и был ранен. По окончании войны он сближается с театральными кругами в Петербурге, а после переезда в Москву, в 1823 году, служит в управлении московскими театрами. В 1831 году назначается директором московских театров. Литературную деятельность Загоскин начал в Петербурге комедиями «Проказник» (1815), «Комедия против комедии, или урок волокитам» (1815), «Богатонов, или провинциал в столице» (1817), «Вечеринка ученых» (1817) и др. Широкую известность принес Загоскину его исторический роман «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» (1829); последовавшие за ним романы: «Рославлев» (1830), «Аскольдова могила» (1833), «Кузьма Рощин» (1836), «Искуситель» (1838), «Тоска по родине» (1839), «Кузьма Петрович Мирошев» (1841), «Брынский лес» (1845) и «Русские в начале XVIII-го столетия» (1848) — уже не имели такого успеха, а в дальнейшем и вовсе были забыты. Умер Загоскин в 1852 году.
«Юрий Милославский» М. Загоскина появился в 1829 году, когда в русской литературе исторический роман еще не был известен. Хотя и в этой области родоначальником исторического романа в России выступил Пушкин, напечатавший в 1829 году первые главы «Арапа Петра Великого», однако эти главы остались незавершенными. «Юрий Милославский» Загоскина опередил появление ряда других исторических романов и вызвал сочувственное отношение к себе Пушкина. Несмотря на некоторые художественные достоинства, вследствие идейной ограниченности автора роман Загоскина далек от подлинного историзма, проникнут реакционно-монархическими тенденциями. Загоскин в нем идеализирует взаимоотношения бояр и крестьян, рисует сусальные картины, далекие от исторической правды. В романе читателей привлекала занимательность интриги, юмор и яркий бытовой колорит. В этом отношении роман Загоскина явился во многом новым явлением в тогдашней литературе, знаменовал отказ от условного изображения исторического прошлого. «Изображение быта наших предков», мастерство «увлекательного рассказа» в романе Загоскина отметил и Белинский, хотя и не признававший за ним «художественной полноты и целости». В «Литературных мечтаниях» (1834) Белинский писал: «Не имея художественной полноты и целости, он <роман> отличается необыкновенным искусством в изображении быта наших предков, когда этот быт сходен с нынешним, и проникнут необыкновенною теплотою чувства. Присовокупите к этому увлекательность рассказа, новость избранного поприща, на котором он не имел себе ни образца, ни предшественника: и вы поймете причину его необычайного успеха» (I, 387).
Бытовая сторона повествования, живые сцены, жизненность характеров второстепенных персонажей принадлежат к лучшим местам романа. Именно эту бытовую сторону романа, живые, проникнутые юмором народные сценки положительно оценил и Пушкин, писавший при появлении романа: «Г. Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шиши — все это угадано, все это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной веселости в изображении характеров Кирши, Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, пана
- 555 -
Копычинского, батьки Еремея! Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую, происшествия исторического!» (XI, 92).
Однако главные герои романа — Юрий и Анастасия — вышли у Загоскина традиционно-романтическими и бесхарактерными персонажами. Критика отмечала, что в Юрии нет ничего «увлекательного, самобытного», что он «второклассное лицо». Еще меньше удались автору образы исторических деятелей — Минина, Пожарского, показанные в романе очень бегло. Пушкин со свойственной ему точностью оценок отметил в своей рецензии, что «дарование г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он приближается к лицам историческим» (XI, 93). Больше удались Загоскину бытовые, второстепенные персонажи романа.
Консервативность мировоззрения Загоскина сказалась в романе в стремлении показать приверженность русского народа к истинно-патриархальным началам, своим князьям и боярам, к «мирному единению сословий», чем искажалась историческая правда. Эта реакционная тенденция особенно сильно сказалась во втором его романе «Рославлев, или русские в 1812 году», вышедшем в 1830 году. В нем Загоскин изобразил события Отечественной войны 1812 года. В основе романа — история русской девушки Полины, вышедшей замуж за пленного французского полковника Шамбюра, в которого она была влюблена еще до войны, и ее трагическая гибель в осажденном русскими войсками Данциге.
В предисловии к «Рославлеву» Загоскин так охарактеризовал свою историческую позицию: «Предполагая сочинить сии два романа <«Юрий Милославский» и «Рославлев»>, я имел в виду описать русских в две достопамятные исторические эпохи, сходные меж собою, но разделенные двумя столетиями; я желал доказать, что хотя наружные формы и физиономия русской нации совершенно изменились, — но не изменились вместе с ними наша непоколебимая верность к престолу, привязанность к вере предков и любовь к родимой стороне».1
В отличие от «Юрия Милославского», в «Рославлеве» Загоскин на первое место выдвигает не патриотизм народных масс, а дворянских героев. Реакционность общей концепции романа привела и к глубокому искажению исторической правды. Глубоко возмущенный грубым охранительным направлением романа Загоскина, Пушкин начал писать своего «Рославлева». В письме к Вяземскому Пушкин всецело присоединился к его оценке романа Загоскина, в которой Вяземский указывал, что в «Рославлеве нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении» (Пушкин, XIV, 214). Такое же отрицательное отношение со стороны передовой общественности встречали и последующие исторические романы Загоскина.
*
Во многом иной характер имели исторические романы И. И. Лажечникова (1792—1852), автора «Последнего Новика» (1831—1833), «Ледяного дома» (1835), «Басурмана» (1838).
Иван Иванович Лажечников родился в купеческой семье в городе Коломне. Он получил хорошее домашнее образование и еще подростком поступил на службу в архив иностранной коллегии в Москве. Уже в 1807 году он напечатал в «Вестнике Европы» свои первые литературные опыты. Общий патриотический подъем в Отечественную войну
- 556 -
1812 года увлек юношу, и он определился прапорщиком в московское ополчение. Лажечников провел в рядах армии всю войну, участвовал в заграничном походе и взятии Парижа. На военной службе Лажечников оставался до 1819 года. В конце 1820 года Лажечников был назначен директором Пензенской гимназии и народных училищ и на этой должности многое сделал для улучшения постановки образования в Пензенской губернии. Благодаря энергичным хлопотам Лажечникова в 1822 году было открыто уездное училище в городе Чембаре, в котором обучался молодой Белинский. Во время посещения Чембарского уездного училища в 1823 году Лажечников обратил внимание на талантливого мальчика и в дальнейшем неоднократно помогал Белинскому. В 1831 году Лажечников издает первую часть романа «Последний Новик» и переезжает в Тверь. Там он прослужил в должности директора училищ до 1837 года, когда вышел в отставку и переехал в Москву. В 1835 году вышел второй и лучший из романов Лажечникова — «Ледяной дом», а в 1838 году — «Басурман», которым по существу и ограничивается литературная известность писателя. Последующие его произведения — роман «Внучка панцырного боярина» (1868), исторические драмы «Опричник» (1857) и «Матери-соперницы» (1868) уже явились анахронизмом для своего времени и не имели успеха. На текст «Опричника» Чайковским была написана одноименная опера.
Прогрессивные стремления Лажечникова сказались уже в самом выборе им тем своих романов. Эпоха петровских преобразований и борьбы за дело Петра — в «Последнем Новике»; негодующее изображение мрачной «бироновщины», этой тяжелой полосы в жизни русского народа, и патриотической борьбы с засильем немецкого временщика — в «Ледяном доме»; столкновение старого и нового в жизни Руси XVI века при Иване III — в «Басурмане», — все это свидетельствовало о живом интересе писателя к тем эпохам отечественной истории, когда русский народ выражал с особой силой свою творческую активность, свое стремление к историческому прогрессу. «Чувство, господствующее в моем романе, — писал Лажечников в предисловии к своему первому роману, — есть любовь к отчизне».1 Однако Лажечников еще не поднялся до осознания того, что в изображаемом им прошлом России была и Россия народная, являвшаяся выражением подлинного патриотизма, и Россия господствующих верхов. Поэтому в романах Лажечникова почти не показаны народные массы, действие романа основано на выдвижении на первый план романтизированных героев, показанных без учета подлинно исторической их роли. Лажечников, нарушая историческую правду, предпочитает выводить в своих романах выдуманных или второстепенных действующих лиц, давая лишь общие беглые портреты исторических деятелей, подменяя изображение исторических событий вымышленным занимательным сюжетом, романтической интригой.
В «Последнем Новике» Лажечников изобразил эпоху Петра I. В сложной интриге романа переплетаются истории лифляндского барона Паткуля, перешедшего на сторону русских и помогавшего Петру I в борьбе со Швецией, и вымышленного «Последнего Новика» — Владимира, якобы незаконного сына царевны Софьи Алексеевны. Обращаясь к эпохе Петра I, Лажечников показывает его как могучего и гениального деятеля новой России, отличающегося «исполинскими делами, простотой, твердостью и величием души». Петр показан им в той трактовке, которая сближается с образом Петра в «Арапе Петра Великого» и «Полтаве» Пушкина,
- 557 -
а также в произведениях декабристов (в частности, у Корниловича а его «Быте и нравах русских при Петре I»).
И. И. Лажечников.
Портрет работы А. В. Тыранова (1837 г.).Действие «Последнего Новика» происходит в первые годы XVIII века, в самый разгар борьбы Петра I за выход России к Балтийскому морю. Но Лажечников не решился сделать героем своего романа самого Петра. Он перенес место действия в Лифляндию и показал, как здесь происходила борьба между аристократическими верхами, связанными со Швецией, и патриотическими кругами Лифляндии, тяготевшими к России. В романе показана и ненависть эстонского народа к немецким баронам-помещикам, выжимавшим все соки из нищего крепостного крестьянства.
Белинский в «Литературных мечтаниях» положительно оценил первый роман Лажечникова, найдя в нем «верную живопись лиц и характеров», но осудив, однако, зависимость этого произведения от книжных романтических образцов. Исторические события оттеснены в романе Лажечникова сложной интригой; главный герой, загадочный «Новик», ему совершенно не удался, будучи, по выражению Белинского, «образом без лица» (I, 388, 389). Таинственный «последний Новик», Паткуль, Роза — персонажи романа — в сущности являются традиционными романтическими героями, в которых весьма мало подлинно исторических черт.
- 558 -
Лучший роман Лажечникова — «Ледяной дом» — посвящен эпохе царствования Анны Иоанновны, при которой, воспользовавшись распрями среди русской аристократии, окружавшей ничтожную императрицу, ее фаворит — курляндский немец Бирон захватил в свои руки власть. Борцом против жестокой тирании и террора временщика, самоуправства и засилия своры его жадных сородичей Лажечников выдвигает Волынского, сделав его главным героем романа.
Лажечников показал, что против Бирона боролись и народные массы. Таков представитель украинского народа Городенько, который гибнет в неравной борьбе с временщиком, замученный его палачами и превращенный в ледяную статую — трагический символ народного сопротивления. Однако самый образ Волынского далек от исторической правды. Недаром еще Пушкин в своем письме к Лажечникову упрекал его за то, что в романе «не соблюдена» «истина историческая» (XVI, 62).
Белинский также отметил «двойственность» и неисторичность образа Волынского: «Что́ же такое Волынский Лажечникова? — Это человек глубокий, могучий духом, пламенный патриот, душа чистая, благородная, но легкий, ветреный; тонкий политик и мальчик, не умеющий совладеть с самим собою; государственный муж — и волокита, гуляка праздный» (IV, 32). Волынский — государственный деятель все время заслоняется Волынским — романтическим любовником.
Романам Лажечникова недостает подлинного историзма, понимания исторической обусловленности явлений, поэтому и действие в его романах основано на сложной, искусственной интриге, на случайных мелодраматических ситуациях. Вместе с тем в истолковании деятельности Волынского Лажечников в значительной мере следовал за декабристами, видевшими в Волынском национального героя, боровшегося с самодержавным деспотизмом и бироновщиной. Показательно, что эпиграфом к эпилогу своего романа Лажечников смело поместил запрещенные стихи повешенного Рылеева, кончающиеся пламенным призывом:
Отец семейства! Приведи
К могиле мученика — сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!Наряду с историей напряженной борьбы Волынского с Бироном, кончающейся трагической казнью Волынского, Лажечников изображает в романе ряд исторических и бытовых сцен, «отдельных превосходных картин, прекрасных частностей», проникнутых «поэтическим чувством», как о них писал Белинский (IV, 40).
Третий роман Лажечникова — «Басурман» — посвящен эпохе Ивана III. В романе рассказывается история одного из представителей эпохи Ренессанса, молодого врача Антонио, приезжающего в Москву по приглашению Ивана и старающегося применить свои знания в России. Чуждый обскурантизма Булгарина и реакционного национализма Загоскина, Лажечников своей трактовкой темы заслужил похвалу Белинского, отметившего, что «лучшая сторона в романе — историческая» (IV, 43).
При всей условности в изображении исторических лиц и событий Лажечников не только идеологически гораздо прогрессивнее Загоскина, но и более углубленно, с бо́льшим знанием исторических материалов показывает эпоху. Точно так же основные действующие лица, их характеры ему удаются гораздо больше, они гораздо ярче, психологически сложнее и определеннее, чем герои Загоскина.
- 559 -
Однако и для Лажечникова критерием исторической истины являлось его субъективное, эмоционально-поэтическое восприятие истории. Поэтому в своем истолковании исторических событий и в характеристиках действующих лиц он следовал не столько за документальными и историческими данными, сколько за создаваемой его воображением поэтической концепцией. Когда Пушкин, со своим точным и острым историческим мышлением, упрекнул его за то, что в «Ледяном доме» «истина историческая... не соблюдена» в обрисовке основных исторических фигур, то Лажечников, отвечая ему, писал о своем понимании задач и методов исторического романа: «... историческую верность главных лиц моего романа старался я сохранить, сколько позволяло мне поэтическое создание, ибо в историческом романе истина всегда должна уступить поэзии, если та мешает этой» (Пушкин, XVI, 67). Поэтому не следует переоценивать прогрессивного характера романов Лажечникова. Лажечников не понял ни подлинной роли народа в историческом процессе, ни исторической прогрессивности передовых идей эпохи, подменяя ее общим представлением о пользе просвещения. На первом плане в его романах выступают романтические герои, чья судьба, занимательные перипетии их похождений и определяют характер его романов.
*
В 30-е годы вслед за «Юрием Милославским» Загоскина появилось довольно много «исторических» романов Ф. Булгарина («Дмитрий Самозванец», 1830; «Мазепа», 1833), К. Масальского («Стрельцы», 1832; «Черный ящик», 1833), Р. Зотова («Леонид», 1832) и др. Однако все эти романы не могут быть названы историческими, представляя собой ремесленные произведения реакционно-охранительного «направления», основанные на примитивно-мелодраматической интриге.
Среди исторических романов этого времени несомненный интерес представляет лишь произведение Н. Полевого «Клятва при гробе господнем. Русская быль XV-го века» (1832). «Мы погуляли с вами, — пишет автор в послесловии к роману, — по старинной святой Руси, видели князей и бояр, мужичков и боярынь, духовный чин и дьяков, Кремлевский дворец и крестьянскую избу, свадебный пир и битвы кровавые, святые обители и новгородское вече, присутствовали и на великокняжеском веселье... и на ужине русских мужичков...».1
Полевой стремился показать не только образы героев и бытовые сцены, но и передать дух самой эпохи, характер народа, «отношения народных стихий русских». Демократические тенденции Полевого проявляются как в сочувственном показе простых людей из народа, так и в самом стиле и языке романа, ориентированном на просторечие, на народный язык. Полевой отказался от любовной интриги, положив в основу политическую борьбу князей, описание «смутного времени», «выставляя толпу характеров» (жестокого и мстительного боярина Иоанна, бесхарактерного и слабого князя Юрия, пылкого, властолюбивого Косого и т. д.).
В своем романе «Клятва при гробе господнем» Полевой сделал любопытную и своеобразную попытку создать исторический роман о жизни народа, выдвинув главным героем представителя народных масс Ивана Гудочника, появляющегося в решающие моменты действия. Образ Гудочника,
- 560 -
как выразителя народного мнения, он противопоставил междоусобным распрям князей и бояр, заинтересованных не в общенациональных интересах, а в своих феодальных, местнических.
В противовес западноевропейскому «вальтерскоттовскому» роману, основанному на романтической идеализации прошлого, на сюжетной интриге, Н. Полевой выдвигает новый принцип романа, правдиво раскрывающего народную жизнь:
«Воображаю себе, — говорит Н. Полевой в предисловии к роману о своем методе написания, — что с 1433-го по 1441-й год, я живу в Руси, вижу главные лица, слышу их разговоры, перехожу из хижины подмосковного мужика в Кремлевский терем, из собора Успенского на новгородское вече, записываю, схватываю черты быта, характеров, речи, слова, и все излагаю в последовательном порядке, как что было, как одно за другим следовало: это история в лицах; романа нет; завязка и развязка не мои. Прочь торжественные сцены, декламации и все coups de théatre! Пусть все живет, действует и говорит, как оно жило, действовало и говорило...».1
Полевому не удалось полностью применить этот смело им выдвинутый реалистический принцип построения исторического романа. Он чрезмерно перегрузил его событиями, многочисленными действующими лицами, ослабив общее впечатление. Роман Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» дает широкую и разнообразную картину русской жизни XV века. В нем много событий, ярко раскрывающих феодальные порядки, царившие на Руси, но отдельные образы и характеры показаны недостаточно глубоко, им нехватает типичности, что и определило художественную слабость этого романа. Недостаток художественного дарования помешал автору создать то подлинно народное произведение, которое было им задумано. Белинский писал в своем отзыве, что в романе «есть много нового, интересного», что Полевой «вернее всех наших романистов понял поэзию русской жизни», но в то же время критик отмечал, что «в целом он вял и скучен» (II, 76).
Среди исторических романов 30-х годов особняком стоят произведения А. Ф. Вельтмана — «Кащей бессмертный, былина старого времени» (1833), «Святославич, вражий питомец. Диво времен Красного солнца Владимира» (1835), «Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский» (1836). В этих романах Вельтман обращается к народной сказке, былине, преданию, не стремясь к исторической точности и правдоподобию событий, фактов и характеров, но изображая сказочную фантастическую Русь и передавая свое восприятие сказочной русской старины.
Сказочные и смешные приключения героя романа «Кащей бессмертный», придурковатого Ивы Олельковича, служат для Вельтмана лишь поводом к изображению разнообразных и красочных картин русской жизни XII—XIV веков. Ива Олелькович странствует в поисках своей жены, якобы похищенной в первую брачную ночь Кащеем (на самом же деле она сбежала с поляком Воймиром). События романа представляют причудливое сплетение комических и невероятных происшествий, случившихся с героем, и сцен древнерусского быта. Так, например, Олелькович в поисках Кащея попадает к Белгородской княгине Яснельде в тот момент, когда ее княжеству угрожает татарское нашествие. Олелькович, принимаемый княгиней за могучего богатыря, после богатого угощения за княжеским столом, храбро едет на брань с противником. По дороге он запутывается в своих доспехах и попадает к татарскому войску в тот момент,
- 561 -
когда татарский военачальник уже сам уходит, обеспокоенный нападением другого монгольского отряда. Олелькович считается победителем и недавно овдовевшая княгиня намеревается выйти замуж за него. Однако Олелькович, поглощенный мыслью найти Кащея и освободить свою супругу, отказывается от этого брака. Мстительная княгиня заточает его в подвал и т. д. Для Вельтмана является самоценным красочность, археологическая эффектность описаний прошлого. Так и в сценах пребывания Олельковича у княгини Яснельды наибольшее внимание автора привлекает описание ее хором и явств, которыми угощается Ива:
«Ива Олелькович в первый раз видит такое богатство; но он не дивится, не чюдится ничему.
С правой стороны светлицы видит он чрез отворенные двери стольную палату, лаженую червленицею, на выши стоит стол резаный из кости, выложенный золотом с хитрыми узорами, да с многоцветною птицею, сеяною сардионом, аспидом, измругдом, томпазом и всякими иными честными камыками; да с багряничным навесом».1
Весь роман Вельтмана написан таким языком, необычайно перегруженным древними терминами и выражениями. Не только в описаниях, но и в речи персонажей и в авторском повествовании Вельтман говорит языком старинных грамот, летописей, былин. Этот перегруженный архаизмами язык настолько стилизован и затруднен, что к каждому томику своего романа автор давал особые примечания, словарик терминов и непонятных слов. Обращаясь к читателю, Вельтман сам подчеркивал эту условность своего языка:
«Не кори мене, господине богу милый читатель, за то, что я не везде буду говорить с тобой языком наших прадедов.
И ты, цвете прекрасный, читательница, дочь Леля, пресветлое солнце, словутцюю! Взлелеял бы тебя словесы Баяновы, пустил бы вещие персты по живым струнам и начал бы старую повесть старыми словесы...».2
В следующем романе «Святославич, вражий питомец» Вельтман продолжал стилевые принципы «Кащея». Отказавшись здесь от своей иронической манеры, он пытается создать философско-мифологический роман, осмысляющий столкновение язычества с христианством в древней Руси. «Историческое» повествование часто превращается у Вельтмана в откровенную мистификацию. Таков, в частности, его роман «Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский». Это — откровенная пародия на псевдоисторические исследования, шуточно-юмористическое повествование, основанное на смешении всех традиционных и привычных исторических представлений, рассказанное в прихотливо-юмористической манере. «Это не роман, — писал Белинский, — а тонкая, злая сатира на исторических мистиков и отчаянных этимологистов» (II, 453). Так, например, Вельтман доказывает, что Наполеон — потомок Александра Македонского, на том основании, что греческое «Калимерос», переведенное на итальянский, означает «Buona parte» (добрая участь) и т. д.
«Он создал себе какой-то особенный, ни для кого не доступный мир; его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему, — писал о Вельтмане Белинский. — Более всего нам нравится его взгляд на древнюю Русь: этот взгляд чисто сказочный... Он понял древнюю Русь своим поэтическим духом и, не давая нам видеть ее так, как она была, дает нам чуять ее в каком-то призраке, неуловимом, но характеристическом» (II, 449).
- 562 -
Романы Вельтмана — это романы-сказки, попытка идеализировать далекое прошлое. Под лозунгом «ложно понятой» им, как указывал Белинский, народности Вельтман идеализировал патриархальную неподвижность, поэтизировал давно отжившие черты быта и нравов. К тому же архаизация фольклора, формалистические эффекты, которыми Вельтман уснащает свои романы, сделали их нежизненными, и они были быстро забыты читателями, оказались вне основного пути развития русского исторического романа.
*
Итак, проза 20—30-х годов была неоднородна, знаменовала обострение в литературе различных тенденций общественной жизни и идейной борьбы. Но, наперекор попыткам консервативных писателей увести ее в сторону от столбовой дороги русской классической литературы, она в своих лучших достижениях пришла к реализму и народности. Этим русская проза была обязана в первую очередь Пушкину и Гоголю, создавшим высокоидейные, правдивые реалистические произведения мирового значения.
Проза Пушкина и Гоголя открывала новые перспективы перед русскими писателями, учила их правдивому изображению жизни, созданию живых, естественных характеров и положений, показу типических героев, взятых из русской действительности. Произведения прозаиков 20—30-х годов — современников Пушкина и Гоголя — сохранили свой интерес лишь в той степени, в какой они оказались близкими к магистральному пути развития передовой русской литературы — пути борьбы за реализм.
СноскиСноски к стр. 503
1 Русские повести XIX века 20-х—30-х годов, т. I, Гослитиздат, М. — Л., 1950, стр. XVI—XVII (вступительная статья Б. С. Мейлаха).
Сноски к стр. 504
1 Н. Полевой. Клятва при гробе господнем. Русская быль XV-го века, ч. I. М., 1832, стр. XXII.
Сноски к стр. 507
1 Труды Вольного общества любителей российской словесности, 1823, ч. XXIV, стр. 129, 130.
2 Мнемозина, ч. II, 1824, стр. 39, 42.
3 К. Ф. Рылеев, Полное собрание сочинений, Л., 1934, стр. 313.
Сноски к стр. 509
1 Полярная звезда на 1825 год, стр. 3.
2 Старина и новизна, кн. VIII, 1904, стр. 31.
3 Об А. Бестужеве-Марлинском см. отдельную главу в этом томе.
Сноски к стр. 510
1 О Ф. Глинке как о деятеле литературного движения и поэте см. в главе «Ф. Глинка».
2 Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием похода россиян против французов, в 1805 и 1806, также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год.. Писаны Федором Глинкою, 8 частей. («Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях и Венгрии» вышли несколькими годами раньше, в 1808 году).
3 Ф. Глинка. Письма русского офицера, ч. IV. М., 1815, стр. 47; ч. V, стр. 194.
Сноски к стр. 511
1 Ф. Глинка. Письма русского офицера, ч. VI. 1815. стр. 65.
Сноски к стр. 512
1 Московский телеграф, 1825, ч. VI, № 23, стр. 285.
2 Издана была без имени автора в 1832 году.
Сноски к стр. 513
1 Н. Бестужев. Морские сцены, повести и рассказы старого моряка. М., 1874.
Сноски к стр. 514
1 Воспоминания Бестужевых. Изд. Академии Наук СССР, 1951, стр. 544. (В этом издании дан исправленный по рукописи текст повести «Шлиссельбургская станция»).
Сноски к стр. 515
1 О. Сомов. Обзор российской словесности за 1827 год. Северные цветы на 1828 год, стр. 56—57.
Сноски к стр. 516
1 Северные цветы на 1828 год, стр. 231.
2 Звездочка, 1826, стр. 48.
3 Невский альманах на 1830 год, стр. 151.
Сноски к стр. 518
1 Литературная газета, 1830, № 16, стр. 129.
2 Северные цветы на 1831 год, стр. 73.
Сноски к стр. 519
1 Северная лира на 1827 год, стр. 263.
Сноски к стр. 521
1 А. И. Герцен, Избранные сочинения, М., 1937, стр. 397, 398.
Сноски к стр. 522
1 А. И. Герцен, Избранные сочинения, М., 1937, стр. 398.
Сноски к стр. 523
1 Н. Полевой. Мечты и жизнь, ч. II. М., 1834, стр. 103.
Сноски к стр. 526
1 Русские повести XIX века 20-х—30-х годов, т. I. Гослитиздат, М. — Л., 1950, стр. 431.
2 Там же, стр. 444.
Сноски к стр. 527
1 Н. Ф. Павлов. Новые повести. СПб., 1839, стр. 386.
Сноски к стр. 529
1 Н. Полевой. Мечты и жизнь, ч. IV, 1834, стр. 10—11.
Сноски к стр. 530
1 Н. Полевой. Мечты и жизнь, ч. I, 1833, стр. 213—214.
2 Там же, ч. IV, стр. 160.
3 Там же, стр. 251.
4 Там же, стр. 211—212.
Сноски к стр. 531
1 Там же, ч. II, 1834, стр. 130.
2 Там же, стр. 185—186.
Сноски к стр. 532
1 Н. Полевой. Мечты и жизнь, ч. II, 1834, стр. 187, 188.
2 Там же, стр. 326—327.
3 Там же, стр. 79—80.
Сноски к стр. 534
1 П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1. М., 1913, стр. 308.
Сноски к стр. 539
1 Русские повести XIX века 20-х—30-х годов, т. II. Гослитиздат, М. — Л., 1950, стр. 112.
2 Там же, стр. 114.
Сноски к стр. 540
1 Наиболее сочувственно Белинский оценил повести З. Р—вой (Е. А. Ган), указав, что среди русских женщин-писательниц ей принадлежит первое место (XIII, 143). Бесправное и приниженное положение женщины в светском дворянском обществе, протест против его лицемерия и фальши, раскрытие женского характера, образы возвышенных и благородно чувствующих героинь, протестующих против несправедливости, преданно и глубоко любящих, — таково основное содержание произведений Е. Ган («Идеал», «Утбалла» и др.). Героиням Е. Ган свойственны необыкновенные страсти и необычайно мелодраматические ситуации, идеальные образы, во многом грешащие против жизненной правды. «В ее повестях, — писал Белинский, — заметен недостаток такта действительности, умения схватывать и изображать с ощутительною точности» и определенностию самые обыкновенные явления ежедневности. Но этот недостаток вознаграждается внутренним содержанием, присутствием живых, общественных интересов, идеальным взглядом на достоинство жизни, человека и женщины в особенности, полнотою чувства, электрически сообщающегося душе читателя» (VII, 57). При оценке повестей Е. Ган Белинский исходил, разумеется, из состояния разработки темы о положении женщины в современной ему литературе. Тогда эти повести представляли известный интерес, но в дальнейшем не выдержали испытания временем.
Сноски к стр. 541
1 В. Ф. Одоевский, Сочинения, ч. I, СПб., 1844, стр. 115—116.
2 Там же, стр. 124—125.
3 Там же, стр. 135.
Сноски к стр. 542
1 Отрывок из этой утопии был помещен в альманахе «Утренняя заря» на 1840 год, стр. 307—352.
Сноски к стр. 544
1 А. Вельтман. Странник, ч. I. М., 1831, стр. 2, 3.
2 Там же, стр. 27.
Сноски к стр. 545
1 И. Калашников. Камчадалка, ч. I. СПб., 1833, стр. 2.
Сноски к стр. 546
1 Литературная газета, 1831, № 5, стр. 42.
Сноски к стр. 550
1 Рукою Пушкина. 1935, стр. 725.
2 В. Даль, Полное собрание сочинений, т. IX, 1898, стр. 76.
3 Там же, стр. 93.
Сноски к стр. 551
1 Там же, стр. 6.
2 Там же, стр. 86.
Сноски к стр. 552
1 Денница. Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем. М., 1830, стр. XXII—XXIII.
2 Московский телеграф, 1833, ч. 52, № 15, стр. 405.
3 Телескоп, 1831, ч. I, стр. 38.
Сноски к стр. 553
1 Библиотека для чтения, 1834, т. II, отд. V, стр. 14.
Сноски к стр. 555
1 М. Загоскин. Рославлев, или русские в 1812 году, ч. I. М., 1831, стр. 3.
Сноски к стр. 556
1 И. Лажечников, Сочинения, т. I, 1883, стр. 13.
Сноски к стр. 559
1 Н. Полевой. Клятва при гробе господнем. Русская быль XV-го века, ч. IV, М., 1832, стр. 341—342.
Сноски к стр. 560
1 Н. Полевой, Клятва при гробе господнем, ч. I. М., 1832, стр. LVII—LVIII.
Сноски к стр. 561
1 А. Вельтман. Кащей бессмертный, былина старого времени, ч. III. М., 1833, стр. 147.
2 Там же, ч. I, стр. 49—50.