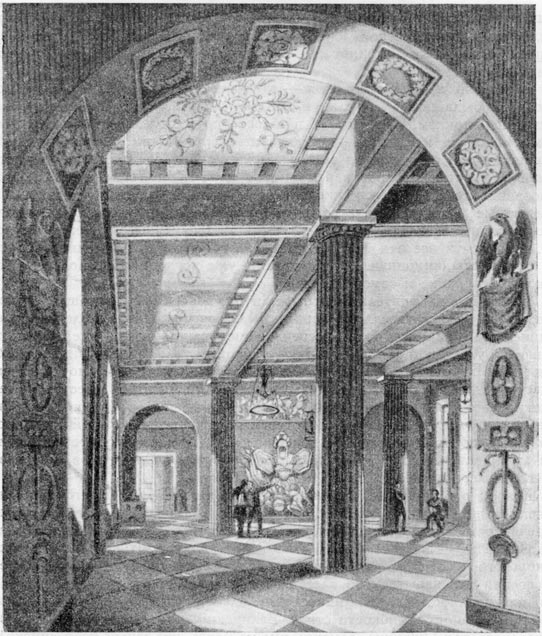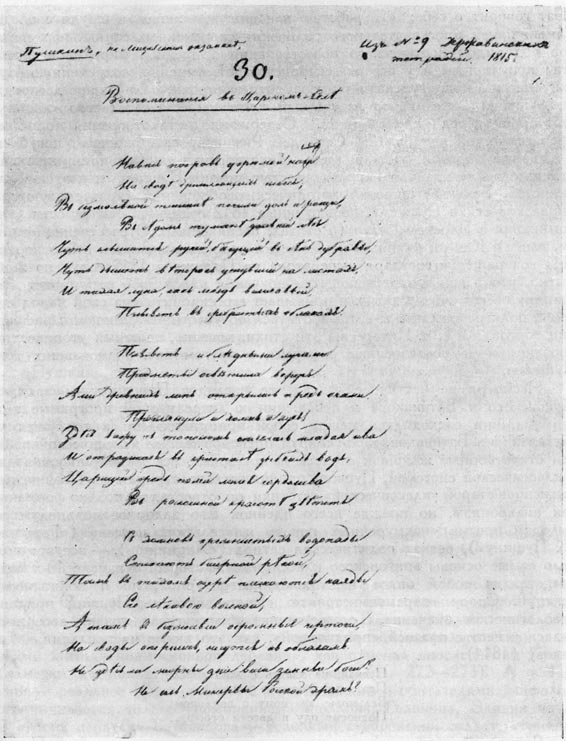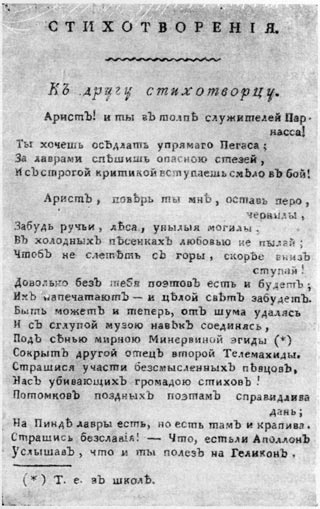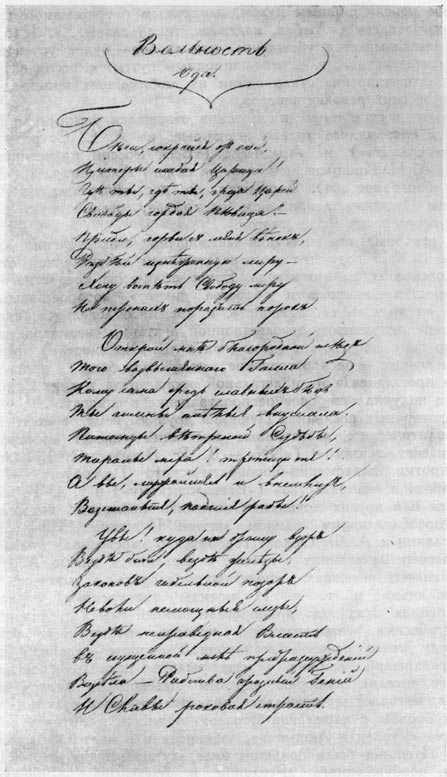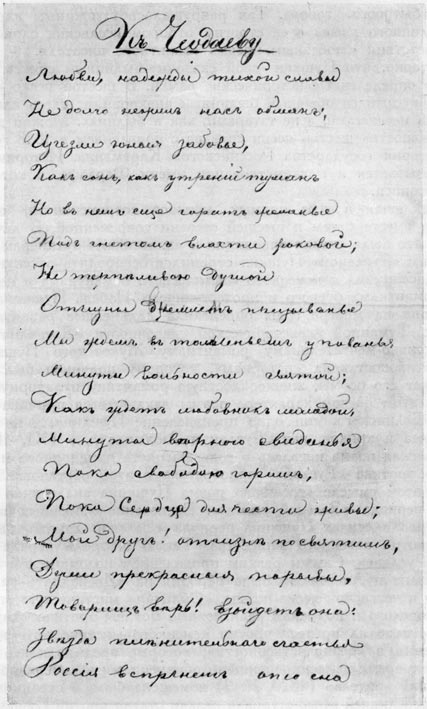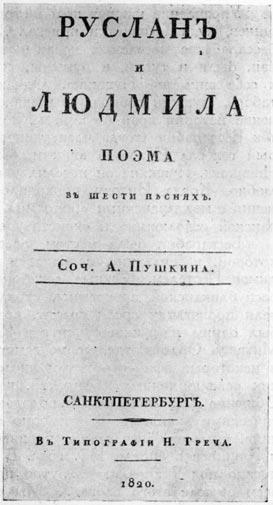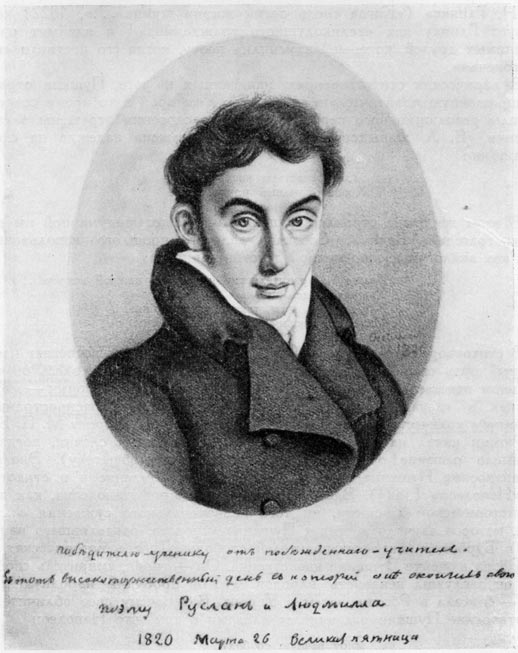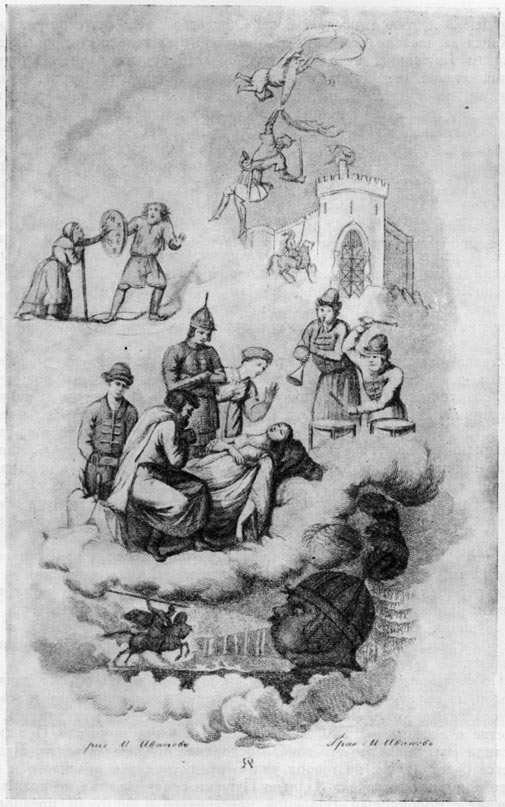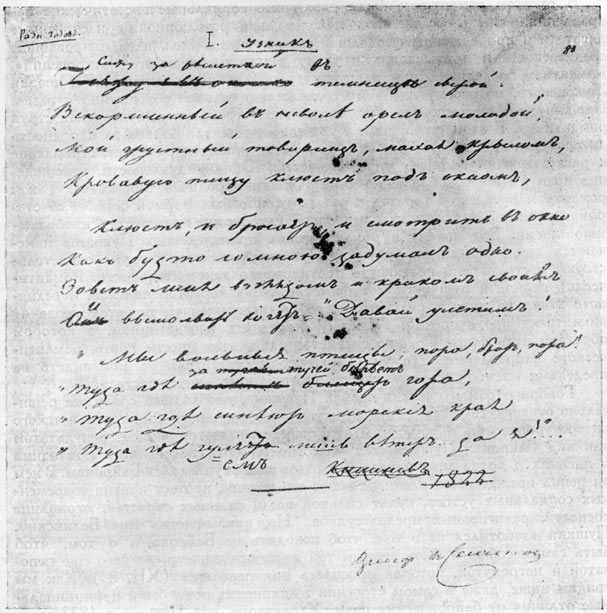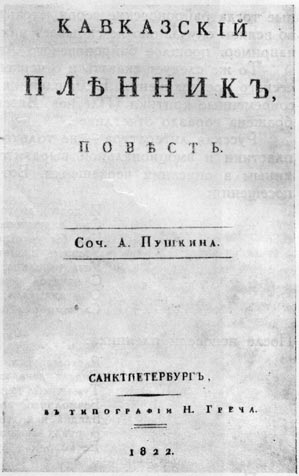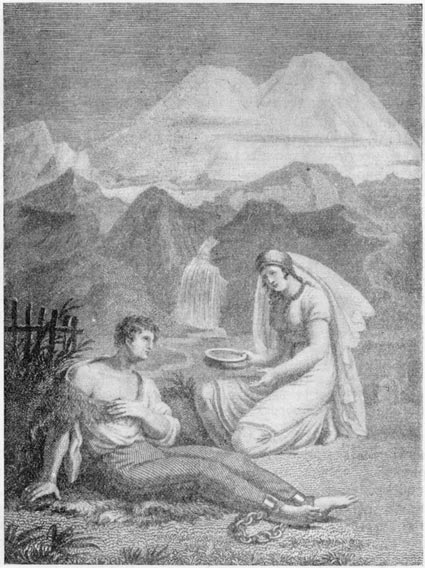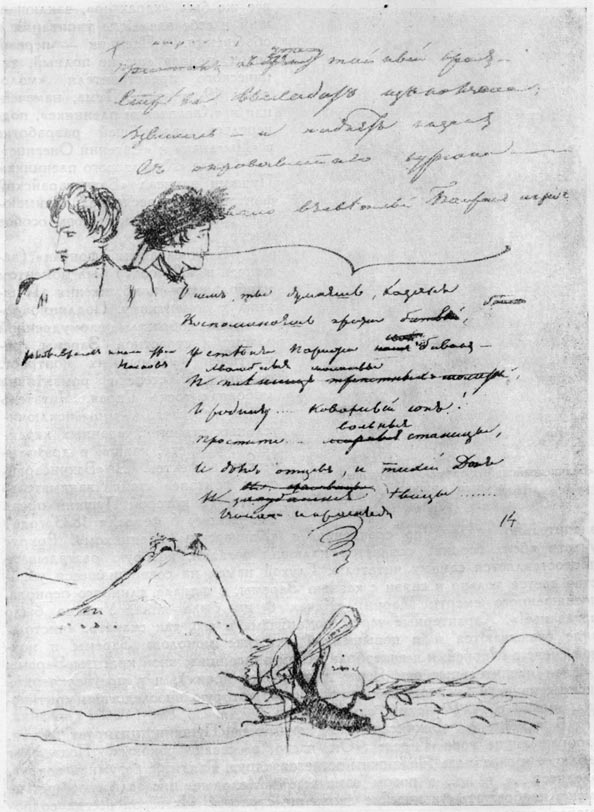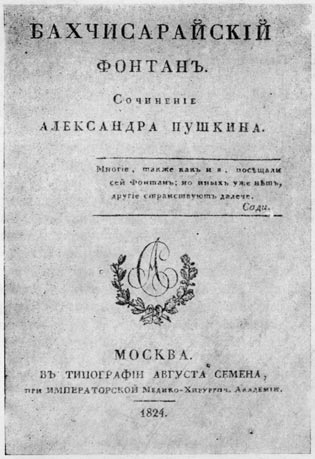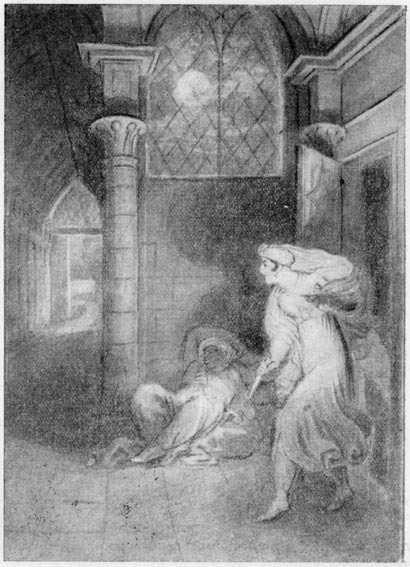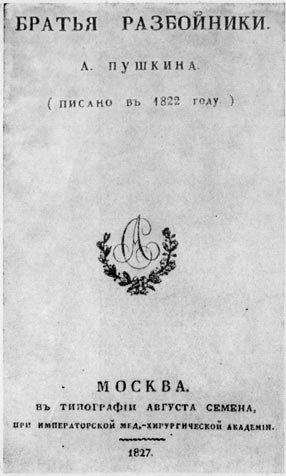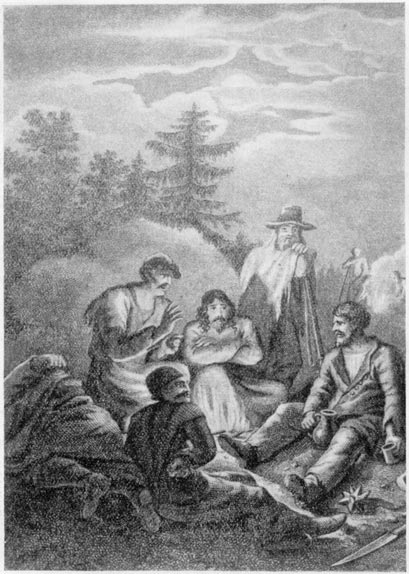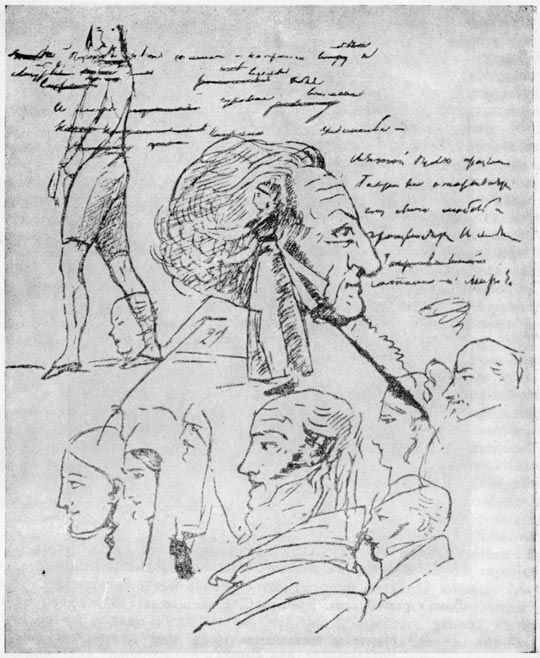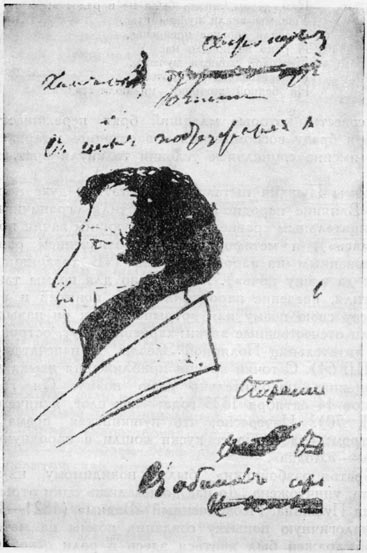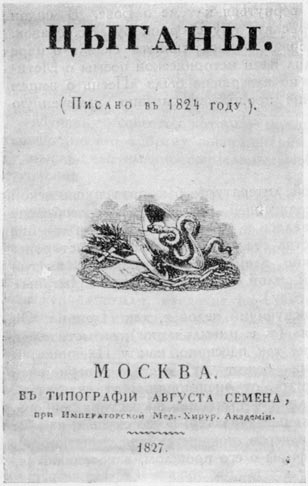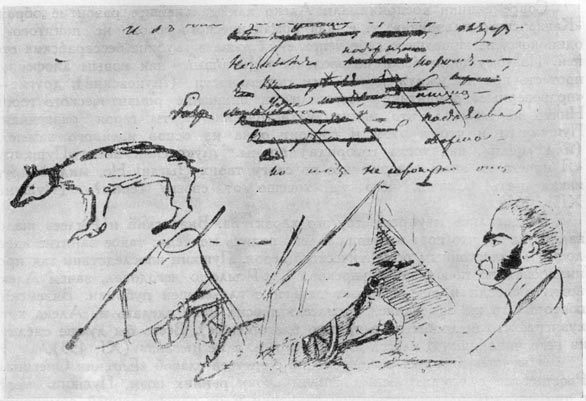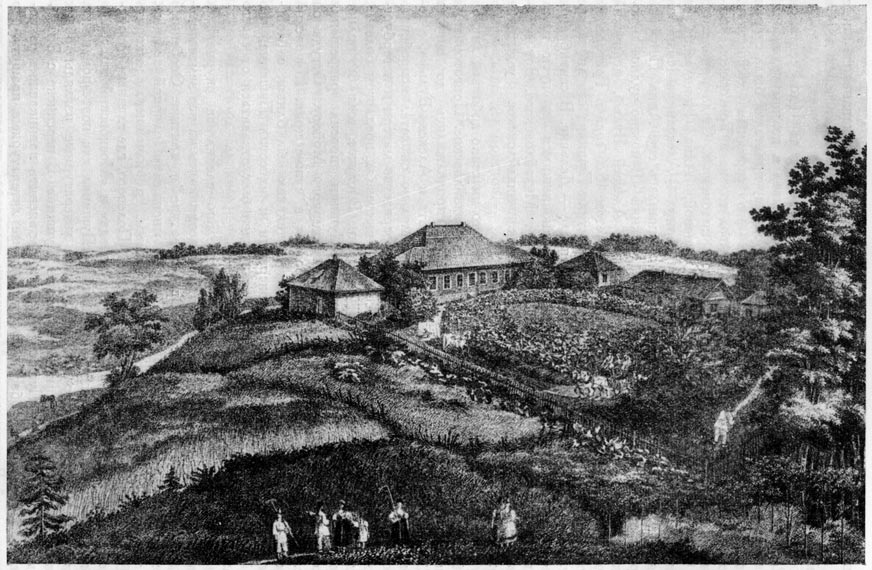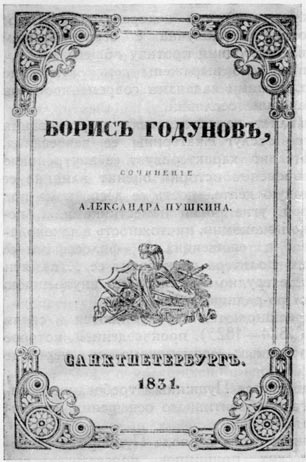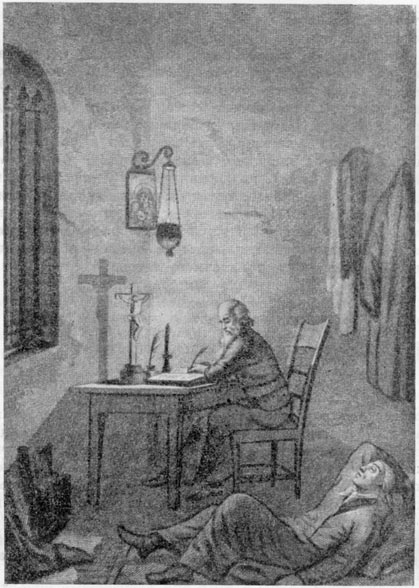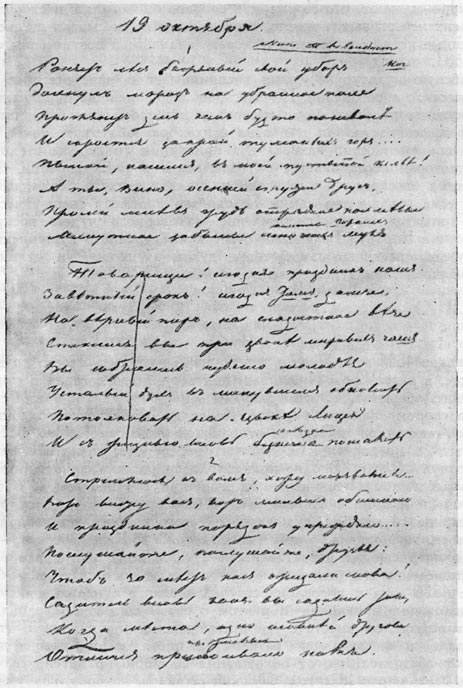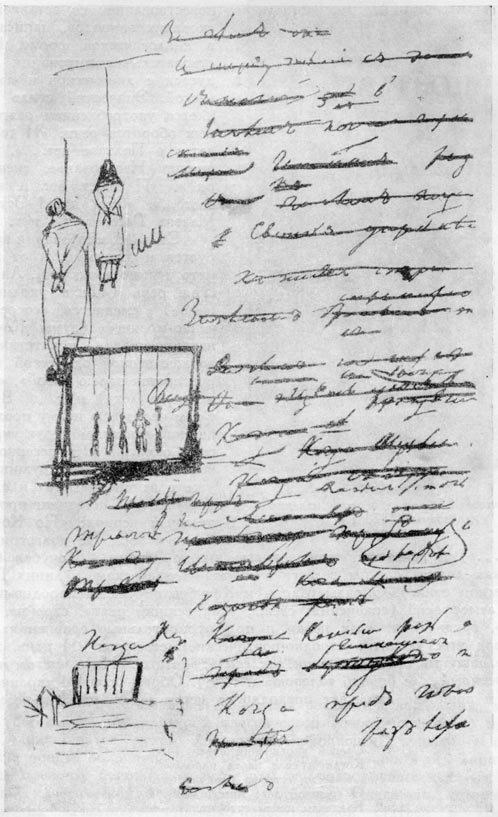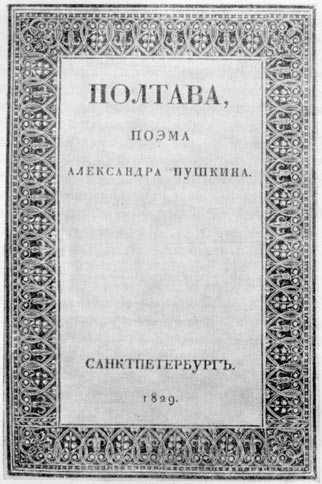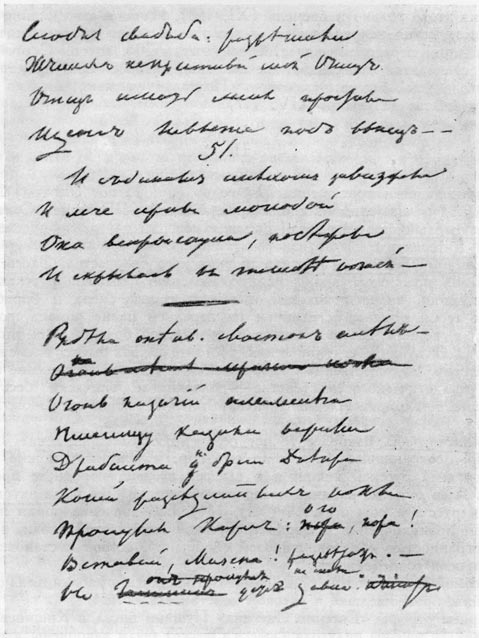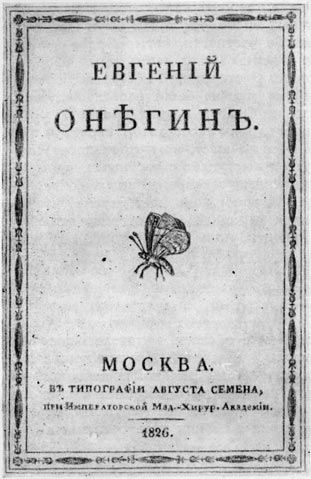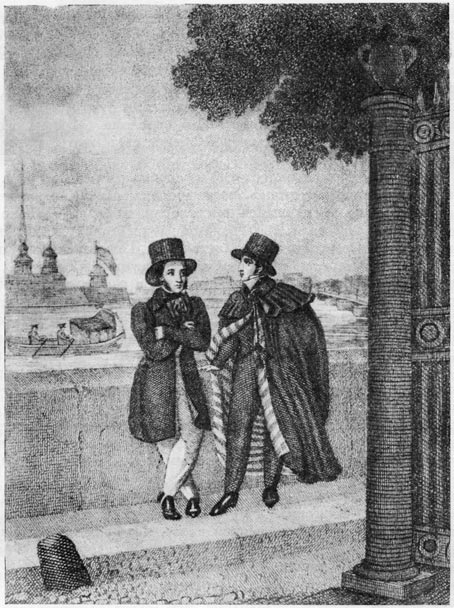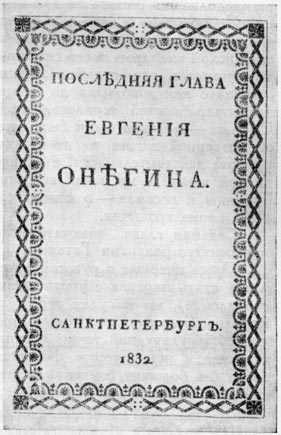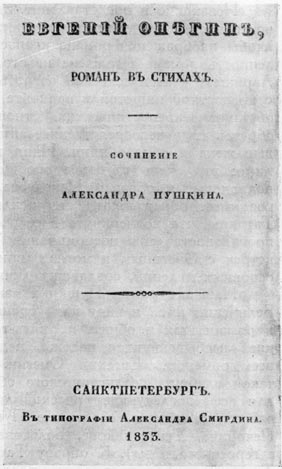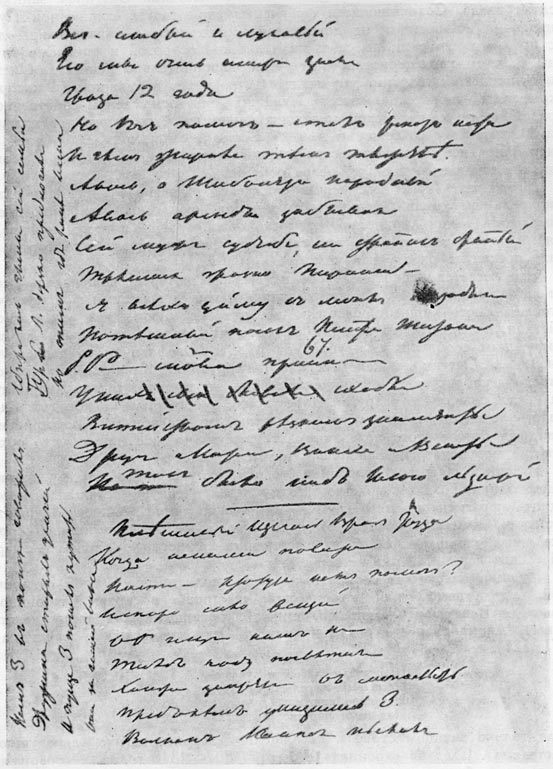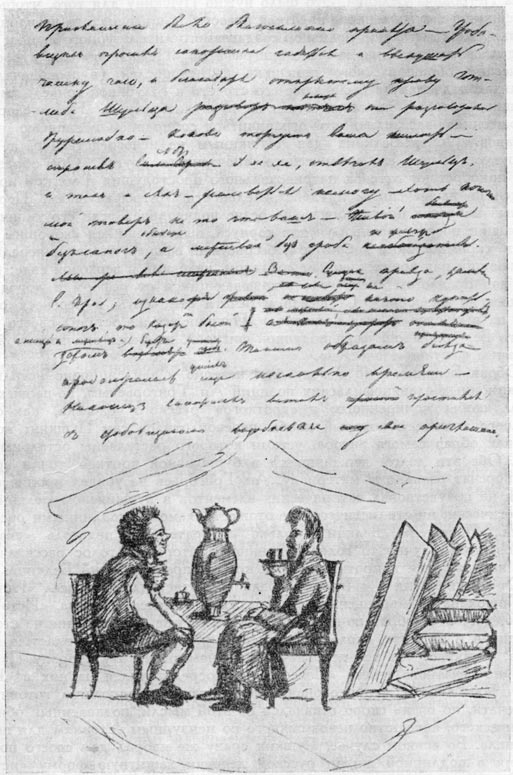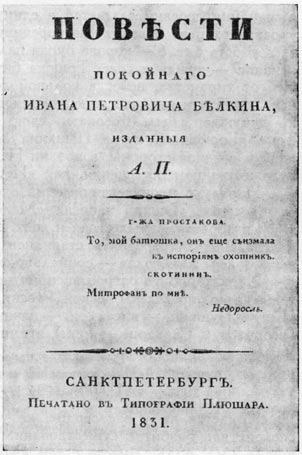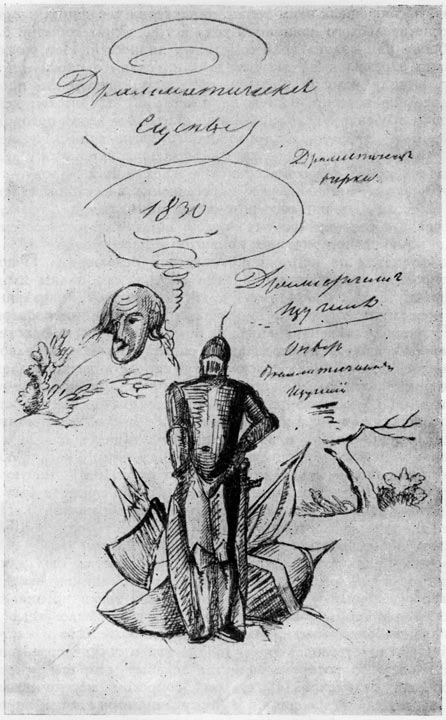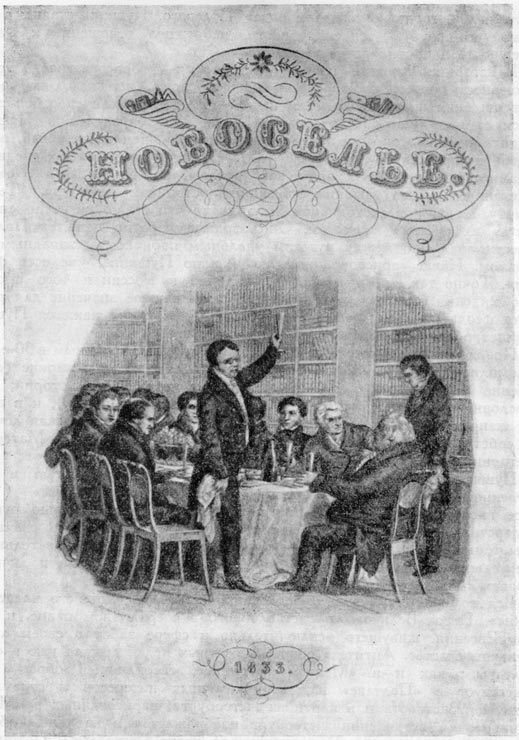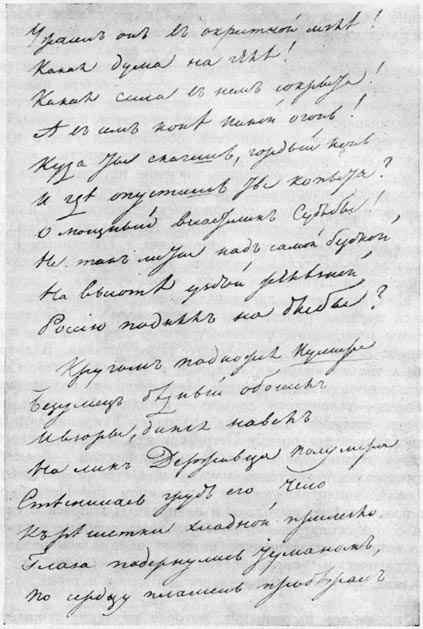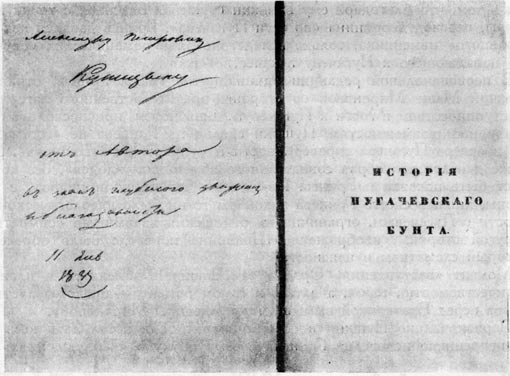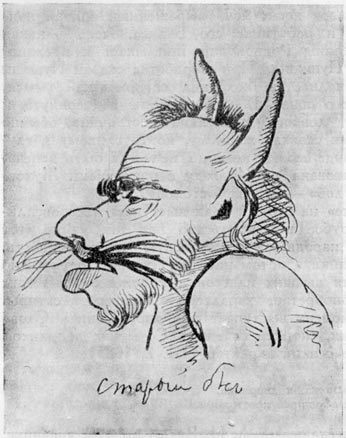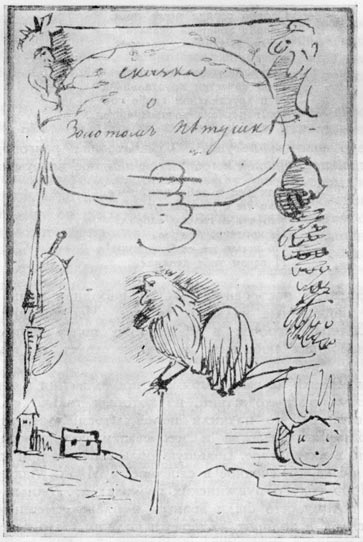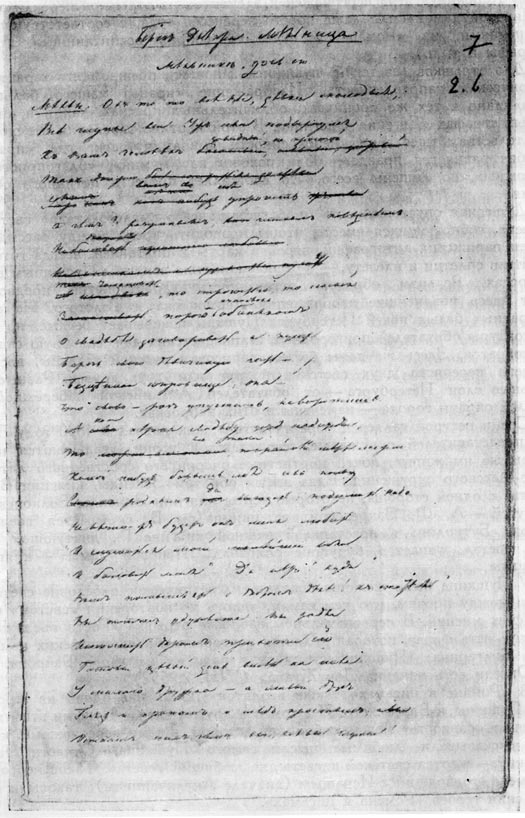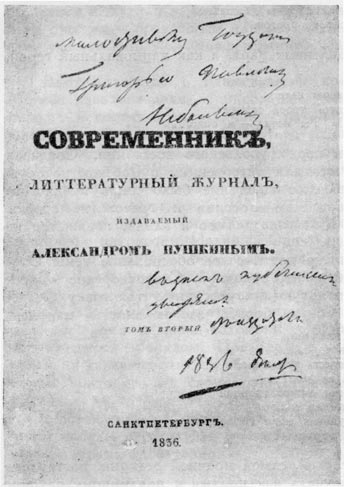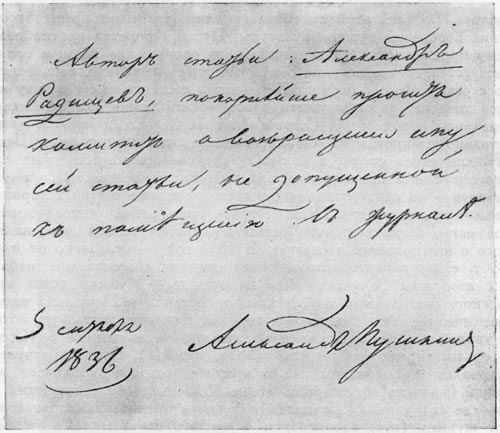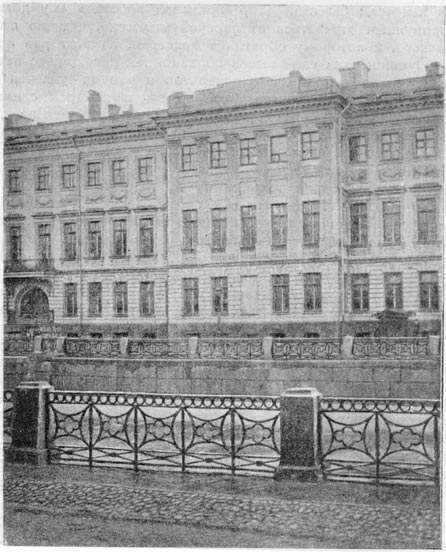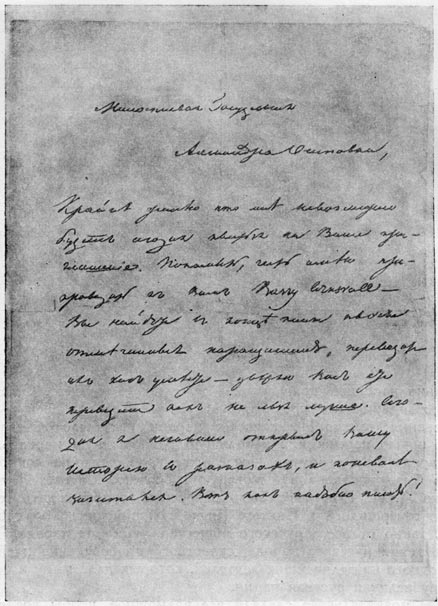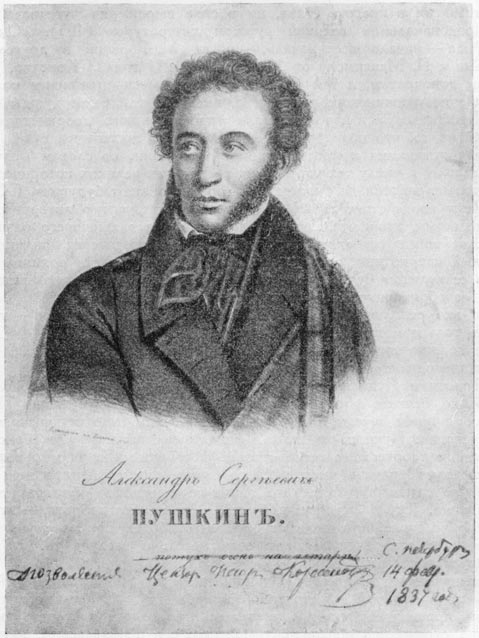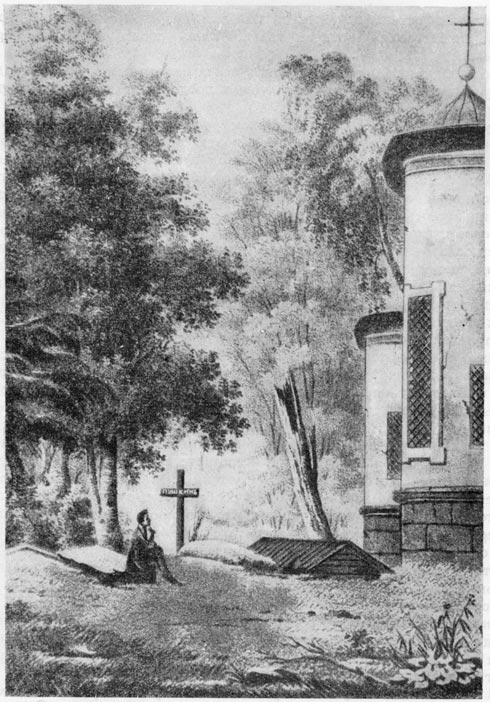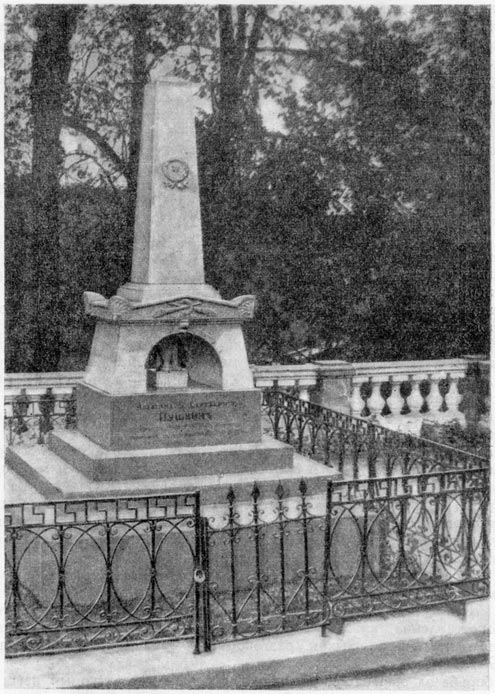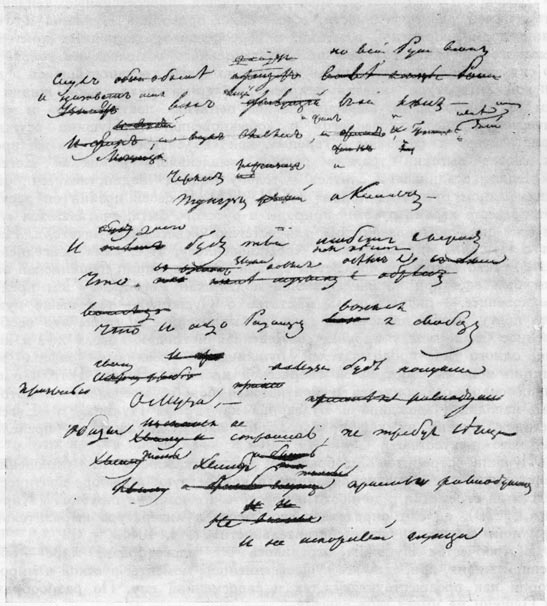- 159 -
ПУШКИН
- 160 -
- 161 -
Именем величайшего русского национального поэта Александра Сергеевича Пушкина обозначена целая эпоха в истории передовой русской культуры. Пушкин — родоначальник новой русской литературы, основоположник современного русского литературного языка. В своем творчестве, пронизанном страстным патриотизмом и свободолюбием, он отразил подъем национального самосознания русского народа периода Отечественной войны 1812 года и декабристского освободительного движения.
В произведениях Пушкина поставлены острейшие вопросы общественно-политического развития его времени, гневно осуждены социальные порядки самодержавно-крепостнической России, с глубоким проникновением отражены могучие созидательные силы русского народа, замечательные черты русского национального характера, в которых поэт видел залог великого будущего своей родины.
Об историческом периоде, к которому относится деятельность Пушкина, В. И. Ленин писал: «Крепостная Россия забита и неподвижна... Но лучшие люди из дворян помогли разбудить народ».1 К этим людям и принадлежал Пушкин. В его деятельности ярко выразилось понимание огромной силы художественного слова в идейном воспитании народа. «Пушкин, — по определению Горького, — первый почувствовал, что литература — национальное дело первостепенной важности..., он первый поднял звание литератора на высоту, до него недосягаемую: в его глазах поэт — выразитель всех чувств и дум народа, он призван понять и изобразить все явления жизни».2 В творчестве Пушкина отразилось его время со всеми противоречиями, деспотизмом самодержавия, крепостническим гнетом, восстанием декабристов, крестьянскими волнениями. В мировоззрении Пушкина сказались как сильные, так и слабые стороны дворянской революционности и дворянского просветительства, но он в своих художественных произведениях сумел понять прошлое России и «ее предназначенье» глубже, вернее, чем многие из его современников.
Творчество Пушкина отличается яркой национальной самобытностью. Высоко ценя и изучая достижения всей человеческой культуры, он в то же время резко выступал против пренебрежения передовыми национальными культурными традициями и слепого подражания иностранным образцам, которое было свойственно идеологам консервативного дворянства. Пушкин опирался на лучшие традиции предшествовавшей ему русской литературы. Он явился наследником великого просветителя Ломоносова, который, по его же словам, был «самобытным сподвижником просвещения», Державина, творческую смелость которого сравнивал с гением Суворова, «друга свободы» — Фонвизина. Радищев был дорог Пушкину как «рабства враг», страстный проповедник гражданского понимания роли поэта. При всем
- 162 -
отличии взглядов Пушкина от убеждений сторонника крестьянской революции Радищева, он ставил себе в заслугу то, что «вслед Радищеву» «восславил свободу». Крылова Пушкин оценивал как «во всех отношениях самого народного нашего поэта (самого национального и самого популярного)», «представителя духа» своего народа (XI, 154, 567). Но великое значение Пушкина в истории русской литературы заключается в том, что он был новатором, зачинателем и основоположником школы художественного реализма. Этот огромный шаг в развитии русского и мирового искусства мог быть совершен Пушкиным потому, что его гений развивался в условиях всемирно-исторического подъема русского народа, освободившего свою страну и весь мир от деспотизма Наполеона и пробуждавшегося к борьбе за освобождение России от цепей самодержавия и крепостничества. Богатейшее историческое содержание этой эпохи и было почвой для расцвета пушкинского реализма. В его произведениях воплощены основы русской классической литературы — высокая идейность, патриотизм и свободолюбие, любовь к народу, единство совершенной художественной формы и богатой содержательности, простота и общедоступность. По словам Белинского, он «не только великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков, гений европейский, слава всемирная...» (XI, 192).
Творческое наследие Пушкина является живым достоянием нашей социалистической современности; оно раскрывается в наши дни во всем своем величии и многообразии. «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества» (Белинский, VII, 32).
Вечно дорогое для советского народа имя Пушкина И. В. Сталин назвал в числе великих деятелей, которые составляют славу и гордость русской нации.1
1
Пушкин родился в Москве 26 мая (6 июня нов. ст.) 1799 года. Он происходил из старинного дворянского рода. Свое родословие Пушкины вели с XIII века. В XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, Пушкины занимали видные места при дворе. В XVIII веке они отходят на задний план, смешиваясь с массой нечиновных помещиков.
Говоря впоследствии о своих предках, Пушкин неизменно подчеркивал их «неукротимый» характер, свойственный им «дух упрямства» и вместе с тем их участие в борьбе за национальную независимость России. С особенной охотой он останавливался на их участии в событиях «смутного времени». Так, он с гордостью писал о том, что его дальний родич Гаврила Пушкин, выведенный им в «Борисе Годунове», был одним из начальников, руководивших защитой Москвы от польских интервентов в 1612 году, и заседал потом в Думе рядом с Козьмой Мининым. Он упоминал и о том, что несколько Пушкиных подписались под грамотой об избрании царя Михаила Романова, отмечая при этом, что в данном случае они действовали от имени народа.2
- 163 -
Н. О. Пушкина, мать поэта.
Миниатюра работы Ксавье-де-Местра (1810 г.).Как писал поэт, «суровый» род Пушкиных «присмирел» после Петра. Но предки Пушкина со стороны матери, Ганнибалы, целиком обязаны были своим возвышением новым, петровским порядкам.
В 1796 году Сергей Львович Пушкин женился на Надежде Осиповне Ганнибал (внучке «арапа Петра Великого», впоследствии русского генерала). В молодости он служил в Петербурге офицером гвардии. В 1798 году, незадолго до рождения сына Александра, бросил военную службу и переехал с женой и маленькой дочерью Ольгой в Москву, где поступил на службу в комиссариатский департамент; в 1817 году вышел в отставку с намерением жить одними помещичьими доходами.
Сергей Львович был светский человек, образованный и остроумный, но легкомысленный и крайне безалаберный. Он совершенно запустил богатое родовое имение Пушкиных, село Болдино Нижегородской губернии. Семье Пушкиных принадлежало также село Михайловское Псковской губернии, которое досталось Надежде Осиповне от ее отца.
Детство поэта прошло в Москве. Зиму все семейство проводило в городе, а лето в селе Захарове, подмосковном имении бабушки, Марии Алексеевны. Впечатления от деревенской жизни в Захарове надолго сохранились в памяти Пушкина.
Пушкин рос в литературном окружении. Дядя его, Василий Львович, был известным поэтом. В доме Пушкиных бывали Дмитриев, Жуковский,
- 164 -
Батюшков, А. И. Тургенев, Карамзин. Сам Сергей Львович не чужд был стихотворству — он писал гладкие светские стихи.
Эта литературная атмосфера сыграла положительную роль в развитии Пушкина. Но воспитание и учение шли беспорядочно. Дети были предоставлены самим себе и постоянно сменявшимся гувернерам и гувернанткам.
Русской грамоте обучала детей бабушка Марья Алексеевна. Она, по свидетельству Ольги Сергеевны, знакомила их с русской стариной, говорила и писала прекрасным русским языком. Но особенно важно было влияние Арины Родионовны, няни, ходившей за мальчиком вместе с другой няней, Ульяной. Арина Родионовна была крепостной крестьянкой из деревни Кобрино, принадлежавшей Ганнибалам. По словам Ольги Сергеевны, она «мастерски говорила сказки, знала народные поверья, сыпала пословицами, поговорками».
Пушкин вполне оценил свою няню позднее, когда провел с ней два года в Михайловском. Главным образом благодаря Арине Родионовне Пушкин с детских лет знакомился с народным творчеством и с живой крестьянской речью.
В его полном распоряжении была богатая библиотека отца, где имелись, между прочим, все «вольнодумные» по тому времени сочинения французских просветителей XVIII века — Вольтера, Руссо и других. По словам брата поэта — Льва Сергеевича, Александр «проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой».
Пушкин начал писать еще в детстве. Первыми его поэтическими опытами были эпиграммы, басни и маленькие комедии на французском языке, которые он разыгрывал перед сестрой.
Осенью 1811 года Пушкин поступил в Царскосельский лицей — только что возникшее закрытое дворянское учебное заведение нового типа. Программа Лицея, рассчитанная на шесть лет, охватывала и гимназический («начальный») и университетский («окончательный») курсы. Воспитанники должны были круглый год жить в Лицее и не отпускались домой даже на каникулы. Пушкин попал в число учеников Лицея благодаря связям Сергея Львовича и Василия Львовича. Немалое содействие оказал при этом А. И. Тургенев. 19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие Лицея. Этот день стал потом ежегодным лицейским праздником.
Проект организации Лицея принадлежал Сперанскому и связан был с его планами государственных реформ. Лицей должен был в короткий срок приготовить государственных деятелей, удовлетворяющих предполагаемым новым порядкам, которые направили бы страну по пути к конституционной монархии. Сообразно с этим подбирались профессора и строилась программа Лицея, в которой важное место отводилось наукам политическим. Насыщенность лицейской программы политическими предметами соответствовала уставу этого заведения.
Однако само направление лицейского преподавания и система воспитания вышли далеко за рамки официальных «предначертаний», так как лицеисты попали в руки передовых русских педагогов — В. Ф. Малиновского и А. П. Куницына. При содействии первого директора Лицея В. Ф. Малиновского в лекциях лицейских профессоров (как об этом свидетельствуют дошедшие до нас записи лекций) осуждался деспотизм и пропагандировались идеи политической свободы как необходимого условия расцвета культуры, науки, искусства. В лицейской системе воспитания отразились идеи передовой русской национальной педагогики, основанной
- 165 -
на идейности, патриотизме, ненависти к деспотизму. Неслучайно поэтому лицейская система подверглась разгрому в период усиления правительственной реакции.
С. Л. Пушкин, отец поэта.
Рисунок К. Гампельна (1824 г.).Самым выдающимся представителем лицейского свободомыслия был А. П. Куницын, товарищ Николая Тургенева по Геттингенскому университету. Лекции Куницына по философии, праву и политической экономии, читавшиеся в старших, студенческих, классах, представляли собой довольно смелую пропаганду конституционных идей. Свой курс Куницын строил на теории «общественного договора», причем в «примерах», которыми он оживлял свое изложение, касался и русской действительности, в частности крепостного права. Курс Куницына в переработанном виде был издан в 1818 году в двух частях под заглавием «Право естественное»; вскоре, в 1821 году, книга Куницына была запрещена, а сам автор навсегда был отстранен от преподавания. Лекции Куницына имели очень серьезное значение для Пушкина. Он вспомнил о них в одной из строф стихотворения «19 октября» (1825), не вошедшей в окончательный текст:
Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.
- 166 -
Значительное влияние на лицеистов оказало общение с офицерами гусарского полка, который был расквартирован в Царском Селе осенью 1814 года. В числе офицеров полка были Чаадаев, Каверин, юный герой Отечественной войны Николай Раевский — все люди, примыкавшие к будущим декабристам; они стали ближайшими друзьями Пушкина.
По мере того как усиливалась правительственная реакция, рос и оппозиционный дух Лицея, крепло «святое братство» передовой группы лицейской молодежи, основанное на общности политических симпатий, возглавленное Пушкиным и его ближайшими друзьями Пущиным и Кюхельбекером. Пушкин и его друзья оказались в центре идейной борьбы, которая велась в Лицее как среди воспитанников, так и среди воспитателей. Так, при ближайшем участии Пушкина был изгнан из Лицея «надзиратель по нравственной части» Пилецкий-Урбанович, реакционер и полицейский шпион. Через Пущина и Кюхельбекера, которые были участниками кружка члена Союза благоденствия Бурцова, в Лицей также проникали вольнолюбивые идеи. В результате всех этих обстоятельств Лицей сделался рассадником «вольнодумства», хранилищем запрещенной литературы. Лицейский «союз» выдвинул из своей среды трех декабристов — Пущина, Кюхельбекера и Вальховского. «Лицейский дух» стал в реакционных кругах синонимом политической оппозиционности. Каков был этот «дух», видно из представленного в 1826 году Николаю I доноса Булгарина, который главным образом метил в Пушкина, как самого яркого представителя этого лицейского духа. Молодой человек, вышедший из Лицея, доносил Булгарин, «должен при сем порицать... все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском — знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений... Пророчество перемен, хула всех мер... суть отличительные черты сих господ в обществах. Верноподданный значит укоризну на их языке...».1
Однако было бы неверно считать, что чуть ли не все воспитанники были выразителями «лицейского духа», сторонниками «лицейской республики» (как называлось это заведение в лицейских журналах и переписке воспитанников). Среди лицеистов были юноши, ставившие своей главной и единственной целью — будущую служебную карьеру; среди них находился и будущий реакционер Модест Корф. Различие устремлений лицеистов охарактеризовано самим Пушкиным в стихотворении «Товарищам», написанном перед выпуском, в 1817 году. Здесь поэт воспевает «красный колпак» (фригийская шапочка французских революционеров, ставшая поэтическим символом свободолюбия) и высмеивает тех, кто, «не честь, а почести любя», готов пресмыкаться «у плута знатного в прихожей».
Огромное значение в формировании Пушкина как великого поэта и патриота сыграли события Отечественной войны 1812 года.
«Мы были дети 1812 года», — говорил декабрист М. И. Муравьев-Апостол.2 Эти слова характеризуют все передовое поколение этой эпохи. Героика национально-освободительной войны обнаружила перед всем миром свободолюбие и могучие силы русских людей, взрастила декабристов. В годы победоносной борьбы против Наполеона стало особенно явственным
- 167 -
противоречие между богатейшими возможностями русской нации и тем бесправным, угнетенным положением, в которое русский народ был поставлен самодержавно-крепостническим режимом. Идеи национальной свободы и национального самосознания, получившие яркое развитие в период войны 1812 года, имели громадное значение для всей общественной жизни России, для революционного движения, для культурного и литературного развития.
Декабрист Александр Бестужев об этом писал: «... Наполеон вторгся в Россию и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу: тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России».1
Впечатления великих событий 1812 года остались у Пушкина на всю жизнь. «В его душе отдавались торжествующие и победные крики, — писал Герцен, — поразившие его еще в детстве, в 1813 и 1814 годах...» (VI, 355).
И. И. Пущин впоследствии вспоминал: «Эти события сильно отразились на нашем детстве..., мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении... напутствовали воинов..., обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас... Не одна слеза тут пролита!».2
Об этих же событиях говорил Пушкин в 1815 году:
Сыны Бородина, о Кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил...(«На возвращение...»).
А через двадцать один год в стихотворении «Была пора...» он вспоминал о том же и с той же восторженностью:
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...В годы Отечественной войны Пушкин-лицеист был охвачен вместе со всем русским народом патриотическим воодушевлением, он горел желанием принести свою жизнь в жертву за свободу отечества. В лицейских стихах он часто говорил о своем пребывании вне армии чуть ли не как о тягчайшей вине (хотя ему во время войны было 13—14 лет):
Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни:
Вотще лишь гневом дух пылал!(«Воспоминания в
Царском Селе»).Эта мечта о геройской смерти во славу родины была глубоко искренней. Для лицейской поэзии Пушкина характерна подчеркнуто личная, лирическая трактовка военной темы. Через год он говорит о том же:
- 168 -
Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!..
..................
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою
И славы под крылом наутре не почил?(«На возвращение...»).
В лицейских стихах Пушкин выразил восхищение героизмом русских солдат, самоотверженно защищавших отечество от наполеоновских полчищ.
В стихотворении «Воспоминания в Царском Селе», где Пушкин впервые пытался дать развернутую картину войны, народу посвящены проникновенные, пафосные строки:
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья...В этих словах Пушкин отразил черты русского национального характера, которые так ярко проявились в эпоху Отечественной войны. Здесь обобщены многочисленные факты, которые были у всех на устах, о которых. Пушкин читал в «реляциях», слышал от очевидцев. Слова Пушкина «Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья» передавали действительные настроения народа.
В 1814 году Пушкин писал с глубокой скорбью:
Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни...(«Воспоминания в
Царском Селе»).Как бы лирическим обобщением чувств и дум о Москве, о ее героическом значении в разгроме французских полчищ и освобождении родины явились написанные много лет спустя задушевные строки в VII главе «Евгения Онегина»:
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!Пушкин, свидетель великих событий 1812 года, вынес из своих живых впечатлений глубокую веру в русский народ, освободивший от наполеоновской тирании не только свою землю, но и порабощенную Европу. Об этой всемирно-исторической миссии России Пушкин еще в 1815 году писал:
Народы, падшие под бременем оков,
Тяжелой цепию с восторгом потрясали
И с робкой радостью друг друга вопрошали:
«Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал?..».(«На возвращение...»).
Представление о России — спасительнице Европы, подтвержденное историей, воплотил Пушкин и в строках, написанных много лет спустя,
- 169 -
Царскосельский лицей (г. Пушкин). Гравюра Ж. Мойера (1822 г.).
- 170 -
в 30-х годах, когда он осознал значение Отечественной войны в полной мере:
... в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир,
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир...(«Клеветникам России»).
Огромный общественный резонанс, который вызвала Отечественная война, звучал по-разному в различных общественно-политических лагерях, между которыми в результате войны резко обозначились непримиримые противоречия. Историческое значение войны, ее движущие силы стали ясны для Пушкина, конечно, позже, в пору идейной и творческой зрелости (об этом ниже). Но наблюдения ранней юности не могли пройти бесследно. Вопрос об оценке войны вызывал споры и в журналах и в среде офицерской молодежи, с которой Пушкин общался еще в Лицее. Если идеологи реакции всячески старались придать монархический и мистико-религиозный смысл событиям, трактуя победу как дело рук царя, как подвиг дворянства и как «божью волю», то совершенно иначе оценивали итоги войны передовые русские люди, видевшие в победе над Наполеоном подвиг русского народа. В годы войны демагогическая «свободолюбивая» фразеология Александра I производила некоторое впечатление, но вскоре иллюзии (отразившиеся в кое-каких лицейских стихах Пушкина, например, на возвращение императора из Парижа) рассеялись. Патриотизм рождал сопротивление силам реакции и вел к поискам путей борьбы за освобождение родины от цепей деспотизма. Из участников Отечественной войны — офицеров составилось ядро тайных декабристских организаций. Декабрист П. Беляев с гордостью писал: «Первые члены тайного общества были большей частью военные, прошедшие победоносно всю Европу до Парижа».1 Понятно, почему первое тайное общество называлось «Обществом истинных и верных сынов отечества». Эти же корни героического патриотизма питали все творчество Пушкина, его стремление к народности, его свободолюбие, возраставшее и укреплявшееся вместе с ростом передовой общественной мысли.
2
По свидетельству И. И. Пущина, Пушкин был во главе литературного движения сначала в стенах Лицея, а затем и вне его.
Благотворное влияние оказала на Пушкина литературная атмосфера Лицея. Среди товарищей Пушкина были поэты: Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский. Писали стихи и многие другие. Лицеисты издавали свои рукописные журналы («Лицейский мудрец», 1815, и др.), для которых всегда находилось достаточно сотрудников; с 1814 года произведения лицейских поэтов — Дельвига, затем Пушкина, Илличевского и Кюхельбекера — стали появляться в печати.
Первым печатным выступлением Пушкина было послание «К другу стихотворцу», напечатанное в июле 1814 года в «Вестнике Европы». В январе 1815 года на публичном экзамене при переходе на «окончательный» курс Пушкин читал перед Державиным свои «Воспоминания
- 171 -
в Царском Селе», которыми привел в восторг патриарха русской поэзии. После триумфа на экзамене Пушкин — уже признанный поэт не только лицейского масштаба. Когда стихотворение было напечатано, под ним впервые была поставлена его полная подпись: «Александр Пушкин» (прежде он подписывался анаграммой или шифром: «Александр Н. к. ш. п.», «1 ... 14—16» и др.). Товарищи видели в Пушкине будущую славу Лицея. Дельвиг в 1815 году счел возможным печатно пророчить ему бессмертие:
Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением.
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.(«Пушкину»).
Актовый зал Лицея. Литография П. Бореля (1856 г.).
Жуковский в начале 1817 года подарил Пушкину своего «Певца в Кремле» с надписью: «Поэту-товарищу». Его посещали в Лицее и Батюшков
- 172 -
и князь Вяземский. Молодым поэтом заинтересовался и Карамзин, поселившийся весной 1816 года в Царском Селе. Еще до окончания Лицея Пушкин был принят в «Арзамас», причем получил прозвище «Сверчок».
В первый период творчества — с отроческих лет до 1820 года, когда закончена была поэма «Руслан и Людмила», — Пушкин является преимущественно лириком. Попытки его в области других литературных жанров — поэмы «Монах» и «Бова» — остались незавершенными. Лицейская лирика Пушкина почти не выходила за пределы тех видов поэтического творчества, которые культивировались карамзинской школой и господствовали тогда в поэзии. Это были дружеские послания, сатиры, элегии, романсы и так называемые «разные стихотворения», которые в поэтических сборниках того времени составляли отдел «смеси» (шутливые, анакреонтические и т. д.). Почти все эти формы представлены в лирике Пушкина-лицеиста. Но сквозь традиционные формы и темы уже тогда пробивалось его творческое своеобразие и самобытность.
Ближайшими учителями его были Жуковский и Батюшков. Поэзия Батюшкова, пластическая и ясная, была очень близка молодому поэту. Уединение на лоне природы, беспечная любовь, дружба — все эти мотивы являются у Пушкина общими с Батюшковым. Художественная их обработка у Батюшкова имела для молодого поэта большое значение, в частности сыграла важную роль в развитии его поэтического языка. Пушкин часто следовал непосредственно за Батюшковым и в выборе поэтического материала. Известное родство их поэтических исканий сказалось и в том, что почти одновременно каждый задумал поэму на русском сказочном материале. В 1815 году, по словам Пушкина, Батюшков «отвоевал» у него сюжет «Бовы».
Говоря о Жуковском, Пушкин сам признавал себя его учеником. Однако общее идейное содержание поэзии Жуковского — его мистицизм, отвлеченность образов, идеализация отрешенной от «земной жизни» поэтической мечты, — все это было чуждо уже юному Пушкину. Воздействие Жуковского сказалось на ранней поэзии Пушкина преимущественно в усвоении так называемого «легкого» поэтического языка, противоположного напыщенности классицизма, и в элементах художественной формы, напевной мелодии и гибкости стиха. Белинский, признавая значение поэзии Жуковского для Пушкина, замечал тем не менее, что юный поэт «нисколько не колебался в выборе образца между Жуковским и Батюшковым, и тотчас же, бессознательно, подчинился исключительному влиянию последнего» (XI, 344). Причину этого Белинский видел в том, что «ясный, определенный ум», «артистическая натура» Пушкина «гораздо более гармонировали с умом и натурою Батюшкова, чем Жуковского», романтика в духе «средних веков» (XI, 299). Но и по сравнению с поэзией Батюшкова в поэзии Пушкина лицейских лет сказались совершенно новые тенденции и нашло выражение значительно более острое социальное содержание. В то время как социальные мотивы ограничиваются у Батюшкова преимущественно обличением «глупцов», лобызающих «прах златой у мраморных крыльцов», у Пушкина уже в ранних стихах начинает звучать тема непримиримого противоречия между личностью, стремящейся к свободе, и окружающим обществом, основанным на рабстве, продажности, лицемерии. Эта тенденция пробивалась у юного поэта сквозь книжные влияния, сквозь традиционные прославления идиллической, уединенной жизни вдали от жизненных бурь («Нашел в глуши я мирный нрав и дни веду смиренно...»). Новое, по сравнению не только с Жуковским, но и с Батюшковым, качество пушкинской
- 173 -
поэзии ярче всего сказалось в его первом политическом стихотворении «Лицинию» (1815), которое вместе с тем явилось одним из первых произведений вольнолюбивой лирики декабристского типа. Здесь Пушкин провозгласил гражданский идеал поэта-обличителя и проповедника свободы:
Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу...
«Воспоминания в Царском Селе». Автограф Пушкина (1815 г.).
- 174 -
Поэт говорит о себе: «Я рабство ненавижу», «кипит в груди свобода». Самый прием иносказательного обличения современных социальных порядков под видом поэтического повествования о древнем мире впоследствии стал популярным и у поэтов-декабристов. Несомненно, современную Пушкину Россию подразумевали темпераментные строки, обличавшие деспотизм, ликторов, которые «народ несчастный гонят», пресмыкательство «льстецов, сенаторов» перед временщиком. Содержание стихотворения обобщено афористической концовкой: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен».
Таким образом, уже в этом стихотворении видны принципиальные отличия между идейной направленностью поэзии Пушкина и поэтов-карамзинистов. Большой широтой исторических обобщений характеризуются и лицейские стихи Пушкина, посвященные 1812 году, — в особенности «Воспоминания в Царском Селе» (о стихах, посвященных Отечественной войне, см. выше). Как ни наивным и юношески незрелым является стихотворение «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году», но любопытно, что в нем имеются попытки поучения царя: поэт напоминает Александру об его обязанностях и призывает его склонить «на свой народ смиренья полный взгляд», т. е. позаботиться об участи «селянина», о расширении торговли и т. п. Интересны эти стихи, конечно, не этими утопическими упованиями на послевоенные реформы, а кругом тем, волновавших тогда Пушкина.
Несмотря на частичное совпадение взглядов Пушкина со взглядами Жуковского и Батюшкова в отношении к литературной программе классицизма, они расходились между собой принципиально: в то время как Жуковский и Батюшков, культивируя пренебреженные классической поэтикой стихотворные жанры и отчасти вводя новые, все же мирно уживались с классической системой, Пушкин принципиально отрицал ее. Поэзию приверженцев старой «классической» эстетики он отвергал не только формально как анахронизм, но прежде всего идейно. Его задорное вольнодумство, выходки против «нахмуренных попов» и «сельских иереев» («Городок», «К Пущину»), резкая политическая сатира («Лицинию»), — все это колебало самые основы эпигонского классицизма, который в начале 10-х годов представлял собой оплот не только литературной, но и политической реакции. Спору «карамзинистов» с «шишковистами» Пушкин придавал идеологическое значение. Торжественная классическая поэзия ассоциировалась у него с поэзией «придворной», как это видно из послания к Горчакову (1814):
Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф...Ранняя зрелость ума сказалась и в той твердости, с какой Пушкин отстаивал свои литературные позиции. Когда Батюшков в 1814—1815 годах советовал юному Пушкину приняться за героическую эпопею, то Пушкин отвечал на это обычной у него в таких случаях лукавой оговоркой:
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.1(«Батюшкову»).
Жуковский и Батюшков создавали новую условность — романтическую. Их авторское «я» в той или иной степени отделялось от реальной
- 175 -
авторской личности и заменялось отвлеченным образом романтического поэта, пребывающего в мечтательном романтическом мире. Поэтому живая действительность мало отражалась в их поэзии. Между тем, уже в ранних произведениях Пушкина, несмотря на их жанровую условность, видна пока еще только в зародыше, но все же характерная ориентация на реальную действительность. Его стихи носят отпечаток его личности, отражают окружающую его житейскую обстановку. Лицейская его поэзия индивидуальна, почти автобиографична и язык ее ближе к разговорному, чем у его учителей.
«К другу стихотворцу». Первое печатное произведение
Пушкина (1814 г.).Пушкин рано проявляет свою самостоятельность. Темы Жуковского и Батюшкова он перерабатывает по-своему, придавая им иной смысл, часто противоположный. Его «Городок» (1815) навеян стихотворением «Мои пенаты» Батюшкова и написан в той же условной форме послания; здесь повторяется весь план «Моих пенатов», сохраняются почти все батюшковские мотивы (уединенный домик, воин, возлюбленная поэта и пр.). Однако, при всей близости, эти два произведения имеют и существенные различия. У Батюшкова — неопределенная полуантичная обстановка, «слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни», как отмечал впоследствии Пушкин (заметки на полях «Опытов» Батюшкова; XII, 272—273). А у Пушкина — реальное Царское Село с его пейзажами и обитателями; мифология ограничивается только упоминанием Аполлона, Геликона, Элизия и т. д. В «Моих пенатах» Батюшкова — условный суворовский солдат, «трикраты уязвленный на приступе штыком», с «двуструнной балалайкой» и пр. В пушкинском «Городке» вместо этого — гораздо более конкретный «добрый мой сосед, семидесяти лет, уволенный от службы майором отставным», «с Очаковской медалью на раненой груди», рассказывающий «за дедовскою кружкой» о «баталье» и пр.
Элементы реализма видны и в нарисованном в «Городке» портрете старушки, рассказчицы городских новостей. Самая речь принимает здесь бытовой, народный колорит:
Фома свою хозяйку
Не за что наказал,
Антошка балалайку,
Играя разломал, —
Старушка все расскажет;
- 176 -
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает все свое...Заимствованную условную форму пятнадцатилетний поэт использует для простого, непосредственного рассказа о своих думах и переживаниях. Авторские эмоции выражены и в мотиве поэтического бессмертия:
Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет...Черты самостоятельности Пушкина сказываются и в романсе «Казак» (1814), написанном под влиянием романса Батюшкова «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь»), который впоследствии оценен был Пушкиным такой заметкой на полях: «Цирлих манирлих. С Д. Давыдовым не должно и спорить» (XII, 277). В основу пушкинского романса положена украинская песня.1 Сюжет обработан в народном духе; гусар-офицер заменен донским казаком, действие перенесено в деревенскую обстановку:
Вот пред ним две, три избушки, —
Выломан забор;
Здесь — дорога к деревушке,
Там — в дремучий бор...Заимствования из поэзии Жуковского превращаются нередко в скрытую полемику. Пушкинский «Романс» (1814) навеян двумя стихотворениями Жуковского, написанными в 1813 году («Сиротка» и «Песня матери над колыбелью сына»). Тема брошенного ребенка трактуется Жуковским в сентиментально-идиллическом плане. Стихотворение «Сиротка» посвящено восхвалению благотворительной деятельности императрицы Марии Федоровны в связи с французским нашествием: ребенок, оставленный «родной» матерью, находит мать «добрую» в лице императрицы, которая устраивает его в «гостеприимную обитель», т. е. в воспитательный дом. Содержание «Песни матери» составляет главным образом тоска об изменившем возлюбленном. Финал здесь тоже более или менее благополучен: мать обещает сыну быть «хранителем» его «нежных лет», в уверенности, что и тот будет ей «на старости утешитель». Пушкин вносит принципиальную поправку, и сентиментальная тема Жуковского в его обработке превращается в протест против социальной несправедливости:
Закон неправедный, ужасный
К страданью присуждает нас.2Благодаря бытовой остроте темы, а также простоте языка и мелодичности стиха, отроческое стихотворение Пушкина приобрело широкую популярность. «Романс» стал народным романсом, вошел во все песенники, перекладывался на музыку и получил огромное распространение в лубочных изданиях.
- 177 -
Традиционные условные темы, мотивы, жанры оживают под пером Пушкина, обогащаясь деталями окружающей жизни и личными авторскими эмоциями. Уже в первом печатном его дебюте — риторическом послании «К другу стихотворцу» (1814), по внешности типичном для карамзинской школы, — сказывается его оригинальность. Он вводит в послание бытовую сценку между «немного пьяным» священником и мужиком, сценку, в которой обнаруживает свои антиклерикальные настроения. Ода «Воспоминания в Царском Селе» (1814), написанная для экзамена, по форме напоминает элегии Батюшкова («На развалинах замка в Швеции», «Переход через Рейн»). Однако и здесь Пушкин проявляет свою творческую индивидуальность. Он придает конкретные черты пейзажу, образующему вступление, вводит автобиографические мотивы (детские воспоминания о «краях Москвы»), по-своему формирует строфу из четырехстопных и шестистопных ямбов.
Все мотивы «Послания к Юдину» (1815) — вражда к роскоши, мечты о деревне и гусарских подвигах, возлюбленная раненого героя — условны, как условна самая форма послания. Но своеобразная интонация Пушкина и его темперамент придают всему этому жизненность, новизну и свежесть. Деревня — не вообще деревня, а конкретное Захарово:
Мне видится мое селенье,
Мое Захарово...Особенно ярко отражается живая личность юноши Пушкина в стихотворениях «легкого» жанра: «К Наташе» (1814), «Пирующие студенты» (1814), «Воспоминание» (1815) и др. Стихотворение «К Наташе», несомненно, автобиографично; сравнивая себя с «чижиком в клетке тесной», Пушкин имеет в виду свою лицейскую «келью». «Пирующие студенты» — шутливая пародия на «Певца во стане русских воинов», откуда заимствованы и размер и строфа; здесь фигурируют лицейские друзья Пушкина, каждому из которых дается четкая характеристика. В основе «Воспоминания» реальное событие — лицейская шалость (история с «гогель-могелем», рассказанная в воспоминаниях И. И. Пущина о Пушкине). В такого рода стихах отражен пока еще узкий круг впечатлений Пушкина, но важно отметить, что он все же стремился уже тогда воплотить в своем творчестве, пусть ограниченный кругозором лицеиста, запас жизненных наблюдений.
Значительное место в лицейской поэзии Пушкина занимают литературные вопросы: характеристики старых и новых авторов, русских и иностранных, нападки на классиков-рутинеров и т. д. В послании «Моему Аристарху» (1815) Пушкин энергично защищает свободу вдохновения от догматических правил школьных пиитик, иронизируя над своими критиками-педантами и намеренно, в полемических целях, преувеличивая небрежность своей работы над стихами, которые будто бы у него «текут и так и сяк». По устному преданию, послание адресовано лицейскому профессору Н. Ф. Кошанскому.1 В ряде посланий и эпиграмм Пушкин высмеивает деятелей реакционной «Беседы» («К другу стихотворцу», 1814; «К Батюшкову», 1814; «Городок», 1815; «К Жуковскому», 1816, и др.). Главными объектами его насмешек являются граф Д. И. Хвостов
- 178 -
(«Графов», «Свистов» и т. д.), князь С. А. Ширинский-Шихматов («Рифматов»), тогда уже умерший С. С. Бобров («Бибрус»), князь А. А. Шаховской («Шутовской») и глава «Беседы» — А. С. Шишков. Полемике против литературных староверов посвящена и сатира «Тень Фонвизина» (1815), написанная в виде литературного обозрения, по типу сатиры Батюшкова «Видение на берегах Леты».
Первым эпическим опытом Пушкина явилась неоконченная поэма «Монах» (1813). Другая поэма — «Бова» (1814) — должна была развернуться, повидимому, в широкую политическую аллегорию на русском сказочном материале. Тема переворотов, образы низложенного и убитого монарха Бендокира Слабоумного, узурпатора Дадона и законного наследника престола — Бовы, запертого под замком, — все это служило намеком на политические события недавнего прошлого как в Европе (казнь Людовика XVI и диктатура Наполеона), так и в России (убийство Павла I). Вся поэма строилась на противопоставлении глупости и тирании правителей, с одной стороны, и русской народной доблести, олицетворяемой в Бове, — с другой. Характерно, что в отрывке отводится значительное место служанке Зоиньке, между тем как в народной повести девушка Чернавка, освобождающая Бову, появляется только в одном эпизоде. Литературным образцом при создании этого произведения была поэма Радищева «Бова».
Лицейские стихи Пушкина носят отчетливые черты автобиографизма. По ним можно составить представление о его жизни в годы учения, об увлечениях поэта, о его литературных интересах. В этих стихах названы имена писателей, которых читал и изучал Пушкин. Среди них — Радищев, Державин, Ломоносов, Дмитриев, Крылов, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Фонвизин, Озеров, Княжнин и другие. Из писателей иноземных Пушкин, кроме античных, упоминает Вольтера, Руссо, Мольера, Лафонтена, Парни и др. Все это свидетельствует о широчайшем круге чтения Пушкина, начиная с ранних лет. Однако в буржуазно-либеральных «изысканиях» о Пушкине нарочито преуменьшалось значение для него русских предшественников и неизмеримо преувеличивалось значение западноевропейской литературы. В этих работах искусственно подбирались «источники» и «параллели» чуть ли не к каждому мотиву пушкинских стихов. Конечно, Пушкин был знаком со всеми достижениями мировой литературы и критически их осваивал. Он высоко ценил, в частности в лицейские годы, у Вольтера и Руссо те черты, за которые французских просветителей ненавидели реакционеры и во Франции и в России. Но все эти чтения и изучения проходили в процессе выработки Пушкиным своего индивидуального, национально-самобытного стиля и ни в коей мере не являлись копированием «иностранных образцов», которое он всегда высмеивал и осуждал. Уже в лицейском творчестве выразились оригинальность и неповторимое национальное своеобразие пушкинского гения.
3
9 июня 1817 года, после экзаменов в Лицее, состоялся выпускной акт. По окончании Лицея Пушкин был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел.
Пушкин провел в Петербурге три года (1817—1820), причем два раза — в 1817 и в 1819 годах — ездил летом в Михайловское, имение матери. «Причисление» к Коллегии иностранных дел, «впредь до поступления на штатное место», было лишь формой и нисколько не
- 179 -
стесняло поэта. Он вел жизнь, которую сам потом называл «рассеянной». Пушкин вращался среди столичной дворянской интеллигенции, преимущественно среди литераторов и артистов. Он бывал у княгини Авдотьи Голицыной, за которой одно время ухаживал, у А. Н. Оленина, где произошла его первая встреча с А. П. Керн, у Никиты Всеволожского, где с весны 1818 года происходили собрания общества «Зеленая лампа»; с 1818 года он сделался одним из постоянных гостей князя А. А. Шаховского; вместе с тем продолжались его дружеские отношения с Чаадаевым, начавшиеся в Царском Селе; он посещал также и «общество умных» у Николая Тургенева и Никиты Муравьева; к этому же времени относится и сближение его с П. А. Катениным.
Одним из увлечений Пушкина был театр. До открытия в 1818 году Большого каменного театра спектакли всех жанров шли в Малом театре. Пушкина интересовали преимущественно драматические и балетные спектакли. Театральные его впечатления отразились впоследствии в первой главе «Евгения Онегина». В 1815—1820 годах усилились связи русского театра с литературной и общественной жизнью: он все более становился ареной борьбы литературных и общественных партий. Театральная полемика по вопросам репертуара и школы игры занимала видное место в «Сыне отечества» и в других журналах. Ожесточенные театральные прения велись у Шаховского. Свои театральные взгляды Пушкин высказал в неоконченной статье «Мои замечания об русском театре», где с презрением говорил о той публике, которая является «из казарм и совета занять первые ряды абонированных кресел», но которая равнодушна к судьбам искусства («к тому же русского», — добавляет Пушкин; XI, 10).
Годы, проведенные Пушкиным в Петербурге (1817—1820), были годами большого общественного возбуждения после наполеоновских войн. Мощный патриотический подъем, вызванный победой над врагом, сочетался в передовом русском обществе с горячим желанием видеть Россию преобразованной на новых политических началах. Бессмысленность надежд на царские реформы становилась все более очевидной. Организация реакционного Священного союза во главе с Александром I для подавления революционного движения в Европе, а внутри страны — чудовищная крепостническая эксплоатация, цензурный гнет, военные поселения, — все это способствовало росту оппозиционных настроений и привело к образованию тайных политических обществ — Союза спасения (1816—1817) и Союза благоденствия (1818—1821). Программа декабристов заключала в себе требования ликвидации крепостного права и замены самодержавия конституционной монархией или республикой (о форме правления велись споры, но уничтожение абсолютизма было общим желанием деятелей тайных обществ).
Сам Пушкин не входил в тайное общество, но был связан дружбой или знакомством со многими из его членов. По словам Вяземского, «хоть он <Пушкин> и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере».1
Пушкин был в постоянном общении с членами тайного общества, с которыми встречался у Николая Тургенева и у Чаадаева: членом тайного общества был и лицейский друг Пушкина — И. И. Пущин. Пушкин догадывался о существовании тайного общества и хотел вступить в него. С другой стороны, и у Пущина возникала мысль о его принятии. Однако
- 180 -
Пущин сомневался в необходимости вовлечения молодого поэта в тайное общество.
Политические события на Западе (в Германии убийство Коцебу Карлом Зандом в марте 1819 года; испанская революция в январе 1820 года; убийство герцога Беррийского Лувелем во Франции в феврале 1820 года) отозвались и в России, с одной стороны, усилением правительственной реакции, а с другой — активизацией наиболее передовых элементов дворянского общества. Мистицизм, давно уже свивший гнездо при дворе, с 1819 года был одним из орудий правительственной реакции и использовался, при помощи деятелей Библейского общества, для борьбы с просвещением и всяким свободомыслием.
Все эти события политической жизни в России и на Западе остро воспринимались Пушкиным, способствовали дальнейшей эволюции его мировоззрения по пути отрицания существовавших порядков. В его лирике петербургского периода отражены его связи с передовыми кругами вольнолюбивой молодежи, связанными с тайными организациями декабристов.
Участие Пушкина в «Зеленой лампе», этом вольном кружке Союза благоденствия, отражено в ряде его стихов, адресованных членам кружка — Энгельгардту, Всеволожскому и др. В этих стихах Пушкин бросал вызов воинствующему мистицизму. Официальному ханжеству и лицемерию он противопоставлял независимость мнений, личную свободу, религиозное вольнодумство. Политическая тематика господствует в пушкинской лирике 1817—1820 годов. Тотчас по выходе из Лицея Пушкин стал выразителем передовых идей своего времени. Самым ярким проявлением раннего радикализма, господствовавшего в кругах Союза спасения, была пушкинская ода «Вольность» (1817), образцом для которой послужила одноименная ода Радищева. Агитационная сила этого стихотворения заключалась в страстном обличении деспотизма, рабства и в призыве к борьбе с «неправедной властью», которая взошла «в сгущенной мгле предрассуждений». Нарисованная здесь Пушкиным картина «страдания народов» носила характер резкого и гневного обобщения. Что же касается той положительной программы, которая отражена в этой оде, то она связана с идеологией просвещенного дворянства: идеальный строй требует крепкого сочетания «вольности святой» с «законами мощными». Казнь Людовика XVI, восшествие на трон «самовластительного злодея» Наполеона, — все это служит поучительным примером того, к чему приводит «неправедная власть». И казнь Людовика XVI и убийство Павла I осуждаются Пушкиным, как преступления против «вечного закона» (т. е. «естественного» права). «Секиру», отрубившую голову французского короля, он называет «преступною»; удары, поразившие Павла, — «бесславными». В этом отношении пушкинская ода по своему теоретическому содержанию умереннее известной оды Радищева, где восхваляется без всяких оговорок «право мщенное природы», которое «на плаху возвело царя» (английского короля Карла I). Но пафос революционного обличения и призыва к сопротивлению, с каким написана пушкинская ода, сделал из нее одно из самых значительных произведений декабристской агитационной литературы. «Вольность» сразу же разошлась по России в большом количестве списков.
К 1818—1819 годам относится несколько пушкинских «ноэлей», из которых до нас дошел только один «ноэль» — «Сказка», написанный по поводу конституционной речи Александра I в польском сейме в Варшаве в 1818 году. Пушкин высмеивает здесь наивные надежды на конституционную реформу свыше.
- 181 -
«Вольность». Автограф Пушкина.
- 182 -
Боевым революционным духом, пламенным патриотизмом проникнуто послание к Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...», 1818). В этом послании высказывается убеждение, что свобода будет установлена «на обломках самовластья», т. е. революционным путем: «Россия вспрянет ото сна». Это стихотворение стало одним из любимейших произведений всех поколений русских революционеров.
На политические темы дня Пушкин отзывался резкими эпиграммами, из которых сохранились только некоторые: на А. С. Стурдзу («Холоп венчанного солдата»), на Аракчеева («Всей России притеснитель»), на Фотия, на А. Н. Голицына, наконец, на самого Александра I («Воспитанный под барабаном...»). Дошедшая до нас эпиграмма на Карамзина с присущим Пушкину лаконизмом раскрывает реакционную концепцию «Истории государства Российского».
Теме освобождения крестьян посвящено стихотворение «Деревня», написанное в 1819 году под непосредственным впечатлением от поездки в Михайловское летом этого года. Яркое обличение крепостного рабства, бесчеловечности и жестокости «барства дикого», которое насильственно присвоило «и труд, и собственность, и время земледельца», сделало это стихотворение документом революционной агитации, несмотря на то, что методы борьбы с рабством и здесь (как в оде «Вольность») провозглашались умеренные — распространение идей «свободы просвещенной». «Деревня» преследовала цели легальной пропаганды, в духе Союза благоденствия, и получила широкое распространение в списках.
В стихотворных посланиях Пушкина друзьям немалое место занимают мотивы политические: язвительные замечания «насчет небесного царя, а иногда насчет земного» («NN» — В. В. Энгельгардту), полемические выпады против казарменно-бюрократического Петербурга — «мертвой области рабов» и «капральства» («Всеволожскому») и т. д. Те же мотивы развиваются и в других дружеских интимных посланиях, которые вообще являются преобладающим жанром лирики Пушкина 1818—1819 годов. Так, в послании к А. Ф. Орлову говорится о «презренной палке палача», т. е. о телесных наказаниях в армии, в послании к князю А. М. Горчакову — о «святых невеждах», «почетных подлецах», о «мистики придворном кривляньи» и т. д. И мотивы эпикуреизма, содержащиеся в стихотворениях этих лет, приобретали особый смысл в связи с религиозно-мистическим направлением, которое, постепенно усиливаясь, в 1819 году стало основой реакционной правительственной политики. Песни «легкокрылой любви», «легкокрылого похмелья», молодости и вакхического веселья являлись дерзким вызовом по адресу показного благочестия, которым прикрывалась правительственная реакция.
Духом борьбы с ханжеской моралью в жизни и литературе проникнута и поэма «Руслан и Людмила», законченная в марте 1820 года.
Поэма Пушкина была большим литературным событием. «Причиною энтузиазма, возбужденного „Русланом и Людмилою“, — писал Белинский, — было, конечно, и предчувствие нового мира творчества, который открывал Пушкин всеми своими первыми произведениями...» (XII, 4).
В «Руслане и Людмиле» отразились черты нового романтизма, не пассивно-мечтательного и подражательного, как у Жуковского, но задорного, жизнеутверждающего, народно-самобытного. Победа Пушкина была признана Жуковским, который подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного-учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 марта 26 великая пятница».
- 183 -
П. Я. Чаадаев.
Портрет работы неизвестного художника
(1810-е годы).Существенно новым был народный, национально-самобытный характер пушкинской поэмы. Именно это и послужило причиной нападок со стороны рутинеров-классиков, усмотревших в ней «новый род сочинений». Тотчас по напечатании в «Сыне отечества» отрывка из третьей песни (1820, №№ 15 и 16) против Пушкина выступил в «Вестнике Европы» (1820, № 11) критик, подписавшийся «Жителем Бутырской стороны» (А. Глаголев). Он негодовал на чрезмерную, с его точки зрения, близость пушкинской поэмы к народным источникам, указывая на «низкие картины», достойные, по его словам, Кирши Данилова, и особенно подчеркивал, что поэт «для большей точности или чтобы лучше выразить всю прелесть старинного нашего песнословия... и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику...» (219).
Впечатления от поэмы Пушкина критик сравнивал с впечатлением, которое произвел бы «гость с бородою, в армяке, в лаптях», ворвавшийся в «московское благородное собрание» и закричавший: «здорово ребята!».
Поэмы на тему о русских богатырях были известны и раньше. Первым образцом в этом роде был незаконченный «Илья Муромец» Карамзина (1794). Карамзину следовал Н. А. Львов в «богатырской песне» «Добрыня», которая тоже осталась незаконченной. К категории «богатырских» поэм принадлежали также шуточные поэмы А. Н. Радищева (незаконченный «Бова»), Николая Радищева («Алеша Попович» и «Чурила Пленкович») и Хераскова («Бахариана»). Но все эти «богатырские поэмы» не противоречили классической поэтике, так как они не выходили, за исключением незаконченных «Ильи Муромца» Карамзина и «Добрыни» Львова, за пределы допускаемого ею шутливого жанра. Народность их была чисто условная; кроме имен героев и некоторых ходячих сказочных мотивов, в них ничего народного, собственно, и не было. Пушкинская же поэма и по своему содержанию, и по объему (шесть песен), и по стройности композиции, и по вложенному в нее лиризму принадлежала к эпическому жанру. Она вскоре была включена в разряд произведений «образцовых». В «Словаре» Н. Остолопова (1821) новая пушкинская поэма, название которой автор еще не твердо помнил (она названа «Людмила и Руслан»), приведена в пример «поэмы романической» (или романтической), определяемой как «стихотворческое повествование о каком-либо происшествии рыцарском, составляющем смесь любви, храбрости, благочестия и основанном на действиях чудесных». Там же в качестве примеров «описания» приводились описания садов Черномора
- 184 -
(песнь II) и поля битвы (песнь III); в качестве примера «подобия» цитировалось сравнение Фарлафа с зайцем (песнь II).1
Поэма Пушкина была гораздо ближе к подлинной народности, чем прежние «богатырские» поэмы, хотя с народной поэзией Пушкин знакомился по тем же печатным источникам, что и его предшественники. Материалом ему служили «Древние русские стихотворения» Кирши Данилова (1804), сборники сказок, представлявшие собой литературную обработку сказочных сюжетов, большей частью книжного происхождения («Русские сказки» в 10 частях, составленные В. А. Левшиным и изданные Н. И. Новиковым в 1780—1783 годах, и др.). Однако элементы народного стиля сказываются здесь и в былинном, по типу, сюжете, и в отдельных эпизодах, заимствованных из сказок, и в языке.
Поэма «Руслан и Людмила» вышла в свет в начале августа 1820 года. Это было первое крупное произведение Пушкина. Вместе с тем пушкинская поэма явилась разрешением назревшего в литературе вопроса о новой поэме, и по своему содержанию и по форме противоположной старой классической поэме. «Русланом и Людмилой» был определен, в основных чертах, тот новый тип поэмы, который господствовал потом на протяжении двух-трех десятков лет. Новым был самый стих «Руслана и Людмилы» — четырехстопный рифмованный ямб, которому Пушкин придал свободное лирическое движение, не стесненное строфическим делением и правильным чередованием рифм. До «Руслана» четырехстопный ямб применялся только в лирических жанрах, в балладах и т. д. Что касается поэм, то его применяли до Пушкина Херасков (частично в «Бахариане», 1803) и Николай Радищев, который, однако, делил его на строфы («Алеша Попович», 1801). Позднее К. Полевой так писал о значении стиха «Руслана»: «Самый стих, избранный Пушкиным для первого его большого опыта, не мог не обратить на себя внимания: он краток, сообразен с юною пылкостью предмета и для современников звучал освобождением от длинных стихов тогдашнего поколения писателей...».2
«Русланом и Людмилой» обозначена также заметная веха в история развития русского литературного языка. Хотя в языке этой поэмы имеются признаки поэтического языка и Батюшкова и Жуковского, однако в нем уже отчетливо обнаруживается намеренный отход от однообразной, однотонной речи карамзинистов, стремление к сближению живой народной речи и литературного языка. Допуская здесь использование свойственных карамзинистам новообразований, иногда даже противоречащих строю русского языка, Пушкин или считал их неотъемлемыми принадлежностями риторического стиля, от традиции которого тогда еще не освободился, или вводил их потому, что эти новообразования казались удобными для стиха своей сжатостью (например: «Светлеет мир его очам», «Он ищет позабыться сном», «Их горделивые дружины Бежали северных мечей»). Имеются в поэме отчасти и славянизмы вроде «глас», «млад» и т. д. Вариируя их (например, «млад» — «В нем кровь играет молодая»), Пушкин увеличивал этим гибкость языкового материала. Но он допускал славянизмы главным образом как стилистический элемент, оттенявший серьезность (по пушкинскому выражению — «важность»3) и трагизм, например: «Княжне воздушными перстами Златую косу заплела», «Он узнает сей буйный глас» (Руслан — Рогдая) и т. п. Развивая
- 185 -
в этом отношении традицию своих предшественников, Пушкин и сам заимствовал славянизмы, органически включал в «просторечивое употребление», например: «Но, витязь, будь великодушен! Достоин плача жребий мой», «Я, каждый день, восстав от сна», «Довольно... благо мне не надо Описывать».
«К Чаадаеву». Список стихотворения.
Что касается так называемого «просторечия», то к нему Пушкин обнаружил наибольшее тяготение. Не только целые эпизоды поэмы написаны сплошь живым, разговорным языком (например, Людмила у зеркала с шапкой-невидимкой), но элементами разговорной речи пересыпаны разные виды фразеологии, причем местами выражения доведены до предельной степени
- 186 -
простого, «бытового» говора. Так разрушалась Пушкиным карамзинская система салонного языка с ее строгим отбором «сельских слов» по принципу соответствия «любезным идеям» галантного писателя.
Характерно, что Пушкин свой сказочно-былинный сюжет стремится вдвинуть в определенные исторические рамки. В шестой песне «Руслана и Людмилы» исправлен обычный былинный анахронизм; здесь изображается осада Киева печенегами, а не татарами, как в былинах. Можно думать, что эта «историчность» шестой песни связана с появлением в 1818 году восьми томов «Истории государства Российского» Карамзина. Историческая тенденция сказывается и в заимствовании имени Фарлафа, о котором говорится в летописи.
Не заключая в себе прямых мотивов современности, пушкинская поэма была вместе с тем в высшей степени современной. В литературном отношении это была смелая оппозиция и «классикам»-рутинерам, и Жуковскому. Своим «Русланом» Пушкин стремился освободить русскую поэму от влияния классицизма и немецкого мистического романтизма и направить ее по пути романтизма боевого и протестующего. Победа Пушкина была решающая: она на многие годы определила дальнейшее развитие русской литературы. Туманной внеисторической сказочности «Двенадцати спящих дев» и пассивно-мечтательному романтизму Жуковского Пушкин решительно противопоставлял «историзм», которому подчинен был фантастический сюжет его поэмы, жизнерадостную романтику и задорную насмешливость. В этом боевом характере поэмы заключается причина того, что, по словам Белинского, «ни одно произведение Пушкина... не произвело столько шума и криков, как „Руслан и Людмила“...» (XI, 189).
Пушкинская поэма писалась в годы расцвета придворного мистицизма, и «земная» эротика «Руслана» приобретала в этой обстановке особенную остроту. В этом смысле «грешная» поэма Пушкина аналогична его стихотворениям периода «Зеленой лампы». Воспевание любовных шалостей и веселых пиров в стихах Пушкина периода «Зеленой лампы» было демонстрацией против казенного ханжества. Такую же роль играла любовная тема и в «Руслане». Самым резким проявлением полемической направленности «Руслана и Людмилы» была пародия на «Двенадцать спящих дев» Жуковского в четвертой песне поэмы. «Обличая» мистическую «прелестную ложь» Жуковского и подменяя религиозные мотивы эротическими, Пушкин этим самым заявлял протест против немецкого мистического романтизма.
Обвинения в «безнравственности», которые предъявлялись Пушкину, были в то же время замаскированными обвинениями в либерализме. В журнале «Невский зритель» (1820, № 7) помещена была в странном противоречии с общей линией этого журнала резкая статья против Пушкина. Автор статьи высказывал сомнение в праве называть «Руслана и Людмилу» поэмой, так как она не ставит перед собой религиозно-нравственные задачи и предметом своим не имеет важные события. Критик усматривает некоторую вольность в том, что поэт «между необыкновенными героями своей поэмы поместил и историческое лицо: великого князя Владимира, просветителя России»; «всякий христианин, — замечал он, — при одном имени его исполняется чувств благотворения. Впрочем хорошо, что он показывается только в первой и последней песнях поэмы». Наконец, критик останавливался на картинах «сладострастия» и намекал на те последствия, к каким привела подобная литература во Франции в конце XVIII века. «Тогда как во Франции, в конце минувшего столетия, стали в великом множестве появляться подобные сему произведения, — писал он, — произошел не только упадок словесности, но и самой нравственности» (т. е. революция).
- 187 -
«Руслан и Людмила». Титульный лист
первого издания поэмы (1820 г.).Впоследствии (при переиздании поэмы в 1828 году) Пушкин смягчил некоторые наиболее резкие места (в том числе и пародию на Жуковского) и присоединил «пролог» («У лукоморья дуб зеленый...»), основанный на подлинной, записанной со слов Арины Родионовны, народной присказке.
4
В период, когда Пушкин закончил «Руслана», все более и более усиливались его революционные настроения. Он писал резкие эпиграммы, большая часть которых до нас не дошла. Рассказывали, что он показывал в театре портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, с надписью: «урок царям». Пушкин сделался предметом злостных сплетен его врагов; эти сплетни доходили до отца и вызывали тяжелые семейные сцены. Петербург опротивел Пушкину. Еще в 1819 году он собирался поступить на военную службу и ехать с генералом Киселевым на юг, в Тульчин.
В апреле 1820 года он писал князю Вяземскому: «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу» (XIII, 15). Повидимому, тогда он и условился с семейством генерала Н. Н. Раевского, героя 1812 года, ехать вместе на Кавказ. Желание Пушкина скоро исполнилось, но совсем не так, как он думал.
До правительства дошли его политические стихи. Ходили слухи, что Александр I хочет посадить Пушкина в крепость или сослать в Соловецкий монастырь. Жуковский, А. И. Тургенев и Чаадаев уговорили осторожного Карамзина заступиться за молодого поэта. По ходатайству Карамзина и Жуковского наказание, грозившее Пушкину, было заменено ссылкой на юг. Его назначили на службу в Екатеринослав, к генералу Инзову, попечителю колонистов Южного края. 6 мая 1820 года Пушкин покинул Петербург. Печатание «Руслана» взяли на себя Жуковский и Гнедич.
Раевские застали Пушкина в Екатеринославе и взяли с собой на Кавказ полубольного: по приезде в Екатеринослав он схватил горячку. Два месяца, с июня до августа, он провел в Пятигорске и Кисловодске, а затем, в начале августа, поехал с Раевскими через Тамань и Керчь в Феодосию, а оттуда на корабле в Гурзуф (где провел три недели). В Крыму и на Кавказе Пушкин много беседовал с Николаем Раевским, читал с ним Байрона. Впечатления от крымской природы, знакомство с новыми краями, само путешествие, — все это произвело на Пушкина глубокое впечатление. При переезде из Феодосии в Гурзуф, на корабле, он написал одну из лучших своих элегий — «Погасло дневное светило...».
- 188 -
Управление южных колонистов было переведено в Бессарабию, в Кишинев, куда Пушкин и приехал 21 сентября 1820 года. Разноплеменное бессарабское население, среди которого, кроме коренных жителей-молдаван, были и турки, и румыны, и евреи, и греки, и цыгане, привлекало к себе внимание Пушкина. Однажды он побывал в далеком цыганском таборе. Пушкин собирал молдаванские песни и серьезно принялся за изучение истории края по книгам, которые давал ему И. П. Липранди, знаток Бессарабии (тогда член тайного общества). Начальник Пушкина, старый генерал Инзов, в юности был масоном и соприкасался с кружком Новикова. Пушкина он поселил у себя в доме и относился к нему дружелюбно. Когда Инзову приходилось сажать его под арест за столкновения с молдаванскими «боярами», он являлся к нему потолковать о «гишпанской революции» и «конституции кортесов».
Бессарабия была местом расположения Второй армии, при штабе которой, в Тульчине, находилось средоточие Южного общества, руководимое Пестелем. Южные декабристы придерживались, в большинстве, республиканской программы, стояли за революционный метод борьбы и вели пропаганду среди солдат, подготовляя их для переворота. Кишинев был одним из важных центров Южного общества. Там стояла дивизия Михаила Орлова, где, кроме самого начальника, членами Общества были и некоторые офицеры, в том числе майор В. Ф. Раевский, человек стойких революционных убеждений, которого Пушкин прозвал «спартанцем». Общение с В. Ф. Раевским, обладавшим обширными историческими и политическими знаниями, благотворно отражалось на идейном развитии Пушкина. Сильное впечатление произвел на Пушкина Пестель, приезжавший в Кишинев в апреле 1821 года. В пушкинском кишиневском дневнике написано под 9 апреля: «... утро провел я с Пестелем, умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» (XII, 303). Был еще один декабристский центр, где бывал Пушкин, — Каменка, имение братьев Давыдовых, в трехстах километрах от Киева в юго-восточном направлении. В Каменке Пушкин провел всю зиму 1820—1821 года (с ноября по март). Один из хозяев Каменки, В. Л. Давыдов являлся главой особой Каменской управы Южного общества.
Революционное возбуждение, которым Пушкин был охвачен в Петербурге, в этой атмосфере еще более возросло. Политическая тема в его лирике южного периода достигает наибольшей остроты. В эти годы он окончательно пересматривает свое отношение к элегической поэзии, которая занимала столь большое место в его творчестве лицейских лет. В 1822 году Пушкин в одном из критических набросков писал, что «не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется» (XI, 19).
Хотя Пушкин тяжело переживал свою ссылку, но этот удар не сломил его стойкости и независимости, его преданности идеям свободы. В стихотворении «К Овидию» (1821) Пушкин сопоставлял свою судьбу с судьбой римского поэта, который был сослан императором Октавианом Августом на побережье Черного моря. Пушкин в этом стихотворении подчеркивал свое нежелание, в отличие от Овидия, просить милости императора. В рукописном тексте оно кончалось признанием:
Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.
- 189 -
В. А. Жуковский.
Рисунок Э. Эстеррейха (1820 г.). Подарок Жуковского с надписью
Пушкину.Послание «К Овидию» Пушкин считал одним из лучших своих стихотворений. Его переживания, размышления о своей судьбе изгнанника отразились также в послании «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет», 1821). Здесь говорится о верности идеям свободы, о стремлении «в просвещении стать с веком наравне», вспоминаются «вольнолюбивые надежды» (эта строка была запрещена цензурой). В некоторых других посланиях, обращенных к другим своим друзьям, Пушкин также подчеркивает стойкость своих воспоминаний о петербургских политических связях. В стихотворении, обращенном к председателю «Зеленой лампы» Я. Н. Толстому, он говорит с грустью о своей оторванности от этого кружка, где господствовали «вольные музы» и «милое равенство». Стихотворение
- 190 -
«Ф. Н. Глинке» («Когда средь оргий жизни шумной...», 1822) характеризует Глинку как «великодушного гражданина»1 и клеймит измену тех мнимых друзей, которые «изменили» поэту, когда его постигли «грозные гоненья».
В лирических стихотворениях, написанных на юге, Пушкин отражает ту напряженную политическую атмосферу, в которой в то время созревали замыслы революционного переворота. Эти настроения отражены в стихотворении «В. Л. Давыдову» (1821), где выражена надежда на скорую революцию:
... мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся.В этом же плане строился пушкинский сюжет задуманной им в тот период трагедии «Вадим». События далекого прошлого использовались здесь как аналогии к современной действительности:
Вражду к правительству я зрел на каждой встрече...
Уныние везде...
Встревожены умы, таится пламя в них.
Младые граждане кипят и негодуют.В стихотворении «Кинжал» (1821) впервые Пушкин воспевает насильственный путь свержения деспотизма (хотя вновь говорит здесь об отрицательном отношении к левому крылу французской революции — якобинцам как к «исчадью мятежей»). Это стихотворение распространилось в огромном количестве списков (его, между прочим, декабрист М. П. Бестужев-Рюмин читал на собрании Общества соединенных славян, когда оно принимало решение о присоединении к Южному обществу). Эволюция мировоззрения Пушкина нашла характерное преломление и в стихотворении «Наполеон» (1821). Здесь нет ни идеализации Наполеона, как якобы сверхисторической личности, ни того первоначального суждения о Наполеоне, которое звучало в стихах Пушкина-лицеиста, разделявшего наивную веру в Бурбонов как восстановителей свободы. Теперь историческая роль Наполеона в оценке Пушкина двойственна. Он — тиран, смиритель свободы; этим он заслужил ненависть народов. Но он пробудил народную Немезиду — сначала в России, затем в Европе. Вот почему свое обличительное стихотворение Пушкин заканчивает словами о том, что Наполеон
... миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.Пушкин отметил сам (в письме от 1 декабря 1823 года к А. И. Тургеневу), что последняя строфа, — стало быть, и строка о «вечной свободе» мира, — имела смысл в 1821 году, но потеряла его в 1823, и тем подчеркнул связь ее с европейскими революциями начала 20-х годов. Все это характеризует полевение политических взглядов Пушкина в южный период. Он попрежнему кипел жаждой деятельности и стремился попасть в тайное общество. Якушкин описывает любопытную сцену, происшедшую в Каменке в ноябре 1820 года, когда здесь был Пушкин. Члены тайного общества (Якушкин, Михаил Орлов, Охотников и сам хозяин — В. Л. Давыдов) затеяли в присутствии Пушкина спор о том, могло ли бы тайное общество принести пользу России. Пушкин с жаром ухватился
- 191 -
«Руслан и Людмила». Фронтиспис-виньетка.
Гравюра М. Иванова по рисунку И. Иванова.
Эскиз виньетки А. Н. Оленина (1820 г.).
- 192 -
за эту мысль и стал доказывать, что Общество имело бы огромное значение. Когда же выяснилось, что весь разговор был только шуткой, Пушкин, по словам Якушкина, чуть не заплакал. Не будучи членом Общества, Пушкин, однако, содействовал его целям не только литературными произведениями, но и путем личной агитации. Один полицейский агент писал в своем донесении: «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство». Кишиневский сослуживец Пушкина кн. П. И. Долгоруков заметил в своем дневнике, что Пушкин признавал «почтенным» только «класс земледельцев» и особенно нападал на дворян. Он приводит такую фразу: «Их надобно всех повесить».
Пушкин с напряженным вниманием следил за революционной борьбой в европейских странах. В апреле 1821 года вспыхнуло греческое восстание, которое Пушкин приветствовал с восторгом, ожидая от него важных последствий и для России и для всей Европы (откликами на греческие события являются его стихотворения «Война», «Генералу Пущину» и др.). Он лично знал в Кишиневе деятелей гетерии, греческого революционного общества, в том числе и предводителя восстания — князя Александра Ипсиланти.
Однако реакция в Европе торжествовала. В 1821 году австрийцы подавили революцию в Неаполе и Пьемонте. В 1823 году французские войска сокрушили революционную Испанию. На эти события и на усиление реакции в России Пушкин отозвался стихотворением «Свободы сеятель пустынный» (1823), в котором выразил глубокую скорбь по поводу неудач революционных попыток и разочарование тем, что «мирные народы» покорно несут «ярмо с гремушками да бич». Эти же настроения отражены в стихах «Кто, волны, вас остановил» и «Недвижный страж дремал». В первом из них он негодует по поводу того, что «поток мятежный» превращен в «пруд безмолвный», а во втором восклицает: «Вот — кесарь, где же Брут?!».
В 1822 году в Кишиневе произошло крупное событие: в феврале был арестован и увезен в тираспольскую крепость В. Ф. Раевский, а вслед за тем отрешен от службы Михаил Орлов. Правительство подозревало заговор и принимало свои меры. О предстоящем аресте предупредил Раевского Пушкин, узнавший об этом за несколько часов от Инзова, и Раевскому, благодаря Пушкину, удалось уничтожить компрометировавшие его документы.
По хлопотам петербургских друзей Пушкин в июле 1823 года был переведен на службу в Одессу, в канцелярию новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. Жена его, Елизавета Ксаверьевна, была в родстве с Раевскими. Там же, в Одессе, служил приятель Пушкина — Александр Раевский. Все это давало основание предполагать, что Пушкину в Одессе будет лучше, не говоря уже о преимуществах красивого и оживленного приморского города. Однако Пушкин сразу же стал во враждебные отношения с Воронцовым. Воронцов, консерватор и англоман, презиравший все русское, видел в Пушкине только «коллежского секретаря». Пушкин принимал свои 700 рублей годового жалованья как «паек ссылочного невольника», а Воронцов требовал от него исполнения чиновничьих обязанностей. Ко всему присоединилась ревность Воронцова, женой которого Пушкин увлекся.
Пушкин тяготился неопределенностью своего положения. Несколько раз он обращался к царю с просьбой об отпуске в Петербург, на что имел право как чиновник, но каждый раз получал отказ.
- 193 -
«Узник». Автограф Пушкина (1821 г.).
5
Пушкин с необыкновенной быстротой шел вперед в своем творчестве. Каждое новое произведение его становилось новым литературным завоеванием. Совершенно новым в русской литературе видом поэмы явился «Кавказский пленник» (1821, напечатано в 1822 году), романтическая поэма лирического характера. Эта форма поэтического творчества, первым образцом которой был «Кавказский пленник», нашла свое дальнейшее развитие в следующих поэмах Пушкина: «Братьях разбойниках» (1822, напечатано в 1825 году), «Бахчисарайском фонтане» (1823, напечатано в 1824 году) и «Цыганах» (1824, напечатано в 1827 году).
«Романтизм — вот первое слово, огласившее Пушкинский период», — заметил Белинский (I, 383). Романтизм Пушкина сыграл огромную революционную роль в развитии русской литератуы, в ниспровержении догматических «правил» классицизма, в расширении идейного содержания и обновления форм поэзии, драматургии, художественной прозы.
- 194 -
В русском романтизме были различные социальные и эстетические направления. Среди романтиков находились и революционно настроенные писатели и приверженцы феодально-монархических идей, идеализировавшие средневековье и призывавшие к уходу в мир мистического «откровения». Романтизм последнего типа, нашедший наиболее яркое выражение в поэзии Жуковского, по своему идейному содержанию остался совершенно чуждым Пушкину: его интересовала иная, социально устремленная, бунтарская струя романтизма. В этом романтизме Пушкина привлекала борьба за народность литературы, за освобождение от правил, стеснявших ее развитие, стремление к раскрытию внутреннего мира человеческой индивидуальности, утверждение прав личности» обращение к источникам народного творчества. Такой романтизм предвещал переход к реализму, ибо был формой борьбы со старой идеологией и эстетикой, мешавшей глубокому, правдивому изображению жизни. Вот почему в романтических произведениях Пушкина намечаются яркие тенденции будущего Пушкина-реалиста, которые свидетельствуют о стремлении постигнуть противоречия действительности. Романтический период в пушкинском творчестве носил характер поисков, переходного этапа на пути к реализму, а не был выражением попыток ухода от жизненных противоречий. Пушкину был чужд и мистицизм, в котором обретали путь к примирению с действительностью многие поэты романтического направления. Его ум передового просветителя не мог видеть за пределами «земной жизни» ничего иного, кроме «ничтожества».
Говоря о романтических поэмах Пушкина, необходимо сразу же решительно отвергнуть утверждение буржуазно-либерального компаративистского литературоведения о том, что эти поэмы являются якобы результатом влияния Байрона. Пушкин, как известно из его собственных признаний в письмах к друзьям, в начале 20-х годов весьма увлекался Байроном. В нем он ценил прежде всего идейный пафос его поэзии, протест против современных социальных устоев, культ сильной воли, сильных страстей, отрицание косности, религиозных предрассудков. Но, как отметил еще Белинский, Пушкин «заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась под перо его» (XII, 83). Как мы увидим ниже, даже в самом строении пушкинских поэм были принципиальные отличия от байроновских поэм. Характерно, что Пушкин в 1827 году, отмечал положительное в творчестве Байрона, вместе с тем подверг резкой критике односторонность и недостатки его творческого метода. Главное отличие «южных» поэм Пушкина от поэм Байрона заключается в том, что пушкинские поэмы, выросли на почве русской действительности и в них ставились вопросы, подсказанные русской жизнью. Именно это решающее обстоятельство и обусловило своеобразие пушкинских поэм, их огромное значение для русского общества и для развития русской литературы.
Пушкин чувствовал сам новизну своей поэмы и поэтому колебался в определении ее жанра. По поводу подзаголовка к «Кавказскому пленнику» он писал Гнедичу: «Назовите это стихотворение сказкой, повестию, поэмой или вовсе никак не называйте» (XIII, 37). В печати поэма названа была «повестью».
Непосредственным выражением протестующего, оппозиционного направления пушкинской поэмы были строки о свободе, выключенные из прижизненных изданий:
Свобода! Он одной тебя
Еще искал в подлунном мире...
- 195 -
«Кавказский пленник». Титульный лист
первого издания (1822 г.).Это свободолюбие сказывалось во всем содержании «Кавказского пленника». «Кавказский пленник» был произведением, органически связанным с личностью автора и с русской жизнью.
Самый характер пленника имел русскую реально историческую основу. Пушкин писал В. П. Горчакову о характере пленника: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века» (октябрь — ноябрь 1822 года; XIII, 52). Живыми выразителями этой разочарованности были некоторые друзья Пушкина; элементы этого раннего разочарования были и у Пушкина: оно было вызвано противоречием между свободолюбивыми стремлениями передовой молодежи и окружающей обстановкой. Еще до отъезда на юг он писал Вяземскому: «Петербург душен для поэта» (апрель 1820 года; XIII, 15). «Духота» эта метафорически выражала, конечно, политическую атмосферу александровской России. Поэтическое претворение этого автобиографического мотива мы находим в «Кавказском пленнике»:
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы...В отличие от привычных для читателей того времени мелодраматических сюжетов восточных поэм Байрона, сюжет «Кавказского пленника» отличается простотой. На это указывал П. А. Плетнев в статье о поэме Пушкина: «Происшествие в рассматриваемом нами сочинении самое простое, но вместе с тем самое поэтическое».1
«Простота» эта была сознательная. За исключением романтического самоубийства черкешенки, все в пушкинской поэме просто и естественно, «может быть, слишком естественно», как писал Вяземский.2 Пушкинский пленник лишен того ореола таинственности, каким окружены модные
- 196 -
тогда байроновские герои. Правда, прошлое его остается в тумане, но во всяком случае оно не скрывает никаких тайн вроде тех, какие окутывают, например, прошлое байроновского Лары.
То же следует сказать и о черкешенке. В образе ее почти нет романтического преувеличения. Если пленник обрисован неясно, на что жаловались современные критики (Плетнев, Вяземский), то черкешенка, напротив, изображена гораздо отчетливее.
Русская литература — не только поэзия, но и проза — не знала такой пластики и эмоциональной выразительности, какие показаны были Пушкиным в описании черкешенки. Вот, например, сцена первого ночного посещения:
И долго, долго перед ним
Она, задумчива, сидела;
Как бы участием немым
Утешить пленника хотела;
Уста невольно каждый час
С начатой речью открывались;
Она вздыхала, и не раз
Слезами очи наполнялись.После исповеди пленника:
Раскрыв уста, без слез рыдая,
Сидела дева молодая.
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор;
Бледна как тень, она дрожала;
В руках любовника лежала
Ее холодная рука...Переживания героини впервые были переданы с такой психологической правдивостью.
В композиции «Кавказского пленника» описания занимают самостоятельное, важное место. Некоторые из них совпадают по тону и даже в отдельных выражениях с описаниями в письме к брату, написанном вскоре после пребывания на Кавказе (24 сентября 1820 года). Например, в письме мы читаем: «Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными...» (XIII, 17). В поэме:
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков...Описания в пушкинской поэме представляют собой своего рода кавказский дневник. Оттого-то И. Киреевский и находил впоследствии, что поэма Пушкина «имеет не одно, но два содержания, которые не слиты вместе, но являются каждое отдельно, развлекая внимание и чувства на две различные стороны» («Нечто о характере поэзии Пушкина»).1 Пушкин предвидел подобные упреки. Вскоре после окончания поэмы он писал Гнедичу: «... описание нравов черкесских [, самое сносное место во всей поэме,] не связано ни с каким происшествием и [есть] ни что иное, как географическая статья или отчет путешественника» (29 апреля 1822 года, черновик). И в письме
- 197 -
к В. П. Горчакову: «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести; но все это ни с чем не связано и есть истинный hors d’oeuvre» (октябрь — ноябрь 1822 года; XIII, 371, 52). Несмотря на это, описательная часть вызвала восторженные отзывы всей критики, причем особенно подчеркивалось, что такие описания могли быть сделаны только человеком, видевшим все собственными глазами. Например, Плетнев писал: «Повествование может лучше обдумать стихотворец и с меньшими дарованиями против Пушкина; но его описания Кавказского края навсегда останутся первыми, единственными. На них остался удивительный отпечаток видимой истины, понятной, так сказать, осязаемости мест, людей, их жизни и их занятий... Описания в „Кавказском пленнике“ превосходны не только по совершенству стихов, но потому особенно, что подобных им нельзя составить, не видав собственными глазами картин природы».1
«Кавказский пленник». Рисунок М. Иванова.
Гравюра С. Галактионова (1824 г.).
- 198 -
В «Кавказском пленнике» проявилось тщательное внимание, с каким Пушкин наблюдал новую для него обстановку. Интересы его многообразны: они простираются и на природу края, и на местные нравы, и на местный фольклор. Он познакомился, например, с грузинскими песнями. В примечании говорится о них: «Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения» (IV, 115). В основе «черкесской песни», по всей вероятности, лежат мотивы местных народных песен (может быть, казацких). Правдивость описательной части поэмы Пушкин отметил позднее в «Путешествии в Арзрум» (1829—1835): «Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно». Реалистические черты «Кавказского пленника» делают его принципиально отличным от поэм Байрона, где обстановка действия имеет второстепенное значение и служит только экзотическим фоном.
Действие поэмы происходит в определенный исторический момент — когда началось присоединение Кавказа. Эпилог, где воспеваются успехи русской армии, по содержанию непосредственно связан с выразительным окончанием второй части поэмы:
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.«Кавказский пленник» представляет собой первый образец романтической лирической поэмы. Здесь всего два действующих лица, не имеющих при этом собственного имени (автор обозначает их: «русский», «пленник», «черкешенка»). Герой лирически близок автору, почти сливается с ним, служит рупором его настроений. В поэме звучат автобиографические намеки, которые подчеркнуты в посвящении Н. Н. Раевскому. Прошлое пленника, данное в обобщенной форме, совпадает с биографией Пушкина. Сам Пушкин в письмах отожествлял себя с героем своей поэмы. Он писал Гнедичу о «Кавказском пленнике»: «признаюсь, люблю его, сам не зная за что, в нем есть стихи моего сердца» (апрель 1822 года, черновик; XIII, 372). Признавая, что «характер пленника неудачен», он делает из этого вывод в письме к В. П. Горчакову: «доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» (октябрь — ноябрь 1822 года; XIII, 52). Этому автобиографизму соответствует лирическая манера повествования. Поэма движется непрерывным лирическим потоком, образуя как бы единый лирический монолог. Отсюда и необычайная ее краткость (в «Руслане» 2761 стих, в «Кавказском пленнике» 672 стиха). Единого лирического движения поэмы не нарушают включенные в нее описания Кавказа, так как они связаны с впечатлениями героя. На это указывал в свое время Белинский:
«Как истинный поэт, Пушкин не мог описаний Кавказа вместить в свою поэму, как эпизод кстати..., и потому он тесно связал свои живые картины Кавказа с действием поэмы. Он рисует их не от себя, но передает их, как впечатления и наблюдения пленника — героя поэмы, и оттого они дышат особенною жизнию, как будто сам читатель видит их собственными глазами на самом месте» (XII, 16—17).
В заметках 1830 года Пушкин писал, что «Кавказский пленник» — это первый «опыт характера», с которым он «насилу сладил». Однако это
- 199 -
«Кавказский пленник». Автограф Пушкина с рисунками (1820 г.).
- 200 -
все же был «характер», заключавший в себе элементы типизации и обобщения. Пленник — первый очерк, правда еще не полный, типического представителя «молодежи 19-го века». Тема, намеченная в «Кавказском пленнике», подверглась дальнейшей разработке в «Цыганах» и «Евгении Онегине».
«Бахчисарайский фонтан». Титульный лист
первого издания.После «Кавказского пленника» Пушкин написал «Бахчисарайский фонтан», произведение, занимающее среди его южных поэм особое место.
«Бахчисарайский фонтан» (закончен в 1823 году) был моментом наибольшего приближения Пушкина к романтизму. Подлинно романтичны образы целомудренной Марии и страстной Заремы, романтичен и самый их контраст. В высшей степени романтична любовная тоска Гирея. Читатель поэмы вступает в мир исключительных страстей, мрачных характеров, убийств, казней и драматических эффектов. В «Бахчисарайском фонтане» «тайна занимательности» (о которой Пушкин писал Вяземскому 6 февраля 1823 года) значительно усилена по сравнению с «Кавказским пленником». Вокруг участи обеих героинь создается иллюзия загадки, которую разгадывать предоставляется самому читателю. Глухой намек на совершившееся убийство дается только в связи с казнью Заремы, в финале длинного периода, посвященного смерти Марии: «Какая б ни была вина, Ужасно было наказанье!». Характерные черты романтизма в его, так сказать, «чистом» виде сказываются и в повышенной патетике монолога Заремы в ночной сцене с Марией, и в гиперболическом описании южной красоты Заремы («Твои пленительные очи Яснее дня, чернее ночи»), и в преувеличенной экспрессивности внешних движений Гирея, которую впоследствии критиковал, вместе с А. Раевским, сам Пушкин.
В заметке о «Бахчисарайском фонтане» Пушкин цитирует стихи, изображающие горе Гирея: «Он часто в сечах роковых Подъемлет саблю — и с размаха Недвижим остается вдруг, Глядит с безумием вокруг, Бледнеет...» и пр., а потом замечает: «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама» (XI, 145).
Появление «Бахчисарайского фонтана» обострило полемику между «романтиками» и «классиками» (которые, однако, не решались прямо отрицать пушкинскую поэму). Поводом для этой полемики послужил «Разговор между издателем и классиком» Вяземского, напечатанный вместо предисловия при первом издании поэмы (в 1824 году).
- 201 -
«Бахчисарайский фонтан». Зарема. Гравюра С. Галактионова
(1827 г.).То, что индивидуализировало поэму, придавало особую силу и выразительность ее романтическому пафосу, — это чисто пушкинская мысль, положенная в ее основу и связанная со всем гуманным направлением пушкинской поэмы. «В основе этой поэмы, — говорит Белинский, — лежит мысль до того огромная, что она могла бы быть под силу только вполне развившемуся и возмужавшему таланту... В диком татарине, пресыщенном гаремною любовию, вдруг вспыхивает более человеческое и высокое чувство к женщине... В Марии — все европейское, романтическое... И чувство, невольно внушенное ею Гирею, есть чувство романтическое, рыцарское...; встреча с нею была для него минутою перерождения... Итак, мысль поэмы — перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство любви. Мысль великая и глубокая! Но молодой поэт не справился с нею, и характер его поэмы в ее самых патетических местах является мелодраматическим» (XII, 22, 23).
В «Бахчисарайском фонтане» отразились крымские впечатления Пушкина. Сюжетом для поэмы послужило предание XVIII века о княжне Потоцкой,
- 202 -
похищенной ханом Керим Гиреем. Предание это Пушкин слышал от Н. Н. Раевского или от одной из его сестер. В «Письме к Д<ельвигу>», напечатанном в «Северных цветах» и перепечатанном в виде приложения к третьему изданию поэмы (1830), Пушкин рассказывал о своем посещении Бахчисарая: «Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes.1 Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат» (IV, 176).
«Братья разбойники» (1822 г.). Титульный
лист издания 1827 г.Элегический тон личных воспоминаний составляет лирическую основу поэмы. Все образы окрашены поэтому лирически. Это не конкретные (хотя бы и не развитые, в силу ограниченности романтического метода) «характеры», как в «Кавказском пленнике», а как бы «видения», свободно возникающие в воображении поэта. Этим мотивируются разрывы между отдельными сценами, которые следуют друг за другом в лирическом «беспорядке». Образ мрачного Гирея в начале поэмы; далее картина гарема; отсюда переход к «красе гарема» — грузинке Зареме, покинутой ханом; затем история польской княжны Марии и ночное появление Заремы в ее светлице, которым и оканчивается все действие поэмы. Сразу после этого — картина покинутого дворца, смутные намеки на совершившуюся драму, описание фонтана слез и лирическое заключение, где раскрывается лирическая тема личных воспоминаний, окрашивающая всю поэму:
Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец...
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!..
.............Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
- 203 -
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
«Братья разбойники». Гравюра С. Галактионова (1825 г.).
Таким образом, «тени» Марии и Заремы связываются с образом неведомой «элегической красавицы», лирика старинного предания сливается с переживаниями самого поэта. Пушкин упорно поддерживал ту версию, что он слышал предание о пленной полячке из «милых уст» любимой женщины. Это нужно было, чтобы подчеркнуть основную лирическую установку поэмы, ее основной тон. Характерно, что Пушкин распространял эту версию именно среди своих литературных знакомцев. Например, он писал А. Бестужеву: «Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины» (8 февраля 1824 года; XIII, 88). Той же цели служил и «меланхолический» эпиграф из Саади.
- 204 -
План «Гавриилиады». Автограф Пушкина (1821 г.).
В поэме есть только один монолог Заремы, перебиваемый одной репликой Марии. Однако все признавали, что в «Бахчисарайском фонтане» впервые проявилось драматическое дарование Пушкина. Дельвиг писал в «Литературной газете» (1830, № 22): «Пушкин... в сцене Заремы с Марией уже ясно обнаружил истинное драматическое дарование, с большим блеском развившееся в трагедии Борис Годунов и в исторической поэме Полтава». В 1825 году А. А. Шаховской переделал пушкинскую поэму в «романтическую трагедию», которая шла с огромным успехом. В роли Заремы выступала Семенова, Гирея играл Каратыгин; монолог Заремы, по словам современника, «привел в восторг весь театр». Сам Пушкин впоследствии находил, что «сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство» (XI, 145).
- 205 -
А. С. Пушкин. Автопортрет на рукописи
«Евгения Онегина» (1823 г.).Драматизм положений, сосредоточение внимания на драматических моментах, драматическая экспрессия внешних движений сами по себе, независимо от диалогов, придавали поэме драматический характер. Это была готовая канва для лирической или романтической драмы.
«Бахчисарайский фонтан», выразив собой наибольшее приближение Пушкина к романтизму, повидимому, именно своими отвлеченными от конкретной действительности сторонами не удовлетворял Пушкина. И характерно, что одновременно с «Бахчисарайским фонтаном» Пушкин начал поэму «Братья разбойники» (1821—1822). Это была попытка построения романтической поэмы уже на материале русской жизни, русского песенного фольклора. В основу поэмы, по свидетельству Пушкина, положено истинное происшествие: «два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись» (XIII, 74). По пушкинской концепции, приняться за разбойничье ремесло принудила обоих братьев нищета:
«Нас было двое: брат и я,
Росли мы вместе; нашу младость
Вскормила чуждая семья:
- 206 -
Нам, детям, жизнь была не в радость;
Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье,
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.
Не оставалось у сирот
Ни бедной хижинки, ни поля...».1Мучения совести, которые младший брат переживает в остроге, и терзающие его в бреду воспоминания о зарезанном старике подчеркивают ту мысль, что именно социальные условия толкнули братьев на путь преступления.
Сюжет поэмы Пушкин пытался обработать в духе народных разбойничьих песен. Влияние народно-песенного стиля ограничивается, впрочем, немногим: отрицательным сравнением, образующим зачин поэмы («Не стая воронов слеталась»), и метафорическим обозначением разбойничьего ремесла, заимствованным из народных песен («В товарищи себе мы взяли Булатный нож да темну ночь»). Характерно для поэмы также намеренное «снижение» стиля, введение народно-бытовых понятий и выражений. Посылая Бестужеву свою поэму или «отрывок», как он называл ее, Пушкин писал: «... если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Полярной Звезды, то напечатай его» (13 июня 1823 года; XIII, 64). С точки зрения приближения языка к бытовой речи Пушкин и оценивал положительно свою поэму. Он говорил в письме к Вяземскому от 14 октября 1823 года: «как слог, я ничего лучше не написал» (XIII, 70). Интересно, что пушкинская поэма была усвоена народным театром; отдельные ее куски вошли в народную пьесу разбойничьего жанра — «Лодка».
Поэма «Братья разбойники» была, повидимому из-за социальной остроты сюжета, уничтожена. До нас дошел лишь один отрывок, напечатанный при жизни Пушкина. Неоконченный «Вадим» (1821—1823) представляет собой аналогичную попытку создания поэмы на материале русской легенды. Герой должен был явиться здесь в роли освободителя славянского народа от поработителей-варягов.
К 1821 году относится «Гавриилиада» — фривольная и пародийная антицерковная поэма. «Гавриилиада» начата тотчас после окончания «Кавказского пленника». Непосредственным поводом для поэмы послужило то, что на страстной неделе 1821 года (3—9 апреля) Пушкин принужден был выполнять обряд говения. Это вызвало у Пушкина усиление антицерковных настроений, которые выразились, между прочим, и в послании к В. Л. Давыдову (декабристу).
«Гавриилиада» направлена против придворного мистицизма, который в 1821 году достиг высшей силы (это были годы «деятельности» известных мракобесов Рунича и Магницкого). На это, в частности, указывается в черновом наброске предполагавшегося, но не осуществленного посвящения к поэме:
Вот Муза, резвая болтунья,
Которую ты столь любил.
Раскаялась моя шалунья,
Придворный тон ее пленил...Поэма построена на том же приеме замены религиозных мотивировок эротическими, как и пародия на Жуковского в «Руслане и Людмиле».
- 207 -
В 1822 году Пушкин задумывал вернуться к теме о Бове. В связи с этим он просил Н. Н. Раевского прислать ему сборник русских сказок. К этому же времени относится и первая запись сюжета сказки о царе Салтане. Параллельно Пушкин составлял план исторической поэмы о Мстиславе. Этот замысел не осуществился, но завершена была «Песнь о вещем Олеге». Все это показывает намерение продолжать линию, намеченную в «Руслане и Людмиле».
6
Беспримерная в истории мировой литературы быстрота пушкинской идейно-художественной эволюции, отражавшей богатство и своеобразие идейной жизни передовой России, сказалась и в том, что он еще в течение романтического периода своего творчества стал осознавать слабые стороны романтического метода. Реалистические элементы, созревавшие внутри пушкинского романтизма, с наибольшей силой сказались в поэме «Цыганы» (1824, напечатано полностью в 1827 году).
Алеко — это совсем не слабый, тоскующий человек, как Пленник. Он озлоблен против людей и «просвещенья» (т. е. цивилизации), он мстителен, он «зол и смел». Разочарование его не так пассивно, как у Пленника, и имеет более глубокие корни. Пленник бежит от света, изверившись в дружбе и любви. Он устал от «суеты», от «неприязни», от «клеветы». При этом существенную роль играет личная причина: несчастная любовь. Протест Алеко носит более принципиальный характер. В его скупых, как бы вынужденных признаниях (характерная черта, показывающая скрытность), которыми он отвечает на вопросы Земфиры о его прошлом, затрагиваются, правда намеком, политические мотивы:
О чем жалеть? Когда б ты знала...
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой..
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей...Обличительные речи Алеко по поводу «светской жизни» звучат еще энергичнее в черновиках поэмы: «Торгуют вольностью — развратом И кровью бледной нищеты», «мысли гонят у суеверных алтарей». Протест против рабской цивилизации выражен особенно сильно и полно в отброшенном впоследствии Пушкиным монологе Алеко над колыбелью сына:
«Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоцененный дар свободы!..
Останься посреди степей:
Безмолвны здесь предрассужденья...
И не меняй простых пороков
На образованный разврат...
[Не испытает] мальчик мой...
Сколь черств и горек хлеб чужой,
Сколь тяжко <медленной> [ногой]
Всходить на чуждые ступени...
И я б желал, чтоб мать <моя>
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка,
Или в расселине утеса...»
- 208 -
«Цыганы». Титульный лист первого издания
поэмы (1827 г.).Социальное содержание обличительных речей Алеко определяет положительные черты этого героя как протестанта. Однако Пушкин вскрыл заключавшееся в этом протестующем герое внутреннее противоречие, разоблачил его индивидуалистические черты, противопоставив им «смиренную вольность» идеализированной в духе «естественного права» цыганской общины. Эта цыганская община, в которой реализуются утопические мечты Алеко, оказывается контрастной по отношению к нему. Контраст этот подчеркивается антитезами: цыганы — «дети смиренной вольности», Алеко — «гордый человек»; цыганы — «робки и добры душою», Алеко — «зол и смел». В цыганской общине царствует один только «естественный» закон справедливости и сохраняются во всей полноте природное равенство и природная свобода. Цыганская «вольность» поэтому ограничена «смирением» и «добротой», т. е. внутренними этическими нормами, требующими безусловного уважения к свободе другого человека. Этих норм не признает Алеко: он «для себя лишь хочет воли». Двойное убийство — Земфиры и молодого цыгана — совершено им совсем не в ослеплении страсти; оно вытекало из его мстительного характера и эгоистических побуждений. Устами старого цыгана произносится в финале поэмы приговор над эгоистическим индивидуализмом героя:
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас —
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас.Однако поскольку цыганская община, а вместе с тем и ее патриарх — старый цыган — являются как бы своеобразным выражением сущности идейных исканий Алеко, постольку и приговор, изрекаемый старым цыганом, имеет здесь не безусловное, а только относительное значение. Проснувшемуся интеллекту, порожденному той самой цивилизацией, которую он отвергает, но которою он в то же время отравлен, нет успокоения и среди «бедных сынов природы». Эта мысль раскрыта в эпилоге:
Но счастья нет и между вами.
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.
- 209 -
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
«Цыганы». Рисунок Пушкина на рукописи (1823 г.).
Белинский отлично объяснил относительное значение того решения проблемы, которое дается старым цыганом. «Несмотря на всю возвышенность чувствований старого цыгана, — пишет он, — он не высший идеал человека: этот идеал может реализоваться только в существе сознательно-разумном, а не в непосредственно-разумном, не вышедшем из-под опеки у природы и обычая. Иначе развитие человечества через цивилизацию не имело бы никакого смысла, и люди, чтоб сделаться разумными и справедливыми, должны бы в диком состоянии видеть свое призвание и свою цель» (XII, 42). Поэма Пушкина была, таким образом, отрицанием не цивилизации вообще, а только ложной цивилизации, основанной на рабстве и насилии. В этом был ее огромный критический смысл.
В «Цыганах» Пушкин выступает как поэт и как мыслитель. Отсюда необыкновенная логическая стройность поэмы и ее предельная сжатость. Поэма состоит из одиннадцати сцен-фрагментов и лирического эпилога от лица автора. Драматический элемент, обнаружившийся еще в «Бахчисарайском фонтане», получает здесь решительный перевес над эпическим. Вершинные моменты фабулы изображаются в «Цыганах» в драматической форме, причем диалог принимает характер подлинного сценического диалога, с обозначением говорящего лица, и в одном случае сопровождается даже театральной ремаркой («Уходит и поет: „Старый муж... “»). Диалогическая часть занимает почти половину всего текста. Вся поэма, таким образом, представляет собой как бы лирическую драму.
- 210 -
Современники воспринимали Алеко как дальнейшее развитие образа «Кавказского пленника», т. е. как романтического героя, не понятого и одинокого, не нашедшего себе успокоения даже в глубине бессарабских степей. Поэтому одни были недовольны «Цыганами» как новым апофеозом протеста против окружающей действительности (Жуковский), другие — «правоверные» романтики — сетовали на снижение романтического героя. Никто не замечал, что индивидуалистические черты героя развенчаны Пушкиным и что в этом и состоит одна из основ идейного замысла (или «цели», как тогда говорили) поэмы. Жуковский писал Пушкину: «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих Цыган! Но, милый друг, какая цель! Скажи, чего ты хочешь от своего гения?» (Пушкин, XIII, 165).
Раздавались и упреки другого характера. Вяземский и Рылеев жаловались на то, что поэт заставил Алеко водить медведя; такое занятие казалось им недостойным романтического героя. Пушкин впоследствии так иронизировал по поводу этих упреков: «... Р<ылеев> негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики. Вяземский повторил то же замечание. (Р<ылеев> просил меня сделать из Алека хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее). Всего бы лучше сделать из него чиновника 8 класса или помещика, а не цыгана» (XI, 153).
«Цыганы» писались одновременно с третьей главой «Евгения Онегина». Расставаясь с романтическим стилем своих ранних поэм, Пушкин вместе с тем отходил от романтической тематики и от односторонней романтической трактовки характеров. Показав мрачную, протестующую силу романтического героя, Пушкин показал и другую сторону его характера — его эгоизм.
7
В литературном положении Пушкина к 1823 году произошла значительная перемена. Первая его поэма — «Руслан и Людмила» — создала ему широкую известность, но в то же время вызвала и резкие нападки. «Кавказский пленник» был уже встречен с единодушным восторгом, и даже реакционный «Вестник Европы» не осмелился выступить против Пушкина. После «Кавказского пленника» Пушкин бесспорно стал во главе всей литературы своего времени. Он владел умами читателей, количество которых, можно сказать без преувеличения, благодаря ему удвоилось и утроилось. Дельвиг писал ему 28 сентября 1824 года: «Никто из писателей [наших] русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты» (Пушкин, XIII, 110).
Пушкин сам чувствовал силу своего воздействия на русское общество, и положение человека «на привязи» делалось для него все более и более невыносимым. В мае 1824 года Воронцов командировал Пушкина в уезды, пораженные саранчой. Пушкин в командировку поехал, но по возвращении подал заявление об отставке. Не известно, дошло ли это заявление по назначению. Развязка пришла с другой стороны. Давно уже Воронцов посылал в Петербург письма, в которых просил избавить его от Пушкина. Одновременно до правительства дошло письмо Пушкина с атеистическими суждениями. Письмо это было доложено Александру I, и в начале июля 1824 года граф Нессельроде уведомил Воронцова о высочайшем повелении «коллежского секретаря Пушкина уволить вовсе от службы» и выслать его в имение его родителей под надзор местного начальства, взяв с него подписку
- 211 -
Село Михайловское. Литография Г. Александрова (1837 г.).
- 212 -
прямо следовать к месту своего назначения, не останавливаясь нигде по пути. 30 июля 1824 года Пушкин выехал из Одессы и через девять дней, 9 августа, прибыл в Михайловское.
Ссылка в Михайловское продолжалась два года (до сентября 1826 года). Почти все это время Пушкин пребывал в полном уединении. Единственной его «подругой», как он писал одному приятелю, была старая няня, Арина Родионовна, которая ведала его скромным хозяйством. С соседями Пушкин почти не общался и бывал только в Тригорском, имении П. А. Осиповой, находившемся в трех километрах. Сюда привлекало его женское общество — две дочери Осиповой, Анна Николаевна и Евпраксия Николаевна Вульф, и ее падчерица — Александра Ивановна Осипова. В июне 1825 года к ним присоединилась еще Анна Петровна Керн, которой посвящено стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Временами жил здесь сын Осиповой, Алексей Вульф, дерптский студент, который стал приятелем Пушкина. Летом 1826 года в Тригорском гостил поэт Н. М. Языков. Два раза навестили Пушкина его лицейские друзья: в январе 1825 года — Пущин, в апреле — Дельвиг. В сентябре он виделся также с князем Горчаковым, остановившимся на пути из-за границы в имении своего дяди поблизости от Михайловского. Вот ограниченный круг людей, разнообразивших михайловское уединение поэта.
Еще в Одессе Пушкин решил во что бы то ни стало добиться личной свободы. С этим намерением он приехал в Михайловское. Приготовления к побегу начались с декабря 1824 года и продолжались до августа 1825 года. В свои планы Пушкин посвятил брата и Алексея Вульфа, с которым вел зашифрованную переписку. Параллельно он хотел испробовать законные средства и затеял хлопоты через посредство матери и петербургских друзей об освобождении из ссылки, выставляя предлогом болезнь, будто бы требовавшую немедленной операции. В случае, если бы полное освобождение оказалось невозможным, Пушкин просил разрешения поехать хотя бы в Дерпт, к знаменитому хирургу Мойеру. Оттуда он предполагал с помощью Вульфа перебраться в чужие края. Жуковский поверил всерьез в «аневризм» Пушкина и, так как был близок с Мойером, договорился с последним об операции и известил Пушкина, что Мойер сам приедет к нему. Пушкин вынужден был отказаться от своего плана.
Из своего уединения Пушкин внимательно следил за журналами, альманахами и вновь выходившими книгами, откликаясь на все замечательное, что появлялось в художественной литературе и критике. Особенный интерес он обнаруживал к литературным мнениям «Полярной звезды», издававшейся А. Бестужевым и Рылеевым, и начавшего выходить с 1825 года «Московского телеграфа» Н. А. Полевого, где главным сотрудником был князь Вяземский. «Полярная звезда» и «Московский телеграф» пропагандировали романтизм и восхваляли Пушкина как поэта-романтика, главу романтического направления. Однако литературные взгляды обоих органов встречали оппозицию со стороны Пушкина. В переписке с Вяземским и А. Бестужевым Пушкин старался разъяснить возникавшие разногласия и теоретически обосновать свои новые литературные позиции. По поводу статей Вяземского в «Московском телеграфе» он осторожно писал ему: «... я заметил, что все (даже и ты) имеют у нас самое темное понятие о романтизме» (25 мая 1825 года; XIII, 184).
Пушкин полемизировал с узким пониманием романтизма как искусства, идеализирующего действительность и питающегося только чувством и
- 213 -
«воображением». «Истинный» романтизм он определял как освобождение от классической условности и обращение к живой действительности, по существу отожествляя его с реализмом (термина этого тогда еще не было). В понятие «истинного» романтизма включается им и требование «народности», понимаемой в смысле национальной самобытности.
Путь к этой самобытности он видел в изучении народного языка, народной поэзии и народной жизни, в демократизации литературы.
Пушкин много и систематически читал в своем уединении. В частности, он специально занимался вопросами драмы, изучал Шекспира (во французском переводе Летурнера).
В Михайловском Пушкин собирал народные песни, записывал сказки Арины Родионовны, которые пленяли его своей художественностью. Он писал брату в ноябре 1824 года: «Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» (XIII, 121). К Михайловскому периоду относится его первая «простонародная сказка» «Жених», образец великолепного народного стиля. В «Зимнем вечере» переданы впечатления от песен Арины Родионовны.
В этот период взгляд Пушкина на русское революционное движение делается глубже и серьезнее. Пред ним встает вопрос о роли народа в революции, о значении «мнения народного» — вопрос, который обходило большинство декабристов.
Из размышлений на эту тему, повидимому, и возникает первоначальный замысел «Бориса Годунова». Основную политическую проблему современности — проблему народных движений — Пушкин хочет разрешить на материале истории.
Историзм Пушкина, нашедший свое выражение в «Борисе Годунове», явился одновременно итогом предшествовавшего этой трагедии творческого опыта и новым этапом в развитии мировоззрения поэта.
Система исторического мышления Пушкина характерна во многом для передового человека его эпохи, когда изучение истории приобретало все большее значение. Но и в свои исторические воззрения Пушкин внес много глубоко индивидуального.
К истории Пушкин подходил и как художник, и как мыслитель. В «Борисе Годунове», как и в написанных позже произведениях на исторические темы, он художественно воссоздавал прошлые эпохи методом, во многих элементах близким научному изучению истории: вскрывая динамику исторических событий, он стремился философски определить их значение в общем поступательном ходе истории, предвидеть их роль для будущего. Бурные моменты мировой истории постоянно привлекали его внимание как художника. В параллельных занятиях художника и историка рос у него интерес и к самой истории как науке.
Еще в Лицее Пушкин, аттестовавшийся по истории как имеющий «очень хорошие успехи» и ученик «очень хороших дарований», слушал лекции Кайданова, который в те годы во многом отражал передовую историческую мысль своего времени (позже Кайданов деградировал и скатился на реакционные позиции).
Широкие политико-философские концепции излагались лицеистам и на лекциях Куницына. Лекции Кайданова по истории сообщили много фактического материала. Лицеистам широко рекомендовались исторические работы Вольтера и Монтескье.
Для Пушкина тогда был характерен живой интерес к современной ему истории. Этот интерес определяли крупные исторические события, на глазах менявшие карту Европы. Отечественная война, многих участников которой
- 214 -
Пушкин лично знал, еще будучи на лицейской скамье, судьбы русского народа, судьба Наполеона, насыщенность эпохи революционными событиями, — вся эта атмосфера воспитывала его мысль. На нее отзывался он как поэт (начиная с исторических тем лирики), она же формировала его историческое мышление вообще. Большую роль в развитии исторических интересов Пушкина в послелицейское время сыграла «История государства Российского» Карамзина, первые восемь томов которой вышли в 1818 году.
В период кишиневской ссылки Пушкин обращается к самостоятельным историческим занятиям, стремясь прежде всего закрепить для будущего то историческое, свидетелем чего он был. В его исторических заметках того времени отражается интерес и к общим проблемам, и к современным событиям. Две заметки посвящены греческому восстанию (об А. Ипсиланти и о Пенда-деке, 1821). Заметка о Сен-Пьере и о проекте вечного мира (1821) касается общих вопросов исторического развития. «Великим шагом» на пути к окончательному торжеству разума представляются Пушкину «конституции», которые, по его убеждению, и приведут «раньше, чем через сто лет», к упразднению постоянных армий, а вместе с тем и к уничтожению войн.
Степень остроты исторического мышления Пушкина видна из его афоризмов, относящихся именно к прогнозам будущего. В них всегда живет новая, далеко идущая собственная мысль. «Невозможно, — говорит Пушкин, — чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т. д.» (XII, 189, 480).1
В развитии исторических концепций Пушкина, в особенности в их приложении к России, большую роль сыграло его общение с будущими декабристами.
Историю Пушкин рассматривает, подобно декабристам, с точки зрения политических вопросов дня. В его «Заметках по русской истории XVIII века» (1822), несомненно, отразилось общение с В. Ф. Раевским, М. Ф. Орловым, П. И. Пестелем. Прошлое русской страны оценивается здесь в свете политических задач современности. В деятельности Петра Пушкин различает две стороны: его самовластный деспотизм и преобразовательную энергию. «Ничтожные наследники северного исполина, — пишет Пушкин, — изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом действия правительства были выше собственной его образованности...». Пушкин осуждает замыслы аристократии, пытавшейся после Петра ограничить самодержавие. «К счастию, — говорит он, — хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма2 и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное
- 215 -
потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла...» (XI, 14—15). В приведенном отрывке ясно выражены демократические симпатии Пушкина; основными политическими задачами современности он считает освобождение крестьян и уравнение сословий.
Остальную часть заметок составляет характеристика царствования Екатерины II. Признавая в качестве заслуг Екатерины ее завоевания, Пушкин вместе с тем резко отрицательно характеризует ее внутреннюю политику, о которой пишет: «... со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками..., покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее... памяти от проклятия России» (XI, 15—16). Не трудно заметить, что внутреннюю политику Екатерины Пушкин оценивал по-радищевски.
Исторические занятия Пушкина расширяются и углубляются в связи с работой над «Борисом Годуновым» (1824—1825), произведением, которое свидетельствует о преодолении Пушкиным романтизма и переходе к реализму.
Вместе с тем все настойчивее выдвигается Пушкиным требование исторической правдивости, многостороннего и объективного освещения исторических фактов.
В своих исторических высказываниях этого периода Пушкин, в основном, оставался на почве исторических принципов просветительской философии. По условиям времени он не мог подняться до понимания объективных закономерностей исторического процесса и классовой борьбы, как его основного содержания. Но огромное прогрессивное значение пушкинского историзма заключается в том, что он по всем своим основам противостоял историческим взглядам Карамзина, отрицал «необходимость самовластья» и отразил в освещении исторических фактов идеологию передового дворянства, выступавшего против незыблемости феодальных порядков.
«История народа принадлежит царю», — сказал Карамзин в предисловии к своему труду. «История народа принадлежит поэту», — как бы возражая Карамзину, писал Пушкин Гнедичу (XIII, 145). Исходя из этих соображений, Пушкин начал работу не над думой, не над поэмой, а над исторической трагедией. Романтическая трагедия и исторический роман этой эпохи стремились опереться на документированный материал. В качестве фактического исторического материала для своего «Бориса Годунова» Пушкин использовал вышедшие в марте 1824 года X и XI томы «Истории государства Российского» Карамзина. Здесь нашел он богатство документации, увлекательность изложения, художественность образов, образцы языка избранной им эпохи. Он изучил примечания. Многие места конспектировал, многие сразу же воплощал в художественную форму. Кроме фактической стороны и большинства действующих лиц, взятых из «Истории», на Карамзине основывались и отдельные эпизоды и места трагедии. Ряд моментов и фигур, однако, изменен Пушкиным. Вымышлены им образы сына Курбского и Афанасия Пушкина. Восприняв от Карамзина характеристику Годунова как захватчика власти — убийцу царевича Димитрия, Пушкин не мог не учитывать и политической злободневности повествования о царе-«узурпаторе». Эта тема звучала в ту эпоху не только как
- 216 -
чисто литературная, но и как связанная с фактами реальной современной истории (узурпация власти и убийство герцога Ангиенского Наполеоном, заговор против Павла I и убийство его). Как видно из последующей упорной полемики Пушкина с М. П. Погодиным, он и позже стоял в вопросе о вине Годунова на карамзинской точке зрения.
«Борис Годунов». Обложка первого
издания (1831 г.).Опираясь на материалы Карамзина, Пушкин оставался независимым от его монархических концепций, и если писал о своей трагедии Вяземскому: «Хоть она и в хорошем духе писана» (т. е. считал ее цензурно приемлемой), то прибавлял: «да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (XIII, 240).
В то время как у Рылеева для Годунова остается возможность искупления: «И смою черное с души пятно И кровь царевича святую», — у Пушкина вывод резко противоположен: царь-убийца не может смыть пятна с совести:
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося;
Тогда — беда!Субъективной трагедией Бориса является перевешивающий всю политику «счастливого царствования» конфликт царя с его преступной совестью. Но Пушкин показывает и объективную сторону трагедии. Народу важны не отдельные «милости», а решительное, коренное улучшение реальных условий его жизни. Народ не может простить Годунову проведенную им (так считал Пушкин) отмену «Юрьева дня», т. е. отмену права перехода в этот день крепостных крестьян от своего владельца к другому. Устами вымышленного предка Пушкин намекает, что все «милости» Годунова в глазах народа в любой момент может перевесить одно простое мероприятие:
... Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.В образе Бориса Пушкин подчеркнул типические черты, раскрывающие сущность деспота-самодержца, для которого различные «благодеяния» и «щедроты» являются средством «удержать смятенье и мятеж», а не подчинены прямой цели улучшения положения народа. Пушкин, по его собственному признанию, смотрел на Бориса с политической точки зрения.
- 217 -
«Борис Годунов». В келье у Пимена. Гравюра С. Галактионова
(1828 г.).Вместе с тем образ Бориса раскрыт Пушкиным во всех сложных оттенках психологии человека, раздираемого трагическими противоречиями. Трагедию одинокого, оторванного от народа властителя Пушкин подчеркивает контрастным образом Димитрия, легкомысленного и беспринципного авантюриста, представляющего собой «предлог раздоров и войны». Димитрий готов опереться на «мнение народное», но фактически пользуется против родины «польскою помогой». Вне зависимости от Карамзина, иногда расходясь с историческими данными, Пушкин рисует превращения Отрепьева из инока в бродягу, затем в воина и царевича. Пушкин иронически отмечает его напыщенную риторику (сцена с поэтом), его речи «мальчика», готового лгать, способного проболтаться и променять русскую державу на любовь Марины и вдруг вспоминающего, что идет проливать «кровь русскую».
Ставя главной задачей своей трагедии широкое изображение именно «эпохи мятежей» и народа, Пушкин отражал те политические настроения, которые сложились в годы, непосредственно предшествовавшие декабристскому
- 218 -
восстанию («Борис Годунов» был закончен за месяц с небольшим до декабрьского восстания — 7 ноября 1825 года).
Народ изображен в трагедии как могучая, но стихийная сила. По мысли Пушкина, московские цари совершенно чужды угнетенному народу, внешне превращенному в пассивную массу («А как нам знать? то ведают бояре, Не нам чета»). Но вместе с тем Пушкин доносит до читателя истинный образ народа. Карамзин изображал народ активно требующим царя (т. X, стр. 234). Пушкин показывает народ в сцене «Девичье поле» пассивно соглашающимся кричать («Дошло до нас») и плакать («Все плачут, Заплачем, брат, и мы»), подчеркивая, что у народа нет и не может быть искренних слез умиления по поводу избрания царя («Я силюсь, брат, Да не могу») и что он только готов мазать глаза «слюной» и «луком» и щипать друг друга (вариант), искусственно вызывая слезы. И вместе с тем устами Гаврилы Пушкина — предка поэта — произносятся фразы, из-за которых «торчат» концепции самого автора:
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным.Стихийный протест народа, уставшего терпеть
Опалу, казнь, бесчестие, налоги,
И труд, и глад... —символизируется фигурой мужика на амвоне, призывающего «вязать Борисова щенка» (ср. «Весть важная! и если до народа Она дойдет, то быть грозе великой»). Даже в тех сценах, где народ прямо не участвует, он как бы грозно присутствует на заднем плане. Борьба пассивности народа и его глухого протеста выражена Пушкиным в двух разных финалах трагедии, основанных на двух исторических версиях. Вместо приветствия Димитрия (вариант, представленный Пушкиным Николаю I) Пушкин позже останавливается именно на формуле глухого протеста народа против бояр: «Народ безмолвствует». Итак, взаимоотношения народа и царя — одна из главных тем «Бориса Годунова».
Взаимоотношения боярства с царем и народом — второй социально-политический вопрос, поставленный в трагедии. Пользуясь в своих целях народом, боярство враждует с царем. Для родовитого боярства Борис всего лишь «зять палача» и сам «вчерашний раб, татарин». Боярство ни на минуту не забывает его происхождения и его прежнего места за государевым столом. Борис же хочет искоренить местничество:
Не род, а ум поставлю в воеводы;
Пускай их спесь о местничестве тужит;
Пора презреть мне ропот знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.Точно так же и уничтожение Юрьева дня бояре воспринимают как удар по своим земельным интересам:
Вот — Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместиях своих.Среди колоритных фигур интригующих бояр, «лукавых царедворцев», Пушкин выводит как участников исторических событий две особо стоящие фигуры своих предков — «род Пушкиных мятежный». Вымышленный Афанасий Пушкин произносит наиболее красноречивые обличительные тирады против царя, в защиту замученных «знатнейших родов»:
- 219 -
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там — в глуши голодна смерть иль петля.Цензор III Отделения, уловив значительность этих речей Афанасия Пушкина, писал в секретном отзыве: «Решительно должно выкинуть весь монолог. Во-первых, царская власть представлена в ужасном виде; во-вторых, явно говорится, что, кто только будет обещать свободу крестьянам, тот взбунтует их».1 Характерно, что Пушкин этот монолог упорно защищал от посягательств цензуры.
Второй, реальный предок — Гаврила Пушкин — дан в трагедии как заговорщик. «Я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах», — писал Пушкин (XIV, 47, 395).
Работая над языком трагедии, Пушкин, кроме «Истории» Карамзина, которого он считал «первым историком» и «последним летописцем», обращался и к изучению языка русских летописей, стараясь приблизиться к древним формам речи бояр, духовенства, ратных людей. В письмах Пушкина из Михайловского есть свидетельства о чтении русских летописей и отрывков из них. Позже Пушкин заметил: «... в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени» (XI, 140). Так, на повествовании Пимена явно сказались некоторые детали «Никоновской летописи» («Повесть о честном житии...», написанная патриархом Иовом), а вариант заглавия трагедии взят из «Летописи о многих мятежах».
Задумав создать русскую драму, притом историческую, с персонажами из разных слоев общества, Пушкин, таким образом, добросовестно изучал документальные материалы русского средневековья, чтобы извлечь оттуда и языковые элементы, характерные для эпохи. Пушкин не соблазнился «славянщизной» как организующим моментом языка исторической драмы, а допускал ее лишь как элементы в декламационную речь сановных героев или в бытовые выступления церковных персонажей. Но не одними славянизмами и древнеруссизмами достигнута была правдоподобность языка представителей русского средневековья, оживленного в «Борисе Годунове». Пушкин обильно использовал при этом и современное ему русское просторечие. Реальность хронологии языка героев трагедии представлена также исторической пословицей и старинной песней или подражаниями последним. Замечательна модификация старинных элементов языка применительно к сюжетным положениям социального быта различных персонажей. Пушкинское чутье языка привело к полной оправданности языкового состава даже для читателей наших дней, тогда как, например, диалоги в исторических драмах Погодина (1830—1835) или механически построены на актовом и церковно-книжном материале, или представляют неразборчивую смесь крестьянского и мещанского диалектов, почему и не производят впечатления естественности. Пушкинские методы создания языка исторической драмы легли в основу стихотворных драм А. Н. Островского и А. К. Толстого, позднейших стихотворных переводов драм Шекспира и т. д.
В связи с изучением Пушкиным летописей возник замечательный поэтический образ летописца. Пушкин создал образ своего Пимена независимо от Карамзина, у которого подобного персонажа вовсе нет. В этом величественном образе Пушкин как бы олицетворил типическую фигуру древней Руси: в прошлом воина-защитника родины, свидетеля «многих лет»,
- 220 -
затем книжника, отошедшего от «мирских дел» и на старости — летописателя, старающегося беспристрастно запечатлеть для потомков
Земли родной минувшую судьбу,
но сохраняющего былую страстность, лишь только дело касается современных ему событий. Тогда летопись его начинает походить на «донос ужасный» «мирскому суду» потомства.
Работая над «Борисом Годуновым», Пушкин много размышлял и над теоретическими вопросами драматического искусства. Он внимательно изучал и принципы драматургии Шекспира и в ряде критических заметок высказал глубочайшие мысли об ее основах, об особенностях шекспировского гения. Пушкин противопоставлял «народные законы драмы Шекспировой» принципам придворной трагедии Расина. В отличие от немецких и французских писателей начала XIX века, Пушкин защищал наследие Шекспира с позиций художественного реализма.
«Вольное и широкое» изображение характеров Шекспиром также было отмечено Пушкиным в его заметках. Но в «Борисе Годунове» самый «народ» занимает ведущее место, у Шекспира же — в значительной мере только эпизодическое.
Реформируя русскую трагедию, Пушкин разбил привычные в театре своего времени каноны. Он не разделил своей трагедии на акты, резко нарушил стесняющую систему «единств», отступил и от обязательных рифмованных александрийских стихов, Пушкин создал систему большого количества быстрых сцен, переносящих действие с площади во дворец, из монастыря в корчму и даже из России в Польшу. Некоторые сцены разделены между собой годами. На сцене, в нарушение традиций, выводится царь-убийца, в комических сценах показаны монахи. Самый стих трагедии (вслед опытам Кюхельбекера, Жандра, Катенина, Жуковского) — пятистопный нерифмованный ямб, гораздо более близкий к разговорному языку, чем шестистопник. Только в определенных местах Пушкин вводит рифмованные стихи. Наконец, ряд сцен написан прозой, и именно в этих сценах наиболее сильно и ярко воссоздано просторечие действующих лиц (см. в особенности сцену «Равнина близ Новгорода-Северского»).
Все эти нарушения привычных законов трагедии круто сводили русскую драматургию с дороги классицизма на путь реализма и были резко враждебно встречены литературными консерваторами и политическими врагами Пушкина. В борьбу против «Бориса Годунова» включился полицейский шпион Булгарин. По поводу таких новшеств, как введение в трагедию духовенства и монахов, негласный рецензент и фактический цензор «Бориса Годунова» Булгарин в качестве инкриминируемых Пушкину моментов в секретной записке указал: «... монахи представлены в самом развратном виде»; «Разумеется, что играть ее <трагедию> невозможно и не должно; ибо у нас не видывали патриарха и монахов на сцене». По поводу образа царя Булгарин предложил выбросить из «Бориса Годунова» слова царя:
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ...
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.В осторожной, косвенной форме Булгарин бросил мысль и о неприемлемости сцены юродивого с царем: «... слова „не надобно бы молиться за царя Ирода“, хотя не подлежит никаким толкам и применениям, но так
- 221 -
говорят раскольники...».1 Этим как бы подсказывался вывод о возможности указанных «применений». Очевидно, возможность их по поводу данного места чувствовал и сам Пушкин. Позже, уже в царствование Николая I, повидимому в той же связи, из белового текста трагедии Жуковским было выброшено имя юродивого — Николка.
Для вопроса о «применениях» в пушкинской трагедии, т. е. о намеках автора на современность, существенно учитывать признание самого Пушкина (в оригинале по-французски): «Она полна славных шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени, вроде наших киевских и каменских обиняков. Надо понимать их — это непременное условие» (XIV, 46, 395).
Сохранившиеся стихотворения Пушкина, писанные им в 1820—1821 годах в селе Каменке Киевской губернии, одном из политических центров декабристов, полны политических высказываний. Видимо, Пушкин указывает на злободневное звучание «Бориса Годунова». Если он и не допускал в «Борисе Годунове», как правило, прямых иносказаний (метод, осужденный им во французских трагедиях), то все же вся его трагедия, основанная на принципе историзма, вместе с тем соотнесена с вопросами, которые были особенно острыми в преддекабрьской обстановке.
Сознавая огромное значение осуществляемого им в «Борисе Годунове» литературного «подвига», Пушкин хотел разъяснить свою точку зрения в ряде разновременных пояснительных заметок, частично писанных в форме писем к друзьям, предисловий и примечаний к трагедии. В них он отчетливо подчеркивает революционизирующее значение своего «Бориса Годунова», полагая, что «дух века требует важных перемен и на сцене драматической» (XI, 141). В качестве основных принципов Пушкин провозглашает необходимость правдивого изображения жизни вместо условного «правдоподобия» классицизма, раскрытия характеров в «предполагаемых обстоятельствах», т. е. по существу подходит к формулированию основ реализма как изображения типического.
Пушкин шел гораздо дальше современных ему западных попыток реформ в области трагедии, так как создавал трагедию реалистическую. Он неоднократно подчеркивал ее близкий живой жизни смешанный стиль и называл ее то трагедией, то драматической поэмой, то комедией (последнее — в архаическом значении слова — вместо «пьеса»).
«Борис Годунов» хотя и не был официально запрещен к печати, но фактически оказался запрещенным. Пушкин не мог, конечно, согласиться на иезуитское предложение Николая I — «с нужным очищением переделать комедию... в историческую повесть или роман на подобие Вальтер Скотта».2 «Борис Годунов» был напечатан целиком лишь в 1831 году — через шесть лет после написания. Наброски «предисловий» так и остались в рукописях поэта.
Не понятая современниками трагедия Пушкина успеха не имела и, за исключением немногих дружественных отзывов, была встречена или равнодушно, или резко враждебно. Только на чтениях ее самим Пушкиным в избранном кругу передовых писателей и друзей «Борис Годунов» был встречен с энтузиазмом, и «литературный подвиг» Пушкина оценен в полной мере.
Пушкин дал в «Борисе Годунове» образец подлинной национальной русской трагедии.
- 222 -
На сцену «Борис Годунов» впервые попал лишь в 1870 году, но с купюрами и искажениями. Только советский театр раскрыл его подлинный смысл и с бережным сохранением пушкинского текста осуществил полностью ряд постановок трагедии.
По концепциям, далеко переросшим свое время, по реформирующему трагедию новаторству, по художественной психологизации и реализму образов и языка, по эмоциональному диалогу и поэтизации русской старины «Борис Годунов» не имеет себе равных и в последующей русской драматургии. Он остается гениальной народной трагедией, «лучшей нашей исторической драмой» (Горький).1
«Борис Годунов» ознаменовал полную победу реализма в творчестве Пушкина. Отныне одним из главных принципов всей его литературной деятельности становятся борьба против старой реакционной эстетики, ограничившей круг художественного творчества «подражанием изящной природе», и защита полной свободы выбора тем и героев. Отсюда следовало иногда подчеркнутое обращение Пушкина к «предметам», которые реакционная критика считала «ничтожными». С этой точки зрения далеко не случайно Пушкин пишет после «Бориса Годунова» «Графа Нулина», произведение совсем иного типа с шутливым сюжетом, но серьезными заданиями.
Сам Пушкин относил «Графа Нулина» к ряду шутливых повестей, ссылаясь на ряд предшественников, но особенно выделяя «Модную жену» Дмитриева — «сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа» (XI, 156). Образ Нулина, однако, это уничтожающая сатира на космополитствующего молодого аристократа, который презирает свою родину. Вернувшись из Парижа, где он был захвачен «вихрем моды», Нулин
Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах...Подстать ему и Наталья Павловна, воспитанная «не в отеческом законе..., А в благородном пансионе У эмигрантки Фальбала», охотно поддерживающая издевательские речи Нулина о России:
— Нет? право? так у нас умы
Уж развиваться начинают?Реалистическая манера, с которой воссозданы черты окружающего быта, носит демонстративный характер. Пушкин намеренно подчеркивает и прозаический характер изложения и прозаический характер картин:
В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)...
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом.
Три утки полоскались в луже,
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор...При своем появлении в печати (1828) поэма вызвала глумление Н. И. Надеждина, сотрудничавшего тогда в «Вестнике Европы» Каченовского. Надеждин возмущался «ничтожностью предмета» поэмы, непристойностью ее содержания и, в особенности, низменностью приведенного выше описания помещичьего двора. «Неужели в широкой раме черного барского двора, — писал Надеждин, — не уместились бы две-три
- 223 -
хавроньи?.. Почему поэт, представляя бабу, идущую развешивать белье через грязный двор, уклонился несколько от верности, позабыв изобразить, как она, со всем деревенским жеманством, приподымала выстроченный подол своей пестрой понявы?..».1 На высказанное Надеждиным обвинение Пушкин начинал отвечать несколько раз (в заметках, предназначавшихся для «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений», 1830, и других), но в печати ответы эти не появились.
Разнообразные по темам и жанрам произведения Пушкина 1824—1825 годов свидетельствуют, таким образом, что это время было для Пушкина периодом особенно напряженных исканий, творческих и общеидеологических. Отразившийся в ранних стихах гедонизм, который не решает, а обходит вопрос о смысле жизни, перестал удовлетворять. Абстрактные понятия свободы и деспотизма наполнялись конкретным содержанием под влиянием исторических событий. Так открывались новые идейные, а стало быть, и творческие возможности; новое содержание требовало и новой формы. Этот процесс отразился на развитии всего творчества Пушкина и, в том числе, в его лирике.
В период михайловской ссылки два стихотворения Пушкина представляются наиболее программными, наиболее важными по идейному содержанию. Это — «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824) и «Андрей Шенье» (1825); оба свидетельствуют о новых творческих исканиях. «Разговор» построен на контрастном сочетании романтической элегии (в признаниях поэта) с репликами книгопродавца, говорящего ироническим стилем легких дружеских посланий. Два стиля являются здесь знаками двух отношений к миру — восторженно-идеалистического и трезво-практического. Пушкин предпочел здесь обычному типу лирического стихотворения драматизированную форму спора двух действующих лиц, ни с одним из которых автор не самоотожествляется вполне. Ни романтическая отрешенность поэта от толпы во имя личной свободы, ни, тем более, элементарный практицизм книгопродавца не решают большой проблемы о месте и роли поэта в обществе, которая здесь поставлена и в дальнейшем будет поставлена Пушкиным не раз. Две принципиальные идеи определяют в «Разговоре» позицию поэта: враждебность к светской «черни» и приверженность к свободе.
Идеал независимости творящего поэта необходимо сочетается с идеей свободы не только личной, но и общественной. Как гимн свободе в широком смысле слова, написана историческая элегия 1825 года «Андрей Шенье» (это подтверждается многозначительным указанием Пушкина Вяземскому судить об элегии «по намерению»). Интимно-элегический стиль сменяется высокой патетикой там, где провозглашаются приветствия свободе и предсказывается ее конечное торжество:
И час придет... и он уж недалек;
Падешь, тиран. Негодованье
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.Основная идея стихотворения — о неизбежности торжества свободы — дана в таком широком философском плане, что сама тема об Андрее Шенье как поэте, которого покарала французская революция, приобретает второстепенное значение (в самой трактовке образа Шенье вновь сказались классовые позиции Пушкина, отрицательно относившегося к якобинцам, которые осудили этого французского поэта). О силе исторического оптимизма
- 224 -
Пушкина говорит написанная в Михайловской ссылке «Вакхическая песнь», прославляющая человеческий разум, перед которым отступают «ложная мудрость» и силы «тьмы». Мотивы скептицизма, отразившиеся в стихах Пушкина 1823—1824 годов («Свободы сеятель пустынный», «Недвижный страж дремал» и др.), в этот период преодолеваются новым, более зрелым этапом пушкинского мышления. В программном стихотворении «О муза пламенной сатиры» он вновь провозглашает принцип поэзии боевой, сатирической и агитационной.
Смена настроений поэта отражена и в стихотворении «Я помню чудное мгновенье», где говорится о его новом мироощущении:
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.В стихотворении «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), посвященном лицейской годовщине, провозглашается верность вольнолюбивым клятвам юности:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Сростался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина.
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы...В этот же период — создания «Бориса Годунова» — характерно углубление темы русской истории, русской природы, русского быта и в пушкинской лирике. Сказка «Жених», стихотворение «Зимний вечер» знаменуют обращения к национальным русским темам в их первоисточниках. Белинский, говоря о связи этих стихов с народной песенной стихией, указывал на верность русской жизни и в реалистически точном «Зимнем вечере» и в фантастическом «Женихе». А по поводу последней баллады Белинский говорил (в особенности отмечая сцену сватовства): «Эта баллада и со стороны формы, и со стороны содержания насквозь проникнута русским духом, и о ней в тысячу раз больше, чем о „Руслане и Людмиле“, можно сказать:
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
(XII, 75).
В эти именно годы Пушкин работает над песнями о Разине и настолько погружается в стиль народной бунтарской песни, что пишет сам свободную вариацию на народные мотивы («Что не конский топ, не людская молвь»). Обращение к народной стихии сказалось и на всем поэтическом языке Пушкина, органически усвоившего элементы и самый принцип народного просторечия; оно сказалось и на самых основах его эстетики, с ее отрицанием «обветшалых украшений» и тяготением к смысловой насыщенности, простоте и точности.
Национально-исторический диапазон пушкинской лирики дополняется обращением к различным культурам человечества.
Пушкин создает ряд антологических стихотворений, впоследствии (в первом собрании стихотворений) объединенных им в цикл «Подражание древним». Это — лирика, где внешний мир дан с чертами точными и конкретными, но не противоречащими античным реалиям (крымская природа
- 225 -
у Пушкина). Трактовка античной темы была в этих стихах резко отличной от сентиментально-чувствительной французской поэзии; здесь воссоздавался подлинный дух античности. Новым в поэтике Пушкина было скупое, но четкое применение изобразительных деталей. На этой основе создаются уже в 1821 году такие стихотворения, как «Муза», о котором Белинский писал: «Да, несмотря на счастливые опыты Батюшкова в антологическом роде, таких стихов еще не бывало на Руси до Пушкина» (XI, 382).
«19 октября». Автограф Пушкина (1825 г.).
Далекими от «музейного» или эстетизированного любования древностью, полными идейного смысла были «Подражания Корану» (1824). Смысл обращения к этому памятнику отчасти раскрывается в пушкинских примечаниях, особенно в первом: «„Нечестивые, пишет Магомет (глава
- 226 -
Награды), — думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен“. Мнение сих нечестивых, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом» (II, 1, 358).
Арабскую культуру Пушкин воспринимает прежде всего со стороны ее поэтического своеобразия. Ни здесь, ни в дальнейших обращениях Пушкина к чужому национальному материалу нет стремления к внешней экзотической эффектности. Он и в этих стихах разрабатывает темы, актуальные для современности. Такова тема призвания (в первом стихотворении цикла), которая перекликается с темой поэта в стихотворении «Пророк». Такова тема «воскресшей младости» в девятом стихотворении, где, кстати сказать, тема эта внесена самим Пушкиным в отмену специфически религиозной темы оригинала (посрамление маловерного чудом воскресения). «Подражания Корану» Белинский отнес к числу «чисто пушкинских пьес», проникнутых «насквозь самобытным духом Пушкина» и отличающихся «всем совершенством художественной формы» (XI, 354).
8
В январе 1825 года Пущин, приехавший навестить своего друга в Михайловское, в разговоре с Пушкиным подтвердил его догадки о существовании тайного общества. С этим связаны «пророчества» в «Андрее Шенье» (1825) о скором «падении тирана». Когда до Михайловского дошла весть о смерти Александра I, Пушкин отправился было самовольно в Петербург, может быть, в предвидении возможного переворота, но по неясным причинам повернул обратно. Вполне правдоподобен рассказ современников о заявлении, сделанном Пушкиным при свидании с Николаем I, о том, что, очутись он 14 декабря в Петербурге, то был бы на площади с друзьями.
Восстание 14 декабря, суд, казнь пятерых, каторга ста двадцати «друзей, братьев, товарищей», в том числе Пущина и Кюхельбекера, — все это произвело потрясающее впечатление на Пушкина. В обстановке всеобщего террора поведение его отличалось мужеством и достоинством. Обращаясь в январе 1826 года к посредничеству Жуковского с целью выяснить свое личное положение и заявляя при этом о своем согласии «условливаться» с правительством, он вместе с тем предупреждал своих друзей, чтобы они «не отвечали» и «не ручались» за него. Он писал: «Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства» (XIII, 257). Только в марте 1826 года Пушкин решился, наконец, возбудить через Жуковского ходатайство о своем освобождении и послал ему официальное письмо, по его выражению — «в треугольной шляпе и в башмаках», т. е. такое, чтобы его можно было показать императору. В этом письме он не отказывался от своего образа мыслей, а только обязывался хранить его при себе и не противоречить безумно «общепринятому порядку и необходимости». Жуковский нашел это письмо «безрассудным». Он писал ему: «Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством» (Пушкин, XIII, 265—266, 271).
Действительно, Пушкин далеко еще не «ушел от жандарма», как он сам говорил. Декабристы в своих показаниях часто называли революционные стихи Пушкина в числе источников своего «свободного образа мыслей». Но данных о принадлежности Пушкина к тайному обществу у правительства не было. В середине июля 1826 года в Псковскую губернию был послан
- 227 -
полицейский агент Бошняк для «обстоятельного исследования» поведения Пушкина и проверки, не возбуждал ли он крестьян к «вольности». В случае надобности он имел полномочия арестовать его. Но и Бошняк не нашел ничего предосудительного, кроме того, что Пушкин «дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними».1
Не получив, таким образом, улик о том, что Пушкин был замешан в заговоре, Николай решил пойти на коварный ход. Граф Бенкендорф, шеф жандармов, был того мнения, что «если удастся направить... перо и... речи» Пушкина, «то это будет выгодно».2 Николай принял все это во внимание: новому императору надо было успокоить встревоженное общественное мнение. Продемонстрировав свою «милость» по отношению к поэту, он вместе с тем думал привлечь его на свою сторону.
В мае 1826 года, по окончании следствия над декабристами, Пушкин подал прошение на имя императора. Вяземскому это прошение показалось «сухим» и «холодным», и он советовал написать другое. Но тем временем совершилась казнь пятерых декабристов. Пушкин отвечал Вяземскому: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» (XIII, 291). Однако Николай удовольствовался этим «холодным» и «сухим» прошением. В ночь на 4 сентября Пушкин был вызван к губернатору в Псков и отправлен «не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря» в Москву, где тогда находился император (Пушкин, XIII, 293). Пушкина привезли прямо в Кремлевский дворец, в кабинет Николая. Подробности свидания точно не известны. Повидимому, Пушкин жаловался на цензуру, и царь заявил ему, что отныне сам будет его цензором.
Покорившись «необходимости», т. е. силе, Пушкин ничего не уступил из своих основных убеждений. Он только меняет тактику в связи с переменой исторической ситуации. Стихотворением «В Сибирь» (1827) он выразил верность идеям свободы и уверенность в конечном торжестве дела декабристов. Декабристы до конца жизни остались его «друзьями, братьями, товарищами». Эту же верность прошлому он подчеркнул в стихотворении «Арион» («Я гимны прежние пою...»). Он вспоминал своих друзей-«каторжников» Пущина и Кюхельбекера и старался помогать им. Мысль о повешенных не выходила у него из головы. В пушкинских черновиках 1826—1828 годов несколько раз повторяются рисунки, изображающие виселицу с качающимися на ней телами.
Москва встретила Пушкина триумфом. Когда Пушкин впервые после изгнания появился в Большом театре, по зрительному залу пронесся гул. Все повторяли его имя, все взоры, все бинокли были направлены на него, на сцену почти не глядели во все время спектакля. В антрактах и при разъезде Пушкина окружала густая толпа знакомых и незнакомых. Эта небывалая популярность поэта, несомненно, вызывала злобную настороженность царя и Бенкендорфа и заставляла их следить за ним с особым вниманием.
Фактическая невозможность соглашения Пушкина с правительством обнаружилась очень быстро. Царь считал, что поэт, преисполненный благодарности, должен резко изменить свои взгляды и доказать своим поведением, что он ценит оказанное ему снисхождение. Между тем Пушкин держал себя независимо и даже не соблюдал необходимой осторожности. В ноябре 1826 года Бенкендорф, которому царь поручил наблюдать за
- 228 -
Пушкиным, сделал ему выговор за то, что он читал в обществе «Бориса Годунова», напомнив, что, прежде чем печатать или распространять свои произведения, он должен представлять их на рассмотрение императору. Пушкин немедленно послал рукопись своей трагедии Бенкендорфу и вместе с тем принужден был остановить в московской цензуре все, что им дано было Погодину для «Московского вестника». Как уже отмечено выше, пушкинская трагедия была передана на отзыв Булгарину. Фактически «Борис Годунов» оказался надолго под запретом.
В конце 1826 года Николай поручил Пушкину составить записку о воспитании. Это должно было служить знаком доверия и вместе с тем явилось и своего рода политическим экзаменом. Аналогичное поручение, но касающееся специально лицейского воспитания, дано было тогда же и другому, столь же влиятельному, с точки зрения Николая, литератору, а именно — Булгарину. Булгарин написал записку в желательном духе, придав ей характер доноса, направленного прямо против Пушкина. Пушкин же не оправдал ожиданий. В то время как лицейское воспитание объявлялось — и не одним только Булгариным — источником революционной заразы, Пушкин предлагал распространить программу Лицея на все учебные заведения и ввести повсюду на «окончательном курсе» (лицейский термин) преподавание «высших политических наук», «прав» (разумея под этим и «естественное право»), политической экономии «по новейшей системе Сея и Сисмонди», статистики и истории, «особенно новейшей». При этом в преподавании истории рекомендовалось «не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем» (XI, 46). Вся пушкинская записка была посвящена защите «просвещения», которое на языке того времени было однозначно «свободному образу мыслей». Это была попытке внушить Николаю кое-что из декабристской программы и косвенно обелить декабристов, представив их «несчастными» жертвами исторических обстоятельств. Нечего и говорить, какое впечатление должна была произвести на Николая эта записка. Николай удовольствовался сухим «нравоучением», переданным через Бенкендорфа. «Его величество, — писал Бенкендорф, — при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» (Пушкин, XIII, 315; слова «гений» в пушкинской записке не было: это была колкость, направленная лично против Пушкина).
Итак, первая попытка Пушкина воздействовать на царя потерпела полную неудачу. Такая же судьба постигла, разумеется, и вторую попытку, которая выразилась в написании стихотворения «Стансы» («В надежде славы и добра...»). Великая преобразовательная деятельность Петра I ставилась здесь в пример Николаю I (Пушкин, конечно, не знал, что с такого же рода поучениями обращались к Николаю I и некоторые декабристы в письмах из крепости, в частности Александр Бестужев). На замысел пушкинского стихотворения, как можно полагать, имели влияние распространившиеся известия об учреждении секретного комитета для проведения некоторых важных правительственных мероприятий в области политики и просвещения. О возможности перемен глухо говорилось и в манифесте 1826 года. В конце «Стансов» указывалось, что новый царь, подобно
- 229 -
Петру, должен быть «памятью незлобен» (намек на необходимость смягчения участи осужденных декабристов).
А. С. Пушкин.
Рисунок В. А. Тропинина (1827 г.).Но «Стансы», не оправдав надежд поэта, в то же время вызвали среди различных кругов русского общества разговоры о «лести» Пушкина царю, об отходе поэта от своих идеалов. Ответом на обвинения в лести явилось стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»). В последних строфах этого стихотворения упреки друзей опровергались указанием на обстоятельства, при которых поэта можно было бы назвать льстецом, — это были бы призывы к «презрению народа», к подавлению просвещения и ограничению «милости». Написание «Стансов» царю мотивировалось тем, что
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.Здесь имелись в виду внешнеполитические успехи России в начале царствования Николая (аккерманская конвенция 1826 года и успешная война с Персией), а также некоторые тактические ходы правительственной политики внутри страны (например, отставка Аракчеева, указ о составлении свода законов и т. д.). Попытка Пушкина «договориться» с Николаем I была ошибочной. Надежды на реформаторскую деятельность царя оказались тщетными, и иллюзии Пушкина, отразившиеся и в «Стансах» и в стихотворении
- 230 -
«Друзьям», вскоре рассеялись. Возникновение этих иллюзий объясняется слабыми либеральными сторонами дворянского просветительства. Конечно, самая идея возможности «договора» между вешателем декабристов Николаем I и другом декабристов — Пушкиным была абсолютно беспочвенной, и дальнейший ход событий полностью это подтвердил.
В сентябре 1826 года, когда Пушкин «условливался» с царем, возникло дело об отрывке из «Андрея Шенье», не вошедшем в печатный текст сборника стихотворений 1826 года по цензурным причинам и распространившемся в списках под произвольным заглавием «На 14 декабря». Пушкину два раза пришлось разъяснять, что инкриминируемые ему стихи относятся к французской революции и не только не имеют ничего общего с «несчастным бунтом 14 декабря», но и в действительности написаны задолго до этого события. Дело тянулось до 1828 года и дошло до Государственного совета. Пушкину было поставлено в вину, что он в своих показаниях «равнодушно отозвался о бунте 14 декабря, назвав его несчастным, как будто без намерения сделанным»; согласно постановлению Совета, «по неприличному выражению его <Пушкина> в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 года», за ним учрежден был секретный полицейский надзор.1 Таким образом, с 1828 года Пушкин оказался под двойным надзором — высшим надзором со стороны Бенкендорфа и обычным полицейским надзором. Вместе с тем от Пушкина была отобрана подписка, чтобы он ничего не печатал без цензуры. Это требование стояло в прямом противоречии с обещанием царя быть его единственным цензором. Сохранилось черновое письмо Пушкина к Бенкендорфу, где он протестует против «унизительной» для его чести «полицейской подписки» и ссылается на царское обещание 1826 года. Повидимому, письмо это не было послано, так как положение Пушкина значительно осложнилось новым, гораздо более серьезным обстоятельством.
В июне 1828 года, еще до окончания дела об «Андрее Шенье», в полицию поступил донос о его ранней атеистической поэме «Гавриилиада». Пушкин первоначально отрекся от авторства. Тогда Николай приказал призвать Пушкина и сказать ему от его имени, что, «зная лично Пушкина», он верит его слову, но желает, чтобы он помог открыть, «кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем». Пушкин тогда передал письмо в запечатанном конверте, адресованное лично царю, после чего тот приказал прекратить следствие (повидимому, в письме Пушкина заключалось признание). Этой «милостью» Николай надеялся сковать Пушкина по рукам и ногам.
С 1828 года отношение правительства к Пушкину значительно ухудшается. В апреле 1828 года объявлена была война Турции. Пушкин просился в действующую армию, но получил отказ. Тогда он обратился с новой просьбой: отпустить его на 6—7 месяцев в Париж. Снова отказ. Не надеясь больше на позволение правительства, он самовольно, на правах частного лица, отправился в мае 1829 года на Кавказский фронт, в Грузию. По дороге он навестил в Орле опального генерала А. П. Ермолова и имел с ним беседу, содержание которой Ермолов впоследствии отказывался сообщить. Одной из причин путешествия было желание повидаться с Н. Н. Раевским и декабристами, многие из которых служили солдатами в Кавказской армии. Генерал Паскевич, командовавший Кавказской армией, распорядился, по предписанию из Петербурга, учредить за Пушкиным надзор по пути его
- 231 -
следования. Когда Пушкин присоединился к его штабу, надзор за ним он взял на себя. 27 июня 1829 года Пушкин присутствовал при взятии Эрзерума (Арзрум). Поездка в действующую армию отразилась в ряде «кавказских» стихотворений («Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «Обвал», «Делибаш» и др.). В течение путешествия Пушкин вел записки, которые затем включил в «Путешествие в Арзрум» («Современник», 1836). Помимо военных действий, Пушкин, как и в Бессарабии, очень интересовался нравами, литературой и историей тех народов, в среду которых попал. Так, например, во второй главе «Путешествия в Арзрум» помещена в русском переводе грузинская песня; песня эта представляет собой стихотворение Д. Туманишвили. Собранные материалы Пушкин использовал потом в неоконченной поэме «Тазит» (1829—1830) и во многих стихотворениях.
А. С. Пушкин.
Рисунок Ж. Вивьена (1827 г.).В сентябре 1829 года Пушкин приехал в Москву, а в октябре, тотчас по приезде в Петербург, получил резкий выговор от Бенкендорфа за самовольное путешествие. А затем последовали новые знаки царского недовольства. В январе 1830 года Пушкин просит причислить его к миссии, посылаемой в Китай, или отпустить во Францию, — снова отказ, мотивированный тем, что состав миссии уже назначен, а поездка во Францию «запутала бы его дела» и «помешала бы его занятиям». Правительство, таким образом, входило даже в частные дела Пушкина. Фактически он лишен был права свободного передвижения, права поездок за границу. Всесторонняя мелочная опека сопровождалась постоянными выговорами: то за то, что был на
- 232 -
балу у французского посла во фраке, а не в дворянском мундире (январь 1830 года), то за то, что уехал в Москву без предупреждения (март 1830 года). Пушкин в 1830 году писал с горечью Бенкендорфу. «Несмотря на четыре года уравновешенного поведения, я не приобрел доверия власти. С горестью вижу, что малейшие мои поступки вызывают подозрения и недоброжелательство» (XIV, 73, 403).
Как раз в это время, весной 1830 года, решался вопрос о женитьбе Пушкина на Наталье Николаевне Гончаровой, семнадцатилетней московской красавице, причем согласие родителей невесты было поставлено в зависимость от благоприятного разрешения вопроса об отношении к Пушкину правительства. Мать Натальи Николаевны опасалась выдать дочь за человека политически неблагонадежного. Кроме того, вставал вопрос и о материальном обеспечении будущей семьи. Это вынудило Пушкина обратиться к Николаю I с просьбой о своей политической реабилитации в глазах родителей невесты и о позволении на брак. Николай I воспользовался благоприятным случаем, чтобы окончательно, как он полагал, подчинить поэта «видам» правительства. Он выразил через посредство Бенкендорфа свое полное удовлетворение по поводу намерения Пушкина жениться, выдал ему своего рода свидетельство о политической благонадежности, удостоверив, наперекор истине, что он никогда не состоял под надзором полиции, но довольно прозрачно намекнул при этом, какие обязательства накладывает на него новая царская «милость». Бенкендорф писал по поручению Николая: «Его императорское величество с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей вашей женитьбе и при этом изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять этот шаг, и в своем сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно женщины столь достойной и привлекательной, как м-ль Гончарова» (Пушкин, XIV, 81, 408). Вместе с тем с целью материального обеспечения дано было, наконец, позволение напечатать «Бориса Годунова», который и вышел в начале 1831 года. Таким образом, под контроль правительства были поставлены самые интимные чувства и отношения поэта.
Все это поставило Пушкина в резкое, непримиримое противоречие с николаевской Россией, со всем ее укладом, с светским обществом. К политическим преследованиям, которым подвергался Пушкин после возвращения из ссылки, прибавлялась ожесточенная травля поэта реакционной критикой, которая отвергала, а зачастую грубо бранила его наиболее зрелые произведения («Полтаву», «Евгения Онегина» и другие), навязывая ему официозную мораль и «благонамеренные» темы. В ответ на враждебные нападки светской и журнальной черни Пушкин написал в 1827—1830 годах ряд стихотворений, в которых отстаивал независимость искусства от вкусов и требований «толпы» («Чернь»,1 «Поэт», «Поэту» и др.). В «Ответе анониму» Пушкин с горечью признавался:
Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра...Впоследствии, особенно в 50—60-х годах, консервативные литературные круги пытались тенденциозно использовать стихотворения «Чернь», «Поэту» и другие для обоснования реакционной антинародной теории «искусства для искусства». Но ни эти стихотворения, ни творчество Пушкина в целом не
- 233 -
дают для этого никаких оснований. Поэзию, далекую от жизни, от интересов народа, он всегда отвергал. Точно так же он не соглашался признать какую бы то ни было ценность за произведениями поэтов, видевших цель искусства в формальной изощренности. И если Пушкин в сонете «Поэту» восклицал:
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум... —то этими словами он выражал свое презрение к «светской черни», а вовсе не преданность равнодушному к действительности «искусству для искусства». Выступая против реакционной тенденциозности литераторов, требовавших от поэтов восхваления гнусной николаевской действительности, он отказывался служить «толпе», «черни», т. е. правящей верхушке и царским холопам. Но все же Белинский был прав, когда он, вполне понимая полемическую заостренность стихотворения «Чернь» против враждебного Пушкину лагеря, в то же время осуждал способ доказательства своего права на свободу творчества путем пропаганды идеи гордой замкнутости в себе самом. Слова о том, что поэты рождены «не для житейского волненья», опровергались самим же Пушкиным. Характерно, что к середине 20-х годов относятся страстные поэтические декларации Пушкина о высокой гражданской роли поэта: в 1826 году написан «Пророк», несколько ранее «О муза пламенной сатиры» — стихотворение, выражающее непреклонную верность традициям социального обличения.
В тяжелой террористической обстановке последекабрьских лет Пушкин не оставлял мысли о путях организации общественного мнения.
Пушкин давно стремился к журнальной деятельности. После возвращения из ссылки он предлагал Вяземскому объединиться с ним, «завладеть» каким-нибудь журналом «и царствовать самовластно и единовластно». В Москве Пушкин сблизился было с кружком молодых любомудров во главе с Д. В. Веневитиновым, Иваном Киреевским и С. П. Шевыревым. В 1827 году стал выходить орган этой группы — «Московский вестник», редактирование которого было поручено М. П. Погодину. Предполагалось, что Пушкин будет играть в журнале руководящую роль. Однако скоро обнаружились принципиальные идейные расхождения между ним и большинством сотрудников. Пушкин с его ясным, положительным умом, твердо-стоявший на реалистических позициях, не мог мириться с шеллинговской метафизикой и ненавистным ему с ранних лет мистицизмом. Немецкой метафизике Пушкин противопоставлял положительную науку и реальные политические вопросы. После выхода первых номеров журнала Пушкин писал Дельвигу: «Ты пеняешь мне за Московский вестник — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребяты теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я говорю: Господа, охота вам из пустого в порожнее переливать... Московский вестник сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? (Впрочем, на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB1). А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану я терять» (XIII, 320). «Московский вестник» выходил до 1830 года, но Пушкин активного участия в нем не принимал: ему были чужды не только теоретико-эстетические позиции этой группы, но и ее аристократические тенденции, направленные против демократизации литературы.
- 234 -
9
Победа реалистического метода в творчестве Пушкина изменила в корне его отношение к одной из наиболее слабо развитых тогда областей художественной литературы — к прозе, развитие которой он считал важной идеологической задачей, выдвигаемой современностью. Расширение социального содержания пушкинских произведений, все более укреплявшиеся тенденции к демократизации его — потребовали и новых форм. Белинский впоследствии писал о связи роста интереса к прозе с требованиями времени: «... в наше время и сам Ювенал писал бы не сатиры, а повести, ибо если есть идеи времени, то есть и формы времени» (II, 203).
Пушкину в начале 20-х годов проза еще не казалась серьезным делом. «Проза почтовая», «проза презренная», «смиренная проза», «унизиться до прозы» — таковы обычные шутливые формулы в пушкинских письмах и стихах. Здесь было кое-что и от традиционного взгляда на принципиальную разность стиха, «языка богов», и прозы, языка обыденных людей. В этом плане дано и противопоставление «огня и льда», «стихов и прозы» в «Евгении Онегине». Но у Пушкина нельзя понимать этот разрыв буквально. Уже к середине 20-х годов Пушкин считает создание новой русской прозы одной из важнейших задач. Русский стих, в основном, был уже создан. Преодолевая романтизм, Пушкин всюду ищет «истинного романтизма», т. е. реализма. Одним из важнейших средств борьбы за него была проза. Уже в 1822 году он дал свое, ставшее классическим, определение: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (XI, 19).
К концу 1824 года Пушкин отчетливо чувствовал перелом в своем творчестве, говоря в третьей главе «Евгения Онегина»:
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.Лабораторией пушкинской прозы, наряду с дневниками, записями исторических анекдотов, планами, примечаниями к поэмам, были также и его письма.
В художественной форме «письма» было дано и описание путешествия по Крыму. По существу прекрасным образцом прозы является и «Воображаемый разговор с Александром I» — особая форма остроумного, быстрого и эмоционально-гибкого диалога.
Первыми вторжениями прозы в поэму и драму являются реплика в «Разговоре книгопродавца с поэтом» и ряд реалистических сцен «Бориса Годунова» («Палаты патриарха», «Корчма на литовской границе», прозаические реплики в сценах «Москва. Дом Шуйского» и «Царские палаты», сцена «Равнина близ Новгорода-Северского», сцена с юродивым, финальная сцена). Здесь характерна разработка живописного прозаического диалога, вкрапленного в трагедию. Великое значение диалога и для последующей прозы уже в этот период с полной силой понято Пушкиным.
Первым целостно задуманным большим произведением Пушкина в прозе явился «Арап Петра Великого» (начат 31 июля 1827 года).
В одной из своих заметок Пушкин писал: «Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ — Карамзина. Это еще похвала не большая...»
- 235 -
(XI, 19). В следующем году в письме к Вяземскому он повторил: «... прозу-то не забывай; ты да Карамзин одни владеют ею» (XIII, 57).1 Но есть все основания думать, что ни тот, ни другой прозаики не удовлетворяли самого Пушкина. Он все более остро чувствовал необходимость сделать равно и художественную и научную прозу орудием выражения новых идей, освободить ее от французских подражаний, от примеси галлицизмов, от напыщенности и вычурности, сблизить ее с языком народа. В 1824 году он констатировал: «... просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии...; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных...» (XI, 21). Развивая в 1825 году те же мысли в рецензии на предисловие Лемонте к переводу басен Крылова, Пушкин, отдав должное «беспристрастию автора», вынесшему «строгий и справедливый приговор французскому языку», прибавляет, что равнодушие русского «высшего» света к отечественной словесности только лишь способствовало сохранению свежести и простоты русского языка. Ибо во Франции, продолжает Пушкин, вмешательство «придворных» в литературу «напудрило и нарумянило» ее (XI, 33).
Требуя высокой идейности, Пушкин возмущается употреблением прозы «токмо для приятного проявления форм». Он выдвигает как основные требования свои к прозе два момента: «необходимость житейскую» и «выражение нужной мысли» (1827; XI, 60). Вместе с тем художественная проза, как полагал Пушкин, не должна терять ни своей занимательности, ни изящества.
Вопрос о создании русской повести, в те годы еще только начинавшей свой блистательный путь, особенно беспокоит его: «Кстати о повестях: они должны быть непременно существенной частию журнала, как моды у Телеграфа... Они составили первоначальную славу Карамзина; у нас про них еще толкуют» (письмо к М. П. Погодину от 31 августа 1827 года; XIII, 341).
Говоря в своих заметках, письмах о развитии прозы, Пушкин подвергал критической переоценке произведения наиболее известных прозаических писателей. Народность, реализм, «местный колорит» описаний, верность исторических нравов, обычаев, языка эпохи, — вот критерии, с которыми Пушкин подходил к оценке художественного творчества. С этих позиций он вновь резко критиковал свойственное героям французской литературы классицизма «холопское пристрастие к королям» и, говоря об исторических романах Вальтер Скотта, считал их достоинством изображение героев в повседневной жизни.2 Теоретическим своим высказываниям он следовал и в собственной практике художника. Это был период, когда, по выражению А. А. Бестужева, в русской литературе в качестве реакции на поэзию стоял сплошной крик: «Прозы, прозы! Воды, простой воды!».3 По свидетельству П. В. Анненкова, Пушкин говорил друзьям: «Бог даст, мы напишем исторический роман, на который и чужие полюбуются».4
- 236 -
«Арап Петра Великого» явился значительно раньше других русских исторических романов и был первой пробой поэта в новом для него прозаическом роде. Пушкин сам указал исторические источники, на которые он опирался для исторически документального воссоздания эпохи. Им были использованы материалы историка Голикова и историка-декабриста Корниловича. Пушкин избрал центральным историческим героем романа Петра I; в герои романтические Пушкин избрал, в согласии с традицией исторического романа, своего предка. В Михайловском, старой вотчине Ганнибалов, где слагался замысел романа, многое окружавшее подсказывало Пушкину тему о его романтическом прадеде Ганнибале — «петровском арапе». Оставшиеся документы о нем, так же как и устные предания, тщательно изучались Пушкиным. С детства от своей бабки, а позднее и от Арины Родионовны он также слышал немало рассказов о своем предке и его потомках, немало преданий о Пушкиных и Ганнибалах.
Набросав в первой и в начале следующей главы очерк аристократической Франции эпохи Регентства, Пушкин переносит своего героя в Россию.
Встреча с Россией символизирована встречей с Петром. Он дан домашним образом», как и Екатерина, как и Елизавета, в реалистическом, простом диалоге о самых повседневных вещах. Россия показана в процессе развернутого и еще не законченного строительства. «Новорожденная столица» — Петербург — являет «недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий».
Петровская эпоха показывается Пушкиным «запросто», естественно и живо, «без холопского пристрастия к королям и героям». В этом новое достижение растущего пушкинского реализма. Рисуя в третьей главе «ассамблею» и в четвертой «обед у русского боярина» (именно эти главы Пушкин только и напечатал как «главы из исторического романа»), Пушкин впервые воспроизвел в русском романе, на основании изучения документальных источников, поэтические картины русской старины, ломаемого Петром быта. На этом фоне рядом с Петром Пушкин впервые выводит и «маленьких», незаметных людей: шутиху Екимовну, с ее умным, красочным, чисто народным языком, и хлопотливую карлицу Ласточку. Это внимание к обиженным жизнью, второстепенным персонажам уже в эту пору предвещает в Пушкине основоположника реалистического изображения «маленьких», «бедных» людей в русской литературе.
Роман Пушкина в дальнейшем, повидимому, должен был складываться из переплетения двух основных линий: романтического вымысла и исторического изображения эпохи. Для уяснения первой любопытно свидетельство А. Н. Вульфа: «Главная завязка этого романа будет... неверность жены... арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь».1 Здесь Пушкин оперировал преданиями о тяжелом «семейственном романе». Исторической идеей повести должна была быть мысль о России, преображенной «железной волею Петра» (эпиграф из Н. Языкова, намечавшийся к одной из глав или даже ко всему роману). Петр изображался Пушкиным не так, как впоследствии давали его официозно-патриотические романисты. Вместо сусального лика царя в центре романа должен был стоять образ живого реформатора.
Смыкая обе линии своего романа, Пушкин предполагал ввести в него стрелецкого сына Валериана — «волчонка», отпрыска бунтующей против Петра реакционной стрелецкой стихий. Имея в числе своих исторических
- 237 -
предков как сторонников Петра, так и яростных врагов его самодержавного правления, Пушкин в романе, хотел показать столкновение этих обеих движущих сил эпохи.
Особый интерес представляет имеющееся в романе противопоставление двух образов — Ибрагима и Корсакова. Ибрагим был послан Петром «в чужие края, для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному». Вопреки уговорам герцога Орлеанского и несмотря на любовь к графине Д., Ибрагим вернулся в Россию. «Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою... Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях...». Иначе вел себя Корсаков: в Париже он потерял всякое национальное достоинство. Приехав в Петербург, он презрительно называл его «варварским» и интересовался только модами да увеселениями. Эта, по словам Гаврилы Ржевского, «заморская обезьяна» так пародирована Екимовной: «... Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла подмышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: „мусье... мамзель... ассамблея... пардон“. Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.
— Ни дать, ни взять — Корсаков, — сказал старый князь Лычков... — А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из Неметчины на святую Русь скоморохом».
Так оценивал Пушкин, наряду с перестройкой России на новый лад, также и всю нелепость подражания иноземному, привычек, которые привозили из «заморских краев» Корсаковы, чуждые созидательному труду русских людей петровской эпохи.
«Арап Петра Великого» остался незаконченным. Белинский прекрасно сказал о нем: «Будь этот роман кончен так же хорошо, как начат, мы имели бы превосходный исторический русский роман, изображающий нравы величайшей эпохи русской истории... Эти семь глав неоконченного романа, из которых одна упредила все исторические романы Загоскина и Лажечникова, неизмеримо выше и лучше всякого исторического русского романа, порознь взятого, и всех их, вместе взятых» (XII, 216).
Отзыв Белинского должен быть дополнен в том отношении, что и по сравнению с западноевропейским историческим романом «Арап Петра Великого» представляет уже существенно новое: в нем мы не встретим недостатков, характерных для романов Вальтер Скотта, — длиннот и усложненных подступов к материалу, утомительных описаний, сюжетных повторений и общей растянутости. Краткий и яркий, он закладывает начало русского национального романа.
С темой Петра связана и поэма Пушкина «Полтава» (написана осенью 1828 года, напечатана в 1829 году). В масштабе широкой эпической панорамы ярко раскрывается та же идея созидательно-реформаторской деятельности Петра, которой был проникнут и «Арап Петра Великого». В этом произведении ярко отразилась гордость поэта мощью русского народа, выросшего в суровых испытаниях:
... в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.В «Полтаве» ярко сказалось дальнейшее движение Пушкина к народности (в широком смысле) и к народной старине, определившееся еще в «Борисе Годунове». Этот поворот был замечен критикой. Н. Полевой
- 238 -
писал, что в «Полтаве» «везде русская душа, русский ум, чего, кажется, не было в такой полноте ни в одной из поэм Пушкина».1 То же говорил и Ксенофонт Полевой, видевший основу поэмы в «невидимой силе духа русского, которою поэт оживил каждое положение, каждую речь действующих лиц». Он определял «Полтаву» как «совершенно новый род поэзии, извлекаемый из русского взгляда поэта на предметы».2
Этот самобытный «русский взгляд» выразился в оценке исторических событий и, главное, в изображении Петра. Пушкинский Петр воплощает Россию — ту «Россию молодую», которая «мужала» с его «гением». В нем собраны черты, взятые из истории и отраженные в народной поэзии: твердость и терпение в бедствиях, прямота, великодушие. Здесь Пушкин еще не поднимается до раскрытия противоречивости Петра, в котором великий реформатор сочетался с «нетерпеливым помещиком» (позднейшие слова Пушкина): его внимание направлено только на историческое значение полтавской эпопеи и роли в ней Петра.
Историческая часть поэмы построена на аналогиях с Отечественной войной 1812 года. «Уроки», полученные Россией от «шведского паладина», ассоциировались с первоначальными поражениями в борьбе с Наполеоном. В громе полтавских пушек в поэме Пушкина слышался отзвук Бородина. И, наконец, то, что говорилось в поэме о русской силе, опиралось на воспоминания 1812 года. Намек на эту аналогию содержался в тексте поэмы:
Он шел путем, где след оставил
В дни наши новый, сильный враг,
Когда падением ославил
Муж рока свой попятный шаг.Контрастом Петру, показанному исключительно в сфере народно-государственных интересов, служит образ изменника и честолюбца Мазепы, который назван в поэме Иудой. Противопоставление Петра — Мазепе, как двух в корне противоположных типов, и составляет идейную сущность поэмы. В связи с этим понятно, что Петр появляется на сцене только в третьей песне, в решительную минуту боя, после развязки драмы «страстей» (т. е. после казни Кочубея и бегства Марии). Образ Петра приобретает благодаря этому монументальный характер. Он появляется «могущ и радостен», в величии исторического подвига.
Общая концепция поэмы раскрыта в эпилоге:
Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось...
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.Из этого следовал вывод о том, что только деятельность, направленная на укрепление государства, на общественное благо, отрешенная от эгоистических побуждений, заслужит благодарность в потомстве.
По сравнению с «южными поэмами» «Полтава» представляет собой совершенно новое явление. Реализм поэмы обусловил и специфические особенности ее композиции, стиля, языка. Фрагментарность предшествующих лирических поэм Пушкина заменяется в «Полтаве» связным эпическим
- 239 -
Казнь декабристов. Рисунок Пушкина на рукописи «Полтавы»
(1828 г.).
- 240 -
повествованием со вставкой нескольких эпизодов, написанных в диалогической форме. Повествовательная интонация чередуется с лирической и патетической. Эпический стиль оттеняется употреблением разговорных оборотов речи: «И то сказать: в Полтаве нет...», «Кто опишет Негодованье, гнев царя?», «И знает бог и видит свет...», «Ого! пора! Вставай, Мазепа, Рассветает!» и т. п.
«Полтава». Обложка первого издания
поэмы (1828 г.).Стиль повествования варьируется в зависимости от предмета и выводимых лиц. Лирическая речь («Тиха украинская ночь») сменяется сосредоточенно-мрачной (думы Кочубея накануне казни) и патетически-торжественной одической («Горит восток зарею новой», «Прошло сто лет») и т. д. Вместе с тем через всю поэму проходит песенно-эпическая струя украинской окраски. Эта песенно-эпическая струя обнаруживается уже в зачине («Богат и славен Кочубей»; негативно-противительный период: «Но Кочубей богат и горд Не долгогривыми конями...») и далее сопровождает всю линию Марии и Кочубея (в то время как линия Мазепы ведется в книжно-архаическом, а линия Петра в одическом стиле). Образы Марии и Кочубея окружены народно-поэтической атмосферой (сравнения: свежа, «как вешний цвет», стройна, «как тополь», грудь бела, «как пена» и пр.; отрицательные сравнения: «Не серна под утес уходит»; народно-поэтические метафоры: «И ночь, когда голубку нашу ты, старый коршун, заклевал»; эпитеты: «Ни в чистом поле», «конь ретивый», «с буйной головою» и т. д.). Образ «слепого украинского певца» в концовке замыкает проходящую через поэму народно-песенную струю:
... Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.Украинско-песенный элемент, наполняющий поэму, связан с выходом в 1827 году «Малороссийских песен» М. А. Максимовича (повлиявших и на «Вечера» Гоголя). По рассказу Максимовича, Пушкин, когда писал «Полтаву», сам говорил ему, что «обирает его песни».
Строгий историзм и широкое социально-политическое современное содержание придавали пушкинской поэме особое значение. Она выполняла
- 241 -
«Полтава». Автограф Пушкина.
давнюю задачу создания новой эпической реалистической поэмы, которая могла бы занять место старой классической эпопеи. Это было произведение, проникнутое духом подлинной народности. Однако «Полтава» не была понята большинством современников, искавших в ней лирического пафоса прежних пушкинских поэм или же подходивших к ней с традиционной классической меркой (как, например, Надеждин, который отозвался на «Полтаву» тупоумно-издевательской статьей в «Вестнике Европы»).1 По поводу неуспеха «Полтавы» Пушкин писал: «Habent sua fata libelli...2 Полтава не имела успеха. Может быть она его и не стоила, но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям»; к тому же это сочинение совсем оригинальное,
- 242 -
«а мы из этого только и бьемся» (XI, 158). Идейное содержание поэмы, ее патриотическая направленность — все это явилось продолжением лучших традиций передовой общественной мысли 20-х годов. С этой точки зрения становится понятным впечатление, которое она произвела на ссыльного Кюхельбекера: «за твою „Полтаву“ уважаю, сколько только можно уважать» (Пушкин, XIV, 117).
10
Почти на всем протяжении 20-х годов (с 1823 по 1830 год) Пушкин работал над величайшим из своих произведений — «Евгением Онегиным». Это был первый реалистический роман в истории не только русской, но и мировой литературы.
«Евгений Онегин» — вершина пушкинского творчества. Здесь, как ни в одном из прежних пушкинских произведений, отражена русская жизнь в ее движении, смена поколений и вместе с нею смена и борьба идей. Главные герои романа, показанные на переднем плане романа, воспринимаются, в полном соответствии с исторической правдой, как типические образы, действующие в типических обстоятельствах этого времени. Весь этот материал художественных изображений — высшее достижение пушкинского реалистического мастерства — показан не эпически бесстрастно, а в неизменном сопровождении личных авторских эмоций и оценок, лиризма и иронии.
Белинский дал наиболее точное резюмирующее определение «Евгения Онегина», сохранившее силу и до сих пор: «„Онегина“ можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением... А ее <поэмы> влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества...» (XII, 144). Это значение роман приобрел глубиной проникновения в сущность русской жизни этой эпохи, яркостью и многогранностью образов, широтой обобщений, острой постановкой жгучих вопросов современности.
В самой творческой истории романа отразились и эволюция Пушкина и изменения, произошедшие в русской действительности.
Первые строфы «Евгения Онегина» Пушкин писал в Кишиневе, в мае 1823 года. В течение полугода (уже в Одессе) были закончены две первые главы. Вторая глава уже была дописана до половины, когда Пушкин впервые поделился новым замыслом с друзьями. «Что касается до моих занятий, — пишет он 4 ноября 1823 года Вяземскому, — я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница» (XIII, 73). Сначала роман был задуман как сатира, даже «желчная сатира», но затем Пушкин перешел к эпическому развертыванию темы (что, конечно, не стояло в противоречии с сатирическими элементами в романе).
Тема первой главы определяется словами предисловия к этой главе: «описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года» (VI, 638). Глава задумана в жанре непринужденного рассказа, написанного со всей «свободою разговора или письма» (совет Пушкина А. Бестужеву в письме от 30 ноября 1825 года), но рассказа стихотворного («дьявольская разница»): «проза» реалистического повествования могла здесь естественно и незаметно переходить в «поэзию», в чистый лиризм; в результате вырабатывалась новая поэтическая форма, уничтожавшая границу между «прозой» и «поэзией» в традиционном понимании этих слов. Строфическое строение облегчало ввод в поэму законченных отступлений.
- 243 -
Пушкин изобрел для своего романа особую строфу из 14 стихов четырехстопного ямба, где комбинация различных видов рифмовки облегчала разнообразие в развитии поэтической темы (в частности, четыре раза встречающаяся в строфе смежная рифмовка облегчала ввод лапидарных афоризмов и характеристик типа: «И устарела старина, И старым бредит новизна», но синтаксические возможности строфы были настолько гибки, что никакой навязчивой обязательности не было и в этом приеме).
Повествование в «Евгении Онегине» лирическое; автор играет в нем первую и ведущую роль, он не только рассказывает, но и произносит свой приговор, свои оценки изображаемому: он выступает с частными, «домашними» деталями своей жизни, с упоминаниями о современниках, со злободневными намеками. В первой же главе Пушкин ясно дает понять, что он в ссылке; к строке «Но вреден север для меня» делает многозначительное примечание: «Писано в Бессарабии»; наконец, прямо восклицает:
Придет ли час моей свободы?..
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии...(Стр. L).
Он вводит уже в первую главу упоминание о своем приятеле Каверине; в следующих главах вспоминает о Дельвиге, Языкове, Баратынском, а Вяземского вводит даже в число эпизодических лиц романа. В первой главе герой еще не действует, не говорит, он показан не в общении с конкретными людьми, а в быту; отдельные психологические черты его еще не собраны в характер, а наиболее ответственные из них только заявлены, но ничем еще не подтверждены:
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.(Стр. XLV).
Здесь не трудно видеть общие черты романтических героев, к восприятию которых читатель, впрочем, уже подготовлен, так как несколько выше (в строфе XXXVIII) Онегин сопоставляется с Чайльд-Гарольдом Байрона. Но уже в той же первой главе, в строфе LVI, полемически заостренной против Байрона, Пушкин подчеркивает «разность» между автором и его героем, нежелание рисовать в «Онегине» свой портрет. Тем самым отвергалась одна из главнейших черт поэм Байрона.
Сатирические задания, о которых Пушкин писал в предисловии и письмах, в этой стадии работы лишь отчасти могли относиться к герою.
Герой изображался сатирически в той части его социальной характеристики, которая была связана со «светом», до начала его «недуга», «хандры»; в той части, где он изображался как один из многих, как «забав и роскоши дитя», во всех деталях его светского воспитания, поведения, быта. Та же вольнолюбивая декабристская оценка «света», которую Пушкин в поэмах и лирике этого же периода давал в романтических обобщениях («Любви стыдятся, мысли гонят» и т. д.), — здесь, в «Онегине», осуществлялась методом объективно-реалистического и в то же время лирико-иронического повествования.
Богатство бытового материала и верность в его изображении отличают уже и первую главу. Небывалая еще в русской поэзии точность отражения действительности позволила Марксу воспользоваться «Евгением Онегиным» для того, чтобы характеризовать основные типы отношений к товару, как
- 244 -
к деньгам, и к деньгам, как к товару: «В поэме Пушкина отец героя никак не может понять, что товар — деньги. Но что деньги представляют собою товар, это русские поняли уже давно...».1 Острая реалистическая наблюдательность обнаружена в строфе XXII, где картины театральной сцены и зрительного зала дополнены бытовыми деталями:
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони...
«Евгений Онегин». Обложка первой главы
(1826 г.).При этом ирония Пушкина совершенно органически включается в его метод объективных изображений; это ирония, вскрывающая противоречия объективной действительности. Так, противоречивыми чертами уже здесь охарактеризован Онегин; в его, казалось бы, искреннем разочаровании разоблачаются элементы позы:
Все это часто придает
Большую прелесть разговору...(Стр. XLVI).
Это ирония, смысл которой — изображение предмета со многих сторон. Иногда она выражается в почти неуловимых интонациях, в полускрытой улыбке. Непонимание пушкинской иронии приводило всегда к самым печальным результатам: за пушкинские сентенции зачастую вульгаризаторы выдавали и «Благословен и тьмы приход», и «Любите самого себя», и даже «Мой идеал теперь — хозяйка...». Господство иронии в «Онегине», однако, не абсолютно, и многие строки и строфы от нее свободны. Это особенно очевидно в дальнейшем течении романа, но и в первую главу нередко включается и самая подлинная личная лирика.
«Роман в стихах» оказывался для Пушкина вместе с тем лабораторией для его дальнейших поэм и даже для художественной прозы. Он был такой лабораторией и для пушкинской лирики. Именно здесь, с разнообразными возможностями перехода от лиризма к иронии, от «поэзии» к «прозе», в разнообразии оттенков самой иронии, вырабатывался новый тип лирической поэзии — «небрежной», по любимому выражению Пушкина, что должно быть понято в смысле: непринужденный, искренний, «простодушный», свободный от власти обветшавших традиций, от обязательного «настраивания» слога «на нежный лад».
Дальнейшее развитие плана романа в сознании Пушкина определилось не сразу. Когда три главы были уже готовы (в октябре 1824 года), Пушкин
- 245 -
решился, наконец, отдать в цензуру и в печать только первую главу, предупреждая в предисловии читателей: «Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено» (VI, 638). Первая глава, как пояснялось дальше, печаталась как «нечто целое». Как велико будет все «большое стихотворение», оставалось неясным. Когда появилась третья глава, К. Полевой упомянул в своей рецензии со слов «литературных лазутчиков», что всех глав будет «двадцать с лишком». Источник этого слуха не известен. Шестая глава самим Пушкиным была объявлена «концом первой части» — очевидно, и вторая часть предполагалась в таком же объеме. Но если «первая часть» была закончена в течение трех лет (1823—1826), хотя работа над ней перебивалась другими, — продолжение романа заняло больше четырех лет, причем весь замысел продолжения несколько раз менялся.
«Евгений Онегин». Пушкин и Онегин. Гравюра Е. Гейтмана
по рисунку А. Нотбека (1829 г.).Вторая глава, все еще вводящая в действие, — описательная, портретная, и половина главы третьей — кончая письмом Татьяны, — были написаны
- 246 -
еще в Одессе, но продолжались деревенские главы в Михайловском, и, например, в сцене именин у Лариных отражены непосредственные усадебные впечатления. В конце работы над четвертой главой Пушкин узнал о декабрьских событиях; 24 июля 1826 года до него дошло известие о казни пятерых декабристов. Отклик на это событие сохранился в шестой главе (строка о Рылееве), а следы впечатления — и в общем грустном колорите всей главы, и в теме жизненного перелома (строфы о прощании с молодостью), и, наконец, в той резкой оценке светского «омута», которой глава заканчивалась.
Так «отпечаток веселости» (слова из первого предисловия), преобладающий в первой главе «Онегина», постепенно сменяется иным лирическим тоном, вследствие и изменившейся обстановки и более глубокой оценки действительности. Известным колебаниям подвергался и самый сюжет. Онегин, по первому замыслу, влюбляется в Татьяну после первой же встречи; по крайней мере, и от его лица и от автора поставлены вопросы: «Неужто я в нее влюблен!» — «Ужель Онегин в самом деле влюбился!..» (вероятно, мимолетная, непрочная влюбленность Онегина должна была столкнуться с подлинным чувством Татьяны). В четвертой главе, после сцены объяснения Татьяны с Онегиным, сразу же намечался отъезд Татьяны в Москву; таким образом, вся пятая глава — гаданье, сон, именины — «наросла» в процессе работы, так же как, вероятно, и весь эпизод поединка, непосредственно связанный с пятой главой. Так от главы к главе и создавался «Онегин»,1 но это не приводило к нестройности: каждая глава примыкала к предыдущей как ее развитие и углубление; отклонения в сторону и возвращения к сказанному объясняются не особенностями творческого процесса, а жанровыми особенностями лирического романа.
Методом постепенного нарастания создавались и главные образы, и прежде всего образ Онегина.
Намечая образ Онегина в первой главе, Пушкин колебался, в каких границах показать его зависимость от «условий света», как определить уровень его умственной жизни. В черновой рукописи (VI, 217) отражено намерение изобразить Онегина не «хранящим молчанье с видом знатока», но готового и в самом деле
Вести ученый разговор
И даже мужественный спор
О Байроне, о Манюэле,
О карбонарах, о Парни,
Об генерале Жомини(в одном из вариантов — «О гетерии, Манюэле»). Но эти намеки на активное свободомыслие, сближающие Онегина с Чацким, Пушкиным снимаются. Онегин раскрылся преимущественно во второй главе, в чертах и сходных и несходных с Чацким: как столь же резкий, но уже «охлажденный» ум, не энтузиаст, а скептик, не борец, а только «чудак», но чужой в окружающей
- 247 -
среде — «лишний человек». Эта формула «лишний человек» впервые применена была к Онегину в 1851 году Герценом.1
Общественная позиция Онегина — пассивный протест: он из тех,
Кто путешествует, в деревне кто живет —
в том именно смысле, какой придан этим словам в «Горе от ума»: кто сохраняет свою независимость и не сливается с официальной Россией. И Пушкин (кстати сказать, еще не знавший к тому времени комедии Грибоедова) показал в совершенно грибоедовских тонах отношение провинциальной фамусовщины к Онегину: «опаснейшей чудак», «сумасброд», «фармазон» (хотя у Онегина совершенно не было ни того духа политического обличения, ни активного протеста, который был свойствен Чацкому).
Онегинская хандра самим Пушкиным показана в свете общественных отношений: «вольномыслие» хандрящего Онегина проявляется не только в бегстве от соседей-помещиков, но и в деревенских реформах. Пределы этих реформ ограничены: перевод рабов на оброк (правда, «легкий») — вот положительный максимум, к которому Онегины могут притти. Воспроизводя типическую для дворянского общества социальную практику, Пушкин показал связь онегинской хандры (и онегинской праздности) с крепостническим строем. Кажется, именно на это намекала саркастическая строка «Чтоб только время проводить» и строка о лукавой улыбке одного из соседей.
Берлинский и Герцен, на основании уже всего романа, могли дать точное социально-историческое объяснение онегинской хандре. «Что-нибудь делать можно только в обществе, — писал Белинский, — на основании общественных потребностей, указываемых самою действительностью, а не теориею...» (XII, 101). Герцен комментировал тип Онегина яркой обобщенной характеристикой молодого человека — дворянина, воспитанного на крепостнической почве, человека, который «думал тем больше, чем меньше делал», который готов занять себя чем угодно — «музыкой, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом», лишь бы «забыться от гнетущей нас громадной пустоты» (VI, 355, 356).
С общественной характеристикой Онегина связаны и личные его черты, показанные почти всегда с легким оттенком иронии и, стало быть, превосходства. Онегин приближается к автору там, где ему противопоставлена духовно ограниченная среда; так, ему перепоручаются характеристики быта Лариных и самой Лариной («проста, но очень милая старушка» и т. п.). В оценке «пылкого разговора» Ленского автор тоже самоотожествляется со «снисходительным Евгением».
Новые черты в Онегине обнаруживаются все тем же методом раскрытия противоречий. Онегин — скептик, но в своем скептицизме «сноснее многих»; презирая людей «вообще», он не утратил способности «всем сердцем» полюбить Ленского. Он способен обнаруживать «души прямое благородство», но в первом же конфликте с «общественным мнением» оказывается «мячиком предубеждений». Все это не случайное соединение разнородных черт, а противоречия вполне закономерные в избранном Пушкиным
- 248 -
общественном типе. Личная духовная свобода Онегиных иллюзорна, — они связаны теми самыми «условиями света», бремя которых, как думают, свергли. Этот мотив власти «общественного мнения» сближает Пушкина еще раз с Грибоедовым, которого он прямо цитирует.
Авторская оценка Онегина раскрывается в ситуациях Онегин — Ленский и Онегин — Татьяна: то «чувство превосходства», о котором говорится в эпиграфе к роману, оказывается подлинным в отношении к Ленскому и мнимым в отношении к Татьяне. Это не значит, что Ленский — «отрицательный герой» для Пушкина; пушкинская оценка Ленского, в свою очередь, сложна и противоречива. Мицкевич первый увидел в Ленском «тоже Пушкина, в одну из эпох жизни его»; вслед за ним и Герцен отметил в пушкинском изображении Ленского ту нежность, какая бывает к мечтам юности (VI, 357), Ленский для Пушкина — преодоленное прошлое; он снисходителен к его мечтам, как взрослый к ребенку:
Он сердцем милый был невежда...
И песнь его была ясна.
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна...
И ум еще в сужденьях зыбкой...(Гл. II, стр. VII, X, XV).
Ленский полон той сентиментально-романтической мечтательности, о которой Пушкин говорит в строфе XXXIX второй главы: «Для призраков закрыл я вежды». Пушкину ясно, что романтические иллюзии не могут рассеять подлинных сомнений ума («Он забавлял мечтою сладкой Сомненья сердца своего»). Вспомним резкий отзыв Пушкина о немецкой романтической метафизике в письме от 2 марта 1827 года к Дельвигу. Но Пушкин, как и Онегин, снисходителен к мечтам Ленского. В Ленском для него привлекательны:
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда... —то, что подымает Ленского (вместе с Онегиным) над обывательским кругом. Основная характеристика Ленского — в строфе VI второй главы: «Он из Германии туманной Привез учености плоды» и т. д., — должна передавать не столько авторскую иронию, сколько простодушное удивление «соседей» и странной внешности и «духу... довольно странному». И если строфа «Он верил, что душа родная» и т. д. проникнута неприкрытой иронией к романтической идеологии и фразеологии, — ирония опять прерывается, лишь только речь заходит о чувстве, лежащем в основе романтических иллюзий Ленского:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.(Стр. IX).
Пушкин видит все опасности романтического иллюзионизма. Ленский любит «простодушную» Ольгу, самый «портрет» которой автору «надоел безмерно». «Простодушие» — вот то, что мирит Пушкина с Ольгой, как и с Ленским. Но, воображая будущее Ленского в браке с Ольгой, Пушкин в той же связи вспоминает:
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена.(Гл. IV, стр. L).
- 249 -
Ленский. Рисунок Пушкина на рукописи
«Евгения Онегина».Ленский «для оной жизни был рожден» (ср. его реплику «Милее мне домашний круг»). Этим предрешен и пушкинский прогноз о возможной судьбе Ленского — в главе VI, строфа XXXVIII. XXXIX («А может быть и то: поэта Обыкновенный ждал удел», т. е. романтические иллюзии могли рассеяться, а обывательщина могла победить). Белинский догадывался, что этот вариант судьбы Ленского правдоподобнее, чем первый, — чем «высокая ступень на ступенях света». Но Белинскому была не известна оставшаяся в рукописи строфа XXVIII, в которой Ленскому предсказывалась судьба повешенного Рылеева, не известен был и черновой вариант его начальной характеристики: «Крикун, мятежник и поэт». Эти варианты показывают колебания Пушкина в определении пути Ленского.
Но был в романе и безусловно цельный, положительный герой, порожденный влиянием народной стихии, выросший на русской национальной почве. Этим героем была Татьяна, образ чудесной русской женщины, до Пушкина еще не отраженный в литературе. Образ этот вводится в романе с демонстративным нарушением романтических традиций. Целая строфа посвящается обоснованию выбора простого русского имени Татьяны: это повод для резкого выпада против ненавистного Пушкину светского жеманства, порождающего безвкусие во всем, начиная с имени. Татьяна во всем — полная противоположность сестре, чей портрет найдется в любом романе. Татьяна с детства «дика». В ней много странностей, нужных автору для индивидуализации облика своей героини. Ему важно отделить Татьяну от шаблонных «совершенства образцов», от тех, кто с детства «Приготовляется, шутя, К приличию — закону света»; ему важно отделить Татьяну, как новую женщину, не только от Скотининых и Пустяковых, ее окружающих, но и от «милой старушки» Лариной, от «всегда послушной Ольги». В Татьяне для Пушкина открываются возможности не «идеализации дворянского быта», а преодоления этого быта и его идейных норм. Это новое в Татьяне показано в сопоставлении с ее матерью, в которой за гримом сентиментальной «нежной девы» разоблачается лицо крепостницы-помещицы. Правда, среди усвоенных Лариными «привычек милой старины» Пушкин называет
... круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод,но называет их между «блинами» и «квасом», попутно иронизируя над умильными «слезками» во время молебна.
- 250 -
В Татьяне все показано совсем иначе. Татьяна, «русская душою», воспринимает поэтическую сторону русских народных песен, сказок, суеверий — притом настолько органически, что эта поэзия входит в ее собственные сны, сочетается со всей ее личной жизнью; вместе с крестьянскими девушками Татьяна гадает о своей судьбе и вместе с ними верит народным приметам.
Татьяна вся показана в развитии, и Пушкин начинает с ее ничем еще не подорванных верований — не в одни только «предсказания луны», но и в предопределенное «волей неба» «свиданье верное» с возлюбленным. Эти верования, при всей их наивности, исходят из подлинной душевной неудовлетворенности, поднимающей Татьяну над средой.
Татьяна противопоставлена Онегину во всем, а также и в истоках своего мировоззрения.
Воспитание Онегина показано в романе как вненациональное, чуждое народной почве, традиционное для дворянства. За ним ходили сперва Madame, потом Monsieur l’Abbé, «француз убогой». Результатом этого воспитания было лишь то, что Онегин был «Как dandy лондонский одет»,
... по французски совершенно
Мог изъясняться и писал,
Легко мазурку танцовал
И кланялся непринужденно...(Гл. I, стр. IV).
И дальше началось растлевающее влияние «света», той среды, которую Онегин презирал, но черты которой (в частности, индивидуализм) воспринял, так как не имел, в противоположность Татьяне, иных, глубоких, заложенных еще в юности моральных основ. Характерно, что в рукописи воспитанию Онегина «французом убогим» прямо противопоставлен совершенно иной тип воспитания Татьяны (VI, 566):
Ни дура английской породы,
Ни своенравная мамзель,
В России по уставу моды
Необходимые досель,
Не портили Татьяны милой...Далее рассказывается, что Фадеевна «за ней одна ходила», «Бову рассказывала ей», т. е. та стихия народной поэзии, народных обычаев, которая оказала решающее влияние на формирование характера Татьяны, непосредственно возводится к ее воспитанию.
Все это с особенной очевидностью подтверждает, что Татьяна — вовсе не «сколок» с книжных романтических героинь, как пытался истолковать ее образ буржуазно-либеральный пушкиновед В. В. Сиповский. Против всякого рода книжных аналогий говорит весь ее характер и, в частности, та предельная простота в передаче непосредственного чувства, которая Пушкиным положена в основу содержания и стиля письма. Известно, какие трудности были перед Пушкиным при замысле письма. По свидетельству Вяземского, «автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну, без нарушения женской личности и правдоподобия в слоге: от страха сбиться на академическую оду думал он написать письмо прозою, думал даже написать его по французски, но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстати и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком...» (II, 1879, 23).
- 251 -
«Евгений Онегин». Титульный лист
последней главы (1832 г.).Письмо Татьяны — одно из величайших достижений Пушкинской поэзии вообще — дает и лучшую характеристику его героини. В Татьяне Пушкин прежде всего утверждает высокую ценность душевной простоты, искренности, безыскусственности.
За что ж виновнее Татьяна?..
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства...(Гл. III, стр. XXIV).
Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя...(Стр. XXV).
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?(Стр. XXXI).
Слово «небрежность» означало для Пушкина то же, что «простота» и «искренность». Но Пушкин подчеркивает не раз, что прелесть Татьяны не в одной «простоте», а в сочетании «простоты» и «ума». Она, кроме «милой простоты», одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным...(Стр. XXIV).
То же сочетание простоты и ума отмечается в главе четвертой от лица Онегина:
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?(Стр. XV).
Пока это скорее заявка на характеристику: она раскроется в следующих главах — второй (как думал Пушкин) части.
Замысел «второй части» подвергся в процессе работы серьезным изменениям. Сначала путешествие Онегина входило в седьмую главу непосредственно после эпизода о чтениях Татьяны в доме Онегина. Затем ему была посвящена целиком следующая, восьмая глава. Девятая возвращала его в Петербург; здесь изображалась новая встреча и объяснение Онегина с Татьяной. Главы, начиная с десятой, повидимому, должны были показать Онегина в кругу декабристов и, вероятно, кончиться смертью его.
В предполагавшемся предисловии (1830) к двум последним главам (включая «Путешествие») Пушкин писал: «Вот еще две главы Евгения Онегина — последние по крайней мере для печати» (VI, 541). Предисловие датировано 28 ноября 1830 года. К этому времени десятая глава была уже сожжена (19 октября 1830 года), что не означало, как видно, отказа
- 252 -
от продолжения романа не для печати. Для печати же Пушкин еще раньше (в «Хронологии» «Евгения Онегина», написанной им 26 сентября) разделил роман не на две, а на три части, по три главы в каждой. Развитие онегинской «хандры» в его скитаниях по России было нужно в первоначальном замысле, где судьба Онегина прослеживалась во всех деталях и рассказ о ней доводился до конца. С отказом от этого замысла значение этих подробностей терялось. Идейные итоги — в том числе итог оценки Онегина — должны были быть извлечены уже не из широких картин общественной жизни, не из столкновений Онегина со всем разнообразием русской действительности, а только из одного, и решающего, эпизода его личной жизни — из новой встречи с Татьяной. Седьмая глава — о судьбе Татьяны и восьмая — о самой встрече — должны были завершить роман в его новых границах.
Седьмая глава замечательна изображением процесса дальнейшего внутреннего развития Татьяны.
Здесь впервые в русской литературе женщина-героиня не только стремится стать наравне с умственным кругозором героя (и осуществляет это стремление), но и судит героя, притом не с точки зрения «бабушкиной морали» (которую некоторые критики приписывали Татьяне), а с широкой общекультурной точки зрения, воспринимая героя как явление общественное — и историческое. Кажется, нет места в «Онегине», которое вызвало бы большие сомнения и споры, чем знаменитая строфа, где заключена эта оценка:
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, или еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?(Стр. XXIV).
Пушкин продолжает вопросом, остающимся без ответа: «Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено?». В первоначальной редакции строфа, следующая за вопросами Татьяны, начиналась иначе: «С ее открытием поздравим Татьяну милую мою» (соответственная строфа отпала в связи с общей переработкой композиции романа; дальше начиналось путешествие Онегина). Иронический оттенок в этих строках несомненен: насколько серьезен авторский тон в словах о том, что Татьяна начинает понемногу понимать Онегина, настолько же ясно отводится слово «пародия» как окончательное решение загадки. Позже, в главе восьмой, Пушкин возвращается к оценке героя, возражая на упрощенно-неблагосклонные отзывы о нем. Но всем этим вопрос об отношении Пушкина к образу Онегина еще не решается.
С самого начала в романе ощущается критическое отношение автора к герою. Но его основные, исходные черты подвергаются от главы к главе существенной переоценке, в соответствии с общей эволюцией Пушкина. В первой главе черты разочарования и охлаждения, намеченные в Онегине,
- 253 -
окружены тем же ореолом, что и черты «Демона» в одноименном стихотворении (недаром в первых редакциях строки «Демона» и «Онегина» перемежались). Теперь все переоценивается. Если Байрон облек героя «в унылый романтизм и безнадежный эгоизм», то не названные Пушкиным «два-три романа» раскрыли, и тем разоблачили, эгоцентрический тип «современного человека»
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
(Ср. «Мечтам невольная преданность»)
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
(Ср. «И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм»).(Гл. VII, стр. XXII;
гл. I, стр. XLV).Основное значение этой характеристики — не оценка чужих героев, а переоценка своего героя, переоценка черт, когда-то идеализированных. Эта переоценка, помимо своей прямой цели, служит углублению образа Татьяны, изображению новой стадии ее развития, когда «ей открылся мир иной», когда самая любовь ее включила в себя критическое отношение к герою.
В существенно ином свете представлен Онегин в главе восьмой, которая в окончательной редакции должна была подвести итоги роману. «Маски» Мельмота, «космополита», «патриота», «Чайльд Гарольда» и прочих, о которых иронически спрашивают недоброжелатели в строфе VIII, — уже в прошлом. Но это не значит, что Онегин просто «добрый малой, Как вы да я, как целый свет» (Белинский, так понимая строфу VIII, не учел дальнейших пушкинских возражений). Онегин продолжает быть «лишним» в светском Петербурге. Но именно это заставляет Пушкина говорить о разочарованности Онегина с полной серьезностью. Таков смысл замечательной строфы XI, подводящей итог онегинской социальной позиции:
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.Оценка онегинской хандры изменилась, потому что изменилось общественное содержание отраженного здесь явления. Еще Герцен справедливо заметил, что «Онегин» созрел после 14 декабря. В восьмой главе отражена после декабрьская «хандра» или, точнее, тоска передового русского дворянина (независимо от того, к какому времени относил Пушкин действие романа).
Образ Татьяны в восьмой главе поднят на исключительную высоту. Благородство, простота, внутренняя чуждость светскому обществу — вот самое существенное, что с особенной силой раскрывается в облике Татьяны, теперь ставшей «законодательницей зал». Татьяна в этой главе выражает отношение к окружающей действительности, которое теснейшим образом связано с думами и переживаниями самого Пушкина. Об этом дано понять не раз, и яснее всего — в сцене последнего объяснения с Онегиным. Отношение Пушкина к «свету», в который вошла теперь Татьяна, вполне определенное: это «омут» (как сказано было еще в главе шестой), это мир «необходимых глупцов», составляющих «цвет столицы», как сказано в восьмой главе. Реальный «свет» и мнимая, только внешняя связь с ним Татьяны определяются в словах Татьяны: «постылой жизни мишура» и
- 254 -
«ветошь маскарада». Именно Татьяне поручает автор эти последние резюмирующие определения всего социального целого, в котором протекает действие романа, — Татьяне, готовой отдать
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад...(Стр. XLVI).
Именно ей принадлежит и окончательная оценка Онегина, тем более-существенная, что Онегин восьмой главы изображен в максимуме своих положительных возможностей и сама авторская ирония здесь приобрела иной характер: еще более горькая, чем раньше, она обращена не столько на героя, сколько на действительность в целом, на ее объективные законы.
Татьяна не просто «осуждает» Онегина: она раскрывает противоречия его внутреннего мира. В нем есть и «сердце и ум», и «гордость и прямая честь», но он неотделим от того самого общества, от которого вновь и вновь пытается отмежеваться; и в число подлинных, хотя бы и подсознательных, стимулов его влюбленности входит и возможность «соблазнительной чести» в этом обществе. Татьяна видит в Онегине то, в чем он сам себе не отдает отчета; уже одна эта психологическая ситуация была огромным завоеванием русского реалистического романа.
Из всего текста восьмой главы очевидно, что в отречении Татьяны от Онегина и его любви наибольшее значение придано этим психологическим мотивам оценки Онегина. Конечно, для Татьяны верность долгу и святость брака — одна из нравственных аксиом, и это в ней не условная старозаветная мораль семейства Лариных, а та мораль, которую она усвоила самостоятельно, которая является результатом ее глубокой внутренней убежденности в правоте своего суда над Онегиным.
Последняя глава романа от начала до конца проникнута глубоким лиризмом — не в том только смысле, что в нее включены особенно значительные личные признания Пушкина (в начале и в конце), но и в том, что отношение к героям здесь отличается особенным, личным тоном: Онегин становится здесь тем образом, в оценке которого обобщен весь горький жизненный опыт Пушкина; Татьяна сосредоточивает в себе другую сторону этого опыта — идеал простоты, чистосердечия и духовной свободы (при неизбежной «несвободе» внешней); но даже и это не есть «идеализация» в общепринятом литературном смысле, а глубочайшее реалистическое обобщение.
Эта предельная насыщенность восьмой главы личным опытом поэта заставляет ждать от ее финала каких-то итоговых признаний общественно-идеологического порядка. Мы и находим их в последней строфе, несомненно, относящейся к декабристам, — не только в строке о тех, которых «уж нет», и о тех, которые «далече», но и в горьком восклицании: «О много, много Рок отъял!», и не менее горьком указании на «блаженство» тех,
... кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина...(Стр. LI).
С отказом Пушкина от продолжения романа «не для печати», где декабристская тема должна была быть развита, — эта концовка приобрела особый смысл и вес.
Тем, что девятая глава стала последней в окончательной композиции «Онегина», достигалось еще одно впечатление: в отмену первоначального
- 255 -
замысла роман приобретал характер подчеркнутой незаконченности. На это обратил внимание Белинский — впервые в статье «Русская литература в 1841) году», где выражена глубокая мысль о том, что «народность» Пушкина («поэт русский по преимуществу») и верность действительности сказались не столько в деталях «Онегина», сколько в общей структуре и общем колорите его: «Здесь он исчерпал до дна современную русскую жизнь, но — боже мой! — какое это грустное произведение!.. Весь этот роман — поэма несбывающихся надежд, недостигающих стремлений, — и будь в ней то, что люди, не понимающие дела, называют планом, полнотою и оконченностию, — она не была бы великим созданием великого поэта...» (V, 478, 479). К той же мысли Белинский вернулся в 1844 году в восьмой статье о Пушкине: «Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели, существа неопределенные...» (XII, 110).
«Евгений Онегин». Титульный лист
первого отдельного издания всех глав
романа в стихах (1833 г.).Называя «Онегина» «энциклопедией русской жизни», Белинский имел в виду, конечно, не одно количество и разнообразие фактического материала; с этой стороны можно было бы и «Онегина», как и любое произведение, упрекать в неполноте; это и делалось не раз. Но история создания «Онегина» ясно показывает, что полнота бытового материала не входила в замысел Пушкина, что, напротив, многие детали, иногда сами по себе очень колоритные, Пушкиным отбрасывались в процессе работы, очевидно, как несущественные в общем замысле. Так, например, Пушкин колебался, не раскрыть ли окружение Лариных более конкретно: не ввести ли в число их обычных гостей исправника, попа с попадьей, дьячка; не ввести ли больше деталей в ту характеристику их быта, которая дается от лица Онегина (в вариантах намечались и сальная свеча, и grand patience, и горы кулича), — но в итоге осталась лаконическая характеристика:
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор...Задачей Пушкина было не «сообщение подробных сведений», которого требовал и не находил Писарев, а воссоздание основных типических черт русской действительности. Формула «энциклопедия русской жизни» дополняется и поясняется другой формулой Белинского: «акт сознания для русского общества». Не столько широта материала, сколько глубина типических образов и богатство идей делают роман Пушкина «энциклопедией русской жизни».
- 256 -
Незаконно и представление, идущее также от Писарева, но поддержанное и частью позднейшей критики, о «светлорозовом» колорите, в котором якобы изображено в романе крепостное право. Антикрепостническая направленность романа выражена не столько в деталях (битье служанок в доме Лариных; «затея сельской остроты» — песни при сборе ягод; сравнение с крепостной нищетой в варианте четвертой главы), сколько в конкретной обстановке крепостнических отношений, с которыми связаны основные образы. Еще непосредственнее антикрепостническая направленность романа выражена в образе няни. Няня в «Онегине» — не только эпизодическое лицо: это очень глубокое обобщение «женщины русской земли», прямо подводящее к образам Некрасова. Кроме самостоятельного значения, какое имеет образ няни, он исключительно важен и для понимания Татьяны, что подчеркнуто в ее последнем монологе, где светской «мишуре» противопоставлены воспоминания Татьяны: полка книг, дикий сад, места встреч с Онегиным и могила няни. Образ няни включен в ряд самых основных явлений, создавших личность Татьяны.
Называя роман Пушкина «актом сознания для русского общества», Белинский имел в виду как оценку новых типов, данную Пушкиным в романе, так и общее, и опять-таки исторически обоснованное, впечатление «несбывающихся надежд, недостигающих стремлений», производимое всем романом. «Евгений Онегин» был первым русским произведением такой глубины реалистического обобщения. Он стал «актом сознания» и для всей последующей русской литературы. Послепушкинская литература развивала образы, созданные Пушкиным. Онегин стал родоначальником Печорина, Тентетникова, Бельтова, многих тургеневских героев (начиная с героев его поэм). К образу Татьяны непосредственно восходят героини Тургенева. Гончаров сам проводил параллель между пушкинскими Татьяной и Ольгой и своими Верой и Марфинькой, и он же не случайно заставил Александра Адуева выражать свои чувства словами Ленского. И что еще важнее — последующая литература, при всех внутренних противоречиях в ней, при всех подчас очень резких отличиях от творческой системы Пушкина, развивала созданный Пушкиным тип романа, обобщающего целые периоды в истории развития русского общества.
Мы вправе назвать роман Пушкина «актом сознания» и для самого Пушкина, и прежде всего в широком идейно-общественном смысле слова. После быстрого введения, с еще не определившимися полностью общими заданиями и обликом героя, Пушкин уже в ближайших главах постепенно, но последовательно раскрывает свою идеологическую позицию. Он резко отмежевывается не только от мировоззрения обывательского круга, но и от наивно-романтического идеализма, в котором обнаруживает тайную близость к той же обывательщине. Его иронический анализ не щадит таких «устоев» изображаемой им социальной среды, как дружба (в общепринятом для светского общества смысле слова), как родство (глава четвертая), как общественное мнение (глава шестая). Но он не замыкается и в скептицизме, к чему общественная обстановка, казалось бы, располагает больше всего. Его сопровождает «верный идеал», найденный не в отвлеченных схемах, а в самой русской действительности.
«Евгений Онегин» был для Пушкина «актом» и его литературного сознания. Здесь — частью в объективных образах, частью в непосредственных поэтических признаниях — отразился процесс созревания Пушкина-реалиста: оценка романтического идеализма, тяготение к народности — от непосредственного интереса к материалу (обычаи, поверья, песни, язык) до таких типических обобщений, как образ няни и Татьяны.
- 257 -
«Евгений Онегин». Автограф десятой главы Пушкина (1830 г.).
- 258 -
Особое положение в общем замысле «Евгения Онегина» занимает десятая глава. Сохранившиеся фрагменты этой главы, сожженной Пушкиным, — а возможно и не доведенной им до конца, — значительны для нас прежде всего сами по себе: политической остротой и эпиграмматическим блеском характеристик; затем они исключительно ценны для истории пушкинского замысла как свидетельство о тех возможностях, которые открывались творческой мысли Пушкина при осмыслении собственного образа. Но ни самый текст дошедших фрагментов, ни наши предположения о возможном содержании десятой главы и следующих глав (хотя бы они и опирались на свидетельства современников) не включаются в нашем сознании полностью в общее целое романа.
В окончательной композиции «Евгения Онегина» восьмая глава приобрела функцию идейно-психологической развязки, что закреплено многозначительной лирической концовкой этой главы (и всего произведения). Продолжение романа тем самым отменялось, хотя бы автор и не сразу прекратил работу над ним.
Что касается первоначального замысла, в который включалась десятая глава, наши сведения о нем ограничиваются дошедшими фрагментами, которые дают лишь общественно-исторический фон для возможного действия, но ничего не говорят о герое романа и его судьбе, да еще позднейшим сообщением, идущим от М. Я. Юзефовича (со слов Пушкина): «... Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов»,1 — сообщением вряд ли точным, так как варианты эти не исключают друг друга; скорее всего, вместо «или погибнуть... или попасть» следует предполагать «попасть... и погибнуть». Восстановить сюжет на основе этого показания затруднительно уже потому, что образ Онегина мог подвергнуться новым изменениям.
Рукописи Пушкина сохранили только одну полную строфу десятой главы, одну не совсем полную и одну незаконченную; остальные четырнадцать фрагментов извлекаются из шифрованной записи Пушкина, в которую занесены преимущественно начальные четверостишия строф. Уже они показывают, какой художественной ценности мы лишились с утратой главы, даже если она не была закончена.
Пушкин создает своеобразный жанр политически острой сатирической, подчас памфлетной исторической «хроники» в стихах («хроникой» назвал ее Вяземский — один из немногих, посвященных в тайну десятой главы). Лапидарная — суровая и меткая — характеристика Александра I (VI, 521):
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда —была только зачином строфы, посвященной характеристике «двоедушного властелина». Следует «хроника» событий 1807—1812 годов, с совершенно очевидным общим направлением, резко противоположным официозному. В ряду причин поражения Наполеона в 1812 году первой и, очевидно, решающей названо «остервенение народа»; окончательная победа над Наполеоном приписана не заслугам царя, а «силе вещей». Историческая перспектива расширяется; в нее входят европейские революции — испанская, итальянская, греческая. Замечательно, что зрелый Пушкин в изображении этой новейшей истории верен тому же тону, в каком говорил о ней
- 259 -
Портреты декабристов Пестеля, Рылеева, Кюхельбекера на рукописи
«Евгений Онегин».
- 260 -
как непосредственный современник — еще юношей; в революциях он видит грозные катастрофы (VI, 523):
Тряслися грозно Пиренеи —
Волкан Неаполя пылал...(ср. «Шаталась Австрия, Неаполь восставал» в стихах 1823 года).
С XI (если не с X) строфы внимание поэта переносится на общественные движения в России, — начиная со строфы о восстании «дружины старых усачей»-семеновцев в 1820 году и кончая строфами о тайных обществах, которые и должны были непосредственно подводить к основному сюжету романа. На этих-то строфах и обрывается сохранившееся начало (а может быть, и вся работа Пушкина).
Строфы о декабристах вызвали больше всего споров: их идейное содержание казалось неясным и внутренне противоречивым. От Пушкина ждали апологии или обличения декабристов, «положительного» или «отрицательного» к ним отношения. Однако самая постановка вопроса: был ли Пушкин «защитником» декабристов или их противником, относился к ним «иронически» или нет, — постановка незаконная. Пушкин различал не только разные хронологические фазы декабристского движения, но и внутренние его противоречия. Оставаясь единомышленником декабристов по глубочайшей сути своей неизменно вольнолюбивой идеологии, Пушкин вместе с тем острым чутьем художника-реалиста угадывал слабые стороны движения и его деятелей. И можно предположить, что если бы продолжение «Онегина» было доведено до конца, в нем раскрылась бы «в сей толпе дворян» — деятелей декабристского движения — вся социально-историческая и социально-психологическая сложность: от мироощущения двойников Онегина первой главы до «дерзости и сил» знатоков «мятежной науки» — Пестеля и Муравьева-Апостола.
11
«Евгений Онегин» был закончен в «болдинскую осень», которая осталась памятной в истории русской литературы как период создания Пушкиным важнейших произведений, открывавших новые пути и вносивших в литературу новое содержание.
История пребывания Пушкина в Болдине такова. Ввиду предстоявшей женитьбы, отец выделил Пушкину сельцо Кистеневку, около Болдина, с 200 душ крестьян, и он отправился туда для ввода во владение и для залога имения. Начавшаяся холера и учрежденные повсюду карантины задержали Пушкина в Болдине. Он пробыл здесь три месяца (с начала сентября по ноябрь 1830 года). Эти три месяца были временем чрезвычайно интенсивной работы. По собственным его словам, он писал в Болдине, «как давно уже не писал». Здесь, кроме последних глав «Онегина», были написаны «Домик в Коломне», «Повести Белкина», «История села Горюхина», четыре «Маленькие трагедии» («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Каменный гость»), около 30 стихотворений. Некоторые из этих произведений были начаты раньше, но в Болдине были закончены и подверглись окончательной обработке.
Обращение Пушкина к новым темам, его категорический отказ от требований и «советов» официозных кругов и реакционной критики были как бы демонстративно провозглашены поэмой «Домик в Коломне», написанной на материале быта петербургской окраины, с картинами быта
- 261 -
маленьких людей и с подчеркнуто шутливым сюжетом. Эта поэма находится в прямой связи с журнальной полемикой, возникшей в том же 1830 году. Этой полемике посвящен во вступительной части ряд строф, впоследствии откинутых. Облекая мещанский анекдот в форму медлительно-эпических октав, Пушкин бросал вызов критикам, нападавшим на «ничтожность» и низменность предметов его поэзии. Полемический замысел поэмы подчеркивался в его заключении:
— «Как, разве все тут? шутите!» — «Ей-богу».
— «Так вот куда октавы нас вели!..
Да нет ли хоть у вас нравоученья?»
— «Нет... или есть: минуточку терпенья...Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно...
... Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего».
«Домик в Коломне». Рисунок А. Брюллова (1833 г.).
Ирония Пушкина относилась к Надеждину и, в особенности, к Булгарину, который в статье о седьмой главе «Евгения Онегина» повторял резкие суждения Надеждина. В этой статье, появившейся в 1830 году, Булгарин упрекал Пушкина за то, что он, пропуская без внимания «подвиги» официозных героев николаевской России, изображает «бесцветные» бытовые
- 262 -
картины и «ничтожные мелочи». Издеваясь над тем, что Пушкин в «пиитическом» описании выезда Лариных из деревни перечисляет все их пожитки — «кастрюльки, стулья, сундуки, горшки, тазы et cetera», Булгарин замечал: «Мы никогда не думали, чтоб сии предметы могли составлять прелесть поэзии, и чтоб картина горшков и кастрюль... была так приманчива».1 Как бы в ответ на эти упреки Пушкин в «Домике в Коломне» перенес действие на кухню и ввел в число действующих лиц «стряпуху Феклу» и «Маврушу» — любовника Параши, переодетого кухаркой.
Белинский писал впоследствии, имея в виду педантские придирки Надеждина, подхваченные Булгариным: «„Домик в Коломне“ мы считаем одним из замечательных произведений, в котором, под легкою, небрежною формою и при видимой незначительности содержания, скрыто много искусства. Эта пьеса доказывает ту простую истину, что жизнь, лишь бы искусство верно воспроизводило ее, всегда высоко для нас занимательна, и что люди, ищущие в произведениях искусства только эффектных сюжетов, не понимают ни жизни, ни искусства» (XII, 176—177).
Демократической тенденцией пронизаны и «Повести Белкина», ознаменовавшие крупный шаг в развитии русской реалистической прозы.
9 декабря 1830 года из Москвы Пушкин известил по секрету П. Плетнева: «Написал я прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется — и которые напечатаем также Anonyme.2 Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает» (XIV, 133). Под заглавием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.», с предисловием «От издателя», представляющим как бы соединяющую остальные «повести» самостоятельную шестую новеллу, книга вышла в свет в октябре 1831 года.
Связанные между собой образом рассказчика, эти повести, каждая по себе, имели разные задания.
В основу «Выстрела» легли автобиографические воспоминания кишиневского периода и воспоминания о дуэльных встречах и рассказах. Создавая романтический образ Сильвио, Пушкин исходил прежде всего из ряда реальных черт своих современников: Толстого — «американца», М. Лунина, А. Якубовича. На типичность подобного явления в дворянской среде эпохи указывают и аналогичные изображения в произведениях А. Марлинского, из которых Пушкин подыскивал эпиграфы для «Выстрела» («Роман в семи письмах», «Вечер на бивуаке»). В «Выстреле» был развит и мотив отсроченной дуэльной мести. Подобные случаи были известны Пушкину и из жизни (например, нашумевшая дуэль декабриста Якубовича). Военная дворянская среда, которую Пушкин хорошо знал, характеризуется в «Выстреле» беглыми упоминаниями имен бесшабашного гусара А. Бурцева и поэта-партизана войны 1812 года Д. В. Давыдова, с которым Пушкин был лично близок.
«Выстрел» соединяет в себе романтические элементы с реалистическим изображением конкретного быта. Героика «таинственной» повести переплетается здесь с повествованием о соседях — уездных пьяницах, с их пошлой обыденщиной, с их «икотою и воздыханиями». Только Сильвио выделяется из этой среды как человек с загадочным прошлым, с демонической внешностью и страстностью натуры. Ему, умному несчастливцу, противопоставлен образ счастливца — графа, знатного баловня судьбы.
- 263 -
«Выстрел» отличается от других повестей Белкина самостоятельным образом рассказчика повести, военного, имеющего «от природы романтическое воображение».
«Выстрел» пролагал дорогу изображению особого слоя русского общества в таких повестях, как «Фаталист» Лермонтова, «Бреттер» Тургенева.
Не выдающийся герой, однако человек недюжинных задатков, Сильвио показан Пушкиным как типическая фигура. Он пытается стать выше среды и выразить свою неудовлетворенность окружающей его действительностью. В окружающей жизни Сильвио не находит себе места, он гибнет в борьбе за освобождение Греции. В этом финале Пушкин впервые чутко наметил трагические черты и безысходное положение человека, обреченного на бездействие, — черты, по-новому изображенные впоследствии Тургеневым в эпилоге к «Рудину».
Действие «Метели» Пушкин отнес ко времени Отечественной войны, используя в этой повести свои наброски предыдущих лет. На историческом фоне «времени славы и восторга», памятного по отроческим впечатлениям, Пушкин нарисовал в тонах добродушной иронии семью помещиков и их дочь, воспитанную на французских романах. В центре повести именно роман уездной барышни с бедным армейским прапорщиком. Вся повесть написана в тоне, пародирующем не столько русские сентиментальные повести, сколько черты сентиментального уклада самой жизни, с мягкой иронией над стариками и пылкою страстью молодежи, над клятвами вечной любви, свиданиями, перепиской, с иронией над мещанскими привычками и склонностями «чувствительных» уездных барышень, их сувенирами, снами, письмами, экзальтированностью и побегами из родительского дома в расчете на позднейшее благословение.
Рассказ о гусарской ветрености (венчание с чужой невестой) дал Пушкину возможность иронически изобразить и тип чувствительного Владимира и тип раненого романтического героя Бурмина, с его «интересной бледностью», перевязанной рукой, «насмешливым умом» и речами, взятыми напрокат из «Новой Элоизы» Руссо.
Жанр своей повести, разрушающей традиционные каноны, Пушкин как бы характеризует эпиграфом из «Светланы» Жуковского; эпиграф из «Светланы» в 1830 году уже заранее обнаруживал слегка ироническое отношение Пушкина к сюжету. Счастье, дважды идущее в руки Владимира (согласие Маши, а затем согласие ее родителей), все же не дается ему; наоборот, Бурмин, вопреки несчастливой случайности, символизируемой метелью, кончает счастливой развязкой.
«Гробовщик» — повесть из городской жизни. Смысл «Гробовщика» в трезвом отношении художника к повседневной действительности, в наблюдении самых разнообразных ее сторон.
Если «Выстрел» и «Метель» посвящены изображению военного и мелкопоместного быта, то в «Гробовщике» Пушкин изобразил жизнь совершенно иного социального слоя — мелкого мещанства, ремесленников. Образцы подобной повести в русской литературе были еще чрезвычайно редки и случайны и не выходили из рамок нравоучительного повествования. У Пушкина впервые повесть такого рода звучит как равноправная с другими. Впервые героями становятся представители цеха: сапожник, портной, булочник, переплетчик, гробовщик. До Пушкина в этом направлении делались эпизодические попытки (Запольский, Погорельский-Перовский). Пушкин сам упомянул не только почтальона из «Лафертовской маковницы» Погорельского, но и стихи А. Е. Измайлова о будочнике Фадеиче. Сам же Пушкин намекнул и на другие примеры реалистического изображения своего
- 264 -
гробовщика, упомянув о могильщиках из «Гамлета» Шекспира и «Ламермурской невесты» Вальтер Скотта; с последними он, однако, уже расходится, по его же заявлению в своей повести, «из уважения к истине».
Подчеркивая реалистические элементы своей повести («сия повесть не вымышленная»), Пушкин изображал подлинный быт ремесленников — своеобразной прослойки столиц, на которую позже обратил внимание и Гоголь.
Трезвый реалистический взгляд на вещи характерен и для «Гробовщика» в целом. Его фантастический сюжет в последних строчках снимается реалистической мотивировкой: все было только сном. За таинственным ударом в дверь показывается веселая физиономия честного сапожника; в жуткий момент крика мертвецов эту картину разрушает солнечный свет; перед открытыми на действительный мир глазами встает реальная картина.
По своему значению для последующей русской прозы «Гробовщик», как и «Станционный смотритель», занимает совершенно исключительное место. От них отправлялся Гоголь и его школа — гуманистическая и демократическая в своих основных тенденциях.
«Станционный смотритель» в еще большей мере, чем «Гробовщик», явился этапной повестью русской литературы. Пушкинская новелла как бы полемизирует с сентиментальной традицией в изображении обольщения девушки и дает совершенно иную, реалистическую и по-новому разработанную гуманистическую трактовку темы, сводя идеализированных героев на повседневную почву, заменяя отвлеченных представителей зла и поруганной невинности живыми, социально осмысленными фигурами русской жизни. Дуня — не мертвая схема, но живой человек, любящий Минского, но вместе с тем страдающий и за отца. Судьба героини заслоняется для Пушкина трагедией Самсона Вырина. В центре повести новая линия пушкинского творчества — рассказ о «сущем мученике четырнадцатого класса, огражденном своим чином токмо от побоев, и то не всегда», о страшном одиночестве этого покинутого дочерью «маленького» человека, о его попытках протеста, незаслуженных оскорблениях и гибели. Этим подлинно гуманистическим отношением к страданиям отдельных незаметных людей, равноправно с высокими героями поставленных в качестве объектов художественно-психологического изображения, Пушкин открыл в русской литературе путь «маленьким», «бедным» людям.
В последней из «Повестей Белкина» — «Барышне-крестьянке», наряду с литературным заданием — пародированием традиционных романтических ситуаций, отражены впечатления Пушкина от русского поместного быта и с тонкой иронией высмеяна англомания крепостников.
Переводя тему традиционного романа детей двух враждующих родов в шутливый тон, Пушкин устами Муромского говорит своей героине: «... или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня?».
Встречи обладателя «черного кольца с изображением мертвой головы» — Алексея Берестова — с Лизой Муромской как бы предваряют встречи и переписку Дубровского с Машей. Но пока еще Пушкина занимает шутливый рассказ о проказе Лизы, превращающейся в Акулину. Развязка традиционна для комедии: отцы хотят силою заставить жениться молодых людей, а дети протестуют, в то время как случай уже давно счастливо «сладил» дело.
«Повести Белкина» не были оценены при жизни Пушкина (даже Белинский вначале увидел в них лишь внешнюю занимательность — «фламандской школы пестрый сор») и долго искаженно толковались позднейшей критикой.
- 265 -
«Гробовщик». Рисунок Пушкина на рукописи (1830 г.).
- 266 -
Только гораздо позже была уяснена их исключительная роль в деле создания русской повести.
Предисловие «От издателя» объединяет «Повести» единым образом Ивана Петровича Белкина. Это было нужно Пушкину для того, чтобы создать фикцию вымышленного издателя повестей. Скрывшись за псевдонимом, Пушкин увлекся и самой новизной создаваемого литературного жанра. Пушкин дал своего Белкина на фоне эпиграфа из «Недоросля» как курьезный типический образ русского помещика из недорослей (в первоначальных вариантах подчеркнута была даже его страсть к голубиной гонке), как бездельника, который пытается стать на путь литературы. Но «недостаток воображения» заставляет его ограничиться собиранием и записью чужих рассказов. Образ Белкина дан Пушкиным не непосредственно, а через цитируемое письмо его архаического «почтенного друга». Оба образа от этого приобретают оттенок патриархального простодушия и мягкой иронии, бьющей по выхваченным из действительности Митрофанушкам. Первоначальный набросок предисловия еще резче подчеркивал вехи его типической биографии: посредственный ученик корпуса, выделяющийся «хорошим поведением, скромностью и добротою»; бесцветный офицер, беспечно-нерадивый, засыпающий над хозяйственным докладом, неловкий в верховой езде; помещик, под предлогом «недосуга» отказывающийся от реформ и доводящий крестьян до разорения. Стушевав в печати эти черты и перенеся разработку их в «Историю села Горюхина», Пушкин все же оставил своего типического Белкина иронически поданной фигурой, не менее значительной, чем остальные фигуры «Повестей».
Образ Белкина в 1859 году был неверно и тенденциозно истолкован с реакционных славянофильских позиций Ап. Григорьевым, во-первых, как символ якобы «смиренного» и «кроткого» русского человека, как образ «здравого толка», в который якобы перевоплотился сам Пушкин; во-вторых, как образ самого автора, устами которого рассказаны остальные повести. Обе эти долго державшиеся в буржуазной критике точки зрения противоречат реальному материалу. Ап. Григорьев не увидел иронического тона и не почувствовал сатирических элементов в пушкинском Белкине, ни идеологически, ни стилистически не отожествляемом с подлинными рассказчиками «Повестей». Белкин — только собиратель и издатель «сказок». В «Повестях» звучит то голос подлинного автора, то голос рассказчиков, часто находящихся в противоречии с кругом представлений Белкина.
От предисловия к «Повестям Белкина» ответвился замысел «Истории села Горюхина». Объединенная с «Повестями» именем Белкина, «История», однако, дает этот образ по-иному. В центре ее уже изображение не столько помещиков и их быта, сколько положения крестьянства под властью помещиков. Понятно, что все первоначальные намеки на эту сторону Пушкин убрал из печатного текста «Повестей» и сосредоточился на них в «Истории». Надо думать, что первоначально он также предполагал готовить ее для печати, но очень скоро отказался от этой мысли, подавленный обилием сатирического, абсолютно невозможного по цензурным условиям для печати материала. Во всяком случае, Пушкин сразу же избрал для своего повествования о подлинной жизни русской деревни защитную форму «исторической хроники», пародирующей общие нормы западной и русской историографии. Образом простодушного автора-графомана, сочинителя-неудачника из недорослей, Пушкин пытался маскировать подлинный свой сатирический замысел. Пародируя манеру изложения историков, лукаво и тонко давая своего Белкина на фоне образов Нибура и Гиббона, а также Миллота и русских историков (Татищева, Болтина, Голикова), Пушкин, несомненно,
- 267 -
осмеивал и отдельные приемы историографии Карамзина и Полевого, которых, однако, не упомянул. Собираясь быть «судиею, наблюдателем и пророком веков и народов», неуч Белкин в действительности в состоянии начать лишь историю своего села, которое Пушкин в рукописи называет то Горохиным, то — в целях сатирического осмысления всей вещи — Горюхиным.
«Повести Белкина». Титульный лист первого
издания.Пушкин пародирует процесс собирания исторических источников («визиты к губернатору» и пр.), факты раздутых историками находок (корзинка с календарями), самые перечни источников (календари, велеречивые записи дьячка, «изустные предания» любовницы приказчика, ревизские сказки). Пародируются самый стиль «исторических сочинений», их этнографические и статистические очерки и описания «баснословных времен». Как свидетельствует набросанный Пушкиным план, он вначале хотел особо остановиться и на пародировании специально «церковной истории». Ряд моментов «История села Горюхина» звучит то как автобиографические припоминания (приезд в Горюхино), то как шутливая пародия (попытки Белкина творить в разных жанрах).
Подлинный смысл «Истории села Горюхина» лежал, однако, в изображении непосредственно знакомой Пушкину по Михайловскому1 и Болдину горькой жизни русского крестьянства.
Горюхино давалось Пушкиным как беспощадное реалистическое обобщение жизни русских сел; село Горюхино оборачивалось в своей типичности как образ всей России — «страны по имени столицы своей Горюхиным называемой».
Центральная тема, в сущности говоря, интересующая Пушкина в «Истории», — показ разорения Горюхина системами управления господ через «пьяниц и плутов старост и приказчиков и наконец под тиранской рукой самих помещиков». Предполагая показать в дальнейшем «выгоды и невыгоды сих различных образов правления», Пушкин начал с периода управления «старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом». Этот баснословный период золотого века народовластия, с народным бардом Архипом Лысым, сменяется картинами новых «политических систем», по-разному эксплоатирующих крестьян. Уничтожение мирских сходов, рекрутчина, кандалы, оброки, батрачество — вся эта картина
- 268 -
обнищания деревни слагается в единую потрясающую хронику. Помещики «травят зайцев» и ведут красноречивую «летопись»: «4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде». Рисуя картину обедневшей от тиранства, некогда вольной деревни, Пушкин, естественно, должен был подойти к изображению народного возмущения. Именно на «бунте» он и вынужден был прервать свою бичующую сатирическую хронику. Тема «Горюхина» после Пушкина своеобразно воскресала лишь гораздо позже: с одной стороны, в поэзии Некрасова, с другой — в таком большом художественном обобщении, как «История одного города» Салтыкова.
Наряду с произведениями из русской жизни, созданными в «болдинскую осень», Пушкин написал «Маленькие трагедии», воссоздающие картины и образы разных стран и эпох. Это не было уходом от современности: в «Маленьких трагедиях» ставились живые вопросы, волновавшие передовых людей 30-х годов — социально-философские и морально-этические.
Характерно то острое восприятие связи этих произведений с действительностью последекабрьской России, которое было свойственно Герцену. «Когда Пушкин, — писал он, — начинает одно из своих лучших творений («Моцарт и Сальери» — Ред.) этими страшными словами:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше! Для меня
Так это ясно, как простая гамма, —не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы сквозь это видимое спокойствие разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию?» (VI, 453). Вместе с тем «Маленькие трагедии», на разном материале затрагивавшие темы серьезнейшего идейного значения, свидетельствуют о горячем стремлении Пушкина продолжать ту реформу русской драматургии и русского театра, которая была начата «Борисом Годуновым».
В годы, наступившие непосредственно после разгрома декабристов, несмотря на фактический запрет «Бориса Годунова» к печати, Пушкин не оставлял своих драматургических замыслов. Так, он хотел еще раз вернуться к изображению Марины и Шуйского. В перечне задуманных Пушкиным драматических произведений значился и ряд других замыслов, разнообразных по тематике, связанных с историческими и социальными сюжетами (например: «Ромул и Рем», «Иисус», «Павел I» и др.). Объектом творческих размышлений Пушкина стала «судьба человеческая», как формулировал он сам в статье о народной драме. Основным требованием Пушкина к драматургу было: «... истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» (XI, 178).
Как показывают «Маленькие трагедии», практика Пушкина-драматурга продолжает оставаться резко противоположной практике французской драмы «чертогов». Новые герои «Маленьких трагедий» Пушкина — обычные люди, взятые в реалистическом плане, кто бы они ни были: типические феодалы «ужасного века», люди искусства в Вене XVIII века, влюбленные экзотической Испании или персонажи старой Англии.
Объединенные Пушкиным под названием — «Драматические сцены» (или «Маленькие трагедии»), четыре драмы, написанные после «Бориса Годунова», резко отличаются от последнего по своей форме. Вместо большого количества сцен с быстрыми сменами действий, мест, времени появилась система немногих сцен, этим самым ведущая к незначительным нарушениям единств. Но опыт работы над внутренне замкнутыми сценами «Бориса
- 269 -
Годунова» сказался и на создании самостоятельных «Драматических сцен».
«Маленькие трагедии» Пушкина являются не превзойденными в мировой литературе образцами малых драматических форм.
Самой ранней из «Маленьких трагедий» явился «Скупой рыцарь», задуманный еще в 1826 году в Михайловском и законченный в 1830 году в Болдине. Для своей трагедии Пушкин на этот раз избрал эпоху средневековья, период возникновения в феодальном строе новых отношений. Не прикрепляя сюжета «Скупого рыцаря» к какому-либо точному моменту истории Франции, Пушкин более интересовался созданием общего условно-средневекового колорита, на фоне которого им показан центральный образ, воплотивший страсть накопления, характерную для переходной эпохи. Как и ранее, творческая деятельность Пушкина-новатора сопровождалась теоретической разработкой вопросов драмы. Для взглядов Пушкина на драму характерно требование изображения человеческих характеров во всей их сложности и противоречивости. Позже, в своих «Table-Talk», Пушкин с определенностью высказался об этом: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен» (XII, 159—160). И в других своих заметках Пушкин обосновывал принципы реализма в изображении характеров.
В новых устремлениях своей «романтической» драмы1 Пушкин интересовался созданием сложного психологического образа. Эта задача приобрела характер основной, чего еще не было и не могло быть ни в эпоху первых романтических завоеваний, ни в эпоху «Бориса Годунова».
Первая из «Маленьких трагедий» превратила традиционного скупца в живое лицо определенной эпохи, сложное прежде всего тем, что скупец в то же время оказывается и рыцарем. Полного слияния подобных противоречивых черт в едином образе мировая литература не знала ни до Пушкина, ни после. В образе скупого рыцаря художественно символизирована власть денег. Апофеозом ее и вместе с тем обличением, раскрытием обесчеловечивающей, жестокой власти денег является монолог барона, хватающегося то за свой меч (рыцарь), то за золото (скупой). Скупой становится на миг поэтом своей страсти:
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава!
Я царствую...Но Пушкин срывает маску с этого образа, показывая страшную изнанку процесса накопления:
Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп...Образ скупого рыцаря приобретает значение большого историко-философского обобщения. Сочетание глубокой идеи и гармонической во всех отношениях формы ставит «Скупого рыцаря» на исключительное место в мировой поэзии.
- 270 -
Трагедия была напечатана Пушкиным только через шесть лет после ее написания. В подзаголовке по неясным причинам Пушкин приписал ее английскому писателю Ченстону (Шенстону), у которого в действительности нет подобного произведения.
«Моцарт и Сальери» — пьеса, посвященная художественно-психологическому анализу другой страсти — зависти.
Зависть индивидуалиста Сальери к гению Моцарту подчеркивает различие двух типов художественного творчества. Она становится эгоистической страстью, доводящей Сальери до убийства. В этой трагедии Пушкин дает психологический анализ зависти Сальери, показывая ее не в какой-либо определенный момент, но в самом ее развитии.
«Моцарт и Сальери» наиболее лиричная из «Маленьких трагедий». Контраст между жрецом, ремесленником искусства, поверяющим «алгеброй гармонию», аналитически разъявшим ее «как труп», и непосредственностью чудесно одаренного гения раскрывается на фоне обыденной жизни музыкантов. Борьба Сальери с Моцартом показана не как борьба слабого с сильным. Сальери тоже силен в своем роде, но он — представитель иного подхода к искусству, иного типа художник, ремесленник-аскет, одержимый эгоистической страстью. Сальери побежден подлинным творчеством, связанным с живой жизнью. Убийство им Моцарта подготовлено всей системой его мировосприятия.
Проблема совместимости гения и злодейства ставится на решение перед читателем-зрителем, которому самим ходом событий подсказывается отрицательный вывод. Бунт Сальери против Моцарта «на земле» есть к то же время бунт против отсутствия правды «и выше» («О небо! где же правота...»).
Уступить выстраданный им успех «безумцу», «гуляке праздному» Моцарту, для Сальери так же невозможно, как для аскета — Скупого рыцаря — уступить выстраданное богатство «безумцу, расточителю молодому» Альберу; вынужденные к этому, они ропщут против несправедливости и нарушения высшего права («Где ж правота?» — спрашивает один; «А по какому праву?» — страстно восклицает другой).
Как и «Скупой рыцарь», задуманная, повидимому, еще в Михайловском, эта драматическая сцена заканчивалась Пушкиным в болдинскую осень. Сюжет ее основан на данных об отравлении Моцарта итальянским музыкантом Сальери. «Моцарт и Сальери» создавался Пушкиным на фоне напряженных философских и эстетических исканий в дружественной Пушкину среде русских поклонников музыки (М. Ю. Виельгорский, В. Ф. Одоевский, А. Д. Улыбышев) и сторонников романтической эстетики. «Моцарт и Сальери» — единственная из драм Пушкина, увидевшая сцену при его жизни (две постановки в 1832 году).
В «Каменном госте» Пушкин, как и в «Скупом рыцаре», обращается к одному из традиционных сюжетов мировой литературы и дает ему совершенно оригинальную трактовку. Ему был известен ряд обработок сюжета о севильском обольстителе и вольнодумце. Но «испанский» фон был для Пушкина только предлогом к разработке психологического характера.
Дон-Жуан (или «Дон-Гуан», как писал Пушкин, стараясь приблизиться к испанскому произношению) прежде всего безрассудный безумец, хотя страсть его и раскрыта как проявление живого психологического характера, не лишенного противоречий. Синтезируя элементы романтические и психологические, Пушкин достигает нового реалистического эффекта. Дон-Гуан одержим страстью, как барон, как Сальери, но он не аскет, его страсть есть борьба за жизнь. Он контрастно противопоставлен эпизодической
- 271 -
фигуре скептического и мрачного Дон-Карлоса. В нем заложены жизнеутверждение и оптимизм, свойственные и другим героям «Маленьких трагедий» — Альберту, Моцарту. В его лице жизнь вызывает на поединок самую смерть. Физически побежденный ею в пьесе, он не оставляет впечатления побежденного или наказанного. Он умирает в борьбе, не задрожав, обращаясь к избранному им земному идеалу. В «Каменном госте» Дон-Гуан целостен и целеустремлен, а героиня полна колебаний. Убеждая Дону Анну, он сам начинает искренно верить в свое перерождение, он превращается во вдохновенного поэта, в импровизатора, знающего, что «и любовь — мелодия». Он обладает даром покоряющего красноречия. Дона Анна колеблется между долгом памяти, долгом чести и своим увлечением.
Последняя из «Маленьких трагедий» — «Пир во время чумы» — исключительно интересна тем, что, являясь в своей основе переводом из английского поэта Джона Вильсона (1785—1854), она вместе с тем представляет собой неповторимое в своем своеобразии и вполне оригинальное произведение Пушкина. Пушкин выбрал из драмы Вильсона «Чумный город» (1816) только четвертую сцену I акта и ту не полностью.
В 1830 году, во время холерной эпидемии, охватившей Россию, тема чумы привлекла внимание отрезанного от мира в своем Болдине поэта. Закончив собственные трагедии, он использовал и «материал» Вильсона. Близко, иногда буквально, переводя его романтическую стихотворную сцену из жизни уголка старой Англии, охваченного смертоносной заразой, Пушкин наполнил ее, как и каждый перевод, над которым работал, своим дыханием, своей мыслью. С точки зрения переводческого искусства многое в переводе Пушкина — подлинный шедевр.
В свой замечательный перевод Пушкин сознательно вносит и существенные изменения, радикально меняющие общий тон целого.
В двух местах Пушкин резко расходится с Вильсоном. Две вводные песни принадлежат к лучшим образцам пушкинской лирики.
Песня Мери Грэй у Вильсона исполнена местного колорита Шотландии в пейзаже и бытовых деталях. Пушкин сознательно дает песню, освобожденную от типично-шотландских деталей, песню родную и для русского слуха:
Было время, процветала
В мире наша сторона...
..........
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.И Пушкин и Вильсон дают картины кладбища во время чумы, но у Вильсона это традиционная романтика такого рода («Я взглянула на спокойствие пустынной обители Смерти»), У Пушкина — прямо противоположная реалистическая картина: «... одно кладбище не пустеет, не молчит». Мери Грэй у Вильсона поет песню, тяжеловесную по размеру; у Пушкина песня Мери выдержана в легком музыкальном ритме.
Еще показательнее «гимн» Председателя. Председатель пира у Вильсона поет песню, подхватываемую хором и полную растянутых сравнений (картина гибели двух армий и двух флотов), обращений к персонифицированным Безумию, Слабоумию, Лихорадке, Чахотке, Параличу, ничтожным в сравнении с Чумою. Все это — рецидивы стиля ранней английской поэзии, весьма далекой и чуждой Пушкину. Предел смелости вильсоновского
- 272 -
Председателя — стихи: «Тебе, о Чума, обращаю я песню свою! Раз уж ты пришла, я хочу, чтобы ты подольше оставалась».
Пушкинский «Гимн» — одно из наиболее высоких, совершенных и своеобразных произведений русской лирической поэзии. Гимн дан Пушкиным как вызов, бросаемый жизнью смерти. Он перекликается с вызовом Дон-Гуана. Нет никаких оснований видеть в нем ноты обреченности и пессимизма. Наоборот, гимн Пушкина преодолевает страх смерти («Нам не страшна могилы тьма»). Он славит бесстрашие человека:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы...Гимн пушкинского Вальсингама — своеобразнейшее явление в мировой поэзии. Он потрясает смелостью своей мысли. Выбрав из большой трехактной драмы только одну, наиболее яркую сцену и подняв ее на вершины лирической мысли, Пушкин тем самым превратил ее в самостоятельную гениальную «маленькую трагедию».
Высокая идейная содержательность, законченность и пластическая выразительность стиховых образов пушкинских «Маленьких трагедий» явились эпохой в русском не только драматическом, но и вообще словесном искусстве. Образы их, помимо фактов прямого влияния, имели громадное идейное и эстетическое воспитательное значение для самых разнообразных сторон последующей русской культуры (поэзия, музыка, театр), так же как «Борис Годунов» сыграл существеннейшую роль в формировании национальных чувств, поэтического восприятия русской старины и русской истории.
Опыт работы над «Маленькими трагедиями» Пушкин использовал, работая несколько лет спустя над «Анджело», произведением, которое, по определению Белинского, представляет собой нечто переходное от эпической к драматической форме. Закончено это произведение в 1833 году в Болдине и имеет в рукописи подзаголовок: «Повесть, взятая из шекспировской трагедии Measure for measure» («Мера за меру»). «Анджело» представляет собой сокращенное и измененное переложение драмы Шекспира. Как и в «Маленьких трагедиях», Пушкина интересовало здесь глубокое психологическое раскрытие определенного, ярко выраженного характера, в данном случае — характера лицемера. Противополагая шекспировского Анджело Тартюфу, Пушкин подчеркнул в шекспировском образе его общественную сторону. «Анджело лицемер, — писал Пушкин, — потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!» (XII, 160). Пушкинский Анджело — лицемер именно в своей государственной деятельности, причем его лицемерие представлено как неизбежное следствие религиозного аскетизма.
12
В 30-е годы происходили политические события большого значения. По всей России прокатились многочисленные крестьянские волнения. Многие из них подавлялись царским правительством силой оружия. Резкое недовольство народа существовавшими порядками нашло свое выражение и в так называемых «холерных бунтах». В военных поселениях произошли вооруженные восстания. Пушкин напряженно следил за всеми
- 273 -
этими событиями внутриполитической жизни. Его глубокий интерес привлекают также революционные события в Западной Европе — революция 1830 года во Франции, польское восстание. Брожение в странах Запада также способствовало усилению реакции в России. «Положение дел весьма нехорошо, подобно бывшей французской революции», — так охарактеризовал Николай Палкин сложившуюся обстановку.
«Маленькие трагедии». Рисунок Пушкина на набросках
заглавного листа (1830 г.).Все эти факты политической борьбы способствовали усилению внимания Пушкина к вопросам исторического развития, закономерностей исторического процесса. В его художественных произведениях, статьях и набросках
- 274 -
30-х годов, посвященных этим темам, характерна тенденция к преодолению чисто просветительского понимания хода исторических событий как результата «доброй» или «злой» воли отдельных личностей. Исторические события Пушкин стремился рассматривать в их связи и сложности. Хотя он и не мог, в силу условий времени, полностью преодолеть просветительскую философию истории, но тем не менее в его творческой деятельности 30-х годов с особенной ясностью видны элементы этого преодоления.
Основными темами исторических размышлений Пушкина были феодализм, французская революция, преобразовательная деятельность Петра, дворянство в его отношении к монархии и к народу, «новейшая» (т. е. буржуазная) цивилизация, крестьянские восстания. В своих исторических работах Пушкин сосредоточивал внимание на темах, имевших близкую связь с современной ему эпохой. Предметом его особенного интереса были периоды исторических кризисов и переворотов.
Свои «Заметки по истории французской революции» Пушкин начинает с вопроса о феодализме. Повидимому, в его планы входил самый анализ французской революции, как показывают начальные фразы: «Прежде нежели приступим к описанию преоборота, ниспровергшего...». Однако Пушкин остановился лишь на предварительном подходе к такому «описанию». Он выводил феодальную систему из «права завоевания» и с установлением ее связывал сохранение в народе «стихии независимости». Феодализм, как указывает Пушкин, ограничивал «самовластие» королей пределами только «собственных своих участков» и заставлял их, в случае нужды, обращаться к «сеймам», которые первоначально составлялись из «знатных владельцев» и «военных людей». Впоследствии к участию в «сеймах» призвано было духовенство, а затем, когда «королевская власть почувствовала необходимость противупоставить новую силу дворянству, соединенному с духовенством» (XI, 202), призван был и «народ» (под «народом» в данном случае имелась в виду буржуазия). Постепенное обеднение дворянства поставило его в зависимость от королей, которые стали, таким образом, самовластными.
Вопрос о дворянстве и его роли в государстве был для Пушкина волнующим с точки зрения современности: в истории он искал обоснования роли просвещенного дворянства как, с его точки зрения, защитника народных интересов. В такой постановке вопроса было тогда некоторое оправдание: декабристы были, как известно, дворяне. Но в настойчивости, с которой Пушкин отстаивал роль дворянства в государстве, сказался тот «принцип класса», о котором, оценивая слабые стороны мировоззрения поэта, говорил Белинский. В старом боярском местничестве Пушкин видел оплот против деспотизма. В написанном частично по-французски конспекте по поводу уничтожения местничества он отмечал: «Трусость высшей знати (между прочим и моего пращура Никиты Пушкина)». Сперанский, унизивший дворянство, характеризуется им как «беспокойный и невежественный попович», Петр I — «одновременно Робеспьер и Наполеон. (Воплощенная революция)». После Петра — «высшая знать, если она не наследственная (на деле), является знатью пожизненной; средство окружить деспотизм преданными наемниками и подавить всякое сопротивление и всякую независимость. Наследственность высшей знати есть гарантия ее независимости — противоположное неизбежно явится средством тирании, или скорее трусливого и дряблого деспотизма» (XII, 205, 485). Здесь, следовательно, Пушкин отстаивал дворянские права исключительно по отношению к царской власти, как гарантии для политической оппозиции. Восстание декабристов он рассматривает впоследствии
- 275 -
как попытку дворян отвоевать от верховной власти свои права, для того чтобы уничтожить деспотизм и освободить крестьян («Падение постепенное дворянства; что из того следует? Восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.»; XII, 206).
«Новоселье». Титульный лист первой книги альманаха. Пушкин на обеде
у Смирдина. Рисунок А. П. Брюллова (1833 г.).Приступая к своим капитальным историческим трудам — истории Пугачева и Петра, Пушкин, повидимому, стремился выработать, на основании чтения различных источников, свой собственный исторический метод и составить собственную концепцию всей русской истории в целом.
- 276 -
Критикуя «Историю русского народа» Полевого, Пушкин ставил в вину именно его грубую тенденциозность, небрежное отношение к фактам, поспешность и противоречие выводов.
В истории Полевого Пушкин не видит ни «добросовестности труда», ни «верности разысканий»: «... на каждое слово <мы> невольно требуем подтверждения постоянного, если не имеем терпения или способов справляться сами». «История русского народа», по определению Пушкина, походит более на собрание «журнальных статей», чем на цельный, осмысленный исторический труд (XI, 125). Пушкин внимательно следил за трудами французской «исторической школы», но он упрекал Полевого в механическом подражании новейшим историкам (Нибуру, Тьерри, Баранту, Гизо) и в настойчивом желании во что бы то ни стало «приноровить» их систему к России. Он возражает против попыток Полевого провести аналогию между русским удельным порядком и западным феодализмом. Наша «аристокрация», по мнению Пушкина, «не есть феодализм». Точно так же он отрицает наличие в России и того процесса «освобождения городов», который имел столь важное значение для разложения феодализма на Западе. Русский путь развития кажется Пушкину совершенно своеобразным.
Проблемы исторического развития, выдвинутые Пушкиным в 30-е годы, преломились в разнообразных жанрах его творчества: и в лирике (стихотворение «К Вельможе», содержащее характеристику хода истории; «Моя родословная», посвященная теме о роли дворянства, и т. д.), и в эпических жанрах поэзии и прозы («Медный всадник», «Капитанская дочка»), и в собственно исторических работах («История Пугачева», «Материалы к истории Петра»).
Пушкинская философия истории с наибольшей яркостью и художественной обобщенностью отразилась в «Медном всаднике» (1833). Здесь вновь развивается тема патриотической гордости мощью русского государства и созидательными силами русской нации. Здесь же воплощены темы о двух тенденциях — «тиранической» и преобразовательной — в деятельности Петра, о соотношении интересов государства и личности, о правах «маленького человека».
Вся композиция поэмы определяется антитезой «мощного властелина судьбы», Петра Великого, представленного в сверхличном плане, и «бедного» Евгения, живущего исключительно в сфере забот о своем личном маленьком счастье. Антитеза общих и частных целей лежала уже в основе «Полтавы»; как и в «Медном всаднике», сверхличный образ Петра торжествует в «Полтаве» над миром личных интересов и стремлений. Та же контрастность и в картинах Петербурга, нарисованных в «Медном всаднике». Во вступлении Петербург изображается в парадном обличии мощи, богатства и силы. Главенствующая черта Петербурга в этом описании — это его «стройность»; «Громады стройные теснятся», «Люблю твой строгий, стройный вид», «В их стройно зыблемом строю». Наводнение нарушает эту «стройность», обнажает изнанку Петербурга: «Обломки хижин, бревна, кровли... Пожитки бледной нищеты... Гроба с размытого кладбища...». Изображение Петербурга в «Медном всаднике» является дальнейшим развитием антитезы, намеченной в стихотворении:
Город пышный, город бедный.
Дух неволи, стройный вид...1
- 277 -
«Медный всадник». Автограф Пушкина.
В связи с проходящим через всю поэму сопоставлением образов силы и слабости, пышности и бедности, «стройности» и обусловленной ею «неволи» — в «Медном всаднике» обнаруживаются два стилистических течения, то сливающихся друг с другом, то обособляющихся и создающих яркий поэтический контраст. Это, с одной стороны, прозаически сниженное повествование, с другой — торжественный лирический пафос.
В «Медном всаднике», в сущности, одно только действующее лицо — бедный чиновник Евгений. Его восстание против беспощадной исторической силы, олицетворяемой в образе Петра, составляет всю фабулу поэмы. Отсюда ее необыкновенная идейная и художественная выразительность. Из «недосказанности» фабулы — и «загадочность» замысла поэмы, побуждавшая многих исследователей объяснять ее как аллегорию, прибегая для этого к разным натяжкам. Эти истолкования только затемняли поэтический ясный смысл поэмы. Самым точным и правильным остается до сих
- 278 -
пор объяснение Белинского, который видел ключ к идее «Медного всадника» в «беспрестанном столкновении» Евгения с «кумиром на бронзовом коне». «Мы понимаем смущенною душою, — писал Белинский, — что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом медном всаднике... И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного... При взгляде на великана... мы... сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость...» (XII, 188). И в самом деле, признавая огромное значение исторического дела Петра, Пушкин сочувственно изобразил трагедию «безумца бедного» Евгения.
«Медный всадник» своим содержанием полемически направлен против идей, развитых в трех стихотворениях Мицкевича: «Памятник Петра Великого», где описывалась беседа Мицкевича с Пушкиным о самодержавии Петра; послание «Русским друзьям», где Мицкевич упрекал «русских друзей», в частности Пушкина, за их «примирение» с правительством Николая I, и «Олешкевич», где давалась картина наводнения 1824 года и содержалась критика царствования Александра I. Мицкевичем были затронуты темы наводнения, фальконетовского памятника, а вместе с тем и общий вопрос о значении петровского самодержавия. В глазах Мицкевича Петр был только «царь-кнутодержец в римской тоге». Скала памятника сравнивалась в стихотворении Мицкевича с водопадом. «Блеснет солнце свободы, — говорилось дальше, — и западный ветер согреет эту страну: что же станется тогда с водопадом тирании?».1 Но Пушкин в «Медном всаднике» дал оценку Петру с точки зрения русского патриота, верного декабристским традициям. В символическом образе «Медного всадника» он показал и жестокое начало в Петре и его прогрессивную творческую силу, воплотившуюся в основанном им Петербурге. Однако пушкинская поэма далеко выходила и за пределы вопроса о самодержавии Петра и о русском самодержавии вообще. Здесь впервые поставлены были более общие вопросы, разрешением которых занималась позднейшая литература: о трагическом противоречии между «общим» и «частным», о жертвах, каких требует поступательное движение истории, о правах «маленьких людей».
Пушкин предвидел негодование, которое возбудит появление мелкого чиновника в роли героя поэмы. В вариантах рукописи «Медного всадника» имеются строки (V, 445):
Допросом музу беспокоя,
Мне скажут, может быть, опять,
Зачем ничтожного героя
Взялся я снова воспевать...Эта же тема была еще более заострена и развернута в неоконченной поэме «Езерский», которую Пушкин начал в конце 1832 года и мотивы которой использовал в «Медном всаднике»:
Допросом музу беспокоя,
С усмешкой скажет критик мой:
«Куда завидного героя
Избрали вы! Кто ваш герой?»
— А что? Коллежский регистратор.
Какой вы строгий литератор!
Его пою — зачем же нет?
- 279 -
Он мой приятель и сосед.
Державин двух своих соседов
И смерть Мещерского воспел...Заметят мне, что есть же разность
Между Державиным и мной,
Что красота и безобразность
Разделены чертой одной,
Что князь Мещерский был сенатор,
А не коллежский регистратор...«Коллежский регистратор», который должен был быть героем поэмы, являлся здесь потомком знатного боярского рода Езерских. Протест его против Петра в таком случае имел бы слишком ограниченный смысл: это был бы протест униженного представителя старого боярства против реформ, лишивших боярство прежних привилегий. Пушкин бросил первоначальный план и, перейдя к «Медному всаднику», сохранил в тексте поэмы только намек на происхождение своего героя из знатного старинного рода:
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало,
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало...Строфы «Езерского», заключавшие в себе историю рода Езерских, Пушкин переработал в «Родословную моего героя» и напечатал отдельно в «Современнике» в 1836 году. Самый же «Медный всадник» не был напечатан по цензурным причинам. Пушкин записал в дневнике 14 декабря 1833 года: «Мне возвращен Медный Всадник с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшею ценсурою; стихи
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова —вымараны. На многих местах поставлен (?), — все это делает мне большую разницу» (XII, 317).
«Медный всадник» был напечатан только после смерти Пушкина в 1837 году, с вынужденными поправками Жуковского.
Пушкинские взгляды на Петра, художественно преломившиеся в «Медном всаднике», отразились и в его исторических изучениях Петра и петровской эпохи. Как уже упоминалось выше, Петр Великий в глазах Пушкина был одновременно Робеспьером и Наполеоном, «воплощением революции». Этот взгляд на Петра должен был явиться основой задуманного им исторического труда. Он набросал программу введения, которое должно было дать картину состояния России к моменту воцарения Петра. Пушкин составил обширнейший конспект десяти томов «Деяний Петра Великого» И. И. Голикова, внеся в него дополнения из некоторых других источников (Штелин, Туманский, Шафиров, Лемонте).
Конспектируя Голикова, Пушкин вставлял многочисленные собственные замечания и проводил собственную тенденцию в подборе и истолковании фактов.1 Прежде всего он нарушал официальную парадность образа
- 280 -
Петра, выделяя в нем житейские, прозаические черты: «Петр с... немногими потешными убежал в Троицкий монастырь. Гордон говорит: без штанов»; «Лефорта оставил он в Амстердаме и, расставаясь с ним, плакал (вероятно, будучи пьян)», и пр. Вместе с тем он подчеркивает простоту Петра, его отвращение к раболепию. Он выписывает из Голикова: «Когда народ встречался с царем, то по древнему обычаю падал перед ним на колена. Петр Великий в Петербурге, коего грязные и болотистые улицы не были вымощены, запретил коленопреклонение, а как народ его не слушался, то Петр Великий запретил уже сие под жестоким наказанием, дабы, пишет Штелин, народ ради его не марался в грязи» (Пушкин, X, 21, 39, 69).
В данном эпизоде Пушкина заинтересовало, очевидно, противоречивое сочетание деспотических привычек и своеобразной борьбы с результатами деспотизма: Петр в принудительном порядке заставляет подданных не унижать свое человеческое достоинство. В том же духе и другие выписки, в которых рассказываются, например, следующие эпизоды. Петр был недоволен, получив от Апраксина «слишком учтивое письмо», и ответил, что он сомневается, к нему ли оно писано: «ибо оно с зельными чинами, чего-де я не люблю». Он запретил ему слово «величество». Когда в Петербург прибыл первый корабль, «обрадованный Петр велел отвести шкиперу и матросам постой в доме Меншикова; они обедали за его столом, и Петр сидел с ними... Петр всегда посещал корабельщиков на их судах. Они угощали его водкой, сыром и сухарями. Он обходился с ними дружески. Они являлись при его дворе, угощаемы были за его столом» и пр. (X, 70). Все эти подробности служили не только для научно-исторических, но и для художественных целей, — они должны были придать образу Петра реалистическую живость.
Сочинение Голикова носило официально-панегирический характер. Пушкин в своем конспекте стремился к объективному, всестороннему освещению эпохи. Суммируя факты, рисующие колоссальную преобразовательную энергию Петра, широту его планов и самоотверженную преданность интересам государства, он не упускал в то же время случая указать на то, какой ценой досталось все это народу и к каким «варварским» средствам прибегал Петр. Он говорит о «новых разорительных податях», о «жестокости и невежестве судей», о мерах Петра, «разорительных для торговли», и т. д. Некоторые указы Петра характеризуются им как «варварские», «тиранские», «жестокие»: «и... запрещает бедным просить милостыню. — (См. о том указ жестокий, как обыкновенно)»; «... дворяне не явились на смотр. Он 11 января издал указ, превосходящий варварством все прежние»; «Указ: предоставляется на волю помещиков строить новые усадьбы для солдат или разместить их по избам. Но и тут закорючки своевольства и варварства» и пр.
Свой взгляд на Петра Пушкин формулировал таким образом: «Достойна удивления: разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика». Пушкин предвидел невозможность, открытого изложения подобной точки зрения. Это видно из замечания, которым он сопроводил свою формулировку: «Это внести в Историю Петра, обдумав» (X, 256).
- 281 -
План Пушкина был обширен. Он предполагал дать не только характеристику Петра, но и картину всей России той эпохи, очертив достаточно полно при этом и положение народа. Это обнаруживается в наброске введения, где мы находим следующие пункты, касающиеся положения народа в допетровское время: «Народ taillable à merci et miséricorde.1 Правосудие отдаленное, в руках дьяков. Подати многосложные и неопределенные... Пошлины и таможни внутренние: a) притеснения, b) воровство... Законы, более обычаи, нежели законы — неопределены, судьи безграмотные. Дьяки плуты... Нравы дикие, свирепые...» (X, 290—291). Эти пункты свидетельствуют также, что труд Пушкина должен был явиться не только историей государственной деятельности Петра, но и характеристикой положения народа в этот период.
13
Для Пушкина в 30-е годы было ясно, что без решения вопроса о народе не может быть осуществлено политическое переустройство государства. Еще в 1822 году он писал: «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестиян» (XI, 15). В 30-е годы эта проблема возникла перед Пушкиным с особенной остротой в связи с ростом крестьянских волнений (холерные бунты 1830 года, восстания в военных поселениях Новгородской губернии и т. д.). Не будучи, в силу классовых особенностей своего мировоззрения, сторонником крестьянской революционности, Пушкин, как мыслитель и художник, стремился раскрыть корни крестьянских движений и их характерные особенности. Сама постановка этой темы Пушкиным, который, хотя и не принимая методов крестьянской расправы с помещиками, сочувствовал угнетенному народу, — приобрела, в условиях николаевского режима, выдающееся общественное значение. Проблема крестьянских восстаний является содержанием «Истории Пугачева», она отражена в «Капитанской дочке». Но первым произведением, где эта проблема была затронута, явился «Дубровский».
В этом романе тема борьбы крестьян с помещиками имеет хотя и подчиненное, но принципиальное значение (роман начат в октябре 1832 года, работа над ним была прервана в феврале 1833 года; остался незаконченным). В смысле выбора эпохи роман не может быть назван историческим: время действия его современно Пушкину, в центре его не находятся ни определенные исторические события, ни конкретные исторические лица. В центре его внимания — русский поместно-дворянский быт. Именно в «Дубровском» Пушкин художественно воплотил свои воззрения на два исторически сложившихся слоя русского дворянства: старое, дошедшее до полного обнищания («голый дворянин» — старик Дубровский), и новое, возникшее из «ваксивших царские сапоги», из выдвинувшихся по родственным связям с участниками дворцового переворота 1762 года («пошедший в гору» Троекуров). «Исторический» фон романа — изображение расслоения дворянства. Распря стариков внутри своего «сословия» определяет и позицию молодого героя Владимира Дубровского.
Центральный образ романа — генерал-аншеф Троекуров — является одной из наиболее законченных фигур помещиков-крепостников русской литературы. Пушкин сатирически клеймит в Троекурове черты представителя новой знати, рисуя его издевательства над учителями и крепостными, живущими хуже собак его псарни.
- 282 -
Старый Дубровский непрактичен и неосмотрителен, но прям и независим («я не шут, а старинный дворянин»). Мстителем за понесенные им обиды выступает его сын. Располагая рядом подлинных документальных сведений о помещичьей тяжбе и о мести захудалого дворянина своему обидчику, Пушкин использовал юридический документ для своего романа в сатирических целях, «полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право» (VIII, 1, 167).
В первых планах романа дворовые люди сами убивали члена суда — заседателя — из чувства мести за своего барина, и только после начавшегося следствия Владимир заступался за них. Затем ночной пожар должен был происходить «от людей без участия Дубровского». Таким образом, Пушкин колебался в распределении активных ролей. Наконец, он выделил из толпы «людей», как мстителя, кузнеца Архипа, «убивающего суд». Этим существенно изменилась самая природа образа молодого Дубровского. Его социальный протест оказался мотивированным в романе более правдоподобно для дворянина — родовой местью. Так тончайшим образом отделял Пушкин в «разбойничьем» союзе Дубровского и его крестьян стимулы бунта дворянина от стимулов бунта крепостных.
Косвенными обидчиками Дубровских, так же как и крепостных, является «чернильное племя», подьячие, низкопоклонство, грубость, продажность, крючкотворство которых обличаются Пушкиным в ряде образов, сближающихся с образами «Истории села Горюхина». Они созданы не только в литературных традициях русской обличительной литературы: за ними подлинные взаимоотношения Пушкина с губернскими «приказными» и «стряпчими». Их воплощение — фигура Шабашкина, «стращающего и подкупающего судей», толкующего «вкривь и впрямь всевозможные указы».
Сатирически изображена и среда помещиков как захолустных (Глобова, Спицын), так и оторвавшихся от родной почвы (англоман князь Верейский).
Остановившись в «Истории села Горюхина» на изображении бунта крепостных «прадеда — тирана», Пушкин в «Дубровском» вновь изобразил бунт кистеневских крепостных, за которым чувствуются реальные события в бунтарской деревне деда Пушкина — Кистеневке.
Иным художественным методом, чем в «Истории села Горюхина», Пушкин продолжал все то же яркое изображение мира крепостных крестьян. В междоусобной распре своих господ крепостные отчетливо делятся на два враждебных лагеря, забывая о подлинно общих, единых своих интересах против всего угнетающего их барства. Но за крепостным миропониманием темной массы Пушкин выдвигает фигуры отдельных крепостных, в которых чувствуется свой голос. Такова фигура героя из народа — кузнеца Архипа, с его неизменно упорной формулой «как не так», обращенной не только против исправника, но и выражающей несогласие с попытками своего барина ограничить ярость крестьян. Архип — один из эпизодических, но своеобразно значительных реалистических образов Пушкина. Сжигая врагов — людей, он, с опасностью для собственной жизни, спасает из огня «божью тварь» — кошку. Рядом с ним Пушкин любовно зарисовывает и фигуры других крепостных — няню Дубровского и маленького крепостного спартанца Митю.
Вместе с тем в образах крестьян у Пушкина нет и тени фальшивой идеализации. Пушкин далек от изображения Архипа в качестве вождя бунта. В положение организатора бунта попадает Владимир Дубровский. Пушкин дает Владимира на фоне, овеянном «разбойничьей» романтикой
- 283 -
Поволжья. Но и Владимир, чуждый кровным нуждам и интересам крепостных, не может быть истинным вождем. Именно он сплошь и рядом парализует бунтарские начинания крепостных и в конце концов покидает своих недавних товарищей и союзников.
Еще во время работы над «Дубровским» у Пушкина возникли два параллельных замысла — «История Пугачева» и «Капитанская дочка».
Характерная для Пушкина связь работы художника и историка сказалась здесь особенно ярко. Роман и «история» взаимно дополняют и поясняют друг друга. Начав в феврале — начале марта 1833 года знакомиться с архивными материалами о пугачевском движении, Пушкин уже 22 мая закончил первую черновую редакцию «Истории» и пришел к необходимости проверить исторические документы поездкою на места исторических событий. Между 2 и 23 сентября он объезжает Поволжье, Оренбург и Уральск, изучает данные местных архивов и с особенной страстностью собирает устные отголоски эпохи восстания. Он опрашивает стариков-пугачевцев, записывает фольклорные предания, поговорки, песни, опрашивает смотрителей, нищих, бывалых людей, жадно пытаясь найти и сохранить живые следы интересующей его эпохи. Это был новый метод проверки исторических документов, внесенный поэтом в русскую историческую науку.
Собранные материалы были обработаны Пушкиным в Болдине, где уже 2 ноября он заканчивал и предисловие к своему историческому труду. В январе — феврале 1834 года «История Пугачева» была процензурована Николаем I и допущена к печати. Вероятно, ходатаем за «Историю» перед царем был В. А. Жуковский. Николай I собственноручно изменил пушкинское заглавие «История Пугачева» на «Историю Пугачевского бунта». Отметки царя на рукописи направлены главным образом на те пушкинские формулировки, которые казались опасными для репутации церкви, армии и царской фамилии (упоминание о бежавших солдатах, о «роте, потерявшей свои пушки», и т. п.). Не входя в сущность содержания всей «Истории» и не поняв ее, император больше заботился о внешних моментах, шокировавших его (например, Пушкин не назвал Александра «императором», сказал о полковниках «стояли» вместо «находились» и т. п.). С другой стороны, подозрительным показалось то, что Пушкин назвал Пугачева в одном месте «бедным колодником», в другом «славным мятежником». По поводу поэтического предания о казачке Разиной, ищущей среди трупов сына, царь заметил: «... лучше выпустить, ибо связи нет с делом». Неприличным показалось и описание свидания академика Рычкова с пленным Пугачевым, приветливо пригласившим его обедать. Николай I почувствовал здесь проявление симпатии Пушкина к Пугачеву, и это место пришлось убрать. Во время печатания книги из предисловия было также изъято упоминание имени Вольтера.
Выступив в печати как историк, Пушкин уже самым выбором в герои Пугачева бросил вызов дворянскому обществу и дворянской историографии. Он прекрасно учитывал это и вынужден был собственные концепции маскировать и самую полемику свою с традиционными взглядами давать в завуалированном виде. Однако истинные точки зрения самого Пушкина вскрываются ныне с абсолютной несомненностью, свидетельствуя об общей прогрессивности пушкинской «Истории», ее полемичности, ее попытке намекнуть на подлинную сущность облика Пугачева.
Основное изложение (часть первая) сопровождено обширными примечаниями, которые богато документированы.
Примечания представляют либо мотивировку, либо цитацию ценных материалов, не нашедших себе места в тексте самого повествования (например:
- 284 -
письма Державина, Екатерины, выдержки из записок И. И. Дмитриева и т. п.).
«История пугачевского бунта». Титульный лист
первого издания (1834 г.).Пушкина-историка очень волновало то обстоятельство, что он не имел возможности ознакомиться во время работы над «Историей Пугачева» с нераспечатанным подлинным судебным делом Пугачева. В наброске предисловия он писал: «... со временем оно будет распечатано рукою историка и объяснит многое» (IX, 1, 399). Познакомиться с ним он мог лишь по выходе «Истории» в свет.
Книга появилась в конце декабря 1834 года. Пушкин сопроводил ее гравюрным портретом Пугачева, картой губерний, охваченных пугачевским движением, рядом факсимиле (в том числе с подписью Пугачева) и воспроизведением печати Пугачева.
В январе 1835 года появился разбор «Истории», анонимно напечатанный В. Б. Броневским. Пушкин в особой статье «Об „Истории Пугачевского бунта“» ответил на пошлые упреки реакционного историка. Эта статья Пушкина — один из лучших образцов умной, благородной, язвительной и документированной пушкинской полемики. Признавая указанные мелкие недостатки и, в свою очередь, исправляя ошибки рецензента, Пушкин подчеркнул, что до «Истории Пугачева» «вся эта история была худо известна».
Дворянская публика ждала от Пушкина «труда» в другом роде. Поэт записал в феврале 1835 года: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении» (XII, 337).
Работы своей над Пугачевым Пушкин не оставлял и позже. Весьма существенны для понимания «Истории Пугачева» дополнительные «Замечания о бунте», представленные Пушкиным 26 января 1835 года Николаю I и кончающиеся разделом «Общие замечания». Пушкин привел здесь ряд материалов и соображений, которые по цензурным условиям не могли быть включены в печатный текст «Истории».
В «Истории Пугачева» Пушкин впервые в русской историографии поставил вопрос о причинах крестьянского восстания, впервые переосмыслил самое понятие «пугачевщины» и традиционное представление о Пугачеве, показав, вопреки традиционно-дворянской трактовке его как «злодея» и «изверга», реальные черты изученного им исторического образа.
«История Пугачева» насквозь полемична (хотя полемика и дана в скрытой форме). Правительственный лагерь дан здесь в иронических, а иногда и сатирических тонах; наоборот, Пугачев дан как образ, привлекающий симпатии.
- 285 -
Характерно, что работа Пушкина над предисловием, самой «Историей» и «Замечаниями» к ней была пронизана полемикой с официозными предшественниками по теме и критиками (П. И. Сумароковым, А. И. Бибиковым, А. И. Левшиным, П. И. Рычковым, П. Любарским, В. Б. Броневским).
Е. И. Пугачев.
Портрет, приложенный Пушкиным к «Истории
Пугачевского бунта».«Незнание наших историков удивительно... Что слово, то несправедливость», — писал Пушкин в черновике предисловия (IX, 1, 398). Невежественно-реакционную трактовку Пугачева и «пугачевщины», как характерную для историографии того времени, Пушкин пытался разоблачить на страницах своего труда. Беря к нему защитным эпиграфом слово архимандрита Любарского о «случайности» успехов Пугачева, он возражает ему по существу в самой «Истории». Пушкин вскрывает ярко демократический характер уральского казачества, подчеркивая «совершенное равенство прав» в его организации (в черновике его представители названы временными исполнителями «народной воли»). Пушкин анализирует причины «бунта» и склонен объяснить его поведением правительства. Он показывает, что в состав пугачевцев входил не только «черный народ», но и представители других классов. В «Замечаниях о бунте» раздел «Общие замечания» начинается с изложения этой мысли: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства» (IX, 1, 375). Из этого ясно, что Пушкин четко осознал непримиримый антагонизм интересов дворян и крестьянства. В этих же «Замечаниях» отмечено, что воззвания Пугачева есть «удивительный образец народного красноречия» (IX, 1, 371). Пушкин констатирует угнетенное положение «малых народностей» и закономерность их участия в восстании. Не скрывая отдельных темных, с его точки зрения, сторон «пугачевщины», Пушкин тем не менее не фиксировал на них внимания читателя. По поводу казни пугачевца Падурова, бывшего депутата екатерининской комиссии, он подчеркнул: «казнь сего злодея противузаконна» (IX, 1, 375).
Наконец, в ряде разбросанных по «Истории Пугачева» черт и в примыкающих к ней «Замечаниях» Пушкин заклеймил трусливое и бездарное поведение правительственных генералов (Кара, Голицына) и ряда дворян-усмирителей.
В то же время сам Пугачев был дан Пушкиным, в резком противоречии с реакционной историографией, как исторический герой, достойный собственной истории, как вождь, избегающий напрасного кровопролития,
- 286 -
лично отважный и умный, умеющий миловать, обладающий рядом привлекательных личных черт, олицетворяющий многие характернейшие черты народа.
Совокупность всех этих новых пушкинских точек зрения, подкрепленных научным анализом, обусловила огромное значение его «Истории Пугачева» в прогрессивном ходе развития русской исторической науки. Его труд, долгое время замалчивавшийся буржуазной наукой, в сущности говоря, одиноко возвышается над ней как явление, далеко опередившее свое время.
Переоценка Пушкина-историка была сделана только советской наукой, вернувшей «Истории Пугачева» данное ей Пушкиным заглавие, собравшей ценнейшие неизвестные черновые материалы Пушкина и впервые вскрывшей истинный смысл и подлинное значение пушкинского исторического замысла.
Большая простота и художественная выразительность пушкинского исторического стиля, так же как и содержание, выделяют «Историю Пугачева» из всех произведений русской исторической мысли. По меткому слову Белинского, она «пером Тацита» писана «на меди и мраморе» (VI, 282).
Та же тема пугачевского восстания разработана в «Капитанской дочке» на широком фоне русской жизни XVIII века в ее важнейших явлениях.
Жизнь и интересы помещиков, быт и характер крепостных, типы и судьбы дворянских «недорослей», зарисовки жизни военных и суда, быт захолустных крепостей, скрывающих «старинных людей», порой смешных в повседневной жизни, но умеющих в минуты необходимости становиться героями, батальные сцены, картины пытки, положение забитых народностей, очерки придворного круга Екатерины и, наконец, в центре всего впервые ставшая предметом художественного изображения «пугачевщина», — таков громадный круг тем и предметов, охваченный Пушкиным в сравнительно небольшом романе.
«Капитанская дочка» (написана в 1833—1836 годах) — завершение идейно-художественных исканий Пушкина в области русского реалистического историко-социального романа. На фоне «смутной» эпохи «истребления дворянского рода» и «стихии мятежа» Пушкин задумал слить научно проверенные исторические данные о «пугачевщине» и классовой роли дворянства XVIII века с романическим происшествием — историей молодого дворянина Гринева и его любви к девушке, Маше Мироновой. В поисках действительно народного героя подойдя к образу Пугачева и к его эпохе, Пушкин пошел вразрез с мнением Бенкендорфа и царя, высказанным ему еще в 1827 году о «неприличии» выбора в герои Разина или Пугачева, так как «церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева». Собирая исторические русские материалы для своего романа, обследуя печатные источники, записанные и устные предания, опрашивая еще живых свидетелей эпохи, Пушкин столкнулся с рядом преданий, в измененном виде легших в основу его повествования.
«Роман мой основан, — писал сам Пушкин цензору, — на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги» (XVI, 177). Пушкин имел в виду эпизод со Шванвичем, который в свое время в ссоре с будущим фаворитом Екатерины Алексеем Орловым разрубил ему щеку, но все же сумел воспользоваться затем его покровительством. Сын этого Шванвича и был выбран Пушкиным в герои романа. В особых заметках о нем,
- 287 -
сохранившихся в бумагах Пушкина, отмечено, что молодой Шванвич служил Пугачеву «со всеусердием». Г. А. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора.
«История Пугачевского бунта» с дарственной надписью Пушкина
А. И. Куницыну.Выбор в герои романа молодого Шванвича не случаен. Пушкина интересовал момент перехода дворянина к Пугачеву. Здесь приоткрывалась возможность изображения и психологии подобного героя и самого Пугачева с его сподвижниками.
Приступив к изучению материалов для «Истории Пугачева», Пушкин, кроме устных преданий, нашел ряд более подробных сведений об историческом Шванвиче (или Швановиче), перешедшем в ряды Пугачева. Как записал Пушкин, «немецкие указы Пугачева писаны были рукою Шванвича» (IX, 2, 498).
В ряду многих перешедших к Пугачеву дворян Шванвич интересовал Пушкина как образ дворянина-аристократа («Шванвич один был из хороших дворян»). Не имея, однако, возможности прямо сделать героем романа дворянина-пугачевца, Пушкин начал отходить от исторических материалов этого рода: заменил Шванвича действительно существовавшим Башариным, случайно помилованным Пугачевым (см. в главе четвертой «Истории Пугачева»). Башарин (в планах романа) во время метели спасал искалеченного пугачевца-башкира. Тот, в свою очередь, позднее ответил услугой за услугу, головою поручившись за пленного Башарина перед Пугачевым. Только позже на месте башкира Пушкин решился поставить самого Пугачева, лично платящего герою услугой за услугу (спасение жизни за заячий тулупчик). Далее Башарин был заменен Валуевым и еще позже как бы раздвоился на Гринева1 и Швабрина. Смысл этого «раздвоения» заключался
- 288 -
в том, что благодаря ему Пушкин стушевал опасный, с точки зрения цензуры, переход дворянина «во стан Пугачева». Гринев давался как образ «невольного» изменника, только вследствие ряда романических «случайностей» попадающего к Пугачеву в качестве «гостя».
В первоначальной редакции одиннадцатой главы Гринев, отчаявшись в помощи Маше Мироновой со стороны правительственного лагеря, ехал за заступничеством в гости к Пугачеву. Лишь потом, приспосабливая главу к цензурным возможностям, Пушкин сделал из Гринева не «гостя», ищущего в лагере Пугачева справедливости и «управы», а «пленника». Швабрин же давался как образ сознательного изменника-«злодея», без которого не мог быть показан и Гринев. Из-за этого Пушкину пришлось, с одной стороны, лишить своего Гринева какой бы то ни было идеологической солидарности с Пугачевым, ограничив их отношения взаимными «симпатиями». С другой стороны, изображение Швабрина поневоле было обречено на некоторый схематизм и неясность.
Момент «заступления» Орлова за Шванвича заменился в планах заступничеством отца героя, а затем, в самом романе, — предстательством за Гринева перед Екатериной вымышленной «девицы Мироновой».
Первоначально Пушкин в особом предисловии хотел дать весь роман как «искреннюю исповедь» Гринева своему внуку о «заблуждениях» молодости.
В тоне семейной хроники XVIII века, якобы только издаваемой Пушкиным, и были осуществлены первые главы романа. Однако в следующих главах роман переходит в широкую историко-социальную эпическую картину.
Давая картину безвестной «фортеции», Пушкин с особым вниманием остановился на ее скромных обитателях, простых русских людях — Мироновых. Реалистически рисуя по историческим материалам их простой быт, он вместе с тем впервые показал, что эти «маленькие люди» способны на удивительный героизм и стойкость в моменты реальной опасности: способны без всякой аффектации пожертвовать своей жизнью в соответствии с представлениями о долге.
Изображение этого героизма простых людей, подмеченного Пушкиным в живой жизни и впервые с такой яркостью введенного в роман, впоследствии было продолжено Л. Толстым в его портретах русских незаметных героев («Война и мир»).
Традиционный персонаж верного слуги в образе Савельича наделен весьма живыми и положительными чертами. Однако в романе чувствуется некоторое любование этим крепостным слугой, который оказывается враждебно настроенным к Пугачеву и рабски преданным своему хозяину.
Особо трудной в условиях николаевской цензуры была для Пушкина проблема изображения исторических персонажей его исторического романа — Пугачева и пугачевцев, Екатерины. Отношение поэта к Екатерине нам хорошо известно по его бичующим характеристикам 1822 года и позднейшим (Дневник). Понятно, что в романе она могла быть показана лишь как великодушная государыня.
Еще сложнее обстояло дело с введением в роман пугачевцев и, особенно, самого Пугачева. Говоря об «ужасных», с точки зрения Пушкина, сторонах пугачевского движения, отрицательными чертами рисуя образ сподвижника Пугачева — Белобородова, Пушкин тем не менее резко порвал в «Капитанской дочке» с официозной традицией изображения самого Пугачева в виде злодея.
- 289 -
В своем романе Пушкин дал черты реального Пугачева такими, какими он нашел их в изучении эпохи, в своих опросах оренбургских стариков, еще лично знавших вождя крестьянского восстания.
В образе Пугачева, который неизменно именовался официозной историографией «злодеем», Пушкин с неслыханной для его времени смелостью настойчиво выдвигает на первый план черты привлекательные и трогающие (эпизод с заячьим тулупчиком, сострадание к Маше Мироновой, своеобразное благородство в отношении к Гриневу), подчеркивает природный ум, героический характер Пугачева, способность к «дикому вдохновению». Пушкин поэтизирует его народные черты, его образный язык, его сказку и влагает ему в уста слова, звучащие вызовом дворянству: «Я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья». В результате Гринева влечет к Пугачеву «сильное сочувствие».
Невозможность высказать в романе до конца собственное истинное отношение к русскому крестьянскому движению вообще, в частности к «пугачевщине», видна и из того, что Пушкин даже вынужден был вовсе убрать из печатного текста целую главу, посвященную крестьянскому восстанию в поместье Гриневых и смерти бунтаря Ваньки на виселице вместе с чувашем и заводским крестьянином («Пропущенная глава»). Первоначально глава эта завершалась концовкой со словами Гринева: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка» (VIII, 1, 383—384). Перенося из «Пропущенной главы» в печатный текст тринадцатой главы романа первую фразу формулы (о «русском бунте»), Пушкин выбросил ее конец (о «тех, которые замышляют»).
Само собой разумеется, что Пушкин (как известно из его других высказываний) никогда не ставил знака равенства между стихийностью крестьянского бунта и организованным революционным движением. Несомненно, однако, и то, что в приведенных выше словах о «русском бунте» сказалась и субъективная классовая позиция Пушкина, те черты дворянской идеологии, которые были свойственны его мировоззрению.
По значительности поставленных вопросов, по новизне и глубине их художественного разрешения «Капитанская дочка» занимает в русской и мировой литературе совершенно исключительное место. В «Капитанской дочке» Пушкин дал образец национального исторического романа со стройной композицией, живым повествованием и богатством образов, окрашенных то трагическими размышлениями, то мягким юмором. Он завершил в нем, наперекор цензурным условиям, свои прежние попытки изображения народа и крестьянского бунта и создал большое художественное полотно.
Работая над образами народных героев, Пушкин обратился и к материалам из эпохи греческого восстания, создав «Кирджали» — своеобразный новый жанр лапидарного по языку исторического очерка, овеянного национально-романтической героикой.
«Кирджали» — характерная для Пушкина 30-х годов попытка изобразить героя, образ которого бережно хранится в красочных народных преданиях. «Булгар» Кирджали, полулегендарная фигура протестанта против турецкого гнета, воссоздан на конкретно-историческом материале. На фоне сатирических зарисовок «начальства» удалец Кирджали дан Пушкиным в тонах нескрываемого сочувствия и симпатии, как бы предвосхищающих истинное отношение Пушкина к образу Пугачева.
- 290 -
Наконец, с проблемой крестьянских восстаний связана неоконченная историко-социальная драма Пушкина, условно именуемая «Сценами из рыцарских времен». Здесь, хотя Пушкин обратился к отдаленной эпохе (XIV век) и западноевропейскому материалу, воплощена все та же интересовавшая Пушкина тема столкновения феодалов с крестьянством. Пушкин писал эту драму в августе 1835 года, в период, когда он еще работал над «Капитанской дочкой». Здесь, как и в «Борисе Годунове», не было так называемых «аллюзий», т. е. иносказательных применений к русской действительности, но сама проблема была животрепещущей. Не случайно при печатании этих «сцен» (впервые — посмертно, в 1837 году в V томе «Современника») цензор отметил, что «вражда рыцарей и вассалов их может быть принята в смысле более общем и применена к другим позднейшим временам».
Содержанием «Сцен из рыцарских времен» является столкновение разных миров, разных мировоззрений, разных исторических формаций.
На историческом фоне показана трагедия выходца из мещанства, униженного конюшего, стремящегося выбиться в люди. Образ Франца привлекателен — в нем дано сочетание бунтаря и поэта. Жизнь ставит Франца во главе восставших против рыцарей. Романическая нить драмы отражает на себе историческую ситуацию.
В нарочито сдержанной, суховатой манере Пушкин дает зарисовки тупых рыцарей, намеренно не останавливаясь на индивидуализации образов. Они все одинаковы. Для каждого из них восставшие — «подлый народ», «подлые твари», «собаки» (в черновиках: «зайцы», «черные люди»). Вассалы и «косари» также даны как масса, для которой рыцари — исконные враги, эксплоататоры, «кровопийцы», «разбойники», «гордецы поганые».
В остальном персонажи — индивидуальные герои «Сцен» — даны в той же новой у Пушкина манере. Они прежде всего социально очерченные фигуры. Психология их обобщена в сжатых, контрастных характеристиках «буржуа» и феодалов.
Между социальными группами стоят: протестант против социального неравенства Франц, певец из народа, автор баллады о «безумце» — рыцаре бедном, и монах Бертольд, предпочитающий золоту поиски истины, мечтающий своими изобретениями осчастливить человечество.
Бертольд приходит на помощь поэту-бунтарю. Он изобретает порох. Бертольд во время осады замка взрывает башню, в которой томится Франц. Эмблемы неприступного, но ограниченного рыцарства — замки и латы — уступают место новому союзнику восставших: «Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей». И как символ новой эпохи, в которой суеверие и магия чернокнижников еще совмещаются с величайшей творческой победой человеческого разума — изобретением книгопечатания, Пушкин наметил такой конец драмы: «Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)» (VII, 384).
«Сцены из рыцарских времен», не напечатанные при жизни Пушкина, мало привлекали внимание и позже. Лишь в советское время, на основе высокой оценки «Сцен» Чернышевским, раскрывается глубокий идейный смысл этого произведения.
Произведения Пушкина 30-х годов отчетливо показывают его непримиримую ненависть к самим основам феодально-крепостнического строя. К этому же времени относятся его размышления над сущностью политического строя (как говорил Пушкин, «новейшего просвещения») стран
- 291 -
Запада. Изучение материалов по истории Западной Европы (он внимательно следил за иностранной прессой) укрепило в нем критическое отношение к Америке и Англии. Пушкин был убежден в том, что феодализм являлся отжившей и реакционной системой, но в то же время понимал, что политический строй государств Европы и Америки вовсе не олицетворял собой действительной свободы народа. В историко-публицистическом наброске «Что такое дворянство?» (1830-е годы) он отметил, что народ порабощен как в монархическом, так и в республиканском государстве. Резкой критике подверг Пушкин американский «демократизм» (статья «Джон Теннер», 1836). Пушкин отметил, что внимательное изучение «нравов и постановлений американских» возбудило снова вопросы, «которые полагали давно уже решенными». Подавление всего благородного, бескорыстного, возвышающего человеческую душу — «неумолимым эгоизмом и страстию к довольству», «рабство негров посреди образованности и свободы», «родословные гонения в народе», — все эти черты американского политического строя заставляли Пушкина признать, что действительной свободы и действительного равенства там не существует.
Пушкин понимал, что и в буржуазных государствах антагонизм между правительством и народом не исчезает: «В Англии правительство только тогда и показывается народу, когда приходит оно стучаться под окнами, собирая подать. Во Франции, когда вывозит оно свои пушки противу площадного мятежа» (XI, 240). Не прошло мимо внимания Пушкина и положение пролетариата на Западе.
«Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы пять тысяч или шесть народу и лишающей их последнего средства к пропитанию...» («Путешествие из Москвы в Петербург»; XI, 257).
Гибель Пушкина оборвала кристаллизацию его политических взглядов. Он не оставил определенного ответа на вопрос о путях прогресса России; этот ответ тогда не мог быть дан в силу исторических условий. Но на основании творчества Пушкина последних лет можно сделать вывод, что путь капиталистического развития не казался ему выходом из противоречий российской действительности. Пушкинский идеал свободы исключал всякую систему угнетения, социального неравенства, господства меньшинства над большинством.
14
Народность Пушкина выразилась в отражении им существеннейших особенностей русской жизни, в постановке вопросов, имевших громадное значение для развития национального самосознания, в воссоздании типических особенностей русского национального характера и русского быта. Вместе с тем борьба Пушкина за народность литературы сопровождалась его пристальным изучением устного народного творчества, в котором чаяния, думы, психология народа отразились с зеркальной точностью. Развитие народности в пушкинском творчестве привело, в частности, к созданию
- 292 -
Пушкиным в 30-е годы его «Сказок» и ко все большему проникновению фольклорных тем и образов в его поэзию.
Интерес к устному народному творчеству был свойствен Пушкину с самого начала его творческого пути. Как уже указывалось выше, этот интерес отразился в «Руслане и Людмиле». К 1822 году относится начало поэмы о Бове, замысел сказки об Иване и сером волке. Н. Н. Раевский посылает ему «несколько книжек русских сказок», которые необходимы Пушкину в качестве источника. Сюжет будущей «Сказки о царе Салтане», к которому Пушкин вернулся в 30-х годах, также записан в первой половине 20-х годов.
В Михайловское Пушкин приехал уже с горячим интересом к фольклору, который теперь приобретает в его глазах особое значение. Он смотрит на фольклор не только с точки зрения языка. Изучение фольклора, наряду с изучением «обычаев» народа и его истории, является для него средством проникновения в народную жизнь и создания этим путем самобытной русской литературы. Эти мысли занимали Пушкина еще на юге. Он высказал их в наброске, приблизительно датируемом 1822—1824 годами («Но есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки»; XII, 192).
В Михайловском Пушкин, как уже упоминалось, собирал песни и сказки. Сказками Арины Родионовны он восхищался как богатейшим источником литературного творчества: «Что за прелесть эти сказки! — пишет он брату (конец 1824 года) — каждая есть поэма!» (XIII, 121). Балладу «Жених», написанную в 1825 году, он потом причислял к жанру «простонародных» сказок. Там же, в Михайловском, сделаны им со слов Арины Родионовны записи ряда сказочных сюжетов. Из них три использованы впоследствии в сказках о царе Салтане, о попе и о мертвой царевне.
В конце 20-х годов вопрос о «народности» стал боевым вопросом современности. В журналах с особой настойчивостью заговорили о русской «национальной физиономии», о «самобытности» и о борьбе с подражательностью «иноземным писателям». На новом этапе «Руслан» не удовлетворял Пушкина. Переиздавая в 1828 году свою поэму, он присоединил «Пролог», чтобы подчеркнуть именно ее «простонародные» элементы. В том же году Пушкин принимается за первую свою «простонародную» сказку — «Сказку о царе Салтане». Сказочные мотивы и сюжеты получали у Пушкина вполне самостоятельный, оригинальный, специфически русский народно-крестьянский характер. Ярким примером этого может служить образ царевны из «Сказки о мертвой царевне», обрисованный совершенно в русском народно-крестьянском духе. Поведение ее в гостях у богатырей соответствует во всех деталях крестьянскому этикету, крестьянским понятиям о приличиях: она «честь хозяям отдала, в пояс низко поклонилась»; когда ее угощают, «пирожок лишь разломила да кусочек прикусила», и пр. Пушкинская царевна — идеал доброй и умелой хозяйки, честной крестьянской девушки, которая в будущем обещает стать верной женой и заботливой матерью.
При всем том пушкинские сказки носят яркий отпечаток авторских воззрений и настроений. В них есть и авторская ирония, и острые политические намеки, и сатира. Личность автора проявляется и в общем тоне повествования и в иронических афоризмах, обработанных в стиле народных пословиц и поговорок. Афоризмы эти либо высказываются в форме авторской речи, либо вкладываются в уста персонажей («Но жена не рукавица — с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь»,1 «Но с царями плохо вздорить» и т. п.).
- 293 -
Большинство пушкинских сказок носит ясно выраженный оппозиционный характер. «Сказка о попе и работнике его Балде», очень близкая к записи, сделанной со слов Арины Родионовны, примыкает к прежним антицерковным произведениям Пушкина. При обработке сказки Пушкин отбросил лишние эпизоды, но полностью сохранил сатирический смысл, свойственный народным сказкам о попах. В образе Балды подчеркнуты и усилены черты сметливого и ловкого работника-крестьянина, обычно противопоставляемого в народных сказках жадному, но трусливому и глупому попу. В своем подлинном виде сказка, конечно, не могла быть напечатана. Впервые она была опубликована в 1840 году с поправками Жуковского (вместо «поп толоконный лоб» — «купец Остолоп»).
В «Сказке о рыбаке и рыбке» на первый план выступает несправедливое обращение со стариком, грубое издевательство над ним. Весь этот мотив придает сюжету чисто народную сатирическую направленность. Изображая старуху в роли дворянки, а потом царицы, Пушкин дает резкую сатирическую картину отношения высших классов к крестьянству. Таким образом, пушкинская сказка приобретает характер политической сатиры. В черновике этот социальный момент выступает еще определеннее. Слова старухи («Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, Со мною, дворянкой столбовою?») носят здесь более резкий характер (III, 2, 1085):
Я тебе госпожа, я дворянка,
А ты мой оброчный крестьянин.В феврале 1834 года, как рассказывает А. Н. Вульф в своем дневнике, Пушкин по поводу недавнего назначения его камер-юнкером заявлял, что «возвращается к оппозиции», и выражал негодование, что царь «одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок».1 Очевидно, Пушкин придавал оппозиционный смысл сказкам вообще и, в частности, имел в виду именно «Сказку о рыбаке и рыбке», которую недавно перед тем кончил.
Резко выраженный сатирический характер имеет «Сказка о золотом петушке», написанная под впечатлением конфликта с царем в июне 1834 года. В сказке есть прямой намек на этот конфликт. Описание спора звездочета с Дадоном сопровождается авторским ироническим афоризмом: «Но с царями плохо вздорить». Сонное царство Дадона представляет собой довольно злую сатиру на властителей, привыкших царствовать «лежа на боку», и на режим, основанный на косности и застое. И по своему сатирическому содержанию и по заключающимся в ней «намекам» «Сказка о золотом петушке» является наиболее острой.
Перед отдачей сказки в печать Пушкин сам сделал вынужденные цензурные поправки. Вместо стиха «Помолясь Илье пророку» он поставил стих «Сам не зная, быть ли проку»; вместо стиха «Но с царями плохо вздорить» — стих «Но с иным накладно вздорить». Однако цензор и этим не удовлетворился. Он вычеркнул повсюду стих «Царствуй, лежа на боку» и последние два стиха — «Сказка ложь, да в ней намек; Добрым молодцам урок», слишком прозрачно указывавшие на сатирический замысел сказки. Пушкин записал по этому поводу в дневнике: «Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова» (февраль 1835 года; XII, 337). На месте исключенных стихов он демонстративно поставил в печати точки.
- 294 -
Старый Бес. Иллюстрация Пушкина к «Сказке
о попе и о его работнике Балде» (1830 г.).В рукописях Пушкина осталась еще начатая (1830) сказка о медведихе. Образцами для задуманной сказки могли быть и старинные сатирические повести, типа повести о Ерше Ершовиче, и народные сказки о зверях. В числе возможных источников сказки указывалась «старинка о птицах и зверях», с ироническими характеристиками представителей животного царства. В черновом наброске Пушкина сохраняется в полной мере и даже усиливается социальная сатира в характеристике зверей, обычная в подобного рода фольклорных произведениях («волк-дворянин», «бобер-жирный хвост», «байбак-игумен» и пр.). При этом подчеркивается симпатия к «зайке-смерду» («зайка бедненький, зайка серенький»).
Своеобразным жанровым признаком пушкинских сказок является их субъективно-лирическая окраска. Царскосельские сказки («Сказка о попе», «Сказка о царе Салтане») написаны в бодром, шутливо-ироническом тоне. В обеих сказках, сравнительно с фольклорными источниками, значительно смягчена развязка. Расправа с попом менее сурова, чем в народных сказках этого рода, причем впечатление от «щелчков» Балды смягчается еще комическим их описанием. В сказках об оклеветанной жене злых сестер топят в море и т. д. У Пушкина они «повинились, разрыдались», и Салтан «для радости такой отпустил всех трех домой». Гвидон легко и быстро преодолевает все козни сестер с помощью доброй волшебницы Лебеди и своей собственной богатырской силы («Вышиб дно — и вышел вон» и т. д.).
Иной характер носят болдинские сказки 1833 года («Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне»). В «Сказке о рыбаке и рыбке» — мрачная картина моря: «Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют». В «Сказке о мертвой царевне» — ряд тяжелых перипетий, через которые проходит героиня, тоска царевича Елисея, его обращения к солнцу, месяцу и ветру, напоминающие плач Ярославны и народные заплачки.
И, наконец, в последней пушкинской «Сказке о золотом петушке» совсем нет героев, вызывающих сочувствие читателя. Сказка написана в плане комического гротеска, который, благодаря катастрофическому финалу, необычному в сказках, приобретает трагический оттенок.
В художественной форме пушкинских сказок отразилось глубокое постижение стилистических, интонационных и ритмических особенностей устного народного творчества.
- 295 -
«Сказка о золотом петушке». Рисунок обложки
Пушкина.В «Сказке о царе Салтане», которая проникнута оптимистическим настроением, ритм хорея, восходящий к народным плясовым песням, подчеркивается ритмико-синтаксической симметрией стихов:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Тучка по небу идет.
Бочка по морю плывет...Ветер весело шумит,
Судно весело бежит...Стих замедляется в сцене объяснения Гвидона с царевной Лебедью и принимает мягкий, лирический оттенок:
Лебедь белая молчит
И подумав говорит:
«Да! такая есть девица...»Иные, элегически-напевные интонации в «Сказке о мертвой царевне»:
И с царевной на крыльцо
Пес бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
- 296 -
Словно сердце песье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! — Она его ласкать...Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном...В «Сказке о золотом петушке» замечательна разговорно-комическая интонация. Вот, например, как выражается наивное недоумение Дадона:
Или бес в тебя ввернулся?
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница!
И зачем тебе девица?Тонкие переходы настроений, чистая народная речь характеризуют и две сказки, написанные вольным стихом. Чередование рифмованных коротких и длинных строчек в «Сказке о попе» напоминает свободный размер народных побасенок и соответствует ее юмористическому содержанию.
Пушкинские сказки не имели прямого продолжения в литературе (если не считать нескольких подражаний, из которых только «Конек-горбунок» представляет интерес), но научили пользоваться народным материалом, обновили литературные средства и тем самым содействовали реалистическому движению в литературе. Большую роль сыграло при этом обогащение литературного языка, отмеченное в свое время М. А. Максимовичем, который писал в 1845 году о пушкинских сказках: «... они в истории нашей поэзии важны потому, что были верным и благовременным указанием на своенародный склад и колорит, которыми должно было освежиться господствовавшее изветшалое письменное выражение». Без пушкинских сказок едва ли была бы возможна, например, «Песнь о купце Калашникове» Лермонтова — поэма с ярким индивидуальным авторским замыслом, облеченная в органически необходимую для выражения авторской идеи форму народных исторических песен.
Дело, конечно, не в одном языке, а в реалистическом методе обращения с народным материалом.
Народность пушкинских сказок — не романтическая народность «Руслана» — это народность реалистическая. Здесь не были бы возможны такие анахронизмы и абстракции, как сентиментальная идиллия Ратмира или меланхолические размышления Руслана на поле битвы. В сказках все поставлено на твердую народную почву, все согласовано с народными нравами, понятиями и взглядами на жизнь. Лирика, которая господствует здесь над сюжетом (в двух чисто лирических сказках), перекликается с мотивами народных песен. Основные ситуации сказок напоминают песенные (тоска Гвидона о родительском доме, выбор невесты, разлука королевича Елисея с невестой и его плачи, верность царевны жениху и т. д.). Поведение действующих лиц соответствует подлинным (а не поэтически прикрашенным) народным нравам, патриархальному бытовому укладу, старинной обрядности (встреча гостей-корабельщиков, материнское благословение, испрашиваемое Гвидоном, выход царевны к богатырям, их сватовство и т. д.). Действующие лица носят отпечаток русского характера и склада ума.
- 297 -
К этому в сказках присоединяются и свойственные реалистическому методу Пушкина особенности художественного изображения — богатство конкретных, вещных деталей, яркая живописность образов, преобладание слов с конкретным, предметным значением, простота и ясность поэтического языка.
Все эти черты, по мере углубления пушкинской народности, становятся характерными и для его лирики, особенно для стихотворений, непосредственно связанных с темами русской природы, русского быта, народной жизни и народной фантастики. Таким образом, Пушкиным был начат процесс уничтожения того разрыва между фольклором и литературой, который существовал до него. Этот процесс Пушкин обосновывал и теоретически. В 1828 году он стал писать статью о поэтическом слоге в защиту «благородной простоты», против «напыщенности» и «условных украшений стихотворства». «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному» (XI, 73).
Это положение весьма существенно для взглядов Пушкина на поэзию.
Пушкину ясны были социально-исторические причины ограниченности норм старой эстетики, выражавшие вкусы светских кругов; ясно было, что «глубокие чувства», «поэтические мысли» могут быть выражены «языком честного простолюдина», но не средством «языка условленного, избранного» (цитированная выше заметка 1828 года). В той же заметке (в отрицательной форме) формулирован один из важнейших тезисов пушкинской эстетики: «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем» (XI, 73). Освобождение от «условных украшений стихотворства» во имя «благородной простоты» — по этому пути и шел Пушкин-лирик, и особенно упорно в последнее творческое десятилетие. «Условные украшения стихотворства», т. е. прежде всего условный метафорический и перифрастический стиль, вызывают сопротивление Пушкина именно потому, что основаны на условности, на ограниченных представлениях об «изящном».
В том же 1828 году Пушкин пишет свою «простонародную» сказку «Утопленник». Баллады на тему о возмездии хорошо знакомы были русским читателям по переводам Жуковского из Соути (на Соути ссылался и Пушкин в связи с «Убийцей» Катенина). Но Соути оставался в пределах дидактической притчи, где романтические ужасы изображались как вмешательство потусторонних сил для наказания грешного человека. Образ мертвеца дан в пушкинской сказке так, как могли бы создать его и народная фантазия и подлинная галлюцинация: «разгадка» не подсказывается как излишняя. «Простонародный» язык здесь совершенно безупречен и особенно выразителен не одной простонародной лексикой, но и синтаксисом и фразеологией. Малейшая деталь замечательна бытовой и социально-психологической верностью («Суд наедет — отвечай-ка»). По этому же принципу построена и авторская речь «Утопленника»; автор говорит от лица всех, до кого дошел «слух ужасный».
Требования «благородной простоты» были не только реакцией на «влияние французской поэзии, робкой и жеманной» — они были связаны и с положительными устремлениями Пушкина к идейной насыщенности стиха, к более подлинному, освобожденному от условностей реалистическому изображению мира и прежде всего человека. Понятие человека у Пушкина
- 298 -
вполне конкретно: это человек в основных чертах его национальной, социальной и исторической характеристики.
Национальное самосознание Пушкина определяет собой всю проблематику и всю художественную систему его лирики. Оно сказывается и непосредственно: в обращении к фольклору или источнику новых поэтических тем и образцу поэтической выразительности и простоты, к народному быту, который постепенно входит в круг пушкинских тем как органический элемент, наконец, к народному языку, на основе которого перестраивается поэтический язык. Последствия этого непосредственного погружения в народную стихию очень важны, и не только там (например, в «Утопленнике» или стихотворении «Румяный критик мой...»), где Пушкин является прямым реалистом-бытописателем, но не в меньшей мере в личной, интимной лирике, которая либо прямо проникается народным песенным началом — в «Зимнем вечере», «Зимней дороге», «Бесах», — либо окрашивается народным просторечием в отдельных, но определяющих элементах. Однако народность переживалась Пушкиным не как литературное направление, а как идейно-художественная основа всего его творчества; именно поэтому выражалась она меньше всего в стилизациях.
«Русская песня» в том виде, как она понималась Мерзляковым или Дельвигом — как обособленный жанр, была для Пушкина невозможна именно потому, что к русской народной песне он относился как к эстетически полноценному и самостоятельному явлению поэзии. Он отвергал подражание, которое, как и всякое подражание, возможно лишь в качестве творческого эксперимента, но не сколько-нибудь существенной творческой тенденции. Несколько таких экспериментов относится к 1828 году («Еще дуют холодные ветры», «Уродился я, бедный недоносок», «Всем красны боярские конюшни»), но характерно, что художественно завершенные произведения на материале народных поверий даются в общепринятой литературной форме: фольклорные мотивы дают материал и для своеобразной баллады («Утопленник»), и для лирического стихотворения, где они сливаются с личными настроениями и с эмоционально окрашенным пейзажем («Бесы»), и для рассказа в стихах, мотивированного восприятием простодушного рассказчика («Гусар»). Мотивы фольклорной фантастики служат прежде всего характеристике образа лирического героя, взятого во всей его бытовой конкретности, и тем самым помогают раскрытию национально-исторических особенностей в психологии человека. Иногда Пушкин довольствуется введением отдельных фольклорных элементов; таков, например, характер поминальных прибауток и прямое цитирование их в стихотворении «Сват Иван» (задуманном, может быть, как введение к циклу сказок). Вообще же мотивы русского фольклора и элементы русского «простонародного» языка имеют значение не только для данного тематического цикла пушкинской лирики, но и для его поэзии в целом, для общей тенденции всего творчества Пушкина к народности, простоте и конкретности.
Все это обусловило к концу 20-х годов и новые черты в пушкинской пейзажной поэзии. Усиливается внимание Пушкина не только к пейзажу вообще, но и, в первую очередь, к пейзажу национальному, характерно среднерусскому, и в особенности зимнему и осеннему. Разрушая традиционное в предшествующей поэзии равнозначие эмоциональных оценок времен года, Пушкин несколько позже (в «Осени», 1833) демонстративно заявляет о своих субъективных вкусах — о предпочтении зимы, и особенно осени, всем «годовым временам». Он пишет «Зимнее утро», целиком основанное на простом и точном изображении зимнего русского пейзажа; пишет
- 299 -
стихотворение «Зима. Что делать нам в деревне?..» (1829); пейзаж дан здесь как фон для непринужденно-дневниковой записи и бытовых зарисовок, но стихотворение завершено обобщающей концовкой, в которой сливаются образы русской зимы и «девы русской». И здесь и в «Зимнем утре» природа дана в тесной связи с человеком. Таков осенний пейзаж в стихотворении «Румяный критик мой»; в безотрадную картину осенней деревни естественно включается «избушек ряд убогий», а грустный пейзаж завершается картиной деревенских похорон. Здесь народность Пушкина достигает наивысшей силы, ибо быть народным — в крепостнической России значило, по меньшей мере, уметь сочувственно переключиться на точку зрения закрепощенного крестьянина. Это было, и не раз, достигнуто Пушкиным, и всего очевиднее и ярче в этом именно стихотворении, где самый пейзаж неразрывно связан с впечатлениями крепостной нищеты. Бесконечное уважение к достоинству простого человека, великая любовь к отчизне и народу были и причиной и следствием такого рода народности.
Поэтический смысл русской народной поэзии Пушкин широко воспроизвел в «Песнях западных славян», т. е. в своих опытах воссоздания сербской народной поэзии; таким образом, русскому стилю придавалась функция стиля общеславянского. Это было возможно, разумеется, только потому, что задачей Пушкина — как в этом сербском цикле, так и в других его изображениях разных стран и народов — было уловить основные черты воссоздаваемой национально-исторической культуры, а не детали «местного колорита». По тем намекам, которые давал Пушкину сборник сербских народных песен Вука Караджича, ему удалось с исключительной полнотой уловить дух южнославянского народного творчества и быта. Воссоздавая эпизоды героической борьбы сербского народа за свободу и независимость, воссоздавая народную фантастику и народную лирику непосредственного чувства («Соловей»), Пушкин осуществлял то же приближение поэзии к народным источникам, которое было существенной тенденцией и собственного его творчества. В цикл «Песен западных славян», наряду с одиннадцатью переводами из сборника Мериме «Гузла» и двумя из сборника Караджича, вошли и три оригинальных стихотворения: «Песня о Георгии Черном», «Воевода Милош» и «Яныш-королевич»; в двух первых Пушкин как бы продолжает традицию сербского героического эпоса, обращаясь к народным героям уже новейшей Сербии — Карагеоргию и Милошу.
Пушкинские «Песни западных славян» настолько связаны по всему своему содержанию с русской народной поэзией (в осмыслении ее Пушкиным), что Белинский поставил этот цикл вслед за стихотворениями «Жених», «Утопленник», «Бесы» и «Зимний вечер», образующими «отдельный мир русско-народной поэзии в художественной форме» (XI, 406).
Несомненно был прав Белинский, относя и «Русалку» к этой области творчества Пушкина и называя эту драму «фантастической сказкой» (имея в виду, конечно, не жанровое определение, а связь ее с народной фантастикой).
Сюжет «Русалки» взят из русской жизни, с широким использованием фольклора, введением народных песен (частично взятых из записей самого Пушкина), поверий, поговорок, обычаев. Таковы прежде всего свадьба и сцена «Светлица», первоначально начатая народным стихом.
С огромной силой Пушкин рисует образ простой русской девушки, брошенной любимым. Героиня трогательно допытывается подтверждения
- 300 -
своих подозрений, путается в мыслях и словах, когда признается возлюбленному:
Постой; тебе сказать должна я
Не помню что...
Да!.. вспомнила: сегодня у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся.Покинутая девушка мечется, и ее крик звучит, как народная заплачка:
И я, безумная, его пустила,
Я за полы его не уцепилась,
Я не повисла на узде коня!Она отказывается от золота и, поняв до конца черствый эгоизм князя, гибнет.
Трагедия брошенной любовницы (дочь мельника) дополняется трагедией брошенной жены (княгиня). Разлучница испытывает тот же жребий. При этом драма воссоздает безотрадную женскую долю, бесправное положение русской женщины в старину.
Рядом с образом дочери в центре драмы — образ мельника, один из самых величаво-простых и реалистических образов пушкинской драматургии. Трагедия дочери предсказана им в простых и ясных словах. В ответ на ее слова о том, что князя «гнетут заботы», мельник говорит:
Да, верь ему. Когда князья трудятся,
И что их труд? травить лисиц и зайцев,
Да пировать, да обижать соседей,
Да подговаривать вас, бедных дур.Подлинным трагизмом пронизаны сцены, где мельник, сначала увлеченный возможностью заполучить богатого жениха для дочери, затем осознает себя виновником ее гибели. Сквозь безумие мельника пробивается инстинктивное вольнолюбие «простолюдина», когда он отвечает князю:
В твой терем? нет! спасибо!
Заманишь, а потом меня, пожалуй,
Удавишь ожерельем. Здесь я жив
И сыт и волен. Не хочу в твой терем.«Русалка» не была закончена Пушкиным. Задумана она была, вероятно, еще в 1826 году. Пушкин работал над этим произведением в ноябре 1829 года, затем вновь обратился к своему замыслу в 1832 году, но работу не закончил.
Неоднократно были попытки закончить «Русалку»; иногда даже «окончания» ложно приписывались Пушкину (известная мистификация Зуева).
15
В 30-е годы, как мы видели, в творчестве Пушкина выдвигаются новые герои из социальных низов. Однако он не оставлял и темы «светского общества», которая трактовалась им в тонах острого обличения. Сохранился ряд неоконченных этюдов петербургского «светского» романа или повести, по большей части объединенных автобиографическими моментами, а иногда представляющих различные варианты одних и тех же героев и ситуаций. Это отрывки: «Гости съезжались на дачу» (1828—1830), «На углу маленькой площади» (1829—1831), «Роман в письмах» (1829) и др.
- 301 -
«Русалка». Автограф Пушкина.
- 302 -
Не будучи законченными, отрывки эти весьма интересны. Известны замечательная оценка экспозиции отрывка «Гости съезжались на дачу», данная Л. Толстым, и самый факт влияния пушкинских набросков на «Анну Каренину». Ряд персонажей и элементов из отрывков перекликается с «Пиковой дамой» или даже просто перенесен туда, с соответствующими изменениями, из «Романа в письмах» (образ воспитанницы Лизы, эпиграфы и т. п.).
Для отрывков «светской» пушкинской повести прежде всего характерна сатирическая направленность. Изображение «нравов нашего большого света» дано в тех же иронически-обличительных красках, как и в аналогичных строфах «Евгения Онегина». В этой картине злословия и недоброжелательства, тщеславия, неискренности и замкнутости, где «правдоподобие равняется правде», люди похожи на «мумий», «благопристойно ничтожны», но лишены всего, что составляет прелесть истинного общежития.
Душевная опустошенность и безделие всего «малого стада» светских «героев», собирающихся вместе, чтобы проводить время между рассматриванием парижских литографий, игрой в карты и болтовней, всегда готовой перейти в сплетни и клевету, — с беспощадностью вскрыты Пушкиным в его набросках. Реализм образов, отточенность характеристик предвосхищают здесь позднейшие изображении Лермонтова и Толстого. На фоне призрачных белых ночей Петербурга Пушкин показывает беглые, но четкие контуры обитателей пригородных великосветских дач, салонную causerie аристократов. Здесь же даны беглые зарисовки русской усадьбы, воспроизведена переписка двух светских подруг или двух друзей. Разные социальные слои Петербурга — от обитателей Английской набережной до жителей окраин города — намечены в этих набросках.
Среди пестрой галлереи «орангутангов», как назвал в 1830 году Пушкин представителей окружавшей его светской черни, угадываются и не раскрытые им живые, почти портретные очерки его собственного литературно-светского окружения. Едва ли за образом Зенеиды, княгини В. не скрыты, с одной стороны, некоторые черты княгини Зинаиды Волконской,1 с другой — А. Ф. Закревской; за инициалом Б. скрывается военный историк Бутурлин; в престарелой важной княгине Г., диктующей «законы света», узнается будущий оригинал «Пиковой дамы» — княгиня Голицына.
У Пушкина было желание показать клеветническое злословие светской среды, между прочим, и о нем самом, вплоть до повторения «светом» булгаринских мнений. В первоначальном наброске отрывка «Гости съезжались на дачу» есть фраза, которая является повторением клеветнических измышлений Булгарина: «Пушкин есть дурная пародия на лорда Байрона, так как Онегин есть изнанка Дон Жуана» (VIII, 2, 552).
В «Романе в письмах» также вводится упоминание одной из героинь имен Пушкина и Вяземского. И в том и в другом случае Пушкин этим подчеркивает «разность» между собой, как автором, и теми персонажами, которые высказывали любимые мысли самого Пушкина. Отчасти таков Минский — жертва светской клеветы, не любящий «света». Таков персонаж без имени, говорящий с Испанцем (вначале Англичанином); таковы и размышления героев «Романа в письмах».
- 303 -
На безотрадном фоне Пушкин рисует различные фигуры представителей светского общества и людей, отличающихся от них. Саратовский помещик Владимир, новый человек, полагает, что «небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно» (VIII, 1, 53). Вольская нарушает «важное однообразие аристократического круга» своими экстравагантными выходками. Героиня «Романа в письмах» — Лиза — отличается от женщин «света», для которых не существует ни литературы, ни политики.1 Образ Лизы — существенный этап в изображении Пушкиным русской женщины. Именно ей, этой «смиренной демократке», он поручает излюбленные им самим обличения новых аристократов, выскочек, «внуков-бородатых милльонщиков». Обличая дам света, Пушкин тем не менее уловил в их среде нарождающийся новый тип. Пушкин пытается по-своему найти причину общего упадка дворянства в обеднении старинных аристократических родов, в смешении их с новой знатью. Предвосхищая излюбленные мысли своих публицистических набросков, Пушкин устами героев эпистолярного романа произносит: «Аристокрация чиновная не заменит аристокрации родовой» (VIII, 1, 53) и упрекает мелкопоместных Простаковых и Скотининых в неуважении к прошедшему, к именам Минина и Пожарского.
Так пушкинский сатирический роман получает прогрессивную социальную функцию. Наиболее тонкий психологический рисунок Пушкин дает в наброске «На углу маленькой площади» (1829—1831), заостряя социальные контрасты героев Английской набережной и захудалой Коломны. Но и здесь продолжает ощущаться автобиографичность отдельных моментов, чувствуются живые прототипы персонажей «света» (взяточница Фуфлыгина — графиня Нессельроде).
Роман из жизни «столичного света» или «света» на водах, с сатирически нарисованной галлереей персонажей, продолжал осуществляться в русской литературе и позже, прежде всего Лермонтовым («Княгиня Лиговская», «Княжна Мери»). Таким образом, в истории русского реалистического романа пушкинские отрывки о «свете» открыли путь совершенно новому жанру.
Тема обличения «света» разрабатывается и в «Пиковой даме». Эта повесть, написанная в 1833 году, представляет собой одно из вершинных произведений русской прозы, замечательное по новизне образов и идей. Это ярчайший образец лапидарно-выразительного пушкинского стиля и стройной композиционной архитектоники.
Сюжет «Пиковой дамы» развертывается на фоне контрастов окраин, с их «уединенными трактирами», и аристократических кварталов — «одной из главных улиц Петербурга». Социальные противоречия одновременно золотого и нищего Петербурга 30-х годов объясняют возникновение призрачных мечтаний о спасителе-золоте, которыми одержим герой.
Образ старухи-графини, списанный с реальных старух-аристократок — Голицыной и Загряжской, несомненно представляет собою обобщающий сатирический символ старого общества. В этой повести Пушкин создал портрет дворцовой фаворитки, самодурки, страшной мумии, определяющей, однако, «мнения» и являющейся «уродливым и необходимым украшением бальной залы».
- 304 -
В образе Лизаветы Ивановны Пушкин утвердил в русской литературе тип воспитанницы-приживалки, домашней мученицы. В этом образе Пушкин продолжает гуманистические традиции «Повестей Белкина», позже развитые в русской литературе.
Германн — человек, одинокий в кругу знатной дворянской молодежи, презирающий ее и честолюбиво стремящийся любым путем вырваться из условий своей жизни. Под внешней расчетливостью и аккуратностью в нем таится самый крайний индивидуализм, он готов на «демонские усилия», чтобы богатство досталось ему, знающему цену деньгам. «Деньги — вот чего алкала его душа». Человек наступающего века буржуазного приобретательства, завоевывающий свое место в борьбе, пока еще выражающейся лишь в маниакальной страсти игрока, — он готов перешагнуть через любовь добродетельной Шарлотты (первые наброски) или бедной воспитанницы, так же как через убийство старухи. Пусть Германн еще только «обдернувшийся» игрок, кончивший сумасшествием, но в его образе Пушкин впервые в русской литературе уловил некоторые черты нового социального типа, появляющегося на исторической арене в период наступления нового «железного века».
Напечатанная в 1834 году и тогда же изданная совместно с «Повестями Белкина» и главами «Арапа», «Пиковая дама» была сразу же оценена современниками. Даже Сенковский признал в ней «начало новой прозы», «язык, понятый и оцененный равно во всех классах».
Влияние реалистических образов и стиля «Пиковой дамы» сказалось не только в литературе. Эта повесть продолжает до сих пор оплодотворять русский театр, музыку, живопись. Пушкинская повесть считается признанным шедевром мировой литературы.
С пушкинскими замыслами повестей о свете связан и неоконченный роман «Египетские ночи», относящийся к этим же годам. Сюжет из древней истории своеобразно сплетается здесь с мыслями Пушкина о розни между светской «чернью» и поэтом. Так же как и в отрывке «Мы проводили вечер» (1835), в «Египетских ночах» продолжались попытки дать сатирическую картину «света» в соединении с античной темой.
В образе Чарского Пушкин раскрыл противоречия между поэтом и светским обществом, Чарский Пушкина задавлен светской жизнью, даже порою
Меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он,но «душа поэта» готова в нем «встрепенуться», лишь только соприкоснется с поэтическим творчеством. Та же мысль и образ Чарского своеобразно дублированы в образе импровизатора — характерной фигуры, развлекавшей общество 30-х годов в Петербурге. Импровизатор — представитель иной среды, но и в нем сочетался «ничтожный» человек с поэтом, становящимся в момент творчества несравнимо выше окружающей толпы. Чарский «спесиво» глядит на того, кто пытается назвать его «собратом», но, в сущности, скоро узнает в нем черты собственной раздвоенности. Чарский — действительно собрат нищего импровизатора, не только по поэзии, но и по унижениям, которые ему приходится испытывать в обычное время.
Среди неосуществленных замыслов Пушкина этого круга исключительный интерес представляет так называемый «Русский Пелам» — замысел большого романа, представляющего картину русского общества начала века. Описание нравов людей «света», литературы, театра, игроков, бреттеров, помещиков намечено Пушкиным только в ряде планов, иногда представляющих
- 305 -
разработку отдельных ситуаций («История Фед. Орлова», «История Пелымова») и «эпизодов», иногда устанавливающих уже самую последовательность глав и наметки «характеров». Написанным оказалось лишь начало первой главы. Обозначив одного из героев именем «Пелам», Пушкин имел в виду роман английского писателя Бульвера «Пелам или приключения джентльмена» (1828), т. е. широкое полотно нравоописательного современного романа. Чрезвычайно показательно, что, обозначая ряд своих будущих героев именами реальных персонажей русского общества, Пушкин еще в 1835 году думал остановиться на характерах «Общества умных», расшифровав их в одном из планов: «И. Долгорукий, С. Трубецкой, Никита Муравьев etc.». Таким образом, вопрос об изображении декабристов, резко противопоставляемых «свету», попрежнему продолжал не только интересовать Пушкина, но и казался ему осуществимым в романе.
16
Литературная деятельность Пушкина последекабрьского периода сопровождалась усилением его борьбы с реакцией в жизни и литературе. Защищая свои идеи в художественных произведениях, Пушкин придавал большое значение прямому отпору враждебным выступлениям и идеям. Пушкин резко разошелся с Вяземским, утверждавшим, что «образованный человек» не должен вступать «в бой неравный, словесный или письменный, с противниками, которые не научились в школе общежития цене выражений и приличиям вежливости» («Несколько слов о полемике»).1 Возражая ему, Пушкин писал: «Мы и в литературе, и в общественном быту слишком чопорны, слишком дамоподобны» (XI, 91).
В особенности острыми были выступления Пушкина против Булгарина, издававшего вместе со своей кликой единственную частную политическую газету «Северная пчела». Булгарин, темная личность, сражавшийся на стороне французов в 1812 году и потом переметнувшийся на сторону русских, после поражения восстания декабристов завязал тесные отношения с III Отделением и стал полицейским шпионом. Шефа жандармов Бенкендорфа он снабжал политическими доносами и пользовался его безграничным покровительством. Борьба с булгаринской кликой, отстаивание передовых взглядов находит отражение на страницах «Литературной газеты», издаваемой друзьями Пушкина в 1830—1831 годах при горячей поддержке самого поэта.
Травля Булгариным Пушкина носила отчетливо выраженный политический характер. В первом булгаринском пасквиле Пушкин был изображен под видом вольнодумца, который «бросает рифмами во все священное», «чванится перед чернью вольнодумством». Полицейский донос сочетался здесь с личной клеветой. Ответом была знаменитая заметка Пушкина «О записках Видока» с убийственной для Булгарина параллелью, разумеется, не выраженной прямо, но для всех очевидной: в характеристику Видока — префекта парижской полиции из раскаявшихся уголовных преступников — были искусно включены черты Булгарина, тайного агента николаевского правительства. С тех пор имена Видока и Булгарина, закрепленные и в «Моей родословной» («Видок Фиглярин»), стали неразлучны. Когда же Булгарин вновь перешел в наступление — сначала в пасквильном «анекдоте» о пушкинском прадеде, затем в не менее пасквильной повести
- 306 -
«Предок и потомки», — Пушкин прибегнул к еще более тонкой форме сатиры, выступив (в «Телескопе») под маской Феофилакта Косичкина. В замечательном сатирическом письме «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов» Пушкин заставляет простодушного Косичкина, восхищающегося «гением» Булгарина, с тем же простодушием брать под свою защиту от нападок Булгарина (и Греча) другого «гения» — лубочного романиста А. А. Орлова; в то же время под видом «беспристрастных» критических замечаний Косичкина о Булгарине здесь дана уничтожающая характеристика Булгарина как писателя. Во втором памфлете — «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» — Булгарин и Видок были еще раз и уже с полной прозрачностью сближены в завершающем этот памфлет плане «историко-нравственно-сатирического романа» — «Настоящий Выжигин». Весь план был построен на отожествлении Булгарина с его героем Выжигиным, который, между прочим, «пишет пасквили и доносы», а в конце «раскаивается и делается порядочным человеком». Одна из последних глав называлась «Видок или маску долой!». Вдобавок Феофилакт Косичкин предупреждал, что роман «поступит в печать или останется в рукописи, смотря по обстоятельствам» (т. е. в зависимости от дальнейшего поведения Булгарина). Булгарин после этого притих надолго.
В борьбе с реакцией Пушкин не только клеймил отдельных ее представителей. Он отстаивал передовые идеи, унаследованные им от декабристов, и прежде всего идеи подлинного патриотизма и демократической народности. Борьба за эти идеи становится особенно актуальной в 30-е годы, когда правительство в реакционных целях усиленно пыталось демагогически использовать лозунги любви к отечеству и народности, трактуя их в монархическом духе.
Эти устремления правительственных кругов нашли воплощение в теории «официальной народности», сформулированной министром народного просвещения Уваровым и нашедшей отражение на страницах периодических изданий Булгарина и Греча, а также в произведениях того же Булгарина, Загоскина, Кукольника и других им подобных литераторов. Сущность идеи «официальной народности» выражалась в провозглашении синтеза трех начал — «самодержавия, православия и народности», на базе которых должно было строиться «благоденствие России». Понятие народности при этом, конечно, злостно искажалось: русский народ представлялся воплощением смирения и покорности, беззаветной преданности церкви, престолу и помещику.
В условиях борьбы за прогрессивное понимание идеи народности новое значение приобрела тема Отечественной войны 1812 года. Воскрешая «священную память двенадцатого года», противопоставляя народную, демократическую Россию — царю, который «в двенадцатом году дрожал», и дворянству, которое кричало о Минине и Пожарском и проповедывало «народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни», Пушкин выступал как активный противник официальной точки зрения, которая с особенной настойчивостью проводилась, в частности, в «Северной пчеле». В одной из своих статей Булгарин писал: «Спрашивается: кто же спаситель России? Ответ находится на медали 1812 года: бог! Но кто исполнял волю божию на земле? — император Александр! Слава господу на небеси, а на земли царю русскому слава». Об истинном спасителе России — народе — продажный журналист даже не упоминает. В другом месте он заявил, что великое значение двенадцатого года заключается в том, что «здесь народ явил свою привязанность к государю». Если отбросить псевдопатриотическую
- 307 -
фразеологию Булгарина и ему подобных, то окажется, что в основе их теорий лежало презрение ко всему русскому, народному и подобострастное преклонение перед всем иноземным. В 40-е годы об этом гневно писал Белинский. По словам великого критика, у Булгарина «патриотизм» «выражается преимущественно в уверениях в любви, в анафемах против равнодушных ко всему русскому, в ...провозглашениях о его драгом отечестве (т. е. России). При том г. Булгарин часто противоречит себе в своей любви ко всему русскому, ибо зло критикует „в своей литературе“ почти все русское...» (VI, 224).
Эту подлинную сущность лжепатриотических убеждений своих врагов остро ощущал и Пушкин и бичевал ее с ненавистью истинного патриота. В упомянутой выше статье «О записках Видока» он с негодованием писал: «Видок в своих записках именует себя патриотом..., как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество!» (XI, 129). Еще резче эта мысль звучит в статье Пушкина «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов». Здесь, возмущаясь пренебрежительными отзывами Булгарина и Греча о Москве, Пушкин пишет: «... к чему такая выходка противу первопрестольного града?.. Больно для русского сердца слушать таковые отзывы о матушке Москве, о Москве белокаменной, о Москве, пострадавшей в 1612 году от поляков, а в 1812 году от всякого сброду. Москва до ныне центр нашего просвещения: в Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих: ubi bene, ibi patria,1 для коих все равно: бегать ли им под орлом французским, или русским языком позорить все русское — были бы только сыты» (XI, 206).
В набросках статьи «Опровержение на критики» Пушкин развивает эти же мысли: «Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку клеветать русский характер, марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» (XI, 153, 396). Здесь Пушкин срывает маску с реакционеров-лжепатриотов, которые, прикрываясь лицемерными фразами о любви к России, всячески стремились принизить русскую культуру в лице ее лучших представителей.
Мысли, выраженные Пушкиным в памфлетах, направленных против булгаринской клики, нашли воплощение в ярких художественных образах оставшегося неоконченным романа «Рославлев» (1831).2 По своему сюжетному и идейному замыслу роман этот был направлен против одноименного романа Загоскина, выражавшего идеи «официальной народности» в трактовке темы 1812 года.
Пушкин показывает, как притворный патриотизм сочетался в среде консервативного дворянства с космополитизмом и явным угодничеством перед пленными французами. Вот как описываются в пушкинском романе настроения этого дворянства накануне и в дни войны, настроения, перекликающиеся с булгаринским принципом ubi bene, ibi patria:
«Все говорили о близкой войне... Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием
- 308 -
и шутили над нашими неудачами... Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко.
Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась...; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели... и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаились говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни» (VIII, 1, 150, 151).
Пушкин противопоставляет «обезьянам просвещения» образ истинной, пламенной патриотки Полины. Она — передовая, высоко образованная и начитанная женщина. Беспощадно заклеймив лжепатриотизм, характерный для консервативного дворянства, Пушкин противопоставляет им настоящую любовь к своей родине Полины, готовой на жертвы отечеству и верящей в свой народ («Народ, который тому сто лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову»). Полина чужда раболепству «светской черни» перед Западом. Презирая трусливых дворян, она сама готова «уйти из деревни, явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук», полагая это необходимым в интересах родины.
Поставленный Пушкиным в X главе «Евгения Онегина» вопрос о причинах победы русских над французами находит здесь прямой ответ. Вопрос звучал весьма характерно:
Гроза двенадцатого года
Настала. Кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, Зима иль русский бог?Характерным было прежде всего то, что в своей постановке вопроса о движущих силах борьбы за победу Пушкин даже не упомянул ни царя, ни дворянство, т. е. те силы, которые реакционеры представляли решающими. Но и из числа названных здесь причин победы ясно, что Пушкин отдает преимущество «остервенению народа».
После разгрома движения декабристов, в период николаевской реакции, защита «священной памяти двенадцатого года» остается одной из главнейших тем пушкинского творчества, как тема истинного патриотизма и любви к народу, противопоставленная измышлениям всяческих Видоков, не имеющих отечества. Эта тема проходит у Пушкина и в поэзии, и в прозе, и в публицистике, всюду сохраняя свою острую направленность против лагеря мракобесов, которые стремились принизить значение Отечественной войны, зачеркнуть ее всенародный национально-освободительный характер, вытравить ее славные традиции.
Борьба с официальной трактовкой темы 1812 года проводилась Пушкиным с исключительной последовательностью. Теме Отечественной войны как войны народной посвящены заметки, стихотворения, рецензии, воспоминания разных авторов, помещенные на страницах «Литературной газеты» и особенно на страницах пушкинского «Современника».
Целый цикл стихотворений Пушкина трактует тему 1812 года в связи с современными событиями. Так, в стихотворении «Перед гробницею святой» (1831) главным героем Отечественной войны является не «Александр Благословенный», как утверждала реакционная пресса, а Кутузов —
- 309 -
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов.Кутузов изображается не как ставленник царя, а как национальный герой, как вождь и избранник народа:
... народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...Пушкин писал эти строки в период польского восстания. Создавая эти стихи, Пушкин был уверен, что для интервенции в Россию, которую задумали западные державы, польское восстание было лишь предлогом. Отсюда и стихотворение «Клеветникам России» и тревожные строки в письме к Вяземскому в июне 1831 года: «Того и гляди, навяжется на нас Европа» (XIV, 169).
Во всех этих стихах содержится поэтическое обоснование темы Отечественной войны 1812 года как войны народной. Стихотворение «Бородинская годовщина» (1831) дает яркую прогрессивную трактовку Отечественной войны, включая также лозунг борьбы за «вольность» народов:
... «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор».В 30-е годы, в годы самой глухой, самой мрачной реакции, поставленная Пушкиным тема 1812 года звучала как призыв к подлинному патриотизму в противовес лжепатриотической фразе, прикрывающей презрение ко всему русскому; она звучала как напоминание о великих силах, таящихся в недрах русского народа, способного к борьбе за свободу, чуждого рабскому смирению и покорности. В этом отношении весьма знаменательно послание Пушкина к поэту партизану Денису Давыдову («При посылке „Истории пугачевского бунта“»), в которой сквозь шутливый тон дружеского послания проглядывает понимание общности характера русского солдата с бесстрашным, умным и великодушным Емельяном Пугачевым, презиравшим любые опасности и не знавшим чувства смирения и покорности:
Вот мой Пугач — при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.Эта трактовка русского солдата была резко враждебна теории «официальной народности».
Вера в русский народ и любовь к нему были воспитаны в Пушкине в славные годы Отечественной войны; в дальнейшем, под влиянием глубокого изучения народа, его характера, его истории, эти чувства укрепились и определили сущность и направление пушкинского творчества, резко враждебного реакционной теории «православия, самодержавия, народности».
Эта линия отразилась в «Современнике», собственном журнале Пушкина, о котором он давно мечтал и на издание которого получил, наконец, право в 1836 году. Здесь тема 1812 года звучала как одна из главнейших и определявших лицо журнала. В разнообразных материалах о войне,
- 310 -
помещавшихся в каждом номере, сквозили противопоставление ушедшей героики Двенадцатого года серым будням николаевской действительности и гордость великим прошлым. Эти идеи были отражены не только в произведениях самого Пушкина, появившихся в «Современнике» («Полководец», отрывок из «Рославлева»), но и в «Записках кавалериста» Н. А. Дуровой и в статье Дениса Давыдова с ее знаменитым заключением: «Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, — и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!».1
«Современник» с дарственной надписью Пушкина
Г. И. Небольсину (1836 г.).Пушкину приходилось проводить свою линию в «Современнике» в труднейших условиях. Этот журнал вообще не имел права касаться злободневных политических вопросов. Так, потерпела неудачу попытка Пушкина напечатать статью «Александр Радищев», где Пушкин, с одной стороны, выражал восхищение благородством и мужеством великого русского революционера, а с другой — намеренно подчеркнул свои расхождения с ним и даже (уже из явно цензурных соображений) повторил некоторые официальные оценки его взглядов. Несомненно, что главнейшей своей целью Пушкин ставил напомнить русскому обществу о Радищеве, о котором он еще в 1823 году писал Бестужеву: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? кого же мы будем помнить?» (XIII, 64). Однако статья была запрещена по распоряжению министра народного просвещения Уварова. По тем же цензурным причинам Пушкин не закончил своего «Путешествия из Москвы в Петербург», которое он писал в 1833—1835 годах и которое в одних случаях в форме полемики с Радищевым, а в других — согласия с ним представляло собой опыт политической декларации по острейшим вопросам современности. Пушкин во многом применял здесь те же приемы, что и в статье «Александр Радищев». Восприятие «Путешествия» усложняется тем, что в центре здесь — образ путешественника-домоседа, наподобие Ивана Петровича Белкина. Однако вместе с тем в «Путешествии» вырисовывается позиция самого Пушкина: хотя он и расходился с Радищевым по существеннейшему вопросу — о крестьянской революции, но соглашался с теми характеристиками
- 311 -
бесправного положения и рабства народа, которые нарисовал Радищев, и прямо высказал (особенно в черновиках) свое убеждение в исторической необходимости уничтожения крепостного права.
Письмо Пушкина в Цензурный комитет о возвращении запрещенной
к печати статьи «Александр Радищев».Невозможность прямо высказывать в «Современнике» свои взгляды заставила Пушкина прибегать к методам скрытой и замаскированной полемики, пользуясь случайными, казалось бы, поводами для высказывания своих мыслей и даже для личных признаний. Одним из таких поводов было выступление реакционного литератора М. Е. Лобанова 18 января 1836 года в Российской академии с выпадами против русской литературы и критики, в которых Лобанов видел «некоторый отголосок бесправия и нелепостей, порожденных иностранными писателями». При этом Лобанов имел в виду прогрессивную русскую литературу, утверждая, как это делали обычно реакционеры, что ее вольный дух является якобы лишь результатом влияния иностранных «разрушительных мнений». Особенно решительно вооружился Лобанов против критики, в которой увидел «совершенную безотчетность, бессовестность, наглость и даже буйство». Не названным объектом нападения здесь был Белинский, успевший прослыть «разрушителем авторитетов». Лобанов требовал, чтобы цензура раскрыла «все ухищрения пишущих» и чтобы Академия ей в этом содействовала.
Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной» вскрывает сущность реакционных построений Лобанова. Пушкин реабилитирует русскую критику (фактически Белинского) и восстает против лобановского толкования задач цензуры, утверждая, что ее можно упрекнуть не в «послаблении», а в «совсем
- 312 -
противном». Во всей этой полемике Пушкин выступает прежде всего как защитник передовой русской культуры. Пушкин борется против ненавистного ему моралистического дидактизма, за расширение задач и возможностей искусства, за его истинно реалистический смысл. Но, непосредственно борясь с реакционером Лобановым, Пушкин косвенно имеет в виду и более широкое течение: зарождавшиеся в это время теории славянофильства и «официальной народности». Статья «Мнение М. Е. Лобанова...» направлена столько же против Лобанова, сколько против славянофила Шевырева.
Пушкин искал опоры в новых прогрессивных общественных слоях и с интересом к ним приглядывался. Среди этого «незнакомого» ему «младого племени» он сразу отличил Белинского, первые статьи которого были им, несомненно, замечены. Пушкин сумел стать выше личного самолюбия, которое могло быть затронуто ранними отрицательными суждениями Белинского о его повестях и сказках. В 1836 году — «тихонько от наблюдателей», т. е. круга литераторов, объединенных «Московским наблюдателем», с которыми Белинский был во вражде, — Пушкин хотел завязать с ним сношения. Уезжая из Москвы, он оставил у Нащокина экземпляр «Современника» для Белинского и передал свое сожаление, что «с ним не успел увидеться». В «Письме к издателю», напечатанном в «Современнике» от имени некоего «А. Б.» (1837, кн. III), Пушкин сочувственно высказывался о Белинском как о критике, который «обличает талант, подающий большую надежду». В конце 1836 года, после закрытия «Телескопа», где сотрудничал Белинский, Пушкин предполагал пригласить его в свой журнал (что, вероятно, и осуществилось бы, если бы Пушкин остался жив).
17
Вся деятельность Пушкина последекабрьского периода вела ко все более и более резкому нарастанию конфликта с царем, придворной кликой и «высшим светом». Официальная зависимость Пушкина от царя возросла уже в 1831 году, когда он вновь был зачислен на государственную службу (по министерству иностранных дел). По его просьбе ему был открыт доступ в государственные архивы для исторических занятий. Эти занятия и были его службой, за которые ему было назначено пять тысяч рублей жалования в год.1 В письме к Плетневу Пушкин отзывается с иронией о царской «любезности» по отношению к нему.
После женитьбы Пушкину пришлось бывать в так называемом «большом свете». Между тем материальное положение его было затруднительным. Деньги, полученные по залогу Кистеневки, ушли на приданое Натальи Николаевны и на первоначальное обзаведение. Пяти тысяч жалования и литературных доходов нехватало при образе жизни, какой Пушкин должен был вести в Петербурге, начиная с зимы 1831—1832 года. Житейские заботы и светская жизнь утомляли Пушкина. Его снова влекло к странствиям.
Осенью 1833 года для окончательной обработки «Истории Пугачева», которая вчерне была закончена, он предпринял поездку в район восстания, побывал в Нижнем, Казани, Симбирске, Оренбурге, Уральске, а на обратном пути заехал в Болдино, где пробыл около шести недель (с 1 октября до середины ноября). Здесь им была отредактирована «История Пугачева», закончены «Медный всадник», «Анджело», «Сказка
- 313 -
о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне». Вся поездка заняла три месяца (с 18 августа по 20 ноября 1833 года). Характерно, что па всему пути вдогонку за Пушкиным шли распоряжения о негласном надзоре. Полицейский надзор за Пушкиным, установленный в 1828 году, так и не был снят.
Н. Н. Пушкина.
Акварель А. П. Брюллова (1831 г.).Вскоре наступил кризис в отношениях Пушкина с двором. К новому, 1834 году Пушкин назначен был камер-юнкером. Пушкин был глубоко оскорблен неожиданной царской «милостью». Камер-юнкерский мундир превращал его в глазах публики в придворного поэта, служил как бы подтверждением злостных сплетен, давно уже распространявшихся враждебными ему журналистами, о том, что он якобы изменил своим убеждениям, пустился в «высший свет», заискивает перед царем и т. д.
Алексей Вульф, приезжавший в Петербург в феврале 1834 года, отметил, что Пушкин, по его словам, «возвращается к оппозиции».1 Пушкин неохотно и небрежно выполнял свои камер-юнкерские обязанности. К выговорам Бенкендорфа присоединились теперь «головомытья» начальника по придворной службе, графа Литта. С самого начала 1834 года Пушкин принял
- 314 -
твердое решение при первом удобном случае выйти в отставку и уехать в деревню. В связи с этим в марте 1834 года он взял на себя управление Болдиным, которое его отец довел до разорения и собирался было продать.
В апреле 1834 года Пушкин сознательно уклонился от участия в торжествах по случаю совершеннолетия наследника (будущего императора Александра II), сказавшись больным. Об этом он написал жене, прибавив еще несколько горьких слов насчет царя, который «упек» его в «камер-пажи» под старость лет. Письмо это было вскрыто на почте и доставлено Николаю. Вмешался Жуковский и уладил дело. Но Пушкин был глубоко возмущен. В дневнике его записано 10 мая 1834 года: «Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. — Но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю..., и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина!» (XII, 329).
Эта история побудила Пушкина не откладывать дальше своего намерения. 25 июня 1834 года, втайне от всех, не предупредив ни Жуковского, ни жену, он послал Бенкендорфу письмо с просьбой об отставке. Николай отлично понял смысл пушкинского поступка: при данных обстоятельствах это было заявление протеста. Однако на крутые меры против Пушкина, на гласное преследование Николай I не решился, не желая, повидимому, окружить его новым ореолом в глазах оппозиционных элементов общества. Николай I предпочел вступить в переговоры с поэтом. Посредничество принял на себя Жуковский, который убедил Пушкина взять назад свою просьбу об отставке. После длинной переписки Бенкендорф доложил Николаю: «Перед нами мерило человека; лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе». Николай написал на докладе Бенкендорфа: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства».1 Таким образом, вопрос ставился очень остро. Николай прямо напоминал Пушкину о ссылке 1820 года.
Материальные дела Пушкина после неудачной попытки «удрать на чистый воздух» все более запутывались. В июле 1835 года он сложил с себя управление Болдиным и отказался от своих кистеневских доходов в пользу сестры, Ольги Сергеевны Павлищевой. Для обеспечения литературного заработка нужно было на несколько лет удалиться в деревню. В июне 1835 года Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой об отпуске на 3—4 года, ссылаясь на необходимость «поправления» своих обстоятельств. Однако, как верно догадался Николай, это было не что иное, как замаскированная вторичная просьба об отставке. Николай нашел выход: ввиду того, что Пушкин выставлял мотивом отставки денежную нужду, ему выдано было заимообразно 30 тысяч рублей. Это была кабала, но Пушкин надеялся на себя и уверен был, что в короткий срок сможет расплатиться с самодержавным кредитором.
Камер-юнкерство способствовало политической изоляции Пушкина, отдало его во власть «высшего света», который ненавидел его и привел его к гибели. История дуэли Пушкина свидетельствует о том, насколько планомерно действовали его враги, распространявшие злостные сплетни о его
- 315 -
Дом Волконского на Мойке. Последняя квартира Пушкина.
Фотография.жене и задевавшие, таким образом, даже его семейную жизнь. С осени 1836 года пущена была сплетня о связи Натальи Николаевны с кавалергардским офицером, французом Дантесом, роялистом, бежавшим со своей родины в Россию после июльской революции. 4 ноября 1836 года утром Пушкин получил оскорбительный пасквиль в виде диплома на звание «рогоносца». Подобные же пасквили, с извещением об избрании Пушкина в члены «ордена рогоносцев», были разосланы его друзьям и знакомым. 4 ноября, тотчас по получении пасквиля, Пушкин послал вызов Дантесу. Это объяснялось не только злословием, связавшим имя Наталии Николаевны с Дантесом: Пушкин имел основание думать, что самый пасквиль исходил из своры единомышленников Дантеса или лиц, близких его приемному отцу, голландскому посланнику Геккерену. Вместе с тем он решил любой ценой вырваться из придворной кабалы и обеспечить себе свободу действий, т. е. возможность оставить службу и уехать из Петербурга. 6 ноября, через два дня после получения диплома, он послал министру финансов графу Канкрину письмо, в котором заявлял о своем желании «сполна и немедленно» расплатиться с казной и предлагал в уплату долга свое нижегородское имение. При этом он просил не доводить дело до императора,
- 316 -
так как если бы император приказал простить ему долг, то он «был бы принужден отказаться от царской милости». Однако вмешательство Жуковского, к которому обратился Геккерен, на этот раз предотвратило дуэль. Пушкин взял свой вызов обратно, так как Дантес заявил, что его поведение было истолковано превратно и что он увлечен старшей сестрой Екатериной Николаевной, которой он и намерен сделать официальное предложение. 10 января 1837 года Дантес женился на Екатерине Николаевне Гончаровой. Но это не остановило клеветы, которая распространялась в салонах злейших врагов Пушкина — Нессельроде, Идалии Полетики и среди злорадствующей «светской черни». В свете восхищались «рыцарским» поведением иностранного проходимца Дантеса, который якобы пожертвовал собой ради спасения чести любимой женщины и т. п. Геккерен и Дантес всем своим поведением относительно Наталии Николаевны сознательно поддерживали всякого рода клевету. Данзас, секундант Пушкина и его лицейский товарищ, писал в своих показаниях: «... гг. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его <Пушкина>... давать повод к усилению мнения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены».1 Дантес на потеху светской толпы разыгрывал роль человека, не любящего своей жены и будто бы страдающего от любви к другой. Всем этим объясняется вызывающее письмо, посланное Пушкиным Геккерену 26 января 1837 года и явившееся непосредственной причиной дуэли. Дуэль произошла в пятом часу дня 27 января. Пушкин был тяжело ранен и после мучительнейших двухдневных страданий скончался днем 29 января, в два часа сорок пять минут.
Во все время подлой клеветнической травли Пушкина Николай и Бенкендорф скрытно ей покровительствовали. Николай писал потом своему брату, Михаилу Павловичу, по поводу дуэли Пушкина с Дантесом: «Давно ожидать было должно, что дуэлью кончится их неловкое положение». Из этого можно заключить, что Николай предвидел дуэль. После трагической развязки и Николай и Бенкендорф приняли решительные меры, чтобы ослабить то общественное возбуждение, какое вызвано было смертью поэта. Цензоры получили предписание не позволять ничего печатать о Пушкине, не представив предварительно статью председателю цензурного комитета или министру народного просвещения графу Уварову, который, как писал в дневнике цензор Никитенко, занят был «укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина». Греч получил строгий выговор за слова, напечатанные в «Северной пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностию за 22-летние заслуги его на поприще словесности...». Еще более резкий выговор, подкрепленный угрозой увольнения со службы, сделал Уваров Краевскому, редактору «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“», за некролог, начинавшийся словами: «Солнце нашей поэзии закатилось!». «И все это, — замечает Никитенко, — делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись — но чего?».2
Страх перед популярностью Пушкина сказался и в тех мерах, какие были приняты во время похорон. В «Отчете о действиях корпуса жандармов» за 1837 год говорилось: «... имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную
- 317 -
картину торжества либералов, — высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено».
Письмо Пушкина к А. О. Ишимовой, написанное в день
дуэли. Автограф (1837 г.) (1-я страница).Весть о кончине Пушкина обнаружила подлинное отношение к нему читательской массы. В течение одного дня у гроба его в квартире на Мойке перебывало 30—40 тысяч человек. Одна современница пишет: «Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща».1 Это проявление народной любви к Пушкину приобретало характер невиданной в русских условиях того времени общественной манифестации. «Это были
- 318 -
действительно народные похороны», — замечает Никитенко. Опасаясь беспорядков, жандармское управление внезапно распорядилось о перемене места отпевания: вместо Исаакиевской церкви, как было объявлено, прах поэта был ночью перенесен в небольшую Конюшенную церковь. Все же стечение народа было огромное. После этого гроб с телом в сопровождении жандармов был отправлен в Псковскую губернию. Из всех друзей Пушкина только А. И. Тургеневу было разрешено сопровождать тело поэта. Погребение совершилось в Святых (ныне Пушкинских) Горах 6 февраля 1837 года, тайно от всего русского общества, тайно от народа. Так окончился путь гения русского народа, страстного проповедника идей свободы и разума, одного из величайших деятелей, которых дала миру и передовому человечеству великая русская нация.
Пушкин в гробу. Рисунок В. А. Жуковского (1837 г.).
Царское правительство сделало все возможное, чтобы воспрепятствовать распространению вольнолюбивых пушкинских традиций. Оно запрещало писать о причинах его гибели, установило жесточайший контроль над критическими оценками его творчества в печати, продолжало подвергать строгой цензуре его произведения. Но передовая Россия приняла наследие Пушкина как знамя дальнейшей борьбы за освобождение родины, за расцвет ее культуры. Всенародное преклонение перед памятью величайшего русского национального поэта отразил ближайший преемник его идей — Лермонтов — в стихах, грозивших возмездием палачам «Свободы, Гения и Славы». Тогда же зародился у Белинского замысел написанных в 40-е годы знаменитых статей о Пушкине, которые раскрыли громадное, бессмертное значение его творчества для русского народа, для дальнейшего развития русской культуры, для воспитания грядущих поколений.
*
«Вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкиным», — так писал Чернышевский в 1855 году (II, 1949, 475) через 18 лет после смерти Пушкина, когда уже завершилась деятельность Лермонтова и Гоголя — ближайших
- 319 -
наследников и продолжателей Пушкина — и развернулась деятельность целой плеяды нового поколения писателей-реалистов.
Портрет Пушкина с запрещенными цензурой стихами «Потух
огонь на алтаре». Литография А. Клюндера (1837 г.).В начале 80-х годов Салтыков-Щедрин указывал, что сущность пушкинского гения выразилась «в тех стремлениях к общечеловеческим идеалам, на которые тогдашняя управа благочиния, как и нынешняя, смотрела и смотрит одинаково неприязненно» (XIV, 460). Этими словами Салтыков-Щедрин подчеркнул связь передовой русской литературы с пушкинскими традициями.
Еще через тридцать лет родоначальник пролетарской литературы М. Горький в своей «Истории русской литературы» указал на решающее значение Пушкина для русской литературы. Пушкин для М. Горького — «великий русский народный поэт..., поэт, до сего дня никем не превзойденный
- 320 -
ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы» (103). «Он <Пушкин> у нас — начало всех начал», — писал М. Горький в другом месте (в письме к П. Максимову от 10 сентября 1911 года).1 Конечно, революционным демократам, и тем более Горькому, высоко ценившим колоссальное значение пушкинского творчества, вместе с тем были чужды и трактовка Пушкиным исторической роли «просвещенного дворянства» и его упования на то, что политическая свобода будет достигнута путем распространения гуманизма и просвещения. Но Пушкин, по словам Белинского, «принадлежит к числу тех творческих гениев, тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приуготовляют будущее» (XI, 189). Вот почему воздействие Пушкина на передовую русскую литературу было отмечено всеми, кто пытался проследить пути ее дальнейшего развития.
Важнейшими особенностями пушкинского творчества являются его пламенный патриотизм, гордость великим прошлым своей родины, уверенность в ее великом будущем, вера в могучие силы своей страны и своего народа, освободившего мир от деспотизма Наполеона.
«Только революционная голова... может любить Россию — так, как писатель только может любить ее язык.
Все должно творить в этой России и в этом русском языке», — записал Пушкин однажды в одной из своих тетрадей (XII, 178).
Патриотизм Пушкина был органически связан с его свободолюбием, враждой ко всяким формам угнетения и рабства. Отношение Пушкина к революционным течениям 20-х годов в России было отношением идейного соучастия: Пушкин не только «испытывал влияние» декабристов, но и сам, своим творчеством способствовал формированию их мировоззрения.
Определяя значение поэтического труда своей жизни, сам Пушкин, конечно, не случайно увидел это значение именно в «чувствах добрых» («Памятник», 1836). «Чувства добрые», — не просто доброта, — это новое понятие о человеке, не отделимое от идеи свободы. Вот почему в вариантах этого стихотворения Пушкин ставит себе в заслугу то, что «вслед Радищеву» «восславил свободу».
Насыщенность творчества Пушкина передовыми идеями своей эпохи явилась причиной той ожесточенной борьбы, которая велась вокруг его имени на протяжении многих десятилетий. Идеологи консервативных направлений стремились обеднить содержание его произведений, затушевать их освободительное движение. Достаточно напомнить об искажении Достоевским смысла пушкинского творчества как якобы призыва к «смирению» или о попытках сторонников «чистого искусства» представить Пушкина своим союзником. Реакционным трактовкам исторической роли великого поэта дали отпор революционные демократы 40—60-х годов, а позднее марксистская критика. Окончательный удар всякого рода буржуазно-дворянским легендам о Пушкине нанесен в наше время, когда наше литературоведение правдиво раскрыло облик поэта.
Писатель национальный, в самом истинном смысле этого понятия, Пушкин воплотил в своем творчестве черты русского народа: героический патриотизм, преданность свободе, широту и ясность ума, твердую волю в осуществлении своих стремлений, глубокую любовь к созидательному труду. Вера в богатство духовных сил русской нации вдохновляла Пушкина на борьбу с реакционерами, презиравшими все русское. Пушкин высоко ценил и глубоко изучал лучшие завоевания культуры других народов, но
- 321 -
Могила Пушкина в Святогорском монастыре. Литография Клюквина
по рисунку с натуры Соколова (1837 г.).последовательно выступал на протяжении всей своей деятельности за развитие национальной самобытности русской культуры, против подражательности кому бы то ни было в литературе и жизни. Выше уже говорилось о том, с каким презрением Пушкин относился к аристократам-нигилистам, черты которых воплощены в образах графа Нулина или Корсакова из «Арапа Петра Великого», с каким проникновением вскрыл он печальные результаты воспитания Онегина «французом убогим». К вредоносному влиянию антинационального воспитания Пушкин возвращался с особенной
- 322 -
настойчивостью, показывая, что для дворян-крепостников француз-учитель представлял интерес только лишь своим нерусским происхождением.
Обличением слепого преклонения перед иноземным Пушкин продолжал традиции предшествовавших ему лучших представителей передовой русской культуры.
Пушкин явился основоположником русского национально-самобытного классического реализма, открывшего новую эпоху в художественном развитии человечества. Реалистический метод пушкинского изображения человека был принципиально новым в русской литературе; он был глубоко прогрессивным и в общем процессе мирового литературного развития, воплотив в себе с наибольшей полнотой принцип изображения типических характеров в типических обстоятельствах. Человек вошел в литературу в его конкретности — исторической, национальной и социальной. Абстрактного человека, наделенного либо общечеловеческими свойствами, либо индивидуальными особенностями, но показанными вне органической и прямой зависимости от времени и среды, мы еще встречаем в ранних романтических поэмах Пушкина. Но в «Евгении Онегине», «Борисе Годунове», «Полтаве», «Капитанской дочке», «Пиковой даме» и других его реалистических произведениях человек конкретен. Конкретность эта не ограничивается тем, что характеристика героя «расцвечивается» историческим и социальным колоритом; происходит нечто более значительное: характеры и типы показываются как отражающие движение истории, как следствие истории.
В реалистических произведениях Пушкина типическое выражает «сущность данной социальной силы», «соответствует сущности данного социально-исторического явления».1 Пушкин с такой яркостью воплотил в своем творчестве характернейшие особенности русского национального характера, развития русской жизни, что его произведения сохранили свое бессмертное познавательное и воспитательное значение в борьбе против всего старого, отживающего, за утверждение нового, передового.
Этими принципами своего творчества Пушкин открыл новые пути к дальнейшему развитию русской литературы.
Социально-исторические черты не отделимы от национальных. Пушкин утверждает зависимость «особенной физиономии» народа от исторических, природных и культурных условий. Прогрессивность пушкинского понимания и отстаивания национального своеобразия сочетается с уважением к другим нациям.
В «Памятнике» Пушкин предвидел и заранее приветствовал культурное развитие как своего народа, так и других народов. Он проявлял живой интерес к жизни и культуре различных национальностей, населявших Россию. Об этом говорят описания нравов и быта черкесов в «Кавказском пленнике», «Татарская песня» в «Бахчисарайском фонтане» или песня Земфиры из «Цыган», представляющая собой перевод молдавской народной песни. В творчестве Пушкина отразились образы и мотивы украинского фольклора (стихотворения «Казак», «Гусар», образ кобзаря в «Полтаве» и т. д.). О грузинсхих песнях говорится в «Путешествии в Арзрум». В архиве Пушкина сохранились записи украинской песни «Чорна роля заорана» и казахского предания о батыре Косу-Корпече и его возлюбленной Баян-Слу. Все это свидетельствует о широте, разносторонности
- 323 -
Пушкина, его близости к народной жизни и народному творчеству.
Могила Пушкина в Святогорском монастыре. Фотография (1949 г.).
С борьбой Пушкина за передовую русскую национальную культуру связаны были существеннейшие и исторически прогрессивные тенденции пушкинского творчества. Пушкин с исключительной смелостью демократизировал литературу на русской национальной основе. Демократизация осуществлялась во всем — от тематики до литературного стиля. Он ввел в литературу образы людей из социальных низов. Фольклор служил ему не для орнаментальных украшений, а для постижения самых существенных сторон народной жизни. Включение в литературу собственно фольклорных
- 324 -
тем становится одной из важнейших задач. Огромное значение имел выход литературы за пределы узко дворянского круга, за пределы светских салонов (и даже дружеских литературных кружков), на широкий путь народной литературы. Проблема народности в литературе, первоначально понимаемая как отражение общенациональных особенностей, понемногу сливается в сознании Пушкина с проблемой демократизации литературы. Полное горечи замечание Пушкина: «У нас литература не есть потребность народная» (статья 1831 года о Баратынском; XI, 185) — определяло в то же время его положительные литературные тенденции, его борьбу за приближение литературы к народным интересам.
Огромная роль Пушкина в истории русского языка подчеркнута товарищем И. В. Сталиным в его работе «Марксизм и вопросы языкознания».
В. И. Ленин, выдвинувший перед советскими учеными задачу создания словаря современного русского языка, определял его границы «от Пушкина до Горького».1 То обстоятельство, что язык Пушкина сохраняет свою жизненность и служит до сих пор образцом ясности, гибкости, живописности, объясняется тем, что он выражает самые существенные особенности общенародного, национального русского языка.
«Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мнений на французском языке), — писал Пушкин в заметке 1830 года, — достоин... глубочайших исследований» (XI, 148). В его письмах, статьях, набросках содержится множество замечаний о необходимости для писателей вслушиваться в «простонародные наречия», читать и изучать народные сказки и песни для того, чтобы познать свойства русского языка. Реакционная критика поносила Пушкина за эти взгляды на вопросы развития языка, упрекала его в употреблении «низких», «бурлацких» выражений. Отвечая на подобные упреки, Пушкин писал: «... низкими словами я... почитаю те, которые подлым образом выражают какие-нибудь понятия...: но никогда не пожертвую искренностию и точностию выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным...» (XI, 159).
В разработке русского литературного языка Пушкин опирался на завоевания его великих предшественников в этой области — Ломоносова, Радищева, Фонвизина, Державина, Крылова. Он отвергал противопоставление книжного языка — языку разговорному, замечая: «Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» (XII, 96).
В борьбе за общенародный, общедоступный литературный язык Пушкин выступал против ревнителей салонного, аристократического жаргона, против стиля «паркетных дам», сводившего задачи литературы к обслуживанию узких кругов реакционного дворянства. Он гневно обличал критиков, в слепом преклонении перед иноземной культурой предпочитавших иностранные языки — родному. «Как материал словесности, — утверждал Пушкин, — язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими...» (XI, 31). Вместе с тем Пушкину были глубоко чужды реакционно-реставраторские позиции Шишкова, пытавшегося противодействовать развитию литературного языка и, в частности, выступавшего против пополнения состава русского языка новыми словами, выражавшими новые понятия, рожденные в общественно-политической борьбе. Огромной заслугой Пушкина было закрепление в русском литературном языке множества
- 325 -
новых слов, а также слов с новым смысловым значением, очищение языка от устаревших слов, улучшение его грамматического строя. Таким образом, борьба Пушкина за дальнейшее развитие и улучшение языка была тесно связана с его борьбой за демократизацию русской литературы.1
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Черновой автограф Пушкина
(1836 г.).По пути демократизации литературы преемники Пушкина пошли тем решительнее, чем теснее становилась связь следующих поколений освободительного движения с народом. Для передовой русской литературы на дальнейших этапах ее развития уже невозможными стали те иллюзорные надежды на руководящую роль русского просвещенного дворянства, которые Пушкин питал в силу классовых особенностей своего мировоззрения.
- 326 -
Демократизация литературы, отражавшая прогрессивные тенденции исторической действительности, естественно, приводила Пушкина к отрицанию норм дворянской эстетики, к переоценке традиционных критериев «высокого» и «низкого» вообще. Восстановилось в правах не только то, что связано было с социальными низами, но также третировавшаяся в дворянской литературе «низкая природа», т. е. материал самой жизни во всем ее многообразии. Переоценивались понятия «поэтического» и «прозаического», «необыкновенного» и «обыкновенного». Пушкин осуждает «пристрастие» к «королям и героям», как «холопское», и в то же время показывает высокий трагизм судьбы «маленького человека» Евгения в «Медном всаднике» и считает «Стеньку Разина» «единственным поэтическим лицом русской истории» (XIII, 121). В своей поэзии он раскрывает прелесть картин русской природы и русского быта, считавшихся «прозаическими», «обыкновенными» для эстетики «светского» читателя. Начиная с Пушкина «прозаическое», «обыкновенное», т. е. сама повседневная жизнь, стало законным предметом поэзии. Этот принцип пушкинской эстетики был еще при жизни Пушкина поддержан Гоголем. «Чем предмет обыкновеннее, — писал Гоголь в статье о Пушкине, — тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».1 Гоголь же, в качестве одного из продолжателей пушкинского реализма, развил этот принцип в своей собственной творческой практике. Вокруг Гоголя с особенной силой развернулась и критическая борьба, прецедентами которой были нападки Надеждина и Булгарина на «Графа Нулина» и «Евгения Онегина», оценка их как произведений, якобы лежащих за пределами «высокого» искусства.
Пушкин стремится изобразить действительность не украшенную, а «истинную», не схематизированную, а конкретную; в выборе поэтических средств он стремится к точности и простоте. Резюмируя статью И. Киреевского (1830), он сам определяет свое место в литературе выразительной формулой: «Пушкин, поэт действительности» (XI, 104).
В творчестве Пушкина отразилось все многообразие мира — общественной жизни, природы, все существеннейшие моменты русской и мировой истории как предшествующей, так и современной ему. По разнообразию тем Пушкин не имеет себе равных.
Реализмом, основоположником которого был Пушкин, определялась большая дорога русской литературы XIX века. Основанную Пушкиным школу реалистического искусства развивали, каждый по-своему. Гоголь и Лермонтов, Некрасов и Щедрин, Тургенев и Гончаров, Островский и Чехов, Л. Толстой и Горький. Пушкин укрепил всемирно-историческую роль всей передовой русской литературы.
Будучи гениальным выразителем русской нации, он сделал громадный вклад в мировую культуру. Именно потому, что он был носителем великих, прогрессивных особенностей русской нации, он стал поэтом мировым. Героика 1812 года и последовавший за Отечественной войной подъем передовых русских людей — декабристов — к борьбе за политическую свободу, — все это углубило национальное своеобразие пушкинского творчества и вместе с тем расширило его общечеловеческое содержание. Всемирно-историческое значение творчества Пушкина заключается в том, что, будучи поэтом глубоко национальным, он воплотил в своем творчестве идеи, вызывающие
- 327 -
горячий отклик в сердцах прогрессивных людей всего мира. Творчество Пушкина утверждает уверенность в конечной победе сил политической свободы и прогресса над всеми темными силами реакции, осуждает угнетение человека человеком. Он верил в наступление времени,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.(«Он между нами жил...»)
Мечтая о мирном развитии народов, он понимал, что осуществление этой мечты требует борьбы с реакцией. Отсюда его горячее сочувствие современному ему национально-освободительному движению в разных странах — в Греции, Италии, Испании и других. Всемирно-историческое значение Пушкина заключается в том, что он не только осудил феодально-крепостническую систему, но поднял свой голос также против той утонченной системы рабства, которую несла человечеству «новейшая», т. е. буржуазная, цивилизация в странах Западной Европы и Америки. Он, по условиям времени, не видел силы, которая может обеспечить действительную свободу. Но громадной всемирно-исторической заслугой Пушкина является уверенное отрицание им (говоря его терминами) и «аристократии породы» (т. е. аристократии феодально-дворянской) и «аристократии богатств» (т. е. капиталистической олигархии).
Пушкин однажды заметил: «Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна» (XI, 268). Эти слова относятся, разумеется, к правящим кругам Запада, к тем поработителям народов, которые были врагами всех свободолюбивых сил мира. Невежественность этих кругов проявлялась и по отношению к Пушкину, пред величием которого преклонялись лучшие деятели человеческой культуры, но которого лакеи реакции пытались объявить «узко-национальным поэтом». И не случайно теперь, когда крепнет борьба народов мира за освобождение от империалистического гнета, так растет популярность Пушкина во всем мире. Пример этому — страны народной демократии, где имя гения русской литературы становится родным, близким, любимым для широких читательских масс.
В наши дни полностью сбылось предсказание Пушкина:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык...Братская связь народов Советского Союза с великим русским народом и его культурой явилась неисчерпаемым источником обогащения национальных литератур. Пушкин был любимым поэтом Тараса Шевченко, его влияние испытали Леся Украинка и Иван Франко, Янка Купала и Якуб Колас. Имена выдающихся представителей национальных литератур Советского Союза так или иначе связаны с творчеством Пушкина, связаны пропагандой и усвоением его произведений. В этом ряду стоят имена грузинских писателей — Александра Чавчавадзе, Вахтанга Орбелиани, Акакия Церетели, Важа Пшавела, классиков армянской литературы — Микаэля Налбандяна и Ованеса Туманяна, азербайджанца Мирзы Фатали Ахундова (написавшего поэму на смерть Пушкина), основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. Все эти отдельные примеры говорят о том, что творчество Пушкина издавна было дорогим и близким всем народам. Но только в годы Советской власти появились массовые переводы произведений Пушкина на языки различных национальностей, лишь теперь Пушкина услышали на родном языке и те народы Советского Союза, которые до революции не имели своей письменности.
- 328 -
После Великой Октябрьской социалистической революции Пушкин, как ни один другой писатель, стал писателем истинно народным.
Всенародный массовый характер носил пушкинский юбилей в 1937 году. Общенародное и многонациональное чествование поэта, как никогда за все столетие, популяризировало образ Пушкина в народе. В борьбе, поднятой по инициативе партии и проведенной советской печатью против вульгаризации пушкинского образа, против формалистических и псевдосоциологических извращений, выяснился подлинный облик Пушкина, громадная прогрессивная созидательная роль его, великая, непреходящая ценность его наследия для человечества, для родной литературы и языка.
Громадная популярность Пушкина в массах ярко проявилась в годы Великой Отечественной войны против немецких захватчиков. Пушкинские памятные даты и в дни войны ежегодно отмечались и в армии и в тылу. В эти годы особенно близок советскому народу стал облик Пушкина как поэта-патриота. Сразу же после победного завершения Отечественной войны началась работа по восстановлению пушкинских мест, разрушенных немецко-фашистскими варварами: Заповедника в селе Михайловском, мемориальных зданий в г. Пушкине (бывш. Царском Селе) и др.
Особенно ярким, радостным праздником социалистической культуры явилось отмеченное в 1949 году 150-летие со дня рождения Пушкина. Все республики Советского Союза, все города, села в эти дни ознаменовали памятную дату торжественными заседаниями, митингами у памятников поэта, массовыми собраниями, вечерами, выставками, лекциями. Общий тираж произведений Пушкина, выпущенных в юбилейный год на русском языке и языках других народов СССР, достиг пятнадцати миллионов экземпляров. В эти дни «Правда» писала:
«Пушкин потому близок и дорог советским людям, что его творчество созвучно самым глубоким, самым заветным чувствам нашего народа — его беззаветной любви к Родине, его непоколебимой вере в силу разума, в торжество великих прогрессивных идей».1
Как большой праздник культуры было отмечено 150-летие со дня рождения Пушкина во всех странах мира. В Варшаве, Праге, Бухаресте, Будапеште, Софии, во многих других городах состоялись торжественные заседания. Размах, который приобрело чествование памяти Пушкина во всем мире, явился ярким свидетельством того, как дорог великий русский национальный поэт всем, кто стоит за мир и свободу, кто борется против угнетения человека человеком и кто видит в Пушкине выразителя славных, исторических традиций русского народа.
Сноски1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 294—295.
2 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 91.
1 См. И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 5-е, 1951, стр. 30.
2 Смирив крамолу и коварство,
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили...
(«Моя родословная»).1 Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Изд. 3-е, изд. «Атеней», Л., 1925, стр. 36.
2 Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма, Пгр., 1922, стр. 40.
1 Из писем и показаний декабристов. 1906, стр. 35.
2 И. И. Пущин. Записки о Пушкине. 1937, стр. 39.
1 П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб., 1882, стр. 154.
1 Выделенный самим Пушкиным последний стих — цитата из послания Жуковского к Батюшкову 1812 года, использованная здесь с иронической переменой смысла.
1 В черновике подзаголовок: «Подражание малороссийскому».
2 Протест против «неправедного, ужасного» закона мог возникнуть в связи с письмом И. П. Пнина (незаконного сына князя Репнина) к Александру I, озаглавленным «Вопль невинности, отвергаемый законом». Письмо это, посвященное вопросу о судьбе детей, рожденных вне брака, было широко распространено в списках в начале XIX века.
1 Это отчасти подтверждается тем, что в черновиках «Руслана» мы находим несколько подписей: «Н. Кошанский», сделанных рукой Пушкина (повидимому, Пушкин, когда писал свою поэму, мысленно представлял себе критику, которой она подверглась бы со стороны его лицейского наставника).
1 Старина и новизна, 1904, кн. VIII, стр. 42.
1 Н. Остолопов. Словарь древней и новой поэзии, т. II. СПб., 1821, стр. 299—301, 387.
2 Живописное обозрение, 1837, т. III, стр. 78.
3 «Разговор его был прост и важен» («Арап Петра Великого»).
1 В 1820 году, когда Пушкин находился в ссылке, Ф. Н. Глинка выразил ему свое сочувствие в стихотворении, напечатанном в «Сыне отечества».
1 Соревнователь просвещения, 1822, ч. XX, стр. 25.
2 Сын отечества, 1822, ч. 81, № XLIX, стр. 121.
1 Московский вестник, 1828, ч. III, № 6, стр. 182.
1 Соревнователь просвещения, 1822, ч. XX, стр. 27—28.
1 Фонтаном слез (франц.).
1 В черновике прямое указание на крепостное происхождение героев: «Наскуча барскою сохой...».
1 Подлинник на французском языке.
2 Как видно из контекста, под «феодализмом» Пушкин подразумевал здесь аристократическую олигархию.
1 М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. 1889. стр. 221.
1 М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. 1889, стр. 221, 220.
2 Там же, стр. 228.
1 М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 103.
1 Вестник Европы, 1829, февраль, № 3, стр. 223.
1 Былое, 1918, № 2 (30), стр. 74.
2 Письмо от 12 июля 1827 года. Старина и новизна. 1903, кн. VI. стр. 6. Несомненно, Бенкендорф так думал и раньше.
1 Пушкин и его современники, вып. XI. 1909, стр. 49.
1 Пушкин позднее озаглавил это стихотворение «Поэт и толпа».
1 Повидимому, намек на повешенных декабристов.
1 В прозе Вяземского Пушкин ценил ее насыщенность мыслью и необычность формы: «Проза князя Вяземского чрезвычайно жива. Она обладает редкой способностью оригинально выражать мысли...» (XI, 60). Говоря о прозе Карамзина, Пушкин, очевидно, имеет в виду преимущественно его «Историю».
2 Заметка «О романах Вальтера Скотта» (1830; XII, 195, 482).
3 Из реплики княжны Холмской в комедии Шаховского «Липецкие воды».
4 П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. СПб., 1873, стр. 191.
1 А. Н. Вульф. Дневник. М., 1929, стр. 136.
1 Московский телеграф, 1829, ч. XXVI, № 7, стр. 337.
2 Там же, 1829, ч. XXVII, № 10, стр. 234.
1 Исключением являлись отзывы братьев Полевых в «Московском телеграфе».
2 «Книги имеют свою судьбу» (латинск.).
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. 1, стр. 160.
1 Так же, от главы к главе, знакомились с «Евгением Онегиным» и читатели. Первая глава вышла в свет в феврале 1825 года; вторая — в октябре 1826 года; третья — в октябре 1827 года; главы четвертая и пятая — вместе — в феврале 1828 года; шестая — вслед за ними, в марте того же года; седьмая — в марте 1830 года; восьмая — в январе 1832 года. Весь роман в отдельном издании вышел в 1833 году.
1 Герцену не могли быть известны пушкинские строки в одном из вариантов восьмой главы (VI, 623):
Кто там меж ними в отдаленьи
Как нечто лишнее стоит?
Ни с кем он мнится не в сношеньи,
Почти ни с кем не говорит.Но в окончательном тексте осталось: «Для всех он кажется чужим», и дальше — «Чужой для всех, ничем не связан».
1 Русский архив, 1880, № 3, стр. 443.
1 Северная пчела, 1830, № 39.
2 Анонимно.
1 Ср. черновые названия «Дериглазово», «Перкухово», совпадающие с названиями сел Псковской губернии.
1 Напомним еще раз, что в понимании Пушкина «истинный романтизм» был равнозначен позднее возникшему термину «реализм».
1 Курсив наш.
1 Суждение это приписано Пушкину, но, конечно, это только условный поэтический прием.
1 Подготовительные тексты Пушкина по «Истории Петра» до недавнего времени были известны читателям в извлечениях. Впервые опубликованы полностью только в 1938 году: Пушкин, X. Они дают возможность всесторонне раскрыть замысел Пушкина.
1 Облагаемый оброком по прихоти и произволу (франц.).
1 Фамилия подпоручика, первоначально обвиненного «в сообщении со злодеями».
1 Ср. «Жена не лапоть — с ноги не скинешь» и т. п.
1 А. Н. Вульф. Дневник. М., 1929, стр. 372.
1 Ср. в «Романе в письмах»: «Надеюсь, что Z — обратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее Ватиканскому кокетству» (VIII, 1, 55). Волконская уехала в Рим в феврале 1829 года.
1 Ср. в письме Пушкина к Вяземскому 1829 года иронические слова о светском обществе: «... мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Ходишь по ногам как по ковру, извиняешься — вот уже и замена разговору» (XIV, 38).
1 Литературная газета, 1830, № 18, стр. 143.
1 Где хорошо, там и отечество (латинск.).
2 По цензурным условиям роман был напечатан лишь частично (притом анонимно) в 1836 году под заглавием «Отрывок из неизданных записок дамы» (1811 год). Остальные части могли быть опубликованы лишь после смерти Пушкина (в 1841 и 1855 годах).
1 Современник, 1836, т. III, стр. 151.
1 Впрочем, уплаты этого жалования Пушкину удалось добиться только через год.
1 А. Н. Вульф. Дневник. 1929, стр. 372.
1 Старина и новизна, 1903, кн. VI, стр. 10—11.
1 Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. СПб., 1900, стр. 63.
2 А. В. Никитенко. Записки и дневники, т. I, 1893, стр. 383.
1 Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е, 1899, стр. 262.
1 П. Максимов. О Горьком. 1939, стр. 31.
1 Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), Госполитиздат, 1952, стр. 73.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 35, стр. 416.
1 Подробнее о языке Пушкина и его роли в развитии русского литературного языка см. ниже, в специально посвященном этому вопросу разделе «Значение Пушкина в развитии русского литературного языка».
1 Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. Академии Наук СССР, 1952, стр. 54.
1 «Правда», 1949, 8 июня. Передовая «Юбилей Пушкина — праздник советской культуры».