55
Карамзин
1
Русский дворянский сентиментализм подготовлялся и строился в литературе, начиная в 1770-х годов. Херасков, Веревкин и другие писатели старшего поколения, испытав воздействие западных течений преромантизма и раннего буржуазного реализма, старались усвоить эти последние достижения европейского искусства для русской литературы, перестроив их принципы в применении к задачам и навыкам русской культуры. За ними пошли другие, более молодые. С того же времени отчетливо наметились два различных, даже противоположных и враждебных пути сентиментализма в России; с одной стороны, это был путь оформления радикальной политической мысли, это был демократический сентиментализм, в основном ориентированный на реалистические тенденции западной буржуазно-демократической литературы; это была традиция, намеченная Фонвизиным и нашедшая завершение в творческой деятельности Радищева, автора «сентиментального» «Путешествия из Петербурга в Москву». С другой стороны, это был путь эстетического оправдания ухода от социальной борьбы и разоружения части передовой дворянской общественности, путь ликвидации дворянского либерализма; в искусстве эта традиция, ориентированная более на преромантические тенденции молодого буржуазного искусства, была намечена Муравьевым, Львовым, Нелединским-Мелецким и нашла завершение в творческой деятельности Карамзина, автора сентиментального путешествия по Европе — «Писем русского путешественника», главы дворянской литературы 1790—1810-х годов, учителя Жуковского и множества других писателей начала XIX столетия. Николай Михайлович Карамзин надолго запомнился его ученикам и поклонникам не только как человек большого ума и тонкой культуры, но и как человек, сумевший прожить свою жизнь размеренно и благоразумно. Он вырос в провинции, в Симбирской губернии. Когда ему исполнилось 14 лет, его повезли в Москву и отдали в пансион проф. Шадена. Он получил хорошее образование и светское воспитание.
Восемнадцати лет Карамзин поступил на военную службу, — как и полагалось дворянскому юноше, — в один из лучших гвардейских полков. Однако вскоре он вышел в отставку и уехал в Симбирск. Там он блистал в обществе и поражал провинциалов необыкновенной образованностью. В Симбирске Карамзина увидел И. П. Тургенев, известный масон и литератор новиковского круга. Он убедил молодого человека поехать с ним в Москву, вовлек его в масонскую организацию, заставил его серьезно заняться литературой и углублением своего научного кругозора. Карамзин сделался одним из участников литературно-издательских начинаний Н. И. Новикова, одним из учеников розенкрейцерского ордена. Он и
56
жил в доме, принадлежавшем масонской организации, как бы в своеобразном монастыре. Он принял ближайшее участие в журнале «Детское чтение» (1785—1789), первом русском детском журнале, издававшемся Новиковым под редакцией А. А. Петрова, также ученика-масона. Карамзин переводил для «Детского чтения», иногда заменял Петрова в качестве редактора, затем он стал писать сам, стихами и прозой.
Жизнь Карамзина у масонов продолжалась около четырех лет. Наконец он пережил разочарование в масонской организации и в самом Новикове. Ему, в сущности, всегда была чужда мистика «братьев»-розенкрейцеров, сначала подействовавших на него, вероятно, и атмосферой тайны и своеобразной рыцарской романтикой их ритуалов. Но более всего Карамзина смутил в новиковском масонстве налет конспирации, — как для него стало ясно, наконец, — имевший не столько эстетический, сколько политический характер. В то же время его тяготило и монастырское послушание и монастырское удаление от живой жизни. Он хотел видеть Европу, хотел расти как писатель. Он уехал за границу, покидая в Москве любимую женщину и друзей; может быть, он получил поручение от масонов за границу; но на самом деле это был, во всяком случае, разрыв с масонами и начало новой жизни. Карамзин ехал в Европу, чтобы собрать материал для задуманных им литературных выступлений, для книги о европейской культуре, для журнала европейского значения. На путешествие он истратил почти-что последние деньги, оставшиеся от наследственного имения.
Уезжая за границу, Карамзин был уже весьма образованным молодым человеком. Он следил за новинками западных литератур еще в Москве. Теперь он мог черпать непосредственно у источников европейской культуры. Он пробыл за границей восемнадцать месяцев, побывал в Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Он старался наблюдать природу и нравы чужих стран, много читал, добивался знакомства с выдающимися людьми Запада, с писателями, учеными, философами и старался тут же разобраться в своих впечатлениях, понять увиденное, осмыслить его. В 1790 г. он жил несколько месяцев в Париже, наблюдал революцию в действии, — и отнесся к ней несочувственно.
Осенью 1790 г. Карамзин вернулся в Россию с множеством французских, немецких и английских книг, с запасом идей, впечатлений и воспоминаний на много лет. Его подготовка к самостоятельной литературной деятельности закончилась. С 1791 г. он начал издавать «Московский журнал», выходивший два года. Это был превосходный журнал по тем временам, и он имел большой успех. Карамзин печатал в нем много своих повестей и стихотворений. «Бедная Лиза», помещенная в нем, произвела фурор. Московские девушки и юноши, прочитав повесть и умилившись печальной судьбой ее героини, ходили к Симонову монастырю и любовались на пруд, в котором она утопилась. Другие повести Карамзина также читались нарасхват. В своем журнале Карамзин печатал по частям и «Письма русского путешественника» — литературно-обработанные записки своего путешествия. Деятельным сотрудником журнала был и друг Карамзина И. И. Дмитриев. Старые литераторы из масонского круга были недовольны дерзновением молодого человека, их недавнего ученика, выступившего в роли руководителя журнала и учителя читателей. Но Карамзину удалось привлечь к сотрудничеству столпа масонской литературы — Хераскова. Он привлек к участию в журнале и Державина, с которым успел познакомиться и даже подружиться. Слава пришла к Карамзину, когда ему было всего двадцать пять лет; молодежь поклонялась ему. Скоро он стал признанным авторитетом в литературе.
57
В 1792 г. Новиков был заключен в крепость, и масонская организация в Москве была разгромлена. Карамзин, давно разошедшийся с масонами, тем не менее мужественно выступил в печати с осуждением расправы над ними; он опубликовал свою оду «К милости», в которой достаточно прозрачно высказал свое отношение к действиям Екатерины по отношению к Новикову и его друзьям. Между тем и сам Карамзин был на подозрении у властей, прежде всего как ученик масонов. Реакция свирепствовала в литературе, и правительство проявляло подозрительность выше меры по отношению ко всякой сколько-нибудь независимой мысли. Карамзин не мог не негодовать, видя разгул реакции. Все это вместе взятое привело к тому, что Карамзин принужден был сократить свою активность. Он чувствовал себя опальным. Прекратив издание «Московского журнала», дававшего ему хотя бы умеренный заработок, он издал в 1793 и 1794 гг. два тома альманаха «Аглая», в значительной мере наполненные произведениями самого редактора-издателя; в 1794 г. он напечатал сборник своих повестей и стихотворений «Мои безделки». В 1796—1799 гг. вышло три томика стихотворного альманаха, собранного Карамзиным, — «Аониды».
Карамзин занимался литературой профессионально; более того, литература была его единственным делом; она приносила ему и средства к жизни. В этом отношении он также явился новатором. До него только «мелкотравчатые» писатели, вроде Матвея Комарова, зарабатывали литературой на пропитание. Писатели же дворяне вообще не смотрели на литературу, как на профессию, приносящую средства к жизни, хотя и им иногда приходилось прибегать к своему перу ради заработка (например Княжнину). Карамзин первый среди ведущих писателей открыто сделал литературу профессией, притом профессией почетной, уважаемой. Он поднял в этом смысле авторитет писателя. И именно он узаконил прамо писателя получать деньги за свой творческий труд. Роль Карамзина в истории писательского дела в России была очень велика и плодотворна. Следует также подчеркнуть, что Карамзину удалось расширить круг читателей хорошей книги в России. Его повести, «Московский журнал», альманахи проникли в провинцию, читались людьми самых разных степеней культуры. Его успех приохотил к чтению серьезной книги многих, ранее читавших только «низовую» книгу. Он подготовил возможность восприятия сравнительно широким кругом русских людей не только поэзии Жуковского, но и поэзии Пушкина. «Своим журналом, своими статьями о разных предметах и повестями он распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению», — сказал Белинский.1
В царствование Павла I, в период жесточайшей реакции, Карамзину пришлось заниматься главным образом переводами, знакомя русских читателей со многими, до тех пор неизвестными ему произведениями западных литератур; но и с переводами было трудно; цензура не хотела пропускать переводы из Демосфена, Цицерона, Саллюстия, потому что они были республиканцами. В 1802 г., при Александре I, Карамзин вновь принялся за издание журнала — «Вестника Европы»; это был журнал не только литературный, но и первый общественно-политический журнал XIX столетия.
В 1801 г. Карамзин женился. Денег у него не было, и журнал должен был прокормить его с семьей. Журнал имел успех, и Карамзин надеялся, что за пять лет издание журнала обеспечит его настолько, что ему удастся предпринять огромный труд, который потребовал бы много
58
усилий и времени. Он задумал написать историю России — монументальное историческое произведение.
Друг Карамзина М. Н. Муравьев, когда-то бывший учителем Александра I, взялся похлопотать о том, чтобы правительство помогло Карамзину в его занятиях историей. В 1803 г. царь назначил Карамзина официально историографом и дал ему пенсию. Карамзин принялся с рвением за работу. Он читал, изучал, рылся в старинных рукописях, — и начал писать «Историю государства Российского».
Двадцать два года, до самой смерти, Карамзин продолжал работать над своей «Историей». Жизнь его текла спокойно; она была заполнена трудом, семейными радостями и горестями, беседами с друзьями. Овдовев в 1802 г., в 1804 г. Карамзин женился вторично, на сестре П. А. Вяземского («незаконной» дочери его отца). К старости Карамзин все более укоренялся в консервативных воззрениях, но оставался человеком независимым. В 1811 г. он лично познакомился с царем (через сестру Александра Екатерину Павловну) и подал ему «Записку о древней и новой России», в которой критиковал политическое направление правительства с реакционных позиций, но смело и не взирая на лица. «Записка» была направлена, в частности, против половинчатых реформ, проводившихся Сперанским.
В 1800—1810-х гг. разгорелась распря между учениками Карамзина, сторонниками его реформ в литературе и языке, с одной стороны, и литературно-политическими реакционерами, возглавленными адмиралом Шишковым, — с другой. Дело дошло до доносов правительству; некто Павел Иванович Голенищев-Кутузов, бездарный писатель и оголтелый реакционер, писал властям о том, что Карамзин — якобинец и ниспровергатель основ. К счастью, эти бредовые, вовсе не соответствовавшие действительности доносы не влияли на царя.
Сам Карамзин совершенно устранился от полемики; за него сражались его ученики. Впоследствии он даже лично познакомился с Шишковым и сумел очаровать его. Вообще Карамзин обладал значительным обаянием, умением покорить своего собеседника. Его спокойное достоинство, легкость свободной и умной речи, острый ум импонировали самым различным людям.
В 1816 г. Карамзин переехал в Петербург. Через два года появились первые восемь томов «Истории государства Российского». Успех книги был неслыханный. Все хотели прочесть историю своей страны, впервые научно и увлекательно написанную. Передовую молодежь не могла удовлетворить монархическая тенденция «Истории», но все признавали художественный блеск изложения и обилие материалов, собранных Карамзиным, его исключительной заслугой; все говорили о том, что Карамзин открыл для русского народа его прошлое.
С 1816 г. Карамзин летом живал в Царском Селе, недалеко от дворца. Работа над историей занимала все утро. На прогулке в парке Карамзин встречался постоянно с царем Александром. Они вместе гуляли и разговаривали. Карамзин стал личным другом царя, хотя нередко оспаривал его мнения и даже действия весьма решительно. Он не хотел ни чинов, ни денег, — и он не получал их. Нередко в Царское Село приезжали друзья, писатели, старики и молодежь. За круглым столом в гостиной жена Карамзина разливала чай. Несколько поодаль от стола в просторных вольтеровских креслах восседал сам Карамзин и поучал своих молодых посетителей.1 Летом 1816 г. часто бывал на этих
59
литературно-политических чаепитиях юноша-Пушкин. Зимой беседы за круглым столом переносились в Петербург. Постоянными посетителями Карамзина были Жуковский, Батюшков, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский. В 1820 г., когда Пушкину угрожала тяжкая кара за его вольнолюбивые стихи, Карамзин хлопотал о нем и помог смягчить его участь.
Карамзин умер в 1826 г., не успев закончить двенадцатый том «Истории государства Российского», посвященный описанию событий «смутного времени».
2
Четыре года, проведенные Карамзиным в сфере влияния новиковской организации, во многом определили его мировоззрение в дальнейшем, пожалуй, на всю его жизнь. Здесь выковались принципы его отношения к действительности, основы его политической идеологии, даже определилась его литературная ориентация. Влияние масонского круга на Карамзина было тем более сильно, что воспитание, полученное им у проф. Шадена, старого работника Московского университета, тесно связанного с тем же кругом, не только не противоречило этому влиянию, но могло только подготовить Карамзина к его восприятию. В сущности, с самого детства Карамзин развивался в том течении русской дворянской культуры, которая выразилась в деятельности и творчестве Хераскова и — с другой стороны — Новикова, и которое восходило к Сумарокову и его школе. Ведь и сентиментализм в той его форме, которая завершилась на русской почве Карамзиным, возник в творчестве Хераскова и писателей, связанных с ним; ведь и германские штудии и увлечения Карамзина были предопределены литературными интересами Хераскова — поклонника Клопштока, Кутузова — переводчика Клопштока, и в то же время усиленными связями новиковского масонства с умственными и даже политическими течениями в Берлине, проповедью проф. Шварца, «пророка», выехавшего из Германии и, в конце концов, уроками Шадена, бывшего тюбингенского студента.
Глубокая связь Карамзина с традицией русской дворянской культуры, по-своему воспринявшей в 1780-х годах германские воздействия, приводила к борьбе в его сознании двух стихий, явившихся для него историческим наследием двух периодов развития самой этой традиции в идеологической и, прежде всего, в политической области. Исконный либерализм сумароковской школы, сильно поколебленный катастрофическими событиями 1770—1780-х годов, крестьянской войной и потемкинской реакцией в России, американской революцией и нарастанием революционной ситуации во Франции, все же не утерял окончательно своего обаяния для Карамзина. Неприятие тирании, произвола, чиновничье-полицейского характера правительства, варварства и невежества, разъедавших властвующий класс России, все то, что составляло пафос отрицания и политической борьбы и Сумарокова и даже еще Фонвизина, — все это свойственно органически и мировоззрению Карамзина. Он никогда, до самой смерти, не мог примириться с явными неустройствами русской политической жизни. Он с самой юности усвоил правила независимости мысли и поведения русского писателя, культивировавшиеся в кругах учеников Сумарокова. Как и его учителя и, может быть, более подчеркнуто, чем они (он все-таки сформировался при громах французской революции), Карамзин не хотел и не мог быть рабом, слугой царя, чиновником, даже придворным. Идея свободного гражданского служения была ему всегда близка. Недаром он ни за что не хотел быть государственным
60
служащим, не хотел ни чинов, ни званий, отказывался даже от почетных назначений, например, от назначения попечителем учебного округа (1810). Он добивался официального звания историографа, дававшего ему возможность у себя дома заниматься историей России, но ведь это звание, специально для него восстановленное, нимало не обязывало его принимать участие в практике власти. Он принял от Александра I орден и чин статского советника, но ведь это был очень невысокий чин для царского друга и крупного деятеля, каким он был, и опять — этот чин не был для него связан с какой бы то ни было чиновничьей должностью. Он хотел при Александре влиять на политику правительства, но только в качестве писателя, представителя свободной дворянской общественности, наконец, личного друга царя и частного человека, а не в качестве официального лица. Он даже не хотел состоять ни в какой официальной литературной организации; в 1816 г., познакомившись с Шишковым и другими «беседчиками», он писал жене: «Добрый старик Державин вздумал было произвести меня в члены Российской Академии; но я сказал ему, что до конца моей жизни не назовусь членом никакой Академии» (18 февраля 1816). Правда, в 1818 г. Карамзину пришлось все-таки принять членство Российской Академии, но зато он произнес при вступлении в нее речь весьма независимую и поучительную для заседавших в ней реакционеров.
При Екатерине II (как и при Павле I) Карамзин был фигурой явно подозрительной для правительства. Его ода «К милости», заключавшая протест против произвола, расправившегося с Новиковым, не могла пройти ему даром. Это его выступление тем более замечательно, что он не только разошелся с Новиковым идейно и организационно уже за три года до того, но был с ним в ссоре и очень не любил его лично. Карамзин тяжело переживал свою опалу и может быть испытывал тревогу за свою судьбу. О нем ходили слухи вроде, например, того, что он уже сослан. Его имя становилось одиозным для властей, и иной раз лучше было о нем не напоминать. Карамзин был подавлен, но не шел на капитуляцию. Он вместе со всеми «независимыми» не мог скрывать своего осуждения политики последних лет царствования Екатерины. И когда Дмитриев написал в 1794 г. две оды официального стиля, Карамзин так выразился о них в письме к самому Дмитриеву, — осторожно, из опасения перлюстрации, и все же определенно: «Ода и Глас патриота хороши поэзиею, а не предметом. Оставь, мой друг, писать такие пиесы нашим стихокропателям. Не унижай Муз и Аполлона» (6 сентября 1794).
Начиная с конца 1790-х годов, Карамзин все более «правел», и тем не менее он не отрекался от закваса независимой мысли своих учителей. Он не забывал и Новикова, и когда тот умер, подал царю записку, в которой дал очень положительную оценку его деятельности; записка имела целью добиться материальной поддержки семье Новикова. Вообще, записки, «мнения», подававшиеся Карамзиным Александру I, так же как характер его личных отношений с царем, весьма показательны. «Записка о древней и новой России» (1811), без сомнения, — документ реакционной общественной мысли; Карамзин выступил в ней с злыми нападками на политику поддержки Сперанского. «Самодержавие есть Палладиум России» — таков политический вывод Карамзина; охрана дворянских прав и крепостничества — его вывод в социальной плоскости. Тем не менее «Записка» была таким документам, который царским слугам, вроде Аракчеева, Шишкова, Фотия, мог показаться крамольным. Карамзин подвергает резкой критике все стороны деятельности правительства, и критика его часто справедлива: он рисует яркую картину разгула невежественной, грабительской, глупой власти в стране. Карамзин дает критический анализ
61
царствования Екатерины, громит тиранию Павла, отца своего адресата; он не побоялся даже заговорить об убийстве Павла и осудить убийц (а ведь и сам Александр не мог быть свободен от обвинения по этому делу), — и вот он переходит к царствованию самого адресата: «Но здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры». Карамзин резко и ядовито обрушивается на советников царя, его друзей и любимцев; он не щадит и его самого, недвусмысленно намекая на его неопытность, неосторожность, слабое понимание политических вопросов, легкомыслие, самоуправство, наконец, просто глупость. Этой критикой монархии справа не могли не воспользоваться критики и ненавистники его слева. Но царь Александр, естественно, остался недоволен «Запиской» Карамзина; он никогда не слышал такой речи ни от кого, никогда не читал таких слов, обращенных к нему.
Когда в 1816 г. Карамзин привез первые 8 томов своей «Истории государства Российского» в Петербург (из Москвы, где он жил в это время) и должен был получить от царя возможность издать ее. Александр не принимал его в течение полутора месяцев; историографу дали понять, что царь все еще недоволен им, что для улучшения его положения необходимо подольститься к Аракчееву и что открытое нежелание Карамзина кланяться временщику истолковывается властями неблагоприятно. Карамзин не скрывал своего раздражения всем этим делом. Он хотел уже уехать, не печатать «Историю», хотя ему предлагали частные лица издать ее, заплатив автору большие деньги. Он подчеркивал, что не хочет даже ради царя отказаться от чувства собственного достоинства. 2 марта он писал жене: «вчера, говоря с вел. кн. Екатериною Павловною, я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом». Наконец, ему пришлось сделать некоторые уступки по отношению к Аракчееву, правда, незначительные, — и царь принял его «милостиво», и «История» могла быть напечатана. С тех пор началась дружба с царем. Со стороны Карамзина это была действительно личная дружба. Его письма к царю и царице составляют исключение из всех почти писем к ним; они лишены подобострастия, даже условных формул почитания; это — простые, частные, дружеские письма, написанные в таком тоне, конечно, с умом и умыслом, не совсем простодушно, — но существен здесь самый замысел.
В 1819 г., когда Александр I заявил о своем намерении отделить польские губернии от России, дав им государственную самостоятельность, Карамзин заволновался. Он написал царю записку «Мнение русского гражданина», в которой с величайшей резкостью заявлял, что царь не должен исполнить своего намерения, не имеет права исполнить его, заявлял, что в случае исполнения его, отечество явится «игралищем самовластного произвола» и т. д. Эту записку Карамзин лично прочитал царю, и это было для царя новой обидой. Карамзин написал для своих сыновей и для потомства заметку об этой беседе с царем, — заметка так и обозначена была в заглавии: «Для потомства». Здесь Карамзин, зная, как трудно было резко порицать царя лично ему, восклицал: «Потомство! Достоин ли я был имени гражданина российского? Любил ли отечество? Верил ли добродетели? Верил ли богу?» 18 декабря 1825 г., через четыре дня после восстания, Карамзин написал прибавление к этой заметке. Здесь он подводил итог своим беседам с умершим царем, и вот этот итог: «Я не безмолствовал о налогах в мирное время, о нелепой Г[урьевской] системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых
62
важнейших сановников, о министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, — наконец о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные». Последние слова здесь чрезвычайно важны. Карамзин, в 1811 г. писавший царю, что дело не в законах, а в хороших людях, теперь, в 1825 г. заявляет потомству, что он требовал от царя твердых государственных законов. 1812 год и весь период декабризма, отделяющие «Записку о древней и новой России» от 1825 года, не прошли даром и для Карамзина. Ведь о введении монархии в рамки «законности» он пишет сразу после 14 декабря. Видимо, восстание не так уж поразило его. «Официальные» письма его к И. И. Дмитриеву и А. И. Тургеневу после восстания написаны осторожно и неопределенно. Следует указать, что когда Николай I поручил Карамзину составить проект манифеста о вступлении его на престол, проект вышел таким, что новый царь не захотел принять его. Карамзин предложил царю включить в программную часть манифеста и «истинное просвещение ума», и «мирную свободу жизни гражданской», и такую фразу: «да будет престол наш тверд законом и верностию народною». Как ни смутны были заключенные в этих словах обещания, Николай не пожелал дать их. Проект Карамзина был отвергнут, и в изданном манифесте не было ни слова ни о просвещении, ни о свободе, ни о законе.
3
П. А. Вяземский мечтал о парламенте, в котором Карамзин будет восседать среди правых, а он, Вяземский, среди левых. Карамзин, без сомнения, готов был принять такую формулу, — и при этом он очень любил Вяземского, как и других «либералистов». Собираясь вместе, Карамзин и «либералисты» могли обо многом, и очень важном, договориться. Но самое важное разделяло их: вопрос о крепостничестве, потому что все-таки Карамзин был прежде всего консерватором помещичьего толка. Впрочем, и в своей реакционности Карамзин никогда не мог забыть просветительских уроков своих учителей, начиная от Шадена и Хераскова и кончая Новиковым. Культура, знание, широкое образование — для него всегда оставались одним из основных условий народного благосостояния, и распространение их — одной из важнейших задач правительства. Карамзин решительно отличался в этом вопросе от реакционеров его времени, открыто заявлявших, что обучать народ опасно и вредно. Его просветительская установка связывала его с лучшими традициями передовой общественной мысли XVIII столетия. Он резко осуждал практику царского правительства в вопросах культуры, практику министерства просвещения или «затмения». В «Вестнике Европы» он открыл целую кампанию в защиту просвещения. Он требовал просвещения для всего народа, считая, что добиться грамотности народа важнее, чем давать изысканное воспитание немногим привилегированным юношам: «учреждение сельских школ,— писал он, — несравненно полезнее всех лицеев, будучи истинным народным учреждением, истинным основанием государственного просвещения». Он считал также необходимым добиваться наибольшего распространения книг в «среднем» сословии; он считал необходимым поднять значение русской науки и уважение к ней, считал крайне желательным, чтобы молодые дворяне занялись науками, становились профессорами, а не только офицерами или чиновниками. Таким образом Карамзин мечтал об осуществлении грандиозного плана организации просвещения для всех классов
63
общества, всеобщего подъема русской культуры. «Просвещение есть Палладиум благонравия» (т. е., другими словами, — общественного благополучия) — пишет Карамзин. При этом не только теоретическая просветительная позиция Карамзина заставляет нас отделить его от реакционеров типа Шишкова или типа Магницкого и Рунича; вся литературно-общественная деятельность Карамзина, объективно служившая пропаганде многих достижений европейской культуры в России, шла вразрез с установками и практикой правительственной реакции.
Конечно, традиция дворянского либерализма у Карамзина приобрела расплывчатые, туманные, неопределенные очертания. Он усвоил смолоду и сохранил на всю жизнь уважение к понятиям свободы, просвещения, гражданского долга, независимости личности, но все эти понятия перестали для него быть политической программой, какою они были для его предшественников, дворянских либералов середины XVIII в.; они сделались для Карамзина образами прекрасной мечты человечества, культа и любования. Он и толкует эти понятия не столько в политическом плане, сколько в моральном. Он написал П. А. Вяземскому: «Я в душе республиканец, и таким умру». Эта формула чрезвычайно характерна. Она ни к чему не обязывала Карамзина в политической практике и совмещалась для него с убеждением о необходимости в России вовсе не республики, а монархии и даже самодержавия. «Не требую ни конституции, ни представителей,— писал Карамзин Дмитриеву в 1818 г., — но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое!» А Н. И. Тургенев писал о нем впоследствии: «Он далеко не был врагом форм правления, совершенно противоположных тем, какие были в России, он даже был их энтузиастом».
И глубокая личная честность Карамзина, и неистребленный в нем заквас либерализма, и просветительство его делали возможным для него открытое идейное общение с «либералистами» его времени. Сам он подчеркивал неоднократно, что он чуждается равно и «сервилистов» и «либералистов», что «истина и добро в середине»; он писал это и самому Александру I. Но в его время уйти от «сервилистов»-реакционеров — это значило уже пойти навстречу «либералистам». В самом деле, у Карамзина не могло быть ничего общего с Шишковым или Аракчеевым; он просто не мог бы разговаривать с ними о политике. А с либералом Вяземским, с декабристом антикрепостником Н. И. Тургеневым, с юношей Пушкиным, писавшим революционные стихи, он разговаривал, спорил, дружил с ними, не соглашался с их «крайними» мнениями, но находил какой-то общий язык. И ведь они считали возможным и интересным для себя не только являться к нему на поклон, но и вести с ним споры о политике, не боясь, конечно, что он сообщит об их мнениях своему приятелю Александру I или его слугам. Известно, что однажды у Карамзина шел спор с Пушкиным о рабстве. «Итак, вы рабство предпочитаете свободе», — сказал Пушкин. Карамзин «вспыхнул» и сказал, что Пушкин оклеветал его больше, чем Голенищев-Кутузов. И ведь он хлопотал о Пушкине, хорошо зная политические позиции Пушкина. Все это было бы невозможно для Шишкова, хотя и он был субъективно человеком честным. Все это, — а не только литературная работа Карамзина, — приводило к появлению доносов на него Павла Голенищева-Кутузова, считавшего, что он, Карамзин, метит в Сийесы.
64
4
Между тем Карамзин нимало не был Сийесом, не был им не только в пору работы над «Историей государства Российского», но и в пору формирования своего мировоззрения. Но фрондерские традиции, уже сильно выветренные, воспринятые им от московских масонов, дали ему его отвлеченный и прекраснодушный либерализм и приучили его ощущать свою литературную деятельность как путь общественного служения.
Карамзин в двадцать лет — восторженный юноша, мечтающий о счастье человечества и верующий в то, что оно вот-вот наступит, даже уже наступает. Несмотря на масонское воздействие (или благодаря ему), он — рационалист, как и все его учителя, и Херасков и — через него — Сумароков. Ему кажется, что умные теории умеренных философов-публицистов Запада уже решили дело истории, и умные государи и умные и добрые дворяне прекрасно справятся с делом насаждения рая на земле только путем добродушия в отношении к своим подданным. Впоследствии он убедился, что история делается не так просто, что народы Европы хотят иного счастья, чем его счастье, что розовые надежды были только мечтой. Но эти розовые надежды с самого начала вовсе не были проявлением сколько-нибудь демократических взглядов или настроений. Менялись — в связи с ходом политических событий — конкретные политические или тактические суждения, но основа была неизменной и достаточно явной.
Профессиональная литературная деятельность Карамзина началась в журнале «Детское чтение». Журнал посвящен «благородному», т. е. дворянскому российскому юношеству, наполнен мистикой и необычайно сусальной нравоучительностью. В первом же номере журнала поставлен вопрос о «неравенстве состояний» в обществе. Некто Добросердов, резонер, представляющий точку зрения редакции, беседует с детьми.
Добросердов. Дети! Имея все, что вам нужно, не можете вы представить нищету, которая часто царствует в хижине братий наших, таких же человеков, как и мы. Я советовал бы вам иногда смотреть на нее в самом деле. Тогда при вкусных ваших кушаниях стали бы вы вспоминать о том, что они часто и простого хлеба не имеют. В теплых комнатах думали бы вы, как они терпят стужу; на мягких постелях приходила бы вам на ум солома, на которой они валяются; при хорошем вашем платье представляли бы вы себе их рубище — и не стали бы вы тогда их презирать?
Лизанька. Ах нет! Конечно нет! Мы стали бы их сожалеть и помогать им, если бы могли.
Добросердов. Так, Лизанька. Собственное наше счастие должны мы почитать за божие благодеяние, которого мы не заслужили. Все мы имеем одного отца, который каждого из нас разно наделяет временными благами, так, как потребно для благополучия всех вместе.
Алексей. Это правда. Если бы все мы имели равные участи, это было бы нехорошо. Тогда никто бы не стал обрабатывать поля, никто бы не стал делать для других то, что им необходимо.
Добросердов. Таким образом все мы терпели бы голод, нужду и не любили бы один другого. Итак, посредством неравного разделения участи, бог связывает нас теснее союзом любви и дружбы.
Так, еще до французской революции отправной точкой развития взглядов Карамзина была мысль, что в эксплоатации человека человеком нет ничего ненормального. На следующем этапе, в «Письмах русского путешественника», Карамзин выражает скептическое отношение даже к умеренному демократизму Англии. «Не конституция, — говорит он при этом, — а просвещение англичан есть истинный их Палладиум. Всякие
65
гражданские учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле... Впрочем, всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно». Очевидно, он считает, что и крепостничество в русских «нравах» может быть благотворно и совершенно. В «Вестнике Европы» в 1803 г. он поместил свое «Письмо сельского жителя», в котором рассказывается о некоем молодом дворянине, отдавшем всю свою землю крестьянам, бравшем с них самый умеренный оброк и разрешившем им самим выбрать себе начальника. Что же получилось? Крестьяне злоупотребили свободой, разленились, стали пьянствовать. «Иностранцы напрасно приписывают рабству леность русских земледельцев, — пишет Карамзин, — они ленивы от природы, от привычки, от незнания выгод трудолюбия». Он считал, что со временем, лет через 50—100 следует освободить крестьян, подготовив для этого почву. Но для своего времени он утверждал, что благополучие крестьян может быть обеспечено добрыми помещиками-христианами и просвещением, которое «истребляет злоупотребления господской властью, которая и по самым нашим законам не есть тиранская и неограниченная» (1802).
5
Карамзин был европейски образованным человеком; он был воспитан в атмосфере брожения умов второй половины XVIII столетия. Он не мог уже думать, что устои феодального абсолютизма, устои крепостничества вечны и незыблемы. В 1790 г. он наблюдал вблизи, в самом Париже, буржуазную революцию. Над ним, над его миром дворянского благополучия, над его культурой «избранных» нависла опасность; враг был у ворот, и враг страшный, беспощадный, вооруженный. Старый феодальный мир разваливался на глазах у Карамзина, и он не мог не замечать этого, не мог не видеть силы новой буржуазной культуры, расправлявшейся с остатками феодального строя. В 1790-х годах Карамзин в Москве чувствовал себя на острове, окруженном враждебной стихией; то здесь, то там раздавались как бы подземные толчки, дававшие знать, что и здесь, дома, не все благополучно. То это было выступление Радищева, то польское восстание, переносившее лозунги французской революции почти на территорию Российской империи, то новый подъем волны крестьянских «бунтов». Отмахнуться от всего этого было нельзя. Отнестись к французской революции, как к случайности, к бунту «черни», который, мол, можно и следует подавить, — Карамзин не мог. Его сознание сформировалось в годы американской революции, в годы французской революции. Для него революция не была временной заминкой в ходе дел, а великой катастрофой. Старики-реакционеры, люди типа Шишкова, считали, что революцию надо задавить — и все пойдет по-старому; они в самом деле ничему не научились и ничего не забыли. Иное дело — Карамзин и молодые дворяне его круга. Они по-своему поняли значение революции, и в этом была их относительная сила.
В 1797 г. Карамзин напечатал за границей по-французски статью о русской литературе, главным образом о себе самом, о своих «Письмах русского путешественника». Здесь он привел цитату из этой книги, отсутствующую в ее окончательном тексте: «Французская революция принадлежит к числу событий, определяющих судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха; я вижу это, а Руссо это предвидел... События следуют друг за другом, как волны в бурном море; а думают, что революция уже кончена. Нет! Нет! Мы увидим еще поразительные вещи;
66
крайнее возбуждение умов предсказывает это» (подлинник по-французски). Эти слова Карамзина не означают, что он сочувствует французской революции. Но он знает ее силу и видит ее размах, боится ее и не может не втягиваться в орбиту ее воздействия. В тексте «Писем русского путешественника», по первому изданию их, пятый томик (1801) начинался письмом о революции:
«Говорить ли о французской революции? Вы читаете газеты, следственно происшествие вам известно. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время от зефирных французов, которые славились своею любезностию и пели с восторгом от Кале до Марсели, от Перпиньяна до Страсбурга: „Для любезного народа счастье первое есть царь?“ Не думайте, однакож, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива. История не кончилась; но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона».
Карамзин, говоря о революции, не бранится, не вопит в диком припадке реакционного изуверства, как это делали многие дворянские литераторы его времени. Но он явственно проводит свою линию неодобрения революции. Он смотрит на вещи достаточно трезво, видит слабость феодализма и силу тех, кому «потерять нечего». Он хотел бы предохранить Россию от их силы, от их влияния, которое проникает повсюду. Даже влияние мод французской буржуазии кажется ему показателем слабости противодействия этой буржуазии со стороны русских дворян. В 1802 г. он написал статью «О легкой одежде модных красавиц девятого-на-десять века», в которой напал на моды эпохи директории и консульства. Он писал:
«Наши стыдливые девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что француженки не имеют ее, без сомнения те, которые прыгали контрдансы на могилах родителей, мужей и любовников. Мы гнушаемся ужасами революции, и перенимаем моды ее. Какие женщины дают ныне тон в Париже? Роскошные супруги банкиров и подрядчиков. Обогащенные народною казною, — женщины низкого состояния...» и т. д. «Но мудрено то, что в государстве благоустроенном где есть нравы, воспитание и правила, женщины, вообще любезные, следуют моде парижских мещанок».
Французская революция во многом оформила мировоззрение Карамзина. Она произвела на него потрясающее впечатление. Он воспринял ее как крушение всех светлых надежд, как срыв в исторический пессимизм, в безнадежность, из которой он тщетно будет искать закономерного выхода. Характерно отношение Карамзина, еще почти мальчика, к американской революции и войне за независимость. В «Письмах русского путешественника» он вспоминал: «С каким восторгом, будучи пансионером профессора Шадена, читал я во время американской войны донесения торжествующих британских адмиралов. Родней, Гоу не сходили у меня с языка. Я праздновал победы их и звал к себе в гости маленьких соучеников моих...» Вспомним отношение к этим же событиям Радищева.
О той растерянности, которая владела Карамзиным именно в результате развития событий революции на Западе, говорится в исключительно интересной статье его — «Письмах Мелодора к Филалету и Филалета к
67
Мелодору». О том же, о силе крушения, испытанного Карамзиным, говорится и в его стихотворениях, в посланиях к А. А. Плещееву и к И. И. Дмитриеву. Вообще французская революция стоит за многими произведениями Карамзина и как угроза и как предупреждение. И все же дело было не только, далеко не только в ней. Дело было даже не только в том общеевропейском вихре событий, за которым следил Карамзин в 1790-х годах. Дело было в том также, о чем Карамзин никогда не писал, но без всякого сомнения помнил всегда, — в крестьянских «волнениях» в самой России, волна которых поднялась в 1790-х годах, в тяжком кризисе императорской России в это время.
6
Несчастье Карамзина заключалось в том, что ему не за что было бороться. Он хотел противостоять напору антифеодального переворота, но во имя чего? Он видел, что его феодальный мир не является силой, способной побеждать, по крайней мере в Европе. Шишков, другие ультрареакционные деятели дворянской политики и литературы, — те боролись с запальчивостью, агрессивно нападали на врага. Карамзин не имеет силы нападать; он исторически пассивен, он может только удерживать то, что есть; «те, которые могут всего лишиться, хотят спасти что-нибудь» — эта его формула годна не только для дворянства Франции, но и для него самого.
Социальное историческое мировоззрение Карамзина окрашивается в тона глубокого пессимизма. Карамзин, подобно многим западным писателям XVIII и начала XIX столетия, подобно Юнгу, Бернардену де сен Пьеру, Шатобриаму и другим, но по-своему, в особых условиях русской дворянской культуры, создает культ меланхолии, печали, резиньяции, готовности нести крест страданий. Бесперспективность, безнадежность его мировоззрения приводит его в сущности к безразличию, к историческому скептицизму. Он не может настаивать на правоте своих консервативных идеалов, ибо знает, что они нереальны, что они умирают. Он не может признать идеалов революции, хотя знает, что они реальны.
Он останавливается на скептической мысли, что борющиеся классы, феодалы и буржуа, в одинаковой мере правы, что «идеальная» оболочка их стремлений — ложь, что их декларации прикрывают эгоизм. «Аристократы, сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются воспользоваться им для своих личных выгод», — писал Карамзин в заметке «Мысли об истинной свободе», видимо, не предназначавшейся для печати (около 1825 г.). В «Записке о древней и новой России» он явственно дает понять, что он считает людей вообще существами безнравственными, дурными, злобными; поэтому-то он и считает, что побеждает и делает дело в истории тот, кто сильнее, кто крепче держит в руках людей, угрожая им. Критерием ценности исторических событий оказывается у него сила.
«Аристократы! Вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувства, а не теории. — Речи и книги аристократов убеждают аристократов; а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу аристократии: палица, а не книга. — Итак сила выше всего? Да, всего,
68
кроме бога, дающего силу» («Мысли об истинной свободе»). Последние слова придают «палице» даже божественную санкцию.
Карамзина не радует этот критерий ценности — сила. Он ищет иных критериев ценности, прежде всего эстетических. От жизни, где сильный прав своей силой, он замыкается в круг сладостных эмоций, очень личных, очень нравственных, по его мнению, но смысл которых лишь в создании фикции спасения от истории. За всеми проявлениями нравственной умиленности, эстетической чувствительности, исторической учительности Карамзина стоит неверие. В конце концов Карамзину хочется только сохранить свой внутренний мирок переживаний, которые кажутся ему и высокими и прекрасными.
Но что же нам, о друг любезный!
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем пременить людей?
Оплакать бедных смертных долю,
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и Рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят, что им угодно.
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли,
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли.
Карамзин — умывает руки: он не желает принимать участия и в угнетении народа:
Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.
Мы слабых здесь не угнетали,
И всем ума, добра желали:
У нас не черные сердца!
И так без трепета и страха
Нам можно ожидать конца
И лечь во гроб, жилище праха;
Завеса вечности страшна
Убийцам, кровью обагренным,
Слезами бедных орошенным,
В ком дух и совесть без пятна,
Тот с тихим чувствием встречает
Златую Фебову стрелу,
И ангел мира освещает
Пред ним густую смерти мглу.
(Послание к И. И. Дмитриеву, 1794)
69
Все в мире — государственное устройство, жизнь и смерть, любовь и нищета, героизм и подлость — все становится для Карамзина предметом эстетического преображения (конечно, это не значит, что он теряет черты отчетливого социального мировоззрения). Он эстет и скептик, для которого «красивое» и «умилительное» прекрасно, якобы, само по себе.
В. В. Сиповский в своей ценной монографии «Н. М. Карамзин, автор „Писем русского путешественника“» (1899) писал: «Природа, действительно, доставляла Карамзину массу всевозможных ощущений, начиная с восторга, кончая ужасом, — но во всех этих ощущениях чуткий Карамзин заметил оттенок удовольствия. Откуда взялся этот элемент удовольствия, нам не трудно объяснить: Карамзин переживал лишь «эстетические» эмоции, т. е. такие страдания, которые были чужды остроты и боли, присущих действительным» (стр. 409). «Все прекрасное меня радует, — сказал сам Карамзин, — где бы и в каком бы виде ни находил его».
Карамзин умиляется и даже восторгается счастливой жизнью свободных швейцарских крестьян в «Письмах русского путешественника», но это вовсе не обязывает его к мысли о желательности или необходимости перенесения соответственных порядков в Россию. Он никого не хочет судить; как сложились условия, жизнь, пусть так и будет всегда, — вот чего он хочет. В Швейцарии победила свобода, — пусть «счастливые швейцары» живут свободной жизнью; в России победили помещики, — пусть они блаженствуют и испытывают сладостную жалость к беднякам по рецепту «Детского чтения». Все по Карамзину одинаково хорошо, а может быть и одинаково плохо. Поэтому не стоит стремиться к новому; лучше не будет, а любоваться есть чем при всяких порядках.
Обращение Карамзина к прошлому, к истории, приведшее его в конце концов к отходу от литературы и к официальному званию историографа, имело также специфический характер. Первая историческая повесть Карамзина — «Наталья, боярская дочь»; это — умиленный гимн добрым старым временам феодализма, чуждого еще потрясений. Эта повесть содержит скорее утопию, чем историю. Поэтому нет в ней ни в малой мере стремления воссоздать прошлую жизнь такой, как она была. В этом отношении Карамзин крепко связан еще с старой классической традицией. Историзм его повести фиктивен в такой же, в сущности, мере, как историзм трагедий Сумарокова. Карамзину, несмотря на то, что он хорошо был знаком с литературой раннего западного романтизма, не был свойствен глубокий историзм, возникавший в этом литературном течении. Это сказалось даже в «Марфе Посаднице», повести, написанной уже тогда, когда Карамзин всерьез занимался изучением русской истории. Эта повесть на первый взгляд удивляет. Карамзин с большим подъемом изображает республиканские доблести Марфы и ее сторонников. Реакционный тупица П. И. Голенищев-Кутузов в доносе на Карамзина как на якобинца ссылается именно на «Марфу Посадницу». Но повесть Карамзина нимало не революционна. Лишь релятивизм позиции Карамзина привел его к возможности восторгаться республиканцами. Новгородские герои у Карамзина внеисторичны; это — античные герои в духе классической поэтики, и классические воспоминания явственно тяготеют над повестью. Недаром рядом с «вечем» и «посадниками» у Карамзина фигурируют «легионы». Но дело не только в этом. Карамзин, изображая республиканские доблести, восхищается ими эстетически; отвлеченная красивость героики увлекает его сама по себе.
Сила и цельность культуры прошлого, воспринятые эстетически, импонируют Карамзину, может быть, именно вследствие того, что он чувствует слабость своей собственной культуры, аморфность ее. И еще одно:
70
среди чуждых Карамзину, но прельщающих его своей эффектностью исторических образов больше всего привлекают его образы сильной власти, подчиняющей себе народ, власти диктаторского характера, беспощадной и прямолинейной; по такой власти тосковал Карамзин в эпоху великих катастроф конца XVIII — начала XIX столетия. Эстетические критерии — это одна сторона оценки Карамзиным исторических фактов; согласно этим критериям он прославляет то, что эмоционально действует своей характерностью, яркостью, своеобразием и т. п. С этим связаны и его романтические мотивы, — и испанская экзотика «Сиерры-Морены», и таинственная романтика ужаса, старинных замков и т. п. в «Острове Борнгольме». Эти произведения входят в традицию ранней романтической прозы в русской литературе; это — произведения большого мастерства, в которых учтен опыт западного, в частности английского, раннего романтизма. Но Карамзин не ставит проблемы национальных культур, исторически понятых, т. е. той проблемы, которая возникла у настоящих романтиков. Чужда Карамзину и идеологическая нагрузка, — антиклерикальная или иная, но острая и смелая, — свойственная наиболее ярким произведениям традиции ужасов и тайн, от которых зависит «Остров Борнгольм». Да и самая настроенность этой повести далека от мрачного сгущенного тона скорби и отчаяния, который отличает книги Льюиса или Матюрена. Карамзин и в своей романтике строит красивые фикции, меланхолические, погружающие душу читателя в состояние томного сна, забвения подлинных трудностей, подлинного социального бытия.

Титульный лист «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина в изд. 1797 г. (Москва).
Критерий красоты, эффектности был основным для Карамзина как художника; критерий силы решал дело для него как историка и политического мыслителя. Нет нужды доказывать слабость обоих этих критериев. Марфа Посадница вызывает восхищение Карамзина-эстета; но она побеждена силой монархии в лице Ивана III, и Карамзин-политик осуждает Марфу. «Победителей не судят» и «горе побежденным» — вот лозунги Карамзина. Уже в «Марфе Посаднице» мы видим двойственное отношение писателя к своей героине и к своей теме вообще: Карамзин посылает Марфу на казнь и в то же время любуется эффектностью гибели Марфы.
71
7
Если не считать подготовительного периода литературной работы Карамзина до его путешествия за границу, вся его деятельность, как писателя-беллетриста и даже журналиста, замыкается в короткий период с 1791 по 1803 г.; после этого около двадцати трех лет его жизни ушло на «Историю Государства Российского». Тринадцати лет было достаточно для укрепления за Карамзиным славы великого писателя, реорганизатора русской литературы и языка. Карамзин уже в 1790-х годах выступает в роли учителя и вождя литературы. Влияние его было огромно; представители самых разных умственных течений в русском обществе открыто признавали это влияние, говорили об увлечении Карамзиным, через которое они прошли: тут и декабристы Н. Тургенев и Батенков, и Денис Давыдов, и Озеров, и Сергей Глинка, и Востоков, и Пушкин, и Погодин, и Гоголь, и Тютчев и многие другие. Современники не находят слов, чтобы прославить его в печати: он «чувствительный, нежный, любезный и привлекательный наш Стерн», «почтенный и любезный для сердца», «знаменитый писатель наш», «любимейший русский писатель» и т. д. и т. д. С другой стороны, Карамзина же считают наиболее опасной фигурой, вождем, и реакционеры, противники нового направления в русской литературе. И те и другие, и друзья и враги, увидели в Карамзине новатора, реформатора, писателя, который сделал переворот в русской литературе.
Между тем, Карамзин не открыл впервые для России того сентиментализма, который связывался с его именем. Он добился, однако, величайшей кристаллизации этого стиля, сделал его общим достоянием, добился его победы. Он связал со своим именем целое течение, зародившееся до него, но выразившееся полноценно именно в его творчестве. Аналогичную роль он сыграл и в истории литературного языка, воплотив наиболее ярко и последовательно тенденции реформы, наметившиеся до него, и узаконив эту реформу. Само собой разумеется, что наличие подготовки реформ Карамзина до него не только не умаляет его заслуг, но, наоборот, подчеркивает их закономерность, органичность в развитии русской литературы.
На протяжении всего почти XVIII столетия западные сентиментальные или, вернее, преромантические и в то же время предреалистические литературные течения создали обширный фонд культурных ценностей. Облик европейской культуры ко времени начала французской революции значительно изменился по сравнению с тем, который застал на Западе Ломоносов. Классицизм доживал свой век, разрушался и дал новое цветение, на новой основе, в революционном творчестве поэтов и драматургов конца века. Рядом с ним пышно расцвела литература, предвозвещенная Ричардсоном, Стерном, Греем, Дидро, Руссо, Клопштоком. Анализ человека «вообще», во имя государственного единства подчиняющего и поглощающего личность, уступил место психологическому анализу личности, завоевавшей право на интерес к себе, на защиту, на культ именно в качестве конкретной индивидуальности. Эмоциональная жизнь человека, его «частные» привязанности, его «страсти» стали цениться более, чем логическая схема его политических соотношений, даже чем рациональная структура его морали. За этой перестройкой отношения к человеку стояло признание неправильности политической системы феодализма, незаконности ее господства над личностью, стоял индивидуализм революционного в ту пору мировоззрения буржуазии, стояло признание человека и его человеческого счастья высшим критерием ценности. Пусть гибнет личность, было бы живо государство, — говорил классик XVIII столетия, и его лозунг был прогрессивен и нужен в его время. Пусть гибнет то государство, которое
72
губит личность, было бы вольно человеку строить свою жизнь, как он хочет, и добиваться своего человеческого счастья, где он хочет, — этот лозунг, прогрессивный в конце XVIII столетия, помогал штурмовать феодализм и его политическую систему; а то обстоятельство, что буржуазность этого лозунга несла в себе возможность перерождения в идеологию новой эксплоатации, не было заметно тогда, когда перед народами стояла первоочередная задача борьбы со старым, феодальным злом.
К концу XVIII в. Европа накопила уже немалый опыт нового искусства. Эмоциональная лирика настроения, психологический и бытовой роман и повесть, предреалистическая драма, также культивировавшая эмоцию, как основу эстетического факта, — эти новые жанры выдвинулись на первый план и достигли значительного расцвета. Одновременно с этим начала рушиться механистическая система понимания государства и народа. Гердер, не отрываясь от почвы просветительства XVIII столетия, явился провозвестником исторического понимания пути человечества. Возникало романтическое отношение к народу как индивидуальности. Начались разыскания древних истоков своей, национальной культуры, призванной заменить универсальный идеал культуры классицизма, условно построенный на «образцах» античности. Перси издал английские народные баллады. Макферсон потряс Европу своим Оссианом, сразу же сопоставленным с Гомером и противопоставленным ему. Английские историки — Гиббон, Юм, Робертсон — учили пониманию изменяемости человеческого общества и самой человеческой психики. «Бурные гении» в Германии создавали новый тип человека и героя, непокорные страсти которого уже не осуждались, а объявлялись признаком и основой величия «избранной» личности. Поэзия отказывалась подчиняться правилам и образцам и требовала для себя новых прав выражения не общечеловеческого идеала холодного разума, а выражения личности в ее несходстве с другими людьми, в ее вдохновениях и капризных творческих фантазиях. Воображению стали уделять внимания более, чем разуму, усматривая в воображении проявление тайных движений души, в сказках — проявление склада понятий нации. Множество новых идей взволновало Европу. Освобожденные революционным подъемом во Франции, они сопутствовали в ней политическим событиям. Замкнутые в отсталой Германий, они ринулись в русло философских исканий, далеких от практики, но глубоко связанных с европейской злобой дня. Кант писал свои «Критики», Фихте, Шеллинг, Гегель воспитывались в атмосфере философских споров Германии и революционных битв Франции. Немецкие университеты, французские политические дебаты, английский парламент, Гете и Гердер, наследство Стерна и Руссо, — такова была Европа, о которой мечтал Карамзин в 1788 г., о которой он уже знал немало и которую он хотел «открыть» для России, где ее знали, по его мнению, недостаточно.
В самом же деле Россия была не за семью океанами от Западной Европы, и бури, потрясавшие Запад, отражались в России без больших опозданий. В середине 1780-х годов Карамзин читал множество книг, раскрывавших перед ним облик западной культуры его времени. Он уехал за границу, зная, что он хочет увидеть там, зная даже, с какими писателями ему следует повидаться лично. О Гете, Канте, Боннете и Виланде он узнал еще в Москве. И научился всему этому он не сам собою; ему «раскрыли глаза» его друзья и учителя, русские люди. Правда, он знал в Москве Якоба Ленца, одного из «бурных гениев» германской поэзии, друга Гете, человека нового склада, заброшенного в Россию капризами его беспорядочной жизни; но не следует преувеличивать влияние на него этого опустившегося человека, душевной сумятицы которого Карамзин не мог
73
бы понять, если бы его мировоззрение не было подготовлено к этому его чтениями и его учителями. Карамзина научили интересоваться современными течениями западной культуры, понимать их, и его школьный учитель Шаден и А. А. Петров, его друг, редактор «Детского чтения», сильно повлиявший на него, человек, вполне слившийся с новейшими веяниями западной мысли, и Херасков. Карамзина подготовляла и русская литература, развивавшаяся параллельно западной Перси, Макферсон и Гердер прояснили смысл и значение собирательской работы Чулкова и Попова. Державин закладывал основы преромантического мировоззрения в поэзии и он же практически поставил проблемы народности и реализма в поэтическом искусстве. Классицизм разрушал не только Державин, но и Фонвизин, своеобразно подошедший к разрешению проблемы личности. Научные и философские течения Запада отражались в деятельности русских ученых, и взгляды Адама Смита проповедывались Десницким в России еще раньше, чем на Западе стала известна его работа о богатстве народов. Идея национального искусства и интерес к его национальным формам проявились и в поэзии Львова и в его фольклористических начинаниях, и в творчестве замечательного русского архитектора Баженова, и в музыке Матинского. Эмоциональная лирика настроения, сентиментальные влияния, психологический анализ, индивидуализм — все это проникало в русскую литературу, начиная с 1770-х годов, если не ранее, и нашло свое отражение и в творчестве Хераскова и в том перевороте, который совершали исподволь в искусстве и мировоззрении ранние русские сентименталисты М. Н. Муравьев, Н. А. Львов, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, П. Ю. Львов и др. Уже в 1783 г. в «Собеседнике любителей российского слова» было напечатано первое русское сентиментальное путешествие, небольшое еще произведение, но уже заключающее специфические черты данного жанра и стиля, — «Приятное путешествие» (вероятно, автором его был О. П. Козодавлев). Еще до Карамзина находили читателей обильные переводы из Гесснера, Клопштока, Ричардсона, Руссо, Геге («Вертер»), Стерна, Юнга, Макферсона («Оссиан») и других, переводы сентиментально-психологических романов и повестей, стихотворений, «слезных драм» и т. п. Одновременно с началом самостоятельной деятельности Карамзина, с началом издания «Московского журнала», в 1791 г. начал выходить и другой журнал, очень близкий к карамзинскому направлению: «Чтение для вкуса, разума и чувствований» В. Подшивалова. Это тоже было издание, насаждавшее сентиментализм, притом того же типа, что у Карамзина. Подшивалов потом стал последователем Карамзина, но в 1791 г. он еще не мог быть им; он пришел к тем же позициям самостоятельно.
Таким образом Карамзин, сводя воедино все эти элементы, накопившиеся в русской культуре и литературе в частности, ответил на запрос, назревший в ней, ответил с бо́льшей последовательностью, яркостью, с бо́льшим талантом, чем его предшественники. Тем самым направление мысли и искусства, замыкавшееся до него все-таки в узком кругу интеллигенции, сделалось достоянием гораздо более широких слоев, сделалось большим течением русской литературы.
8
В совершенно особом отношении к Карамзину стоит творчество другого великого деятеля русской литературы, также сентименталиста, и притом строившего свою литературную систему задолго до Карамзина, с начала 1770-х годов, Александра Николаевича Радищева. Ряд элементов,
74
введенных Карамзиным в литературу, есть и у Радищева; недаром центральное произведение и того и другого писателя — сентиментальное путешествие. Но интерпретация всего нового стиля и даже составных элементов его у Карамзина и Радищева совершенно различна. Это были два пути сентиментализма, принципиально враждебные друг другу. С одной стороны, это был стиль, воплощавший революционные стремления демократии, с другой — стиль консервативного дворянского мировоззрения, хотя и связанного с передовыми традициями, но отказавшегося от политической прогрессивности.
В самом движении западной литературы, с которым соотносятся оба направления в русском сентиментализме, мы должны различать две тенденции, взаимосвязанные и в то же время противоположные: тенденция преромантизма и тенденция предреализма. Эти две тенденции заметны уже у англичан в середине века: Грей, Макферсон предсказывают романтическое мировоззрение, Ричардсон — реалистическое, Стерн пытается совместить обе тенденции. Далее, предреволюционная Франция дает расцвет реалистического течения в данном стиле — у Дидро, у Руссо (не чуждого, однако, романтических элементов), у Мариво, у Лакло и др. В этом изводе сентиментализм социально заострен, политически радикален. Наоборот, у отсталых германских народов мы видим преобладание романтических тенденций, субъективные личные мотивы выступают на первый план: Гесснер, даже молодой Клопшток и его школа характерны в этом смысле, и «Вертер», в сущности далекий от радикализма Руссо, являет предел социальности в этом течении. В конце концов в «чистом» психологизме, идилличности, консерватизме сентименталистов типа Гесснера, Коцебу, даже Иффланда молодое течение разменивается на обывательские эмоции.
В общих очертаниях можно сказать, что радищевский революционный сентиментализм развивает предреалистические тенденции этого общеевропейского стиля; карамзинский же консервативный сентиментализм развивает преромантические тенденции его. Бунтарский ниспровергающий устои феодальной жизни и мировоззрения характер творчества Руссо, зоркость к социальному быту Ричардсона, даже бурные порывания к свободе личности молодых «гениев» германской литературы остались чужды Карамзину. Но тут же следует подчеркнуть, что пафос национальной героики прошлого, культ народного характера и народной старины, составивший воинствующее и прогрессивное содержание преромантизма Макферсона и од Клопштока, также остался ему чуждым. Макферсон создал образы древних шотландцев, своих национальных героев, — образы, построенные на основе шотландского фольклора; Клопшток писал о древних германцах, помня не только «Оссиана», но и германский эпос. А Карамзин написал свою поэмку «Илья Муромец» по Ариосто и другим произведениям европейской и русской европеизированной традиции и совсем не по былинам; его Илья, молодой рыцарь, изящный, нежный, второй Ринальд, не имеет ничего общего с «деревенщиной» из села Карачарова. Когда перед Карамзиным встал вопрос о романтическом воссоздании «колорита» личности, он предпочел строить романтические образы в окружении испанской рыцарской традиции или оссиановских легенд, чем обратиться к русскому фольклору. При этом и Испания в балладе о графе Гвариносе и романтика старинных замков и бурь в повести «Остров Борнгольм» для Карамзина интересны не историзмом, не чертами конкретной исторической и национальной культуры, а эмоциональной экзотикой, дающей возможность настроить душу читателя на особый музыкальный лад.
Основные идеи западного передового сентиментализма подверглись в творчестве Карамзина некоторому сужению, пожалуй, даже обеднению и
75
в то же время перестройке в духе традиций русской дворянской культуры, традиций Хераскова и вслед за ними Муравьева или Нелединского-Мелецкого. Из западных учителей Карамзину ближе других идиллический Гесснер, у которого умиленная и музыкальная лирика в прозе была чужда политических интересов и вообще идейной остроты. Карамзин очень высоко ценит Коцебу, и для него «Ненависть к людям и раскаяние» становится в один ряд не только с «Вертером», но и с Шекспиром, о колоссальном величии которого он готов повторять слова, вычитанные у западных писателей. Характерно отношение Карамзина к Руссо. Он восторженно хвалит Руссо, совершает в Швейцарии паломничество к местам, где жили и страдали герои «Новой Элоизы»; Руссо для него — святыня. Но он совсем не хочет видеть Руссо-бунтаря, демократа, учителя Робеспьера, Руссо-автора «Общественного договора»; этого Руссо Карамзин сознательно игнорирует. Мало того, даже в «Новой Элоизе» он не хочет видеть всего идейного, освободительного смысла романа. Для него Руссо — только лирик, тонкий психолог, автор патетических изображений любви, ценитель красот природы, безотносительно к тому, какое революционизирующее назначение имел у Руссо культ человека и природы. Самую психологию Руссо Карамзин понимает прежде всего как лирику. «Исповедь», гениальное раскрытие в этой книге противоречий психической жизни человека именно в плане освобождения личности, великую революционизирующую правду этой книги Карамзин не мог принять (в «Московском журнале», ч. II, стр. 91—95, в переводной рецензии выражено неодобрение «Исповеди» Руссо).
Характерна также деформация, которую претерпел культ природы, свойственный западным сентименталистам, в творчестве Карамзина. Карамзина тянет в природу, красоты которой он умеет и ценить и изображать, подальше от бурь общественной жизни, в мирную обстановку деревни, где помещики — отцы своих крестьян, и крестьяне благополучны в меру своего трудолюбия, покорности и «добродетели». «Руссоизм» стал для Карамзина не стимулом разрушения феодального уклада, а методом оправдания свободы от политики. Само собой разумеется, что относительная реалистическая зоркость западных сентименталистов была в сильной мере ограничена у Карамзина идеализацией существующего мира, бытовой реализм западных сентименталистов — орудие вскрытия противоречий жизни — заменялся у него рисовкой бытовых деталей, наблюденных через розовые очки.
Единственная подлинная тема такого искусства — это внутренний мир человека, во всей пестроте индивидуальных переживаний, от возвышенного пафоса и до бытовых случайностей. О богатстве и разнообразии «жизни чувством» в «Письмах русского путешественника» говорит исследователь этой книги В. В. Сиповский: «Природа, искусства, гуманные идеи, — все это волнует нашего путешественника, все это настраивает его на известный лад, вызывает соответственные отзвучия в его чувствительной душе» (стр. 478), — и выше: «Путешествие было предпринято им, между прочим, именно с целью „познать себя“: он ждал массы разнообразных впечатлений, а потому старательно искал и занимательного для сердца, рассчитывая таким путем произвести ряд экспериментов над своей душой. „Что человеку занимательнее самого себя?“ — восклицает он».
Субъективизм становится законом творчества Карамзина. Тема его — личность человеческая — для него выражается прежде всего в теме личности самого автора. Он считает нужным подчеркнуть, что и самые проблемы психологии творчества, самую сущность литературной работы он понимает по-новому. Рациональные нормы, правила и образцы для него более не
76
могут определять художественную структуру; произведение искусства, в его понимании, отражает не идеальную схему объективного мира, а личный характер своего индивидуального творца. Еще М. Н. Муравьев говорил о том, что истина — это лишь собственные мысли автора. Истина для Карамзина — не объективное соответствие действительности, а субъективная правдивость рассказа о психологическом самонаблюдении. При этом Карамзин, как и Муравьев и другие дворянские сентименталисты, ограничивает круг эмоций и черт характера, подлежащих эстетическому выражению, только «приятными», «нежными», «кроткими» переживаниями. Мир искусства — для него мир мечты о хороших мирных людях, мир бегства от реальной классовой борьбы. Поэтому эстетически ценными он признает только те произведения, которые способны создать нужные ему в социальном плане психологические состояния умиления. Все это требует особого склада души автора, поскольку произведение в данной субъективистской системе творчества должно быть как бы отблеском этой души. Карамзин написал специальную статью «Что нужно автору?» (1793), и вот тезисы этой статьи: «Говорят, что автору нужны таланты и знания, острый, проницательный разум, живое воображение и проч. Справедливо; но сего не довольно. Ему надобно и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей»; «творец всегда изображается в творении, и часто против воли своей».
Авторское отношение к изображаемому пронизывает все изложение произведений Карамзина. В сущности это отношение и является самым главным в них. Повести и очерки Карамзина приближаются по манере к лирическим стихотворениям. И читатель искал в них не столько занимательности сюжета, довольно безразличного, сколько именно настроения, создания эмоциональной атмосферы, до сентиментализма неизвестной русской литературе и открывавшей для нее перспективы нового и плодотворного понимания сложности душевной жизни человека. Сам Карамзин считал, что если писатель пишет хорошо, «питательное, эфирное пламя... польется из его творений в нежную душу читателя». И почитатели определяли его достоинства не «объективными» эпитетами, вроде: «великий», «талантливый» и т. д., а субъективно-психологическими: «милый», «любезный», «нежный», «чувствительный»; произведения Карамзина «сильно и убедительно говорят человеческому сердцу», будят «чувствительность сограждан».
Карамзин стремится, чтобы его произведение приобрело вид задушевной беседы автора с читателем-другом (а не учеником, слушающим слова истины и разума). Этим целям в повестях Карамзина служит прием зачина: «Пусть Виргилии прославляют Августов, пусть красноречивые льстецы хвалят великодушие знатных! Я хочу хвалить Фрола Силина, простого поселянина; хвала моя будет состоять в описании дел его, мне известных» («Фрол Силин»); «Друзья, прошло красное лето; златая осень побледнела... Друзья! дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает окна белым снегом. Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести и всякие были» («Остров Борнгольм»).
Этим же целям служат обращения к «друзьям», к «читателям» в тексте повестей: «Но нам, друзья мои, не должно оставлять юного героя...» («Прекрасная царевна и счастливый карла»); «Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры» («Наталья, боярская дочь») и т. п.
Как правильно заметил автор одной из последних работ о Карамзине, «период Карамзин строил так, чтобы в нем было ощущение
77
присутствия автора. Именно присутствие автора превращало прозу Карамзина в нечто совершенно новое по сравнению с романом и повестью классицизма».1
Карамзин не хочет, не считает возможным до конца анализировать, разлагать на составные части, объяснять чувство и настроение, которые у него не сопровождают действия героя, а являются главным содержанием произведения, повести или очерка. Он знает, что нет способа «назвать» каждый оттенок эмоции; и он создает целые художественные произведения, музыкально организованные, которые должны всей совокупностью образов, всей суммой художественных средств создать у читателя смутное, зыбкое, «несказуемое», «неназываемое» настроение. Все, изображаемое в повести, — лишь средство для этой задачи. Карамзин ставит уже ту проблему искусства, которую программно выразил его ученик Жуковский в стихотворении «Невыразимое».
9
Именно «невыразимое» настроение, то, что «слито» с видимым миром, смутное и волнующее, хочет выразить Карамзин, конечно, не молчанием, а своими произведениями. При этом его задача — вызывать только сладостные эмоции, преодолевающие трагизм подлинной действительности. Трагические конфликты жизни даются им поэтому не ради того, чтобы вызвать гнев и возмущение, а ради того, чтобы вызвать тихую меланхолию и умиление. Образцом такого психологического эксперимента была повесть «Бедная Лиза», имевшая огромный успех, открывшая современникам целый мир эмоций.
Эта повесть построена на основе сюжета, распространенного в европейских литературах второй половины XVIII в. — о любви дворянина и простой девушки. Писатели антифеодальной настроенности видели в этом сюжете возможность показать губительные последствия сословного неравенства, возможность потрясти читателя чувством обиды за попранные человеческие права. Ничего этого нет у Карамзина. Человечность демократического сентиментализма, требовавшая свободы для всякого человека, превратилась у него в формулу «и крестьянки любить умеют» («Бедная Лиза»).
Если сентименталисты-демократы показывали сильные и глубокие переживания людей из народа для того, чтобы снять с этих людей ярмо феодального гнета, то Карамзин проповедует другое; так как все люди могут чувствовать одинаково, и крестьянам, так же как помещикам, доступны сладостные переживания любви, семейных радостей, «добродетелей», чувство природы, то незачем волноваться и стремиться к изменению участи крестьян: они и в крепостничестве могут быть счастливы. Бедная Лиза не столько настоящая крестьянка, сколько идеальная оперная героиня, и ее печальная история должна не возмущать, а лишь создавать лирическое настроение. В этом — главное. Читатели и читательницы проливали слезы о бедной Лизе, и эти слезы были приятны для них, и повесть открывала им в их собственной душе богатства, ранее скрытые. Общий колорит эмоции, вызываемой повестью, все же был человеколюбив, воспитывал гуманность. Один из учеников Карамзина писал: «Сладко разделять и самые жестокие других несчастия!.. Мы чувствовали всю сладость участия и, несмотря на текущие слезы, сердце наше тайно восхищалось, видя
78
себя к тому способным»1. Такое именно чувство раскрывала современникам «Бедная Лиза». Лирическая манера повествования Карамзина с самого начала повести настраивала читателя. Самый пейзаж в начале ее был дан не как простое описание, а как увертюра, вводящая в соответствующий круг эмоций. И вот — переход к самому повествованию: «Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» Перед этой лирической темой исчезают очертания самого сюжета, до крайности упрощенного; становится совсем неважно, что Лиза и Эраст люди неравных сословий; дело не в неравенстве, а в грусти, причем ведь, в сущности, неравенство сословий и не сыграло особой роли в судьбе Лизы.
Сюжет сам по себе вообще никогда не интересует Карамзина; для него важна тональность произведения, а не события внешнего мира, о которых идет в нем речь. Для «Натальи, боярской дочери» он взял сюжетную основу «Фрола Скобеева», правда, переиначив и значительно упростив его. Тем не менее его повесть совсем не похожа на новеллу XVII столетия: сущность ее не в истории похищения девушки, а в мечте о старых добрых временах и в теме молодой любви. Сюжет совсем исчезает в очерках Карамзина. Таков очерк «Деревня» (1791) — это стихотворение в прозе о сладостном уединении на лоне природы, изящное, тонкое, лирическое. Картины природы здесь сливаются с образами эмоций, ради которых они и написаны, и переливаются в лирические размышления. Музыка речи организует этот своеобразный сплав. Душевный мир человека, удалившегося от дел мира сего, счастье ухода от действительности в свое «я» — вот содержание очерка. «Деревня», как «Бедная Лиза», открывала новые горизонты читателям, привыкшим к произведениям четкого и рационального «внешнего» смысла и не знавшим до Карамзина, что можно словом не сообщать факты и мысли, а внушать «невыразимое». Картина вечера в «Деревне» — это уже поэзия Жуковского с его вечерними лирическими пейзажами: «Я слышу свирель пастуха — стадо возвращается в деревню, и каждая овечка находит двор свой; поселянин еще не возвратился с поля. Как приятен чай на чистом воздухе! Вечерние ароматы льются ко мне в чашку. Но я спешу видеть конец лучезарного дня — спешу на высокий песчаный берег излучистой речки. Там обширный гладкий луг представляется глазам моим — и за сим лугом, по светлому небу, катится вечернее солнце, в тихом великолепии и в кротком величестве. Уже достигает оно до врат запада — мерцает за тонким, златоволнистым облаком — растопляет его лучами своими — является снова во всей полноте — бросает на землю блеск и сияние — и скрывается. Вечерняя заря алеет теперь на западе. Так мудрый и добродетельный муж, которого жизнь была благотворным светилом для нравственных существ, собратий его, тихо и великолепно приближается к цели своего течения. Пылкое воображение с летами прохлаждается, но разум не темнеет и на западе жизни; спокойное величество блистает на челе мудрого и в самое то время, когда мрачная могила перед ним разверзается; последний ясный взор его есть последнее благодеяние для человечества. Он скрывается, но память его сияет в мире, как заря вечерняя. Я преклоняю колена. Всемогущий! Сердце мое тебе открыто: исполни его желание, достойное человека!
«Величественная ночь несется на черных орлах своих; ее темная мантия развевается по воздуху, и все на земле засыпает.
79
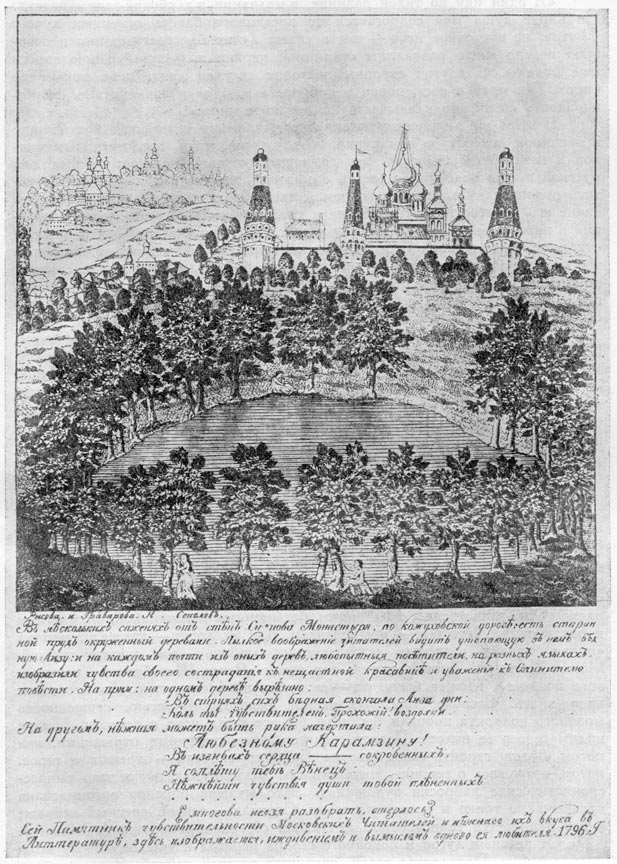
Иллюстрация (гравюра и рисунок Н. Соколова; 1796 г.) к «Бедной Лизе»
Н. М. Карамзина.
80
«Я один иду по тихой равнине, в молчании, в глубокой задумчивости. Но вдруг душа моя содрогается от внезапного блеска огненных лучей. Смотрю на восточное небо — там в сизых лучах блистает молния и освещает передо мною развалины старинной церкви и густою травою заросшие могилы. С другой стороны восходит светлая луна; небо вокруг ее чисто. Так мрак и свет, порок и добродетель, буря и спокойствие, скорбь и радость совокупно владычествуют в нашем мире!»
В этом же лирическом плане дает Карамзин и мотивы, восходящие к западной литературе романтики тайн, ужасов, ночи, средневековых замков и незаконных страстей. Без сомнения, именно Карамзин открыл для русской прозы полосу интереса к романтике, именно его мы должны считать родоначальником русского романтизма. Но у него и здесь на первом плане его новаторское устремление к созданию особой атмосферы настроения в произведении. Ведь это было, действительно, значительное открытие, открытие индивидуального душевного состояния, чрезвычайно важного для творческого метода не только лирики, но и прозы XIX столетия, сначала романтической, а потом и реалистической. Лиризм тургеневского повествования и тургеневского пейзажа и, еще раньше, лиризм и пафос гоголевских повестей определены традицией, начатой Карамзиным.
Образцом карамзинской романтики является его повесть «Остров Борнгольм», едва ли не лучшая из его повестей. Это — рассказ от первого лица: все изображенное в нем пропущено через сознание рассказчика, обосновано в своем колорите его душевным состоянием. Рассказчик должен восприниматься читателем не как выдуманное лицо, а как подлинный автор повести, сам Карамзин, — недаром читатель узнает, что рассказчик встретился с героями повести по дороге из Англии в Россию на обратном пути маршрута «Писем русского путешественника». «Я повествую, — повествую истину, а не выдумку» — говорит Карамзин в начале повести.
Сюжет «Острова Борнгольм» обычен для ранней романтической традиции Запада: незаконная страсть двух молодых людей, оправданная автором именно вследствие глубины и искренности чувства. Борьба за свободу человеческой страсти против оков насилия, бывшая внутренним смыслом этого сюжета у передовых романтиков, не интересует Карамзина. Но он хочет создать впечатление романтического ужаса и тоски в системе определенных образов нового стиля. И вот он строит всю повесть в этом плане. Она таинственна. Мы видим безыменных любовников, несчастных и разлученных. Кто они — мы не знаем. Как их зовут — также. В чем их «вина», почему «законы» осуждают их любовь — все скрыто тайной. Может быть, они брат и сестра, как герои «Рене» Шатобриана (написанного позднее). Может быть, он — ее пасынок? Неизвестно. Да этого и не надо знать. Беспокойство, вызываемое недоговоренностью, сгущенность мрачного колорита пропали бы, если бы все было ясно в повести. Мы не видим героев ее вместе. Повесть ведется романтическими отрывками, как потом будет строить свои поэмы Байрон; сначала — отрывок о герое, потом — отрывок о героине. Читатель сам должен связать воедино импрессионистические наброски художника. Зато музыка образов организована чрезвычайно тонко и последовательно. Сначала — ясный, светлый пейзаж; и вот начинается таинственное, печальная северная романтика («Оссиан»).
От зеленых лугов и покойного сердца переход к унылому шуму волн и оцепенению. Появляется герой, овеянный тяжкой тайной. Затем — буря на море, эмоциональная увертюра ко второй части, а вслед за ней Карамзин вводит читателя в атмосферу романтического мрака: «Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину
81
морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной Натуры; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неописанного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно».
Затем появляется мрачный древний замок, вызывающий ужас у местных рыбаков. Рассказчик идет к замку; здесь все детали изложения объединены заданием вызвать страх, волнение тайны, меланхолию: «Я обошел вокруг замка — ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня итти назад, к хижинам; но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?
«Наступила ночь, и вдруг раздался голос — эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос, спрашивали: кто там? — Чужеземец, — сказал я, — приведенный любопытством на сей остров; и если гостеприимство почитается добродетелью в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи. — Ответа не было; но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост: с шумом открылись ворота. Высокий человек в длинном черном платье встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад: но мальчик, провожатый мой, скрылся». «Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного».
Тот же тон выдержан вплоть до концовки: «Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою — наконец, я взглянул на небо, и ветер свеял в море слезу мою».
«Остров Борнгольм» (характерно само экзотическое звучание названия) построен на мотивах романтики оссиановского севера, северных бурь и старинных замков, на мотивах шотландских баллад и суровых печалей северных скальдов. Маленькая новелла «Сьерра-Морена» (1795) построена по тому же принципу, но на мотивах столь же условного и эстетизированного испанского местного колорита. Здесь подобраны один к одному мотивы яркого юга, пламенных и неукротимых страстей, эффектных пейзажей оперной псевдо-Испании. Повесть трагична, но ее задача — прельстить захватывающим фейерверком безумной страсти. «Я мучился и наслаждался», «сила чувств моих все преодолела», «я был в исступлении» — таков лирический тон новеллы; образная система ее — удар кинжала, монастырь, и такое вступление: «В цветущей Андалузии — там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадалквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сьерра-Морена, — там увидел я Прекрасную, когда она в унынии, в горести, стояла подле Алонзова памятника, опершись на него лилейною рукою своею; луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор».
Романтическая лирика в прозе Карамзина поставила перед ним проблему изображения человеческой души в субъективном ее понимании. Но субъективизм не овладел им до конца. От опытов самораскрытия души Карамзин перешел к более сложным опытам рассказа о чужой душе, к попыткам построения характера. Это был второй этап развития его новаторского искусства. Лиризм, субъективный налет навсегда остался основным признаком его манеры. Но, начиная с середины 1790-х годов, он
82
ищет новых форм. Романтические повести сменяются бытовыми повестями на современном материале русской дворянской жизни. Было бы неверно говорить о реализме и в применении к этим повестям; и в них объективная социальная действительность в значительной мере выключена, устранена из поля зрения писателя; и в них тема и содержание произведения — психика, душевная жизнь человека в ее замкнутости, в ее индивидуальности; но тем не менее здесь Карамзин добился больших побед. Он стал рассказывать о простых, обыкновенных людях, обыденных чувствах, о простой жизни, — жизни чувства, а не общества и не действия, но все же о жизни. Психологический анализ расширился. Единственная лирическая душа героя-автора уступила место образам разнообразных личных душевных организаций. Все это искусство Карамзина, субъективное даже в высших своих проявлениях, сентиментальное и идеализирующее действительность, само по себе не реалистическое, было использовано потом как необходимая составная часть реалистического искусства XIX в., начиная с Пушкина. Открыв для русской повествовательной прозы сложный и органический психологический анализ лирического «я» в своих романтических повестях, Карамзин открыл для нее в своих повестях или, вернее, очерках о современных людях проблему характера, психологического анализа героя. В этом смысле значение Карамзина для истории русского романа и повести XIX столетия огромно. Он показал не только противоречия душевной жизни в ее «незаконной» индивидуальности, но и изменяемость ее, движение душевных состояний. Глубокое социальное обоснование личности, предвозвещенное Фонвизиным и Радищевым, осталось ему чуждо. Но зато психологическая тонкость и искусство создания образного, музыкального, внушающего впечатления о душе человека — его неотъемлемое завоевание. Здесь он не только воспринял уроки Руссо, Гете и других великих современников, но и шел с ними вместе, по одному пути, самостоятельно разрешая проблемы, поставленные общеевропейской литературой конца XVIII столетия. Правда, и здесь работа Карамзина была существенно ограничена консерватизмом его общей позиции, нежеланием вскрывать страшные глубины человеческой психики в ее социальном аспекте, стремлением создать искусство розовое, умиряющее душу, стремлением набросить покров душевной благости на подлинную жизнь, пугающую его. Это и была «сентиментальность» Карамзина, сделавшая его творчество неприемлемым для передовых течений русской литературы, начиная с 1830-х годов. Круг психологических наблюдений Карамзина узок; его «чувствительность» легко переходит в слащавость; эстетизирование действительности, основной порок его, губит правдивость его психологизации. Однако, если его собственные произведения оказались отравленными болезнями его мировоззрения, то его метод, его художественные завоевания остались в литературе и после него. Около 1794 г. была написана и в 1796 г. напечатана повесть Карамзина «Юлия», одна из первых психологических и бытовых повестей в русской литературе. Это произведение во многом предсказывает мотивы, формы и даже некоторые внутренние черты психологического романа XIX столетия. «Нравственная» тенденция, свойственная «Юлии», условна почти в такой же мере, как обязательная «мораль» в «Опасных связях» или же в «Манон Леско». Дело, конечно, не в ней, а именно в психологической ситуации и, может быть, еще более в психологической эволюции героини. Действие происходит в «светской» среде: «Юлия» связана с будущей традицией светской повести Марлинского и др. Юлия, красивая девушка, окружена обожателями. Ее любит скромный и благородный Арис, и он нравится ей. Но вот приезжает князь N, блестящий кавалер; он становится модным героем в свете;
83
он вскружил голову Юлии и усиленно старается соблазнить ее, но жениться не хочет. Юлия не поддается его безнравственным уговорам и порывает с ним. Она выходит замуж за Ариса, не переставшего любить ее. Юлия счастливо живет с мужем в деревне. Но она — светская женщина, ей становится скучно в деревне, и вот она заставляет мужа вернуться в столицу. Здесь она вновь встречается с князем и вновь он увлекает ее. Она на границе падения. Арис узнает о ее неверности и покидает ее, уезжает. Она потрясена. Борьба в ее душе светского легкомыслия и добродетели оканчивается победой добродетели. Она уезжает в деревню, где живет уединенно и воспитывает своего сына. В конце концов Арис возвращается к ней, и супруги вновь счастливы.
Как видим — это повесть о личных, душевных делах, без внешних романических событий, повесть о психологической борьбе, о развитии, росте женской души. Карамзин намечает бытовую обстановку повести только слегка, контуром; он скользит по фактам, которые его не интересуют, так как занимает его только внутренний конфликт — в пределах «треугольника», имевшего столь большое значение в структуре буржуазного романа XIX столетия: жена, муж и любовник. Он не достигает при этом и той остроты раскрытия психологии, которая отличает, например, «Адольфа» Б. Констана. Тем не менее он увидел и показал человеческую драму в самом обыкновенном течении жизни. В конце концов ведь «Юлия» — повесть без нарочитого сюжета; перед читателем проходит жизнь, прежде всего и почти исключительно психологическая, внутренняя жизнь, и этого для Карамзина достаточно. Этого было достаточно и для Шатобриана в его «Рене».
Аналогичный характер имеет и замечательный очерк Карамзина «Чувствительный и холодный. Два характера» (1803). Подзаголовок указывает задачу и смысл очерка, принципиально новаторские. Карамзин хотел не только анализировать душевную жизнь, но и построить психолоческий синтез, индивидуальный характер, и он ввел для этого контраст двух несходных человеческих организаций. Во вступлении к очерку Карамзин излагает свою принципиальную позицию по данному вопросу, весьма характерную: «Дух системы заставлял разумных людей утверждать многие странности и даже нелепости: так некоторые писали и доказывали, что наши природные способности и свойства одинаковы, что обстоятельства и случаи воспитания не только образуют или развивают, но и дают характер человеку вместе с особенным умом и талантами». Карамзин, наоборот, считает, что характер — это органическое свойство данного человека, врожденное ему; для него характер является сущностью человека. Как писатель он преодолевает здесь механистичность классицизма XVIII столетия, которая позволила Локку свести человеческую психику к простым элементам, у всех людей неизменным и лишь воспитанным в различных пропорциях. Для Карамзина, как и для западных передовых сентименталистов, борьба с схематической психологией классицизма была борьбой за индивидуально-конкретное изображение человека, за характер. Но, с другой стороны, Карамзин как бы фетишизирует характер. Он утверждает, что сущность характера не меняется «от колыбели до гроба». Здесь для него важно утверждение независимости характера от среды, независимости внутренней жизни от внешней, субъективного начала от объективной действительности. Здесь сказывается ограниченность мировоззрения Карамзина, его боязнь реальности и неприятие ее, субъективизм и антиреализм его психологических принципов. Его очерк, собственно, так и построен. Это — история двух душ. Карамзин не может и не хочет избежать показа внешних проявлений характеров своих героев; но он выключает социальную
84
среду и специфику эпохи, истории. При этом характеристика дается в виде двух параллельных биографий, т. е. в движении, в процессе развития жизни, а не статично. Но внешний объективный мир не влияет на развитие души, характера. Душа у Карамзина развивается только накоплением душевного опыта, не меняя характерологической сущности и не подчиняясь окружающей действительности. Существенно в «Чувствительном и холодном» и отсутствие морализирующей оценки характера. Карамзин ставит здесь существенную проблему: он хочет понять пружины психики человека, и понимание должно снять легкость осуждения. Как ученик «бурных гениев» школы бури и натиска, Карамзин, видимо, более сочувствует своему чувствительному Эрасту, образ которого не лишен автобиографических черт; Эраст тем не менее совершает неблаговидные поступки, но Карамзин не может осудить его, так как виною этих поступков — страстная, пламенная душа. С другой стороны — холодно-рассудительный Леонид может быть чужд личной симпатии Карамзина; он слишком бесстрастен, но зато и счастлив и безупречен. Оба героя очерка правы, каждый по-своему; мораль человека, по Карамзину, индивидуальна, как его душа, и этой моралью только и можно мерить его ценность.
В 1802—1803 гг., т. е. в самом конце работы Карамзина как беллетриста, появилась и неоконченная повесть его «Рыцарь нашего времени», с названием которой, вероятно не случайно, перекликается лермонтовское. По собственному указанию Карамзина, сообщенному читателям в примечании к повести, она построена на автобиографических мотивах. Это — повесть, нимало не чувствительная, написанная легко, изящно, с юмором, в тоне легкой светской болтовни и в то же время с нарочитым использованием стерновских приемов игры с литературной формой (см. хотя бы название главы: «Глава четвертая, которая написана только для пятой»). В «Рыцаре нашего времени» Карамзин усложнил задачу по сравнению с «Юлией» и даже «Чувствительным и холодным»: он взялся изобразить психологию ребенка, — впервые в русской литературе. Он окружил его образ довольно обстоятельным изображением быта, и в этом была новая победа Карамзина. Как ни идеализировал он жизнь захолустных помещиков «доброго старого времени», все же душа его Леона развивается не «вообще», а в данной среде. Да и самый психологический образ мальчика, тонкое изображение его настроений, — например, первых смутных эротических переживаний — опередили не только русскую прозу, но и многое в западной литературе. «Рыцарь нашего времени» — предельное достижение Карамзина — психолога, автора повестей и очерков.
Карамзин расширил рамки и возможности русской литературы и в отношении нового раскрытия душевной жизни человека и в отношении самих литературных форм. Он окончательно узаконил повествовательные жанры прозы — повесть, новеллу; он вообще придал прозе достоинство, не до конца признанное «на верхах» литературы до него. Он разработал жанр очерка, художественно написанной статьи. Он, наконец, узаконил в русской литературе право писателя не подчиняться жанровым нормам, а творить новые, индивидуальные типы произведений.
10
Новым и в значительной мере индивидуальным построением было и центральное произведение Карамзина — «Письма русского путешественника», единственная написанная им до «Истории» крупная по объему вещь. Записки о путешествиях были одним из наиболее распространенных
85
жанров литературы сентиментализма во всей Европе. Блестящая книжка Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768) создала успех этому жанру. И в России два наиболее значительных произведения периода сентиментализма — книга Радищева и «Письма» Карамзина — принадлежат к тому же жанру. Основная установка всех сентиментальных путешествий — это показ общества и природы сквозь призму личных переживаний автора-путешественника. Но в пределах этого жанра можно указать разновидности, в значительной мере несходные между собой. С одной стороны, это, например, «Сентиментальное путешествие» Стерна, в котором материал наблюдений и описаний поглощен лирикой, самораскрытием психологии героя-автора. Идеологический индифферентизм крайнего индивидуалиста-эстета определяет нарочито заносчивую позицию Стерна. С другой стороны, путешественники типа Дюпати (Lettres sur l’Italie, 1785) увлечены возможностью свести в одну книгу, благодаря удобной композиционной формуле, и обильный фактический осведомительный материал и передовую идейную пропаганду, конечно, в преломлении сентиментального индивидуализма. В сентиментальных путешествиях боролись противоречивые стихии буржуазного индивидуализма XVIII в., объективный мир вступал в конфликт с замкнутой личностью, — и чем более боевое мировоззрение было свойственно автору книги и его окружению, тем более побеждало объективное начало. В этом смысле характерны и деловитость и идейная заостренность французского типа сентиментального путешествия, создавшегося на подступах к буржуазной революции. Радищевское «Путешествие» примыкает к традиции французов, а не Стерна; но оно вполне самостоятельно. Оно не дает почти вовсе осведомительного, образовательного материала (по географии, истории и т. п.), но целиком построено на «внешнем» материале. Центр тяжести этого материала — политика, социальные отношения, идеи.
«Письма» Карамзина существенно отличаются от жанрового типа «Путешествия» Радищева, отличаясь и от книги Стерна. У учеников Карамзина — В. В. Измайлова («Путешествие в полуденную Россию», 1800—1802), П. И. Шаликова («Путешествие в Малороссию», 1803; «Другое путешествие в Малороссию», 1804) и других — победила освобожденная лирика Стерна. Их путешествия почти совершенно не содержат осведомительного материала, и содержание их — лирические медитации, лирические описания природы, лирические изображения встреч с разнообразными людьми, фетишизация каждого мимолетного впечатления и настроения. Субъективное начало свойственно в большой степени и книге Карамзина; но оно не поглощает всего материала книги. Карамзин сообщает в своих «Письмах» огромное количество конкретных сведений о культуре, быте, искусствах, людях Запада. Информационная задача выдвинута в его книге на первый план.
Путешествие стерновского типа или типа Измайлова — Шаликова можно было написать, не выходя из своей комнаты, не прочитав ни одной книги. Наоборот, «Письма русского путешественника» включают много подлинных наблюдений и много книжного материала. Это — вовсе не те письма, которые Карамзин изредка писал Плещеевым в Москву во время своего пребывания на Западе. В. В. Сиповский в цитированном выше исследовании доказал это с полной ясностью; он доказал, что «Письма» — книга, написанная в значительной части уже в Москве на основании записей, сделанных Карамзиным за границей, и на основании множества использованных им книжных источников. Карамзин не только основательно познакомился с художественной, политической, философской, исторической литературой Запада, задавшись целью познакомить с Западом русских
86
читателей; он специально изучил литературу о тех местах, в которых он был, и немало сведений и наблюдений почерпнул из этой литературы в свою книгу. Так, он свободно заимствовал из книг К. Ф. Морица «Путешествие немца в Англию», Мерсье «Картина Парижа», Сент-Фуа «Исторические очерки о Париже», Кокса «Письма о политическом, гражданском и естественном состоянии Швейцарии», Дюлора «Новое описание окрестностей Парижа» и «Новое описание достопримечательностей Парижа», Архенгольца «Англия и Италия», Николаи «Берлин и Потсдам» и других, список которых довольно велик.

Фронтиспис к «Письмам русского путешественника» Н. М. Карамзина в немецком издании 1800 г.
Таким образом Карамзин произвел большую научную работу по собиранию для «Писем» материалов, пополнивших его личные наблюдения. Эта фактичность, научность выделяют его книгу из ряда других сентиментальных путешествий, иностранных и русских. «Письма русского путешественника» явились для русского читателя целой энциклопедией западной жизни и культуры. Карамзин обстоятельно рассказывает в своей книге о политической жизни западных государств, например, об английском парламенте, о суде присяжных в Англии, об английских тюрьмах; он показывает и общественную жизнь Германии, Швейцарии, Франции, Англии; он говорит о западной науке и об ученых, о современных течениях философской и вообще общественной мысли. В. В. Сиповский пишет: «В Швейцарии он сближается с местными жителями, являясь в тамошние „серкли“ на вечеринки, принимая горячее участие в местных интересах и развлечениях. В Париже он торопится познакомиться с вымиравшими уже в то время „салонами“, но в то же время интересуется и кабачком...; в Англии он является гостем в семье богатого англичанина и также внимательно присматривается к общественной жизни. Жизнь Европы он изучает в театрах, во дворцах, в университетах, на загородных гуляньях, в монастырях, на шумной улице, в кабинете ученого и в тихой семейной обстановке... Салонные парижские дамы, остроумные аббаты, уличные крикуны, поэты, художники, ученые, прусские офицеры, английские купцы, немецкие студенты — вся эта пестрая, шумная толпа привлекает внимание Карамзина и со всей этой обильной нивы собирает он богатую жатву, не теряясь от обилия материала, находя во всем существенное, характерное... Не ускользают от его внимания иногда и мелкие черты, не существенные, но почему-нибудь обратившие на себя его внимание.
«Экономическая жизнь Запада также интересует его: материальное положение крестьян, экономическое процветание или бедность
87
народонаселения — все это будит его мысль, вызывает на соображения, сравнения, заключения...
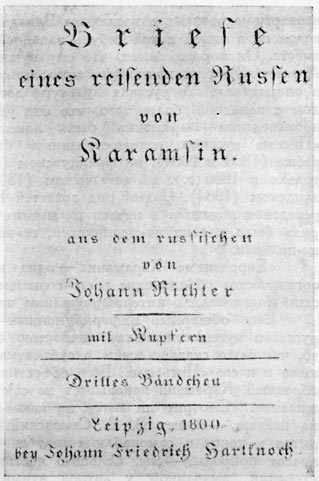
Титульный лист «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина в немецком издании 1800 г.
«Мельком бросает он взгляд и на этнографические черты европейских народностей. Типичные черты их, обычаи и нравы, костюм — все это иногда отмечается Карамзиным на страницах его записной книжки...
«Города, большие и малые, через которые лежал его путь, — все привлекли на себя его внимание. Он изучает эти города и по книгам, и при помощи непосредственных впечатлений. Париж, Лондон, Лейпциг, Берлин, Потсдам, швейцарские города, — все отразились более или менее своеобразно на его сознании. Характер англичан, немцев, швейцарцев, французов определен им чертами совершенно своеобразными...
«С большим вниманием и любовью отнесся Карамзин и к прошлому Западной Европы. Он сам заявил в „Письмах“, что любит глядеть на „остатки древностей“, „знаки минувших столетий“, любит „рассматривать памятники славных людей и представлять себе дела их...“»1
Карамзин уделяет много места и описаниям природы. Повсюду, куда он приезжал, он старался познакомиться с выдающимися деятелями культуры, писателями, и в «Письмах» он подробно рассказывает о своих разговорах с ними, дает их живые портреты, сообщает об их сочинениях; так, читатель как бы лично знакомится с Виландом и Кантом, Платнером и Гердером, Лафатером, Бонне, Бартелеми и др. Карамзин дает описание памятников искусств, музеев, статуй, библиотек и т. п. И до сих пор его книга представляет собою драгоценный свод сведений о Европе конца XVIII столетия.
Таким образом «Письма» — это не только «сентиментальное» путешествие. Образовательная и даже воспитательная роль этой книги была чрезвычайно велика. Прочитав ее, каждый русский человек оказывался освоенным с основными явлениями западной культуры, роднился с ними. Это было связано и с тем, что сам Карамзин писал о Западе вовсе не как провинциал, не как писатель, для которого Запад экзотичен и нов. Карамзин полностью преодолел в своих «Письмах» культурный сепаратизм, не чуждый некоторым дворянским деятелям его времени. Он явился в Европу европейцем, для которого все великие достижения народов Запада — не чужие, а свои, для которого его собственная русская культура
88
неразрывно связана с наследием Запада. При этом он вполне ориентировался не в одной какой-нибудь западной национальной культуре, а во всех вместе. Он хорошо знает, что́ ему нужно взять от Швейцарии, а что́ от Англии. Он был настоящим посланником русской культуры на Западе, и он показал, что русская культура достаточно высока, чтобы стоять рядом с западной, более того, что она уже слита с нею. Недаром именно произведения Карамзина были известны на Западе весьма широко. «Письма русского путешественника» были изданы дважды на немецком языке (1800 и 1804), на французском (неполностью в 1815 г., полностью только в 1866 г.), на английском (1803), на польском (1802), на голландском (1884). Целый ряд повестей Карамзина и его очерков был переведен и появился в печати на многих языках в 1797—1826 гг.; «История» была издана по-французски, по-немецки, по-английски, по-гречески, по-польски.
«Европеизм» Карамзина — одна из его больших заслуг. Глубокое, органическое объединение в его сознании русского начала с общеевропейским подготовляло интернационализм чисто русской культуры Пушкина.
Весь обширный информационный материал объединен в «Письмах русского путешественника» личностью самого автора — героя книги. Все то, что было сказано выше о субъективизме повестей Карамзина, применимо и к его «Письмам». Весь объективный материал, огромный и разнообразный, Карамзин показывает не сам по себе, а как свое личное переживание. «Смотрит ли автор на какое-нибудь трогательное событие или на пейзаж, — пишет В. В. Сиповский, — внимание его чаще всего сводится в конце к самонаблюдению; от того, вместо спокойного описания красот природы, — мы, большею частью, встречаем повествование о настроении, вызванном у автора этими красотами; вместо чисто-эпического, объективного рассказа о внешнем мире, мы имеем дело с сильной примесью субъективной окраски, вносящей лирический элемент часто в такие картины, которые, с современной точки зрения, только бы выиграли, если бы остались чистыми от этой примеси...»1 Отношение Карамзина к проблеме личности, характера, к показу действительности, природы, жизни в «Письмах» принципиально то же, что в «Юлии», «Сьерре-Морене» или «Чувствительном и холодном». И здесь выступает отличие его «Писем» от Радищевского «Путешествия». У Радищева объективная действительность подчиняет себе личность, у Карамзина — наоборот. У Радищева социальная тема — главная. У Карамзина главное — индивидуальность, «я», эстетическая и интеллектуальная культура. Радищев изучает действительность, чтобы изменить ее, Карамзин — чтобы познать ее, вкусить прекрасных плодов культуры, самоуслаждаться ими. Революционер-демократ Радищев не мог сойтись с Карамзиным и в существе художественного метода, хотя единство эпохи и течение стиля сближали их в отдельных чертах этого стиля. Не случайно Карамзин описывает в своей книге Запад, Радищев — родину. Говорить о самом главном, самом страшном Карамзин боится. Радищев дерзает на все, на правду до конца.
11
Не только оригинальные произведения Карамзина, его повести, его «Письма русского путешественника» сыграли значительную роль в сближении русской литературы с современной западной, но и издаваемые им
89
журналы и его переводы. Карамзин был выдающимся журналистом, и его журналы составили крупный этап в развитии русской периодической печати. После «Собеседника любителей российского слова» русская журналистика, уже имевшая немалый опыт, была сжата усиливавшимся цензурно-полицейским гнетом. Правда, именно обострение политической ситуации выразилось в новом расцвете сатирической журналистики, смелой, преодолевшей усилия реакции. Сатирические издания Страхова и в особенности «Почта духов» Крылова были проявлением роста демократической, бунтарской общественной мысли в конце 1780-х годов. Но эти издания лишь в малой степени имели характер журналов; с другой стороны, они ограничивались по преимуществу задачами сатиры. Другие журналы, более или менее ценные, не смогли завоевать внимание сколько-нибудь широкого круга читателей. Лишь журналы Карамзина вновь выдвинули периодическую печать на подобающее ей место в литературе и вообще в культурной жизни страны.
Уже «Детское чтение», в котором Карамзин принял весьма значительное участие, было незаурядным явлением русской литературы. Это был первый детский журнал в России, вообще первое крупное издание, предназначенное для детей. Собственно с «Детского чтения» начинается история русской детской литературы. Журнал этот в основном заполнялся переводами, но и это не уменьшало его значения. Политическая консервативность его редакторов не помешала им строить свой журнал на передовых педагогических идеях. «В „Детском чтении“ Карамзин следует принципам той филантропической педагогики, которую ввел в обиход „Эмиль“ Руссо...: отсутствие принуждения и страха, отсутствие зубрения и телесных наказаний, развитие чувства и сердца — вот ее основы», — пишет А. Кирпичников.1
Более широкое значение имел «Московский журнал». Это был очень живой, интересный журнал, дававший читателю и хорошие стихи и прекрасную прозу, знакомивший его систематически с западной литературой, развивавший его литературный вкус и расширявший его культурный кругозор. Сам Карамзин говорил своим читателям: «Постараюсь, чтобы содержание журнала было как можно разнообразнее и занимательнее».2
«В выполнении своей задачи, — пишет Я. К. Грот, — Карамзин показал много искусства, такта, понимания потребностей современной публики».3 Карамзину удалось добиться сотрудничества в «Московском журнале» лучших поэтов его времени. Державин был постоянным вкладчиком его издания. За ним шли Херасков, Нелединский-Мелецкий, Капнист и др. Дмитриев поместил в журнале своего друга много стихотворений, и можно сказать, что именно в «Московском журнале», под влиянием издателя, оформилось и окрепло его дарование. Карамзин также печатал свои стихотворения в журнале. Отдел оригинальной прозы был заполнен повестями и очерками Карамзина и «Письмами русского путешественника», печатавшимися из номера в номер по частям. «Значительную долю журнала занимали переводы из известнейших в то время писателей французских, немецких и английских: из Мармонтеля, Флориана, Гарве, Морица, Стерна. Сверх того, Карамзин познакомил русскую публику с Оссианом, песни которого в немецком переводе приобрел он в Лейпциге, также с индийской драмой Саконталой и с мнением о ней Гете. Большую цену придавал он биографии славных новых писателей и напечатал между прочим статьи о любимых им поэтах: Клопштоке, Виланде и Гесснере. Собственно
90
говоря, в „Московском журнале“ не было так называемых ныне отделов: статьи, по большей части, коротенькие, следовали одна за другой, без всякого строгого порядка. Однако ж, согласно с своей программой, журнал начинался обыкновенно стихами, потом шла изящная проза, далее — смесь, т. е. анекдоты, выбранные из иностранных журналов; в конце же помещались разборы театральных представлений в Москве и в Париже и рецензии новых книг, как русских, так и иностранных».1
Рецензии, отчеты о книгах, критические статьи Карамзина в «Московском журнале» составили одну из заслуг этого издания. До этого времени русские журналы почти совсем не знали критического отдела. Только в «С.-Петербургском вестнике» 1778—1781 гг. появляются критические заметки, но самый характер их, весьма упрощенный, не позволяет сопоставлять их с статьями «Московского журнала». Современник писал: «Из россиян Карамзин в изданном им в 1791 г. Московском журнале подал, первый пример критики литературы. С того времени нашел он себе многих; преемников».2 В самом деле, уже в 1793 г. противники Карамзина, Клушин и Крылов, вводят в состав своего «С.-Петербургского Меркурия» критические статьи.
Образец критического анализа содержания, образов литературного произведения Карамзин дал в статье об «Эмилии Галотти» Лессинга. Много внимания в своих рецензиях он уделял вопросам языка и стиля; так, он боролся против «славянщизны», нападал на писателей, следующих моде, «введенной в русский слог големыми претолковниками N. N., иже отревают все, еже есть русское, и блещаются блаженне сиянием славяномудрия». В «Московском журнале» Карамзин помещал также театральные отчеты, и они закладывали основы русской театральной критики.
В 1791 г. «Московский журнал» имел около 300 подписчиков. По тем временам это была цифра не такая уже малая. Во всяком случае, в 1801—1803 гг. все восемь частей журнала были изданы Карамзиным вторично; видимо, читательский спрос был достаточно велик, чтобы побудить переиздавать журнал (отметим, что и «Детское чтение» было переиздано в 1799—1804 гг.). В перерыве между двумя журналами Карамзин издал три томика «Аонид», первого русского поэтического альманаха, и серию переводов. Среди них наиболее замечательны три тома, озаглавленные «Пантеон иностранной словесности» (1798). Тут Карамзин дал хрестоматию отрывков и небольших произведений различных литератур, — от античной и восточной до современной западной. Тут представлены: Цицерон, Демосфен, Бюффон, Бартелеми, Лукан, Плутарх, Тассо, Сади, «Сакунтала», Саллюстий, Тацит, Дидро, Тома, Фокс, Ривароль, Гарве, Франклин, Гольдсмит, Ж. Ж. Руссо, Архенгольц, Мерсье и т. д. и т. д., в самом причудливом и завлекательном переплетении. Произведения для «Пантеона» отобраны большею частью не беллетристические (не сюжетные), но художественно написанные. Это — нравоучительные, философские, эстетические размышления, речи, описания и т. п. «Пантеон» был очень полезной книгой для русского читателя; он расширял его кругозор, так же как «Письма русского путешественника», как бы добавлением к которым он являлся. В 1818 г. «Пантеон» был переиздан (в 1835 г. было третье издание). Большим успехом у читателя пользовались и «Новые Мармонтелевы повести» (2 ч. 1794—1798; потом еще три издания) и
91
«Повести Жанлис» (2 ч. 1802—1803; потом еще два издания), переведенные Карамзиным.
Новый век русской журналистики открывает «Вестник Европы» Карамзина. «Вестник Европы» определил тип серьезного литературно-общественного журнала на весь XIX в. До «Вестника Европы» все русские журналы более или менее избегали прямой постановки политических вопросов; кроме того, это были в сущности периодически выходящие сборники литературного материала, и лишь введение критического раздела в «Московском журнале» непосредственно связало журнал с текущими событиями. «Вестник Европы» — первый русский литературно-политический журнал. Каждая книжка его делилась на два отдела: литературный и политический. Первый из них в значительной мере был продолжением «Московского журнала». Так, здесь печатались, кроме русских оригинальных художественных произведений, переводы из Мармонтеля, Флориана, Жанлис, Сталь, Авг. Лафонтена, Стерна, Бернардена де Сен-Пьера, Коцебу, Мерсье, Шиллера и др. Но и этот отдел имел существенное отличие от прежних журналов; в нем помещен целый ряд статей Карамзина, освещающих текущие вопросы общественной жизни, затрагивающих важные и животрепещущие темы; таковы статьи «О любви к отечеству и народной гордости», «О книжной торговле и любви к чтению в России», «О новых благородных училищах, заводимых в России», «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», «Отчего в России мало авторских талантов», «Взор на прошедший год», «О новом образовании народного просвещения в России», «Письмо сельского жителя» и др. Во втором отделе журнала Карамзин помещал свои сводки политических известий о западноевропейских событиях, характеристики и очерки социально-политического положения западных государств, сведения о политических деятелях, заметки о культуре и т. д. Эти обзоры, заимствованные из заграничных журналов, но скомпанованные по-своему Карамзиным, давали широкую картину жизни Европы, не только в части «великих держав», Англии и Франции, но и в части менее значительных стран: Испании, Турции, Греции, Швейцарии. Карамзин сообщает сведения и об Америке, и об Азии и Африке. Затем, хорошо был поставлен в «Вестнике Европы» отдел смеси, заключавший самые разнообразные сообщения, любопытные и поучительные, из области наук, истории, интересные мелочи быта, анекдоты и т. д. Весь этот огромный материал статей, обзоров, смеси «Вестника Европы» был подлинной школой культуры и общественного, политического воспитания для русского читателя.
12
В историю русской литературы Карамзин вошел, главным образом, как прозаик. Его стихотворения не могут итти в сравнение с его прозой ни по своему влиянию, ни по своему художественному достоинству. Тем не менее и они способствовали подъему литературной культуры в России и осуществляли ту новую «европеизацию» русской литературы, которая составляет одну из заслуг Карамзина вообще.
Основной характер поэзии Карамзина, основная задача ее — создание лирики субъективной и психологической, уловление в коротких поэтических формулах тончайших настроений души. Дело шло о построении самого понятия лиризма нового эмоционального типа. В лирике Карамзина чувству природы, понятой в психологическом плане, уделено немалое внимание. Природа в ней одухотворена чувствами живущего вместе с ней человека, и сам человек слит с нею; точнее, — тема природы для
92
Карамзина слита с темой настроения. Карамзин добивается создания в стихотворении не вещественного материального образа, а определенной лирической тональности, соответствующей настроению, основной теме произведения. Он пишет в статье «Мысли об уединении» (1802): «Некоторые слова имеют особую красоту для чувствительного сердца, представляя ему картины меланхолические и нежные». Именно такие слова, вообще такие изобразительные средства старается преимущественно использовать Карамзин. Так, в стихотворении «Осень» он хочет создать общую настроенность тоски, увядания. Все элементы стихотворения подчинены этому эмоциональному лейтмотиву.
Веют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
Желтые листья.
Поле и сад опустели;
Сетуют холмы;
Пение в рощах умолкло —
Скрылися птички.
...........
Странник, стоящий на холме,
Взором унылым
Смотрит на бледную осень,
Томно вздыхая
и т. д.
Лирическая тональность стихотворения усилена подбором слов единого тона: осенний, мрачный, сетуют, унылый, бледный, томный, вздыхая и т. д. На первый план выдвигается не предметное слово, а качественное, — эпитет, характеризующий не объективный предмет, а отношение к нему. Бледная осень — это образ, не реализуемый зрительно, конкретно (аллегории здесь явно нет), а лишь словесная нота, настраивающая душу на «осенний» лад. Слово значимо не своим конкретным значением, а обертонами, лирическими ассоциациями, ему свойственными.
На этой основе возникает возможность уловить в стихах оттенки, полутона, переходы настроений. Таково задание стихотворения «Меланхолия (подражание Делилю)»; здесь говорится:
О Меланхолия! нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья;
Отчаянье прошло... Но, слезы осушив,
Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь
И матери своей, Печали, вид имеешь.
Бежишь, скрываешься от блеска и людей,
И сумерки тебе милее ясных дней
и т. д.
Сложная эмоциональная композиция, боренье и сопоставление двух лирических тональностей составляет основу стихотворения «Кладбище» (вольное подражание немецкому поэту конца XVIII в. Козегартену); здесь каждая из двух смежных строф повторяет ту же тему, но в различной тональности: один голос ведет мелодию ужаса и угрозы, другой — светлого смирения; тем самым отчетливо выступают перед нами черты системы Карамзина, выдвигающей музыкально-лирическую тему за счет объективно-предметной:
93
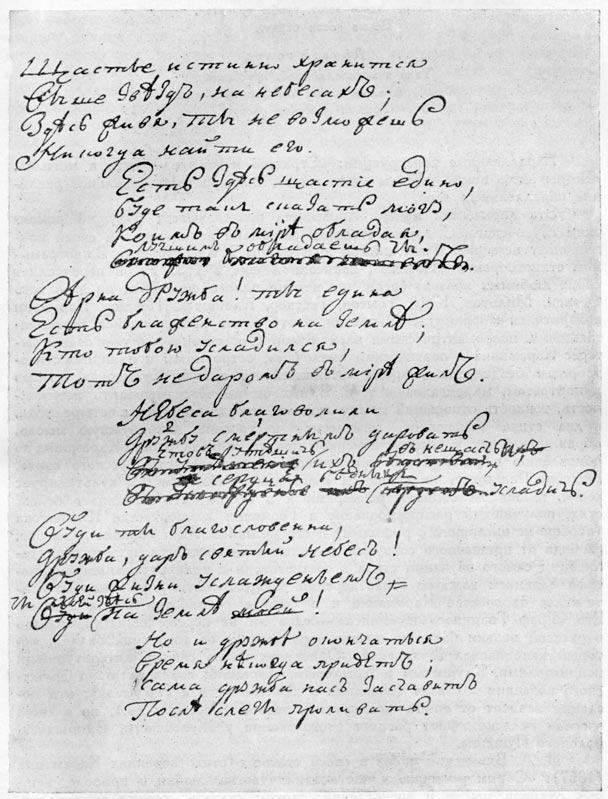
Автограф стихотворения Карамзина «Счастье истинно хранится» (1787 г.).
94
Один голос
Страшно в могиле, хладной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,
Белые кости стучат.
Другой голос
Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут.
и т. д.
Параллельные конструкции: «Страшно в могиле — Тихо в могиле», «Ветры здесь воют — Ветры здесь веют», подчеркивают тональное различие параллельных слов.
Эта лирическая манера Карамзина предсказывает будущий романтизм Жуковского. С другой стороны, Карамзин использовал в своей поэзии опыт немецкой и английской литературы XVIII столетия. В программном стихотворении «Поэзия», написанном еще в 1787 г., он перечисляет своих любимых поэтов; среди них нет ни одного француза, но зато есть Оссиан, Мильтон, Юнг, Томсон, Гесснер, Клопшток. Позднее Карамзин возвратился к французской поэзии, в это время насыщавшейся сентиментальными, преромантическими элементами. С опытами французов связан интерес Карамзина к поэтическим «мелочам», остроумным и изящным стихотворным безделушкам, вроде «Надписей на статую Купидона», стихов к портретам, мадригалов и т. п. В них он пытается выразить изысканность, тонкость отношений между людьми, иногда вместить в четыре стиха, в два стиха мгновенное, мимолетное настроение, мелькнувшую мысль, образ. Наоборот, с опытом немецкой поэзии связана работа Карамзина по обновлению и расширению метрической выразительности русского стиха. Подобно Радищеву, он недоволен «засильем» ямба. Он сам культивирует хорей, пишет 3-сложными размерами и в особенности насаждает белый стих, получивший распространение в Германии в творчестве Клопштока (вообще не писавшего с рифмами) и его учеников. Разнообразие размеров, свобода от привычного созвучия должны были способствовать индивидуализации самого звучания стиха в соответствии с индивидуальным лирическим заданием каждого стихотворения. Существенную роль сыграло поэтическое творчество Карамзина и в смысле разработки новых жанров. Его «Граф Гваринос» и «Раиса» — едва ли не первые попытки создать в русской поэзии балладу, правда, еще далекие от того типа баллад, который канонизовал Жуковский. Одновременно со своими литературными неприятелями, Клушиным и Крыловым, Карамзин создавал жанр дружеского послания в стихах (послания к Дмитриеву и к Плещееву); эти послания зависят от опыта французских поэтов (Грессе и др.), но в свою очередь предсказывают расцвет этого жанра у Жуковского, Батюшкова, молодого Пушкина.
П. А. Вяземский писал в своей статье о стихотворениях Карамзина (1867): «С ним родилась у нас поэзия чувства, любви к природе, нежных отливов мысли и впечатлений, словом сказать, поэзия внутренняя, задушевная... Если в Карамзине можно заметить некоторый недостаток в блестящих свойствах счастливого стихотворца, то он имел чувство и сознание новых поэтических форм».
95
13
Интерес к русской истории проявился у Карамзина задолго до начала работы над «Историей государства Российского» и получения официального звания историографа. Конечно, в «Наталье, боярской дочери» исторический фон дан еще совершенно условно; эта повесть не обнаруживает сколько-нибудь значительной осведомленности ее автора в прошлом России. Однако уже в «Письмах русского путешественника» Карамзин проявил свой интерес не только к истории европейских государств, но и к истории отечества. В 1801 г. Карамзин написал ряд очерков о русских писателях, древних и новых, для серии портретов их, изданной П. Бекетовым под названием «Пантеон российских авторов». К 1802 г. относится написание «Исторического похвального слова Екатерине II» Карамзина (еще в 1798 г. он задумал два похвальные слова: Петру I и Ломоносову), «Исторических воспоминаний и замечаний на пути к Троице и в сем монастыре», статьи «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств»; к 1803 г. — статьи «О тайной канцелярии», «Известия о Марфе Посаднице» и других заметок исторического характера. К тому же 1803 г. относится большая историческая повесть «Марфа Посадница».
С 1803 г. и до конца дней Карамзин почти исключительно занимался своей историей. Он работал много и усердно. Он хорошо изучил историческую литературу о западных государствах, изучил все печатные источники русской истории и ревностно добывал всевозможные рукописи, относящиеся к его предмету. В результате в его руках скопился обширный материал.
Между тем, Карамзин приступил к своей работе, понимая свою задачу не столько как ученый, сколько в качестве писателя-художника. Его биограф-апологет и современник, лично знакомый с ним, М. П. Погодин писал о Карамзине, каким он был около 1803 г.: «Об деле истории, особенно в отношении к приготовительным, критическим работам, он имел понятия очень поверхностные; классического образования он не получил, и даже собственно-ученой подготовки в смысле Шлецера у него не было. Он хотел прежде всего сочинить занимательную книгу для чтения; он хотел развернуть приятную, поразительную картину пред взорами своих читателей; распространить в обществе, в народе исторические сведения, доступные прежде только для немногих. Учености у него не было в виду. Он надеялся управиться при одном здравом смысле, живости воображения, при таланте красноречия».1
Впоследствии, втянувшись в работу, погрузившись в материал, Карамзин изменил свое отношение к делу. Ему пришлось уделить много времени чисто исследовательскому изучению источников. Но до самого конца он считал исследование материалов неблагодарным трудом подсобного значения, считал, что история — это художественное произведение, трудное для автора тем более, что в нем нельзя ничего или почти ничего придумывать. Понятия о научной критике документов у него не было до конца. Он не смог до конца усвоить также принципы построения и понимания исторических фактов, уже установленные европейской наукой его времени.
Нельзя сказать, что у Карамзина не было предшественников и в русской науке. Помимо того, что в XVIII столетии уже было напечатано несколько летописей, исторических документов и немало исследований по
96
отдельным вопросам, труд Карамзина не был первым сводным изложением русской истории. В 1768—1784 гг. были напечатаны четыре тома «Истории российской» В. Н. Татищева, еще примитивной в научном отношении, но сосредоточившей летописные свидетельства в едином изложении. Еще раньше, в 1766 г., вышел первый и единственный выпуск «Древней российской истории» Ломоносова. Весьма малую цену имеют полуфантастическая «Российская история» Ф. Эмина (3 т., 1764—1769) и беспомощные «Записки касательно российской истории Екатерины II (6 ч., 1787—1794). Зато большим достижением русской науки следует считать «Историю российскую» Щербатова (7 т., 1770—1794). Он построил достаточно последовательную дворянскую концепцию исторического процесса в России и использовал обильный архивный материал. Не говоря о других историках России, русских и иностранных, достаточно указать на Щербатова, чтобы увидеть, что Карамзин работал не на пустом месте. Мало того, он широко использовал труды своих предшественников и во многом, очень во многом зависел от них. Самая концепция развития русской истории, проводимая Карамзиным, была традиционна издавна, еще с допетровских времен. В особенности заметна зависимость Карамзина от Щербатова (политических симпатий которого к аристократическому олигархизму Карамзин, однако, не разделяет). Карамзин следует за Щербатовым в выборе материала для изображения, в расположении его, даже в понимании отдельных событий. И в самых разыскиваниях материалов, источников, Карамзин шел по стопам Щербатова; основные архивные фонды, обследованные Карамзиным, были знакомы уже Щербатову. Существенное влияние на изложение первых веков русской истории у Карамзина оказал известный труд Шлецера «Нестор» (1802—1809) и т. д. Тем не менее и в чисто научной плоскости труд Карамзина не был простой компиляцией; все-таки он придал материалу русской истории большую стройность и последовательность, чем это было у его предшественников. Креме того, он разыскал ряд новых ценных источников-рукописей и использовал их. Большое значение для науки до сих пор имеют пространные примечания Карамзина к «Истории государства Российского», занимающие столько же места, сколько самый текст истории. В примечаниях Карамзин опубликовал множество документов, до него ненапечатанных, а частью вовсе неизвестных. Некоторые из них впоследствии погибли или утерялись, и тем бо́льшую ценность имеет их публикация у Карамзина. Представляя собой документальное обоснование «Истории государства Российского», примечания Карамзина явились одновременно печатным сводом материалов по русской истории вообще.
Излагая события русской истории, Карамзин сознательно отказался от философских обобщений на основе сообщаемых им фактов. Однако же он положил в основу своего изложения определенную политическую концепцию, не новую и достаточно реакционную для его времени. Он связывал судьбу России с судьбой самодержавия. Он объяснял первые успехи русской государственности единовластием Рюрика и в особенности Олега. Затем наступило разделение России, засилье феодального удельного управления; личные страсти князей, разрывавших единый организм государства на части, привели к ослаблению России, к бесчисленным бедствиям, наконец, к победе татар над Россией, к монгольскому игу. Но затем мудрые князья московские снова восстановили принцип самодержавия, сосредоточили власть в своих руках, объединили Россию, ликвидировали древние вольности народа и республиканские, в сущности, правления Новгорода и Пскова. Поэтому им удалось ликвидировать татарское иго и затем сделать Россию могущественной державой. Эта монархическая схема русской
97
истории не слишком назойливо бросается в глаза в самом труде Карамзина. Более отчетливо она дана в кратком виде в «Записке о древней и новой России».
Карамзин включает в свое изложение главы о нравах, быте, торговле, культуре России в те или иные периоды. Но в основном его труд — это именно не история народа, не история даже страны в целом, а прежде всего история государства, точнее — история правительства. Он рассказывает о русских князьях и царях, думая, что это и есть история отечества. Он полагает, что история — это плод индивидуальных намерений правителей и их действий; он уверен, что те формы, которые приобретала государственная жизнь страны, явились результатом умной или глупой политики правителей, их добродетелей или же пороков. Ему несвойственно представление о закономерности исторического процесса, представление о социальных силах его. В этом отношении он продолжает традицию механистического мышления политических писателей середины XVIII столетия. Историзм Гердера прошел мимо него. Он знает, что люди одевались в прошлом иначе, чем в его время, что у них могли быть другие обычаи, другие верования. Но он не понимает, что эти изменения органичны. Тем менее он догадывается о том, что люди меняются психологически в процессе истории. Он говорит о Святославе и Олеге совершенно так же, как он говорил о бедной Лизе и Эрасте. Внутренние побуждения, характеры, склад понятий людей IX столетия в его изображении ничем не отличаются от склада людей XIX в.; они нарисованы у него с той же несколько слащавой эстетизацией, теми же эффектными и даже лирическими красками, к каким он привык за годы своей работы в качестве писателя. Вот, например, рассказ о Гаральде, «принце» норвежском: «В юности своей выехав из отечества, он служил князю Ярославу; влюбился в прекрасную дочь его, Елисавету, и желая быть достойным ее руки, искал великого имени в свете. Гаральд отправился в Константинополь; вступил в службу императора восточного; в Африке, в Сицилии побеждал неверных; ездил в Иерусалим для поклонения святым местам и через несколько лет, с богатством и славою возвратясь в Россию, женился на Елисавете, которая одна занимала его сердце и воображение среди всех блестящих подвигов геройства».
Таковы же моральные оценки людей прошлого, с легкостью распределяемые Карамзиным; он судит своих героев по своей собственной морально-общественной схеме, странной в применении к деятелям, жившим очень давно. Вот, например, итог главы о Святославе: «Таким образом скончал жизнь сей Александр нашей древней истории, который столь мужественно боролся и с врагами и с бедствиями; был иногда побеждаем, но в самом несчастии изумлял победителя своим великодушием; равнялся суровою воинскою жизнию с героями песнопевца Гомера и, снося терпеливо свирепость непогод, труды изнурительные и все ужасное для неги, показал русским воинам, чем могут они во все времена одолевать неприятелей. Но Святослав, образец великих полководцев, не есть пример государя великого: ибо он славу побед уважал более государственного блага и, характером своим пленяя воображение стихотворца, заслуживает укоризну историка».
Таким образом научные, методологические позиции Карамзина как историка столь же порочны, сколь политическая концепция его труда реакционна. Тем более выдвигаются на первый план художественные элементы в его «Истории». Эта многолетняя работа Карамзина явилась естественным продолжением его прежней литературной работы В «Письмах русского путешественника», в своих журналах Карамзин знакомил
98
русского читателя с Западной Европой; в «Истории государства Российского» он знакомил его с отечеством, с его прошлым. Его собственное понимание своей задачи, как историка-художника, сказалось во всем его труде. Он стремится писать историю так, чтобы читателю запомнились живые образы людей, сражений, народных волнений, как образы романа. В процессе работы Карамзин все более овладевал искусством ярких характеристик, описаний, полных движения. В начале 1820-х годов он увлекался романами Вальтер Скотта, ожидал с нетерпением выхода каждого нового романа; романы Вальтер Скотта одно время читались в его семье ежедневно за круглым столом вслух. Нет сомнения, что историческая живопись английского романиста, открытое им искусство воссоздавать внешние черты эпохи повлияли на Карамзина при написании им последних томов «Истории». Однако и в этих томах Карамзин остался столь же чужд глубокого историзма, как и в первых.
На современников произвели неизгладимое впечатление яркие, полные контрастов, эффектные рассказы Карамзина в его истории, в особенности такие, как, например, изображение Ивана III, Ивана Грозного, Бориса Годунова. В самом деле, соответствующие тома истории написаны как роман и читаются как роман. Карамзин располагает события так, чтобы получилась сюжетная увлекательность. Его упрощенная, но все же блестящая манера строить психологический портрет, вполне беллетристическая, дала художественно-убедительные, хотя и романтические образы мудрого, величественного властителя Ивана III (Карамзин превозносит этого князя), мелодраматического злодея Ивана Грозного, трагического преступника Бориса.
«История государства Российского» не была первой книгой о русской истории, но это была первая книга о русской истории, которую можно было читать легко и с интересом, рассказ которой запоминался. Ее в самом деле прочитало множество людей. До Карамзина сведения о русской истории были распространены только в узком кругу специалистов. Даже русская интеллигенция почти ничего не знала о прошлом своей родины. Карамзин произвел в этом отношении целый переворот. Его труд сделал знание основных фактов русской истории достоянием широкого круга читателей. Он открыл русскую историю для русской культуры, и в этом великая заслуга его труда. Трудно оценить в полной мере значение этой заслуги, значение, без сомнения, весьма положительное. Монархическая схема Карамзина легко могла быть отброшена читателем: оставались талантливо изложенные факты. Когда молодое декабристское движение обратилось к истории, чтобы построить свое политическое мировоззрение, когда энтузиасты-свободолюбцы пушкинского круга и поколения поставили вопрос о национальных корнях будущей свободной русской культуры, они черпали материалы и для своей политической мысли, и для своей культурной программы, и для своего литературного творчества у Карамзина. Рылеев широко использовал для своих «Дум» и факты, и образы, и даже отдельные выражения из «Истории государства Российского». Пушкин написал «Бориса Годунова», опираясь главным образом на изложение Карамзина, хотя он и переосмыслил его и бесконечно более глубоко понял то, что рассказал Карамзин И еще А. К. Толстой свои баллады и исторические драмы строил на материале Карамзина. В предисловии к своему труду Карамзин писал: «С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет и лучшее время моей жизни на сочинение сих осьми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и бояться охуждения; но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славолюбие не могло бы дать мне твердости постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если
99
бы не находил я истинного удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то-есть, сделать Российскую историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей».
Этой указанной им самим цели он достиг вполне: историю России он сделал известной многим.
Нужно сказать также, что влияние «Истории» Карамзина на читателей было благотворно и вследствие глубокого и искреннего патриотизма, пронизывающего все томы ее. Карамзин не хвастает Россией, не скрывает недостатков ее прошлого, говорит о ее поражениях, как и о ее победах. Но он горячо любит отечество, горячо любит и свой народ, хотя неправильно понимает его историческую судьбу; он желает ему «благоденствия еще более, нежели славы» («Предисловие»). Это чувствовали и это оценили в «Истории» Карамзина и те передовые читатели, которые осуждали ее политическую тенденцию.
В начале 1818 г. восемь томов «Истории государства Российского» вышли в свет. Успех книги был неслыханный, особенно для столь большого произведения и притом по названию научного. Появление его было воспринято всеми грамотными людьми, как большое общественное событие. В среде декабристов вызвала недовольство реакционность идеи «Истории». Никита Муравьев, лично хорошо знакомый Карамзину, написал политическую статью об «Истории», главным образом о предисловии к ней. Списки этой статьи ходили по рукам. Прежде всех других Муравьев показал ее самому Карамзину, и тот не возражал против ее распространения. «История народа принадлежит царю», — написал Карамзин в посвящении своего труда Александру I. Муравьев начал свою статью словами: «История принадлежит народу». Он протестовал против монархической идеи Карамзина, протестовал и против его понимания задачи историка. Карамзин написал в своем предисловии: «Знание всех прав на свете, ученость немецкая, остроумие Вольтерово, ни самое глубокомыслие Макиавелево в историке не заменяют таланта изображать действия». Муравьев возражает: «Бесспорно, но это не доказывает, чтобы искусство изображать было главное в истории. Можно весьма справедливо сказать, что талант повествователя не может заменить познаний, учености, прилежания, и глубокомыслия, что важнее. Мне же кажется, что главное в истории есть дельность оной. Смотреть на историю единственно как на литературное произведение есть уничижать оную».
Ополчился на Карамзина и М. Ф. Орлов. Юноша Пушкин написал эпиграмму на «Историю», но прошло немного лет, и Пушкин оценил Карамзина и его «Историю» иначе. В 1826 г. он вспоминал о болезни, приковавшей его к постели за восемь лет до того: «Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов Русской истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностию и со вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление. Три тысячи экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моем выздоровлении, я снова явился в свете, толки были во всей силе... У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых двенадцать лет жизни безмолвным и неутомимым трудам... Молодые якобинцы негодовали;
100
несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, — казались им верхом варварства и унижения. — Они забывали, что Карамзин печатал Историю свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники. Чего же более требовать было от него? Повторяю, что История государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».
14
Одна из величайших заслуг Карамзина перед русской культурой — это произведенная им реформа русского литературного языка. На пути подготовки русской речи к Пушкину Карамзин явился одним из наиболее крупных деятелей. Современники видели в нем даже создателя тех форм языка, которые унаследовали Жуковский, Батюшков, а затем и Пушкин, несколько преувеличивая значение переворота, им осуществленного.
Конечно, карамзинская реформа языка была подготовлена усилиями его предшественников. Но, без сомнения, незаурядная лингвистическая одаренность Карамзина выделяет его в этом отношении из числа писателей его времени, и именно он в наиболее отчетливом виде воплотил тенденции обновления русского стиля, потребность в котором ощущалась всей передовой литературой конца XVIII столетия.
Сам Карамзин, придя в литературу, был недоволен тем языком, каким писались тогда книги. Задачу реформы языка он ставил совершенно сознательно и настоятельно. Еще А. А. Петров, друг его молодости, не мало повлиявший на него, в письмах к нему смеется над «русско-славянским языком и долгосложно-протяжно-парящими словами» (1785).1 В 1798 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Пока не выдаю собственных своих безделок, хочу служить публике собранием чужих пиес, писанных не совсем обыкновенным русским, то есть не совсем пакостным слогом» (18 августа 1798 г.). Издавая «Аглаю», он писал: «Я желал бы писать не так, как у нас по большей части пишут». Г. Каменеву Карамзин рассказывал в 1800 г.: «Вознамерясь выйти на сцену, я не мог сыскать ни одного из русских сочинителей, который бы был достоин подражания и, отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я заметить штиль его дикий, варварский, вовсе несвойственный нынешнему веку, и старался писать чище и живее».2 Таким образом Карамзин считал слог русских писателей устаревшим. Он чувствовал, что новые задачи, поставленные им перед собой, как литератором, не могут быть воплощены в формах старого языка, недостаточно гибкого, легкого и изящного. Он выступил против церковно-славянской ориентации «высокого штиля» литературы XVIII в., видя в ней, с одной стороны, реакционную церковно-феодальную тенденцию и провинциальную оторванность от западной языковой культуры, с другой — патетику гражданственности, слишком радикальную для него (тип использования славянизмов у Радищева). В статьях «Московского журнала» он осуждает «славяномудрие» некоторых писателей. Он осуждает славянизмы и у Дмитриева, которому пишет дружески 17 августа 1793 г.: «Персты и сокрушу производят какое-то дурное действие».
101
Карамзин, решившись создать новый литературный стиль, не захотел обратиться и к источнику народной, живой, реалистической речи. Ее органический демократизм, ее глубокая связь с подлинной неприкрашенной действительностью пугали его; он чуждался отсутствия в народном языке того, что он считал изяществом, приятностью, изысканностью. Его боязнь жизненной правды классовой борьбы, его стремление уйти от действительности, слишком страшной для него, в мир душевного уединения и психологического субъективизма, выразились и в его языковой позиции. Белинский сказал: «Вероятно Карамзин старался писать, как говорится. Погрешность его в сем случае, та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников» («Литературные мечтания»).
Карамзин предпочитал говорить не крестьянин, а поселянин. В этом сказалась не только свойственная ему эстетизация мира, а и боязнь прямого называния вещей. Крестьянин — было слово и понятие, слишком связанное с мучительной для Карамзина реальностью Пугачевского восстания; поселянин — это было слово эмоционально приятное, более отвлеченное, менее конкретно-классовое, менее говорящее о суровой действительности. Эстетизация мира у Карамзина была способом набросить на действительность покров искусства, покров красоты, измышленной и не выведенной из самой действительности. Изящно-жеманный язык Карамзина, изобилующий округлыми и эстетическими перифразами, заменяющий простое и «грубое» для него называние вещей эмоциональными узорами слов, чрезвычайно выразителен в этом смысле. «Счастливые швейцары! — восклицает он в „Письмах русского путешественника“, — всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, простоты нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу, не возмущаемую тиранскими страстями». Карамзин предпочитает говорить не прямо о свободе швейцарцев, а описательно, смягченно, о том, что они служат одному богу, не прямо о смерти, страшной смерти, а изящно, отвлеченно и эстетически о роковой стреле, кротко влетающей в грудь.
В письме к Дмитриеву от 22 июня 1793 г. Карамзин писал об одном из стихотворений своего друга:
«Пичужечки не переменяй — ради бога не переменяй! Твои советники могут быть хорошими в другом случае, а в этом они неправы. Имя пичужечка для меня отменно приятно потому, что я слыхал его в чистом поле от добрых поселян. Оно возбуждает в душе нашей две любезные идеи: о свободе и сельской простоте. К тону басни твоей нельзя прибрать лучшего слова. Птичка почти всегда напоминает клетку, следственно неволю. Пернатая есть нечто весьма неопределенное; слыша это слово, ты еще не знаешь, о чем говорится: о страусе или колибри.
«То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко. Один мужик говорит пичужечка и парень: первое приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю красный летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку, и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: вот гнездо! вот пичужечка! При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: ай парень! что за квас! Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей! Итак, любезный мой И., нельзя ли вместо парня употребить другое слово?»
102
Трудно более отчетливо и выразительно сформулировать боязнь простого слова, за которым стоит враждебная классовая действительность, и пристрастие к слогу, эстетизированному, приятному, изящному в представлении дворянского салона. Реакционер Шишков, любивший рубить сплеча, открыто и туповато настаивавший на своих прямолинейных убеждениях, возмущался уклончивостью способа выражения Карамзина и его учеников, их эстетической жеманностью. Он заявлял, что вместо выражения Карамзина «Когда путешествие сделалось потребностью души моей», следует сказать прямо: «Когда я любил путешествовать»; вместо изысканной формулы «Пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит», он предлагал такую фразу: «Деревенским девкам навстречу идут цыганки». Шишков был прав в этом отношении. Но он не увидел в языке Карамзина другого, ценного. Карамзин и в своей реформе стиля был европейцем, западником, стремившимся насытить русскую речь достижениями западной культуры, притом культуры передовой. Ученик и апологет Карамзина П. И. Макаров писал о его языке, приводя западные параллели: «Фокс и Мирабо говорили от лица и перед лицом народа, или перед его поверенными, таким языком, которым всякий, если умеет, может говорить в обществе, а языком Ломоносова мы не можем и не должны говорить, хотя бы умели». Выбор имен для сопоставления с Карамзиным здесь характерен, — это имена парламентского оратора и революционного трибуна.
Строя свой стиль, Карамзин обильно использовал французские конструкции фразы, французскую семантику. Он сознательно подражал на первых порах иностранцам, не считая грехом сближение с ними. Он сказал Г. Каменеву, что на первых порах «имел в голове некоторых иностранных авторов: сначала подражал им, но после писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом». В самом деле, в языке Карамзина исследователи установили немалое количество элементов французского происхождения. В его произведениях начала 1790-х годов много варваризмов. Но самое наличие их для него не обязательно, не принципиально. Конечно, ему кажется, более изящно говорить натура, а не природа, или феномен, а не явление. Но впоследствии он без особого труда отделывается от многочисленных варваризмов, заменяя их русскими словами и в последующих изданиях своих ранних произведений; так, в «Письмах русского путешественника» он в последних изданиях изменяет: рекомендоваться — на представляться, жесты — действие, моральный — нравственный, нация — народ, церемония — торжественность и др. Варваризмы совсем почти исчезают в «Истории государства Российского», где Карамзин возвратился и к элементам славянизации речи и к некоторой сознательной архаизации ее. Он ввел в обиход в «Истории» ряд выражений, взятых из древних текстов, например: смиренное платье, судить и рядить и др.
Дело было не столько в отдельных варваризмах, сколько в стремлении приспособить русский язык к выражению множества понятий и оттенков, выраженных уже французским языком, или аналогичных им, приспособить его к выражению новой, более утонченной культуры, прежде всего в сфере психологической. «Хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям, нынешним, — писал Макаров, — умствуя как французы, как немцы, как все нынешние просвещенные народы». Сам Карамзин написал в 1818 г.: «Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут; читаем, что они читают; имеем те же образцы ума и вкуса; участвуем в повсеместном взаимном сближении народов, которое есть следствие самого их просвещения» («Речь в Российской Академии»).
103
На этой основе Карамзину удалось достигнуть значительных результатов. Карамзин добился от языка легкости, свободы выражения, гибкости. Он стремился сблизить письменный язык с живой разговорной речью образованного общества. Он сделал созданный им стиль широко доступным и читателям и писателям. Он радикально переработал русский синтаксис, пересмотрел лексический состав литературной речи, выработал образцы новой фразеологии. Он успешно боролся с запутанными громоздкими конструкциями, работая над созданием естественной связи элементов фразы. Он «разрабатывает сложные и узорные, но легко обозримые формы разных синтаксических фигур в пределах периода».1 Отбросив устаревший словарный балласт, он ввел на его место много новых слов и словосочетаний. Он существенно обогатил русский письменный язык и открыл пути работы над языком следующему поколению писателей.
Словотворчество Карамзина было чрезвычайно удачно, потому что слова, нужные ему для выражения новых понятий, он далеко не всегда брал из западных языков. Он строил русские слова вновь — иногда по принципу так называемого калькирования, переводя, например, французское слово семантически аналогичным построением, иногда творя слова без западного образца. Так, например, Карамзин ввел новые слова: общественность, всеместный, усовершенствовать, человечный, общеполезный, промышленность, влюбленность и др. Эти и другие слова органически вошли в русский язык. Целому ряду старых слов Карамзин придал новые смыслы, новые оттенки значений, расширяя тем самым смысловые, выразительные возможности языка; так, например, он расширил значение слов: образ (в применении к поэтическому творчеству), потребность, развитие, тонкости, отношения, положения и мн. др.2
И тем не менее Карамзин не смог совершить того великого дела, которое выпало на долю Пушкина. Он не создал того реалистического, живого полноценно-народного языка, который лег в основу развития русской речи в дальнейшем, он не явился создателем русского литературного языка; только Пушкин был им. Карамзин был лишь одним из предшественников Пушкина. Он был слишком оторван от народной речи. Он приблизил письменную речь к разговорной, и в этом его большая заслуга, но его идеал разговорной речи был слишком узок — это была речь дворянской интеллигенции, не больше. Стремление к подлинному языковому реализму было ему чуждо.
Пушкин не выдумывал языка; он брал его у народа и разрабатывал, узаконял навыки и тенденции народной речи. Карамзин, наоборот, ставил своей задачей создание языка, исходя из предвзятого идеала светской, интеллигентной речи; он хотел придумать новые формы языка и навязать их устной речи. Обладая хорошим языковым чутьем, он делал это тонко, талантливо, но его принцип речетворчества был субъективен и в принципе неправилен, так как пренебрегал народными традициями. В статье «Отчего в России мало авторских талантов» Карамзин писал: «Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски! Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения, угадывать лучший выбор слов; давать старым новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них
104
необыкновенность выражения!» Именно потому, что для Карамзина нет другой социальной стихии речи, кроме речи «лучших домов», он должен «сочинять» и «обманывать». Именно поэтому его идеал — это «приятность» языка, élégance, изящество его, «благородный» вкус. И, с другой стороны, субъективизм всего мировоззрения Карамзина выразился и в его подходе к языку, и в его недостатках и в его достижениях.
Карамзин практически отменил деление на три стиля, введенное Ломоносовым. Он выработал единый, гладкий, изящный и легкий слог для всякой письменной речи. Он пишет совершенно одинаково в смысле слога и романтическую повесть о любви, и «Письмо русского путешественника» о разговорах за столом в ресторане, и рассуждение о высшей морали, и частное письмо к Дмитриеву, и объявление в журнале, и политическую статью в нем. Это — его личный язык, язык его субъективной индивидуальности, язык культурного человека в его понимании. Ведь для Карамзина не столько интересно, о чем говорится, сколько интересен говорящий, его психологический мир, его настроения, его оторванное от действительности внутреннее бытие. Эта внутренняя сущность автора-героя его произведений всегда одна и та же, что бы он ни писал.
Вариируется лишь содержание настроений той же души, и отсюда внимание Карамзина к «тону» речи, к ее эмоциональным оттенкам, не меняющим общего характера ее. Необходимо отметить, что единство стиля у Карамзина объективно подготовляло иное, сложное единство стиля у Пушкина, обоснованное не субъективно, а обоснованное единством народной речи, народного сознания, выражаемого в его языке, как во всех элементах его зрелого творчества.
Интерес Карамзина к «тону» языка, к эмоционально-лирической настроенности его связан с общим его открытием психологического индивидуального и лирического колорита повествования в русской литературе. Именно лирическая музыкальная стихия звучит в ритмическом построении прозаической фразы Карамзина. Проза Карамзина стремится быть поэтической. Мелодии и ритм играют в ее организации существенную роль, содействуя раскрытию психологической темы. Самое словотворчество Карамзина, самое новаторство его во всех элементах языка имеет прежде всего психологическую направленность. Он ищет новых слов и словосочетаний не для более точного изображения объективного мира, а для более тонкого изображения переживаний и их оттенков, для изображения отношений и чувств. Опять и здесь мы видим, с одной стороны, сужение задач искусства и языка, с другой — углубление и расширение их возможностей в данной области, притом в области чрезвычайно важной. Значительное число новых слов и новых значений слов, введенных Карамзиным, относится именно к этой психологической сфере: интересный — не в смысле денежного интереса, а в смысле психологического отношения (с франц. intéressant), трогать1 трогательный опять в том же смысле (с франц. toucher, touchant), влияние на кого-нибудь (Шишков считал, что влиять, т. е. вливать можно только во что-нибудь), моральный (с франц. moral), влюбленность, утонченный (с франц. raffiné), развитие (с франц. développement; Шишков считал, что, чем говорить развивались понятия, лучше сказать прозябали понятия); потребность души, занимательный, обдуманность, оттенок, страдательная роль, гармоническое целое и т. д., — все такие выражения, новые и специфические для нового стиля, обогащали именно сферу речи, выражающей психологию, эмоции, мир души.
105
Огромное влияние Карамзина на русскую литературу и на литературный язык признавали все современники. Это влияние следует считать благотворным. Но языковая реформа Карамзина не исчерпала проблем, стоявших перед литературой и русским языком начала XIX столетия. Рядом с Карамзиным открывал новые пути для языка Крылов; народная стихия входила через его басни в поэзию. Еще раньше Фонвизин, Державин, сатирики (тот же Крылов и др.) обратились к родникам народной речи. Рядом с Карамзиным, помимо него, отчасти против него, они также готовили пушкинский язык, они оставили Пушкину драгоценное наследие, превосходно использованное им в его языковом творчестве.
Сноски к стр. 57
1 «Сочинения Александра Пушкина», статья первая.
Сноски к стр. 58
1 М. Погодин. Н. М. Карамзин, М., 1866, ч. II, стр. 245 и др.
Сноски к стр. 77
1 А. Я. Кучеров. Н. М. Карамзин. В кн. «Карамзин и поэты его времени». Л., 1936.
Сноски к стр. 78
1 В. В. Сиповский. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», СПб., 1899, стр. 459.
Сноски к стр. 87
1 В. В. Сиповский, указ. соч., стр. 435—437.
Сноски к стр. 88
1 Там же, стр. 425.
Сноски к стр. 89
1 Русская поэзия, под ред. С. А. Венгерова, вып. VII, стр. 58.
2 Московский журнал, 1791, ноябрь, стр. 247.
3 Я. К. Грот. Труды, т. III, СПб., 1901, стр. 129.
Сноски к стр. 90
1 Там же.
2 Шюрх и Аделунг. Систематическое обозрение литературы в России, 1810. — Я. К. Грот. Труды, т. II, СПб., 1699. стр. 55—56.
Сноски к стр. 95
1 М. Погодин. Н. М. Карамзин, М., 1866, ч. II, стр. 22—23.
Сноски к стр. 100
1 Я. К. Грот, Труды, т. III, стр. 133.
2 Вчера и сегодня. Сборник, кн. I, 1845 г., стр. 58.
Сноски к стр. 103
1 В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XVIII вв., 2-е изд., М., 1938, стр. 180.
2 Там же, стр. 178.
Сноски к стр. 104
1 Слово тронуть в психологическом смысле применил еще Сумароков, за что над ним смеялись современники.