507
Радищев
1
Александр Николаевич Радищев родился 20 августа 1749 г. в селе Верхнем Облязове Саратовской губернии (ныне Пензенской области). Отец его Николай Афанасьевич был состоятельным помещиком. Человек культурный, он и сыну старался дать хорошее образование. Мать Радищева Фекла Саввична была урожденная Аргамакова; семья Аргамаковых принадлежала к передовой московской дворянской интеллигенции. Родители Радищева хорошо относились к своим многочисленным крестьянам; это удостоверяется и документальными данными и тем обстоятельством, что впоследствии, во время Пугачевского восстания, крестьяне укрыли Радищевых от повстанческого отряда.
Детство Радищева протекало в Облязове; дом Радищевых был большой, богатый, многолюдный. Дети (у Александра Николаевича было 6 братьев и 4 сестры) были окружены крепостной «дворней» и хорошо знали деревню. За будущим писателем ходил дядька, видимо тоже крепостной, Петр Мамонтов, по прозванию Сума, который рассказывал мальчику сказки.
Когда Радищеву было семь лет, родители повезли его и Москву и оставили на попечение родственника М. Ф. Аргамакова и его доме. Семья Аргамаковых находилась в средоточии культурной жизни Москвы. Через родственника хозяина дома — директора недавно открытого университета она была связана с этим центром русской культуры того времени. Профессора университета не только бывали в доме у М. Ф. Аргамакова, но и давали уроки его детям, вместе с которыми занимался и маленький Радищев. Учителем французского языка и гувернером детей был некий француз, республиканец по убеждениям, бывший у себя на родине советником парламента в Руане, но эмигрировавший из деспотической Франции. Конец 1750-х — начало 1760-х годов, время жизни и учения Радищева в Москве, были годами брожения умов и подъема литературной борьбы в среде столичной интеллигенции.
Политические страсти разгорались. Молодые ученые, демократы и просветители, проповедывали новые, передовые теории. В Москве издавались журналы, собирались литературные и научные общества, кружки; в салонах культурных дворянских домов и кабинетах разночинцев-ученых шли споры о правительстве, крепостном праве, о бюрократии, образовании, поэзии. Атмосфера недовольства правительством Елизаветы не разрядилась и при Петре III, вызвавшем еще большее возмущение в самых различных слоях общества. Все это, а также лекции передовых мыслителей-профессоров
508
и либеральное окружение повлияло на мальчика Радищева. Это была первая «закваска» будущего якобинства.
В конце 1762 г. новая императрица Екатерина II «пожаловала» Радищева (в то время тринадцатилетнего мальчика) в пажи. Это было сделано, без сомнения, по хлопотам Аргамаковых. Екатерина и правительство находились в Москве, где должна была происходить коронация. Только в начале 1764 г. двор вернулся в Петербург, а за ним и пажи, в том числе и «новопожалованный» Александр Радищев.
Пажеский корпус, в котором должен был теперь жить и учиться Радищев, не был серьезным учебным заведением. Всем наукам обучал пажей во времена Радищева один педагог — француз Морамбер. Впрочем, не о науках заботилось начальство. Пажеский корпус готовил не ученых, а придворных, и пажи были обязаны прислуживать императрице на балах, в театре, за парадными обедами. И вот юноша Радищев из атмосферы серьезных умственных и общественных интересов попал ко двору. Он вынес из среды Аргамаковых, Фонвизиных, Херасковых, Аничковых и др. идеалы общественного служения, неприятие рабства, деспотии, презрение к низости льстецов. Теперь это общее умонастроение, эти теоретические, отвлеченные настроения и политические эмоции могли наполниться новым конкретным содержанием. Радищев воочию увидел подлость, грязь, интриги, воровство — весь механизм рабовладельческой деспотии в ее средоточии, увидел все это в самом дворце, и ему, скромному пажу, с которым, конечно, не церемонились, раскрылась оборотная сторона великолепия двора «Северной Семирамиды».
В Пажеском корпусе у Радищева был, без сомнения, досуг, и он занимался самостоятельно. Он нашел здесь друзей. Вместе с ним были пажами Рубановский, Челищев, Кутузов, с которыми он остался связан в течение многих лет. В особенности важно было знакомство с Алексеем Михайловичем Кутузовым. Этот пылкий, идеально настроенный юноша стал надолго самым близким Радищеву человеком. Они жили в одной комнате в течение 14 лет, читали одни и те же книги, вместе учились, мечтали. Впоследствии идейные пути их разошлись.
В начале 1766 г. Екатерина II приказала отправить шесть юношей из числа пажей за границу, в Лейпциг, чтобы они обучались там в университете и, сделавшись образованными юристами, смогли впоследствии служить по судебной части в правительственном аппарате. В число избранных попали Радищев, Кутузов, Челищев и Рубановский. Вскоре к шестерым дворянским юношам прибавилось еще шестеро, не обучавшихся в корпусе. Среди них был молодой чиновник Федор Васильевич Ушаков, бросивший выгодное место ради ученья. Во всей группе молодежи, ехавшей в Лейпциг, он был самым старшим (ему было в это время 19 лет). Сила воли, рано развившийся ум и страстная жажда знания вскоре сделали Федора Ушакова вожаком, главой всей группы.
Екатерина сама написала инструкцию для командируемых молодых людей и сопровождавших их педагогов (число молодых людей продолжало увеличиваться и позднее). Осенью 1766 г. будущие студенты выехали из Петербурга, опекаемые «гофмейстером» Бокумом, учителем русского языка Подобедовым и иеромонахом Павлом. На место назначения прибыли в январе 1767 г. Почти пять лет провел Радищев в Лейпциге, и он не потерял даром этого времени. С чрезвычайным усердием занимался он в университете, много работал и самостоятельно, и вместе с Кутузовым и Ушаковым. Он изучал не только юридические науки, но и философию, историю,
509
литературу, естествознание; он почти закончил курс университетского медицинского образования
Радищев в лейпцигские годы находился среди литературных европейских течений. Это было время утверждения в Германии предромантического направления, становления школы «бури и натиска», ниспровержения готшедовского классицизма. Немецкие поэты увлекались Оссианом и Мильтоном, Стерн совершал свое победное шествие по Европе и, в частности, по Германии. Клопшток был уже признанным учителем, и вслед ему шла целая школа поэтов, насаждавших национальную тематику и национальный стиль искусства, предсказывавших постановку проблемы народности в литературе. Одновременно с этим Германия переживала усиленное брожение умов и в философской области: уже работал в Кенигсберге Кант, — а в то же время в обществе держались традиции французского просвещения; пребывание в Германии Ламетри, Вольтера и других просветителей оставило след в немецкой культуре.
Германия, потрясенная только что закончившейся Семилетней войной, страдала от тяжкого кризиса, и лучшие люди страны мучительно искали выхода, хотя бы в сфере идеологии. Вся эта атмосфера напряженной, умственной жизни воздействовала на русских студентов. Но непосредственно сам университет, давая им знания, мало мог помочь выработке мировоззрения. Это было старозаветное учебное заведение, еще не оторвавшееся от схоластических традиций, и его почтенные профессора были чужды потоку новых идей, шедших из Франции, готовившейся к буржуазной революции.
Не Лейпцигский университет воспитал Гете, учившегося в нем одновременно с Радищевым. Не университет воспитал революционное сознание самого Радищева. Русские студенты увлекались живыми лекциями по философии и физиологии молодого профессора Платнера, не чуждого неопределенного либерализма; они любили старого поэта, профессора Геллерта, наставлявшего их в морали. Но влияние обоих этих идеалистов-нравоучителей было незначительно. От русского путешественника, проезжавшего через Лейпциг, они узнали о книге Гельвеция «Об уме», стали читать ее «со вниманием и в оной мыслить научалися» (Радищев, «Житие Ф. В. Ушакова»).
Начала свободомыслия и политического протеста созревали и оформлялись в сознании Радищева и Ушакова, питаясь впечатлениями от западной жизни, книгами, попадавшими в руки студентов помимо университетских профессоров, материалами изучаемых наук. Эти начала протеста крепли еще и потому, что сами русские студенты в Лейпциге вовсе не были избавлены от тиранической опеки русского самодержавия. Более того, здесь они оказались даже лишенными относительных привилегий своего дворянского звания.
Майор Бокум, которому было поручено Екатериной наблюдение за ними, был типичным бюрократом — «подьячим» русской службы, жадным, необразованным и жестоким. Он обирал студентов, присваивая отпущенные на их содержание деньги, обращался с ними крайне грубо, наиболее молодых из них даже бил.
Студентам жилось плохо, они недоедали, мерзли зимой, их одевали бедно, и они во всем зависели от самодура-начальника. Таким образом, они оказались в положении беззащитных плебеев, отданных во власть маленького тирана. Но они не смирились и делали попытки бунтовать против Бокума, да и вообще против неугодных им порядков. Верховодами в этом отношении были Ушаков и, повидимому, Радищев. Бунт студентов против
510
Бакума кончился для них печально: они были посажены под арест, их сторожили солдаты, над ними учинили суд. К счастью, в дело вмешался русский посланник. Но уволен был Бокум только тогда, когда Радищев уже собирался ехать на родину. Ушаков еще раньше умер в Лейпциге.
Об этой студенческой истории, без сомнения первом случае студенческих волнений в истории русского общества, подробно рассказал Радищев в своей книжке «Житие Федора Васильевича Ушакова». Рассказ Радищева подтверждается документами, относящимися к Бокуму. Повидимому, не совсем примышлен Радищевым в пору написания «Жития» (конец 1780-х годов) и тот политический характер, который он придает восстанию студентов против тирана Бокума. Нужно думать, что политическая мысль русских юношей в Лейпциге работала усиленно и в направлении усвоения учений французских радикальных мыслителей и публицистов.
Характерна своего рода забастовка, учиненная ими по поводу требований начальства, чтобы они слушали курс международного права у профессора Беме, сухого старика, чуждого идейных запросов молодежи. Русские студенты уклонились от слушания Беме, заявив, что они лучше будут изучать книгу Мабли о том же предмете. В это время Мабли уже представлял достаточно определенную фигуру политического писателя, демократа и радикала; выдвигание его имени не могло быть случайным, «невинным». По возвращении в Петербург Радищев вскоре перевел одну из работ Мабли и именно к этому переводу прибавил свое знаменитое республиканское примечание о «самодержавстве».
Осенью 1771 г. Радищев, Кутузов и Рубановский приехали в Петербург. Они возвращались на родину, полные высоких юношеских помыслов о служении обществу, горячей преданности отечеству, полные желания проводить в жизнь передовые социальные идеалы, которые они усвоили за последние годы. В первые же дни после их приезда домой фаворит императрицы Орлов устроил публичную казнь участников чумного бунта в Москве. Это было первое впечатление молодых мечтателей.
В «Житии Ушакова» Радищев вспоминал, обращаясь к Кутузову: «Воспомни нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, воспомни о восторге нашем, когда мы узрели межу, Россию от Курляндии отделяющую. Если кто бесстрастный ничего иного в восторге не видит, как неумеренность или иногда дурачество, для того не хочу я марать бумаги; но если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнию для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого. Признаюсь, и ты, мой любезный друг, в том же признаешься, что последовавшее по возвращении нашем жар сей в нас гораздо умерило».
Отечество встретило Радищева неприветливо. Скоро выяснилось, что в стране рабства и тирании жизнь свободолюбца не легка.
Ко времени возвращения Радищева на родину Екатерина забыла уже, с какой целью пажи были отправлены в Лейпциг.
Радищев поселился в одной комнате с Кутузовым. Он был принужден служить, его определили в Сенат протоколистом, «мелкой сошкой». Помимо воли, он должен был стать частицей машины подавления народа, соучастником правительства Екатерины. Вскоре он ушел из Сената и в 1773 г. поступил в штаб генерала Брюса, петербургского главнокомандующего. В качестве юриста он был назначен обер-аудитором, т. е. военным прокурором. Конечно, и эта служба не могла быть приятна Радищеву:
511
военный суд был едва ли не самым свирепым орудием классового господства помещиков.
Между тем служба оставляла Радищеву немало досуга. Он завел знакомства и в «большом свете», и в кругу литераторов. Обаяние его личности, его блестящая образованность, глубина и сила его мысли, в то же время его благородная и красивая внешность сделали его желанным гостем и в великосветской гостиной, и в английском клубе, и в кабинете писателя.
Сам Радищев сразу же по возвращении в Россию принял участие в литературной жизни.
Впрочем, его первый известный нам литературный опыт, предназначенный им для русской печати, относится еще ко времени пребывания Радищева в Лейпциге. Это начало перевода брошюры «Желания греков — к Европе христианской», появившейся в 1771 г. Автор этой брошюры Антон Гика, греко-албанский политический деятель, состоял во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. при штабе русского военачальника А. Г. Орлова и ставил своей задачей поднять восстание балканских народов против Турции, угнетавшей их. Его брошюра призывала европейское общественное мнение вступиться за греков и их независимость. Русское военное командование поддерживало национальную борьбу балканских народов. В свою очередь, Радищев, видимо, интересовался как ходом войны, так и, в частности, ходом дел на Балканах. Он получил брошюру Гики, вероятно, непосредственно от кого-либо из русских военных, в немалом количестве проезжавших через Лейпциг по пути из России в Италию и Албанию, где находились тогда русские отряды армии и флота, и обратно. Следовательно, и политические интересы молодого Радищева, и его литературные возможности были уже известны, если именно ему был дан для перевода столь важный политический документ. Радищев принялся за перевод в июле 1771 г.; он предпослал ему свое предисловие, в котором писал: «Мы получили из Архипелага, чрез Италию, некоторую пиесу, которая по обстоятельствам своим за весьма важную и любопытства достойную почесться может... Это — некоторый род весьма длинного, на греческом языке писанного манифеста, и в коем греки весьма жалостно и чувствительно изображают бедственное свое состояние под областью турецкою и желание, которое они имеют подверженными быть власти какой ни есть христианской державы... Мы тем охотнее приемлем на себя перевод оной, что по всем обстоятельствам думать должно, что нет еще оной в переводе ни в одном периодическом сочинении кроме сих листов...».
Из приведенных последних слов видно, что свой перевод Радищев готовил для русского журнала, причем журнала малого объема; он называет его «листами» и делит перевод на небольшие отрывки, помеченные как продолжение. Все это подсказывает мысль, что Радищев в Лейпциге был в переписке с русскими литераторами, скорее всего с Новиковым, готовившимся издавать «Живописец». Радищев не довел до конца своего перевода потому, что уже в августе того же года эта брошюра была напечатана в другом переводе в «Прибавлении к № 65 С.-Петербургских ведомостей» под названием «Вопль греческого народа к европейским христианам» (с пометой «Перевод с италианского языка»; вероятно, с этого же языка делал свой перевод и Радищев). Перевод же Радищева остался неизданным (он был напечатан лишь в 1941 г.). Примечательно, что Радищев подчеркивает в своем тексте тему угнетения, рабства народа. Так, например, он переводит: «В рабском состоянии всякая добродетель
512
есть преступление, которое злодейством против тирана почитается»; в переводе «Ведомостей» это место выглядит иначе, менее резко, политически неопределенно: «Все великодушные добродетели почитаются преступлением в людях подобного состояния». Наоборот, христианские «аргументы» Радищеву кажутся неубедительными, что он отмечает особым примечанием от переводчика. Вернувшись из Лейпцига на родину, Радищев лично познакомился с Новиковым, издававшим в 1772 г. «Живописец». В пятом номере этого журнала появился очерк под названием «Отрывок путешествия в ***И***Т***». Много было споров в науке о том, кто был автором «Отрывка». В настоящее время можно считать установленным, что написал его Радищев. «Отрывок» — это яркая и мрачная картина крепостнической деревни, полная пафоса отрицания крепостнических порядков. «Отрывок» произвел шум в обществе. На «верхах» были крайне недовольны им и обвиняли автора — не без оснований — в том, что он оскорбляет «весь дворянский корпус». Ни Новиков, ни Радищев не испугались. В 13-м номере «Живописца» Новиков напечатал «Английскую прогулку» — статью, защищавшую «Отрывок» от нападок обиженных им помещиков, а в 14-м номере — продолжение «Отрывка». Неясно, отчего на этом печатание радищевской вещи оборвалось, — оттого ли, что Радищев считал свой очерк законченным, или же оттого, что дальнейшие страницы его не были допущены к печати властями. Так или иначе, первое же выступление Радищева в печати было началом его трагического пути писателя — проповедника свободы, и первое известное нам его оригинальное произведение было первым наброском основного его труда — «Путешествия из Петербурга в Москву».
С Новиковым связаны и переводы Радищева, сделанные в это же время. В 1773 г. организованным Новиковым «Обществом, старающемся о напечатании книг» был напечатан радищевский перевод книги Мабли «Размышления о греческой истории». Самый перевод был сделан Радищевым для основанного в 1768 г. по приказанию Екатерины II «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг на российский язык».
Радищев прибавил к тексту Мабли семь своих примечаний. Это был не первый случай издания перевода с заметками переводчика. Так, в 1765—1766 гг. вышли два тома «Датской истории» Гольберга в переводе Я. П. Козельского; переводчик снабдил текст обильными и пространными подстрочными примечаниями, содержащими оценку описываемых в книге лиц и событий, постоянно расходящуюся с оценкой Гольберга. Примечания Радищева к тексту Мабли не однородны. В первом из них он полемизирует с Мабли по вопросу об учреждении эфоров, обнаруживая самостоятельность мысли и осведомленность в специальном вопросе греческой истории.
Второе примечание Радищева к тексту Мабли наиболее значительно по своему содержанию: это целая политическая декларация молодого радикала-просветителя.
Переводя слово despotisme как «самодержавство», Радищев так объяснял это понятие:
«Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников опричь права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не для того, что мы оное делать долженствуем
513
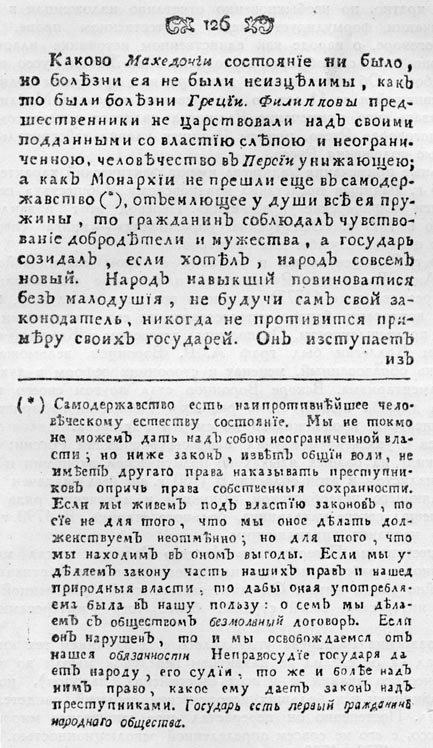
Мабли. Размышления о греческой история или о причинах благоденствия и несчастия Треков. Страницы из перевода А. Н. Радищева с его примечанием.
неотменно, но для того, что мы находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природный власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу: о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества».
514
Теория, кратко, но необыкновенно отчетливо изложенная в радищевском примечании, формулирует учение о естественном праве, об общественном договоре, о народе как единственном источнике власти в том виде, как оно было своеобразно воссоздано Жан-Жаком Руссо в его знаменитой работе «Об общественном договоре, или принципы политического права», появившейся за 11 лет до радищевского перевода Мабли, в 1762 г. Можно сказать, что примечание Радищева является конспектом «Общественного договора» Руссо, причем Радищев уловил действительно основные, узловые положения Руссо.
Остальные примечания Радищева имеют фактический характер.
В 1773 г. Радищев представил новиковскому «Обществу» перевод немецкой книги «Офицерские упражнения». Перевод этот появился в продаже только в 1777 г. «Офицерские упражнения» — книга специальная; это учебник полевой службы для офицеров.
В 1775 г. Радищев вышел в отставку с чином секунд-майора и женился на Анне Васильевне Рубановской, племяннице его школьного товарища. Через два года (1777) он вновь поступил на службу, но теперь он занялся вопросами, близко интересовавшими его, — вопросами русской торговли и промышленности. Он поступил асессором в Коммерц-коллегию. Президентом Коллегии был граф А. Р. Воронцов, вельможа-либерал, человек очень образованный, меценат и сторонник реформ в духе английского парламентаризма. Вскоре Воронцов стал другом своего подчиненного, и эта дружба людей, столь разных — либерального аристократа и демократа-писателя, продолжалась до смерти Радищева.
Радищев с увлечением изучал вопросы экономики России; он читал множество книг на разных языках по политической экономии и стал глубоким специалистом в этой области. В 1780 г. он был назначен помощником управляющего петербургской таможней и в течение ряда лет фактически замещал своего начальника, больного старика. В 1790 г. он был официально назначен управляющим.
«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев писал много лет. Одновременно он работал над другими произведениями, в стихах и прозе, и чрезвычайно много читал. Он жил интенсивной умственной жизнью, жил всеми интересами своей страны, более того — интересами человечества.
Мировоззрение Радищева углублялось под влиянием тех книг, которые он читал (а он следил за развитием передовой мысли во всех областях человеческого знания и у всех европейских народов), но прежде всего под влиянием тех больших исторических событий, свидетелем которых он был. Постепенно он перерастал свое юношеское мировоззрение ученика Руссо, с его не совсем определенной революционностью. Социальные потрясения 1773—1789 гг. сделали его последовательным революционером и демократом. Первым в ряду этих потрясений было восстание, возглавленное Пугачевым. Оно не испугало Радищева, а, наоборот, убедило его в потенциальной политической активности порабощенных народов России. Затем началась американская революция, и Радищев восторженно приветствовал ее как зарю освобождения человечества.
Воодушевленный победой революции за океаном, революции, которую он воспринял как войну народа против всех его угнетателей, Радищев написал наиболее замечательное свое произведение в стихах — оду «Вольность» (1781—1783), гимн революции, приветствие освободившему себя американскому народу и в то же время призыв к революции в России. Видимо, общий подъем освободительных настроений в Европе и в среде
515
русской интеллигенции, связанный с войной за свободу в Америке, заставил Радищева на время поверить в приближение освобождения и для других народов. Ему казалось в это время, что революция сможет произойти вскоре и в России, что час великих переворотов настает для всего мира. Правда, он писал в конце оды «Вольность»:
Но не приспе еще година,
Не совершилися судьбы;
Вдали, вдали еще кончина,
Когда иссякнут все беды!
Но эта отдаленность, судя по всему тексту оды, для Радищева в начале 1780-х годов измеряется не столетием, а лишь годами. Радищеву кажется, что все «жаждут» революции вместе с ним. Более глубокое изучение русской действительности в последовавшие затем годы убедило его в том, что конец «горестной участи многих миллионов» «сокрыт еще от взора и внучат моих» («Путешествие»).
Второй подъем революционных надежд Радищева падает на 1789—1790 гг., без сомнения в связи с началом революции во Франции. В этот острый политический момент Радищев должен был действовать. Он нимало не был кабинетным человеком, писателем, довольствовавшимся только книжным бунтом в теоретическом плане; он был бойцом и трибуном по натуре, человеком из того материала, из которого делаются вожди народов и революций, человеком прозорливым и твердым, пламенным и осторожным, решительным и настойчивым. Он рвался к практической революционной или, по крайней мере, радикальной общественной деятельности. Но его трагедия заключалась в том, что он не мог обрести подлинно массовой среды для осуществления ее. Тем не менее Радищев не мог не действовать, хотя, может быть, и сам он далеко не был уверен в возможности добиться немедленных политических результатов своих действий. Мы теперь, через полтора столетия, можем лишь по намекам и отдельным разрозненным фактам восстанавливать картину политической деятельности Радищева. Прямых и развернутых свидетельств о ней мы не имеем — конечно потому, что правительство Екатерины и ее преемников тщательно уничтожало все ее следы, и хранить документы, говорящие о ней, было весьма опасно. Мы можем только предполагать, что знаем далеко не все о Радищеве-революционере; но и того, что мы знаем, достаточно, чтобы утверждать наличие практической политической работы автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Основные данные, говорящие о ней, относятся именно к 1789—1790 гг., последним годам перед процессом и ссылкой Радищева.
В конце 1780-х годов Радищев вступил в незадолго до того образовавшееся Общество друзей словесных наук и сразу начал подчинять его своему влиянию. Это был довольно многолюдный кружок, объединивший офицеров, моряков, молодых литераторов, основанный в Петербурге учениками московских масонов и на первых порах культивировавший интересы к проблемам морали, самоусовершенствования — не без мистического налета розенкрейцерского толка. Общество работало довольно усердно; оно занимало специальный дом, имело собрания, выпускало в 1789 г. журнал «Беседующий гражданин». По движению идейного направления этого журнала можно проследить нарастание в Обществе радищевских настроений и идей. В последнем номере журнала напечатана статья самого Радищева — «Беседа о том, что есть сын отечества». Это весьма радикальная
516
агитационная речь, конечно оглашенная Радищевым в одном из собраний Общества. Речь-статья была столь явно «неблагонадежна», что самому Радищеву пришлось использовать свои связи, чтобы проввсти номер журнала с его произведением через цензуру.
Одновременно Радищев был связан с кружком известного переводчика и пропагандиста Вольтера — И. Г. Рахманинова, в свою очередь имевшим отношения с Обществом друзей словесных наук. К кружку Рахманинова примыкал юноша Крылов, издававший в это время свою «Почту духов». Нет сомнения в том, что раннее творчество Крылова, как и его друга А. И. Клушина, отмечено воздействием радищевской проповеди.
Ко времени выхода в свет «Путешествия» Радищев был крупной фигурой в Петербурге. Довольно видный чиновник, друг Воронцова, одного из вожаков аристократической фронды, человек уже немолодой, вполне зрелый, мыслитель огромного размаха и невиданной еще в России глубины, человек колоссальных, энциклопедических знаний, он не мог не импонировать молодым свободолюбцам самых различных группировок. Его влияние, повидимому, становилось опасным, тем более что он имел связи в различных кругах — и среди литераторов, и среди офицерства, и среди купечества, русского и иностранного, и в вельможном кругу.
В 1789 г. Радищев предпринял шаги к тому, чтобы расширить свою деятельность. В журнале «Беседующий гражданин» один из молодых членов Общества друзей словесных наук, видимо близкий к Радищеву, опубликовал резолюцию Городской думы, учрежденной незадолго до того официальной организации буржуазного типа, направленную против отягощений торговли и купечества, исходивших от дворянства. Эта резолюция имела характер не столько обычного ведомственного документа, сколько своеобразной гражданственной инвективы, написанной в духе публицистической статьи или парламентской речи. Затем, в мае 1790 г. Радищев — тоже через Городскую думу — предпринял чрезвычайно важное, хоть и скромное по своим масштабам, политическое мероприятие непосредственно практического характера. В это время Россия, ведшая войну с Турцией, подверглась нападению со стороны Швеции. Петербург оказался в опасности; артиллерийская канонада морских боев сотрясала окна домов столицы. В это именно время Городская дума приняла решение о наборе воинской команды в 200 человек, снабжении ее амуницией и содержании на общественный счет. Проект был утвержден правительством. В это ополчение, согласно решению Думы, принимали и беглых помещичьих крестьян, т. е. легализовали и даже вооружали явно недовольных рабством и выразивших активно свое недовольство крепостных. Едва ли это не было своеобразной попыткой, первым пробным опытом вооружения народа для защиты отечества — и для других возможных целей — в столь напряженный политический момент.
Вскоре все это начинание рухнуло. 30 июня Радищев был арестован, и немедленно начался розыск о его деятельности. 10 июля Екатерина дала приказ петербургскому главнокомандующему Брюсу расформировать ополчение Городской думы, причем беглых помещичьих крестьян отдать помещикам, если сами эти помещики захотят взять их (т. е. отдать на расправу, по обычаю чрезвычайно жестокую), а остальных — в солдаты. Есть основания думать, что этот приказ императрицы возник в результате розыска о Радищеве. Вообще Екатерина знала о деятельности Радищева больше, чем это было отражено в официальных документах его процесса, ограниченного обвинением в издании «Путешествия». Так, мы знаем, что арест Радищева
517
привел к немедленному разгрому Общества друзей словесных наук. Член Общества С. А. Тучков рассказывает в своих «Записках»: «После столь трудного похода (Тучков участвовал в войне со шведами) прибыл я в дом отца моего и, отдохнув несколько дней в своем семействе, вздумал посетить собрание наше любителей словесности. Но, приехав в дом, где собирались мои сочлены, нашел оный пуст, и дворник объяснил мне, что он не знает почему, однако давно уже как запрещено от полиции этим господам собираться». Тучков говорит далее о запрещении всяких «собраний» ввиду французской революции и того, что «дух вольности начал проникать в Россию», а затем рассказывает об участии Радищева в «Обществе» и «Беседующем гражданине», о процессе Радищева и, наконец, явно в связи с этим: «императрица велела подать себе все списки членов как тайных, так и вольных ученых собраний, в том числе представлен был и список нашего собрания. По разным видам и обстоятельствам бо́льшая часть членов лишены были своих должностей и велено было выехать им из Петербурга».
Итак, Радищев был не «одиночкой» и отвлеченным мечтателем. Его деятельность вообще, его выступление с «Путешествием» в частности были результатом большого пути, пройденного русской передовой мыслью до него, и в то же время были высшим проявлением того подъема, который был стимулирован в передовых кругах русского общества волной крестьянских восстаний внутри страны и буржуазными революциями вне ее. Радищева окружали люди, более или менее близкие ему. Он начинал организовывать этих людей, воспитывать некоторых из них. Он готовился к большим политическим событиям.
Радищев закончил «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1789 г. Под влиянием политических событий момента, а также после удачного опыта выхода в свет «Жития Ф. В. Ушакова», Радищев решился завершить свою книгу и обнародовать ее. «Путешествие» Радищев писал с перерывами. В 1780 г. он начал писать «Слово о Ломоносове», закончил его в 1788 г. и потом включил в «Путешествие» в качестве последней главы книги. В 1780 г. Радищев читал многотомный труд Рейналя «Философская история обеих Индий». Эта книга произвела на него сильнейшее впечатление. «Сию книгу, — писал он потом, сидя в крепости, — могу я почитать началом нынешнему бедственному моему состоянию».
В то же время Радищев обдумывал книгу в форме сентиментального путешествия.
В начале 1780-х гг. Радищев был отвлечен от работы над «Путешествием» своими новыми обязанностями по таможне, работой по составлению таможенного тарифа, — а затем произошло несчастье: в 1783 г. умерла жена Радищева. Эта смерть «погрузила меня в печаль и уныние и на время отвлекла разум мой от всякого упражнения», писал потом Радищев. С 1785 г. он вновь принимается за чтение Рейналя и за работу над «Путешествием». Впрочем, еще в 1781 г. была написана вчерне глава «Подберезье». В 1789 г. Радищев закончил книжку «Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений» и издал ее анонимно в том же году. Книжка обратила на себя внимание. Княгиня Дашкова заметила, что в ней встречаются опасные выражения и мысли. Члены Российской Академии были недовольны книжкой. И все же она имела успех. А. М. Кутузов писал 6 (17) декабря 1790 г. Е. И. Голенищевой-Кутузовой о «Житии Ушакова» и о Радищеве, что он «по несчастию был человек необыкновенных свойств — не мог писать, не поместив множество политических и сему подобных примечаний, которые, известно вам, не многим
518
нравятся. Он изъяснялся живо и свободно, со смелостию, на которую во многих землях смотрят, как будто на странную метеору. Книга наделала много шуму. Начали кричать: «Какая дерзость, позволительно ли говорить так!» и проч. и проч. Но как свыше молчали, то и внизу все умолкли. Нашлись и беспристрастные люди, отдававшие справедливость сочинителю».
Успех книги, шум, вызванный ею, и то обстоятельство, что правительство не подняло дела по поводу ее появления, — все это, без сомнения, побудило Радищева к дальнейшим выступлениям.
В 1789 г. Радищев провел рукопись «Путешествия из Петербурга в Москву» через цензуру Управы благочиния. Сам петербургский обер-полицеймейстер Н. И. Рылеев разрешил книгу к печати, не прочитав ее и, вероятно, положившись на «невинное» название или в угоду кому-либо из знатных покровителей Радищева (может быть А. Р. Воронцову или его сестре — княгине Е. Р. Дашковой).
Радищев предлагал напечатать «Путешествие» тогдашним издателям. Они убоялись «страшной» книги. Радищев не отступил перед этим затруднением. Он купил небольшую типографскую установку и поместил ее у себя в доме (на нынешней ул. Марата). Наборные и печатные работы производили его слуги и подчиненные, его друзья, под его руководством. Для первого опыта Радищев напечатал в своей домашней типографии маленькую брошюру (в 14 страниц) — «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске». Это была статья или, вернее, очерк, написанный еще в 1782 г.; в нем описывалось в патетических тонах открытие в Петербурге памятника Петру I («Медного всадника»): рассказ об этом торжестве служил поводом для анализа и оценки реформаторской деятельности Петра. Радищев выражает свое уважение к Петру как могучему государственному деятелю, хотя он не скрывает того, что самое звание монарха ему нимало не импонирует. «Хотя бы Петр не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что дал первое стремление столь обширной громаде, которая яко первенственное вещество была без действия». Далее Радищев оговаривает, что он пишет это не ради лести самодержцу; признавая величие Петра, он тут же осуждает его за то, что он «истребил последние признаки дикой вольности своего отечества» (эта мысль о древней русской свободе перейдет к декабристам). «И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную, но... нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй на престоле». Этими словами, вполне революционными по своему смыслу, твердо указывавшими на невозможность ожидать сверху свободы, улучшения положения народа, заканчивалась брошюра. К последней фразе ее Радищев сделал примечание в сноске: «Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли». Однакоже «сочинитель», и издатель, и автор этого примечания — одно лицо; почему же «сочинитель» не изменил текста своей брошюры в 1790 г.? Очевидно потому, что он не изменил своих мыслей. Примечание Радищева — это отчасти приветствие французской революции, а отчасти, и еще в большей мере, цензурное прикрытие.
«Письмо к другу» не вызвало правительственного гонения (хотя экземпляр этой брошюры и был впоследствии приобщен к судебному делу Радищева как обвиняющий документ). Тогда Радищев приступил к печатанию «Путешествия из Петербурга в Москву». Он включил в текст книги
519
несколько мест, не бывших в цензуре, что послужило потом одним из добавочных и отягчающих его «вину» обстоятельств во время процесса. Книга была издана анонимно. В конце ее было указано: «С дозволения Управы благочиния». В мае 1790 г. Радищев передал книгопродавцу Зотову 25 экземпляров отпечатанной книги для продажи. Всего было напечатано 600 экземпляров. Несколько книг Радищев роздал своим друзьям; один послал Державину в знак уважения к его творчеству. Экземпляры, продававшиеся Зотовым, разошлись очень быстро. Вокруг книги начался шум. Многие приходили к Зотову в Гостиный двор и спрашивали книгу, о которой говорили в городе. Но Радищев воздержался от продажи дальнейших экземпляров, очевидно потому, что уже были тревожные симптомы в правительственных кругах. Слух о крамольной книге дошел до Екатерины, и самая книга была ей доставлена. Она принялась читать ее и пришла в неописуемый гнев. До нас дошли замечания на «Путешествие», написанные ею; ее возмущение вызвали все главы, все положения, все картины книги.
Она писала: «Сочинитель ко злости склонен»; «81 стр. покрыта бранью и ругательством и злостным толкованием»; «Учинены вопросы те, по которым теперь Франция разоряется»; «стр. 113, 114, 115, 116 доказывают, что сочинитель совершенной деист, и несходственны православному восточному учению размышления сии кончатся со 118 стр.»; «стр. 119 и следующие служат сочинителю к произведению его намерения, то есть показать недостаток теперешнего образа управления и пороки оного»; «противу двора и придворных ищет изливать свою злобу»; «на стр. 137 изливается яд французской»; «на стр. 147 едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшее судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной»; «христианское учение сочинителем мало почитаемо, а вместо оной принял некии умствовании, несходственные закону христианскому и гражданскому установлению»; «все сие на стр. 239—252 и клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства»; «проскакивают паки слова, клонящиеся к возмущению»; «уговаривает помещиков освободить крестьян, да никто не послушает»; «надежду полагает на бунт от мужиков»; об оде «Вольность» — «ода совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозится плахою. Кромвелев пример приведен с похвалою. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские»; «повесть о рекрутском наборе с отягченных крестьян и тому подобное, служащее к проповедыванию вольности и к искоренению помещиков». Своему секретарю А. В. Храповицкому она сказала об авторе «Путешествия»: «Он бунтовщик хуже Пугачева».
Немедленно начался розыск. Автора вскоре нашли. Екатерина поручила расследовать дело Степану Ивановичу Шешковскому. Это был руководитель тайной полиции, палач и шпион, находившийся в непосредственном подчинении императрицы; его называли «кнутобойцем»; имя его внушало ужас. Узнав — вероятно через А. Р. Воронцова — о грозящей опасности, Радищев успел сжечь все оставшиеся у него экземпляры книги. Но рукопись «Путешествия», правда в весьма беспорядочном виде, со спутанными, может быть, сознательно, листами, у него осталась. 30 июня Радищев был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.
После смерти жены у Радищева осталось четверо детей. Воспитанием их руководила сестра их покойной матери Елизавета Васильевна Рубановская. Когда Радищева увезли к Шешковскому, Елизавета Васильевна собрала свои драгоценности и отослала их ночью со старым слугой к
520
«кнутобойцу». Только это спасло Радищева от пытки, обычно применявшейся Шешковским.
Следствие пошло быстро, тем более что официальное обвинение в издании бунтовщической книги было доказано самой книгой, а своего авторства Радищев не отрицал. Шешковский вел допросы по прямым указаниям Екатерины. Радищев был глубоко потрясен оборотом дела, угрозой смертной казни, нависшей над ним, а особенно угрозой распространения кары на его детей. Он писал Екатерине и Шешковскому покаянные письма, весьма патетические и риторические, но совершенно неискренние. Он явно хотел спасти себя, тем более что следствие шло в полной тайне и превратить его в орудие агитации революционных идей было совершенно невозможно. При всем том Радищев не поступался своими заветнейшими убеждениями. Во всех своих покаянных речах он не отрекся от стремления к свободе крестьян. В то же время он твердо отверг все попытки следствия втянуть в дело других лиц. Радищев всю «вину» принял на себя и не назвал никого из своих друзей, учеников и единомышленников, хотя Шешковский добивался имен «соучастников».
В середине июля 1790 г. дело Радищева — по желанию Екатерины — поступило на суд Петербургской уголовной палаты. Судебное разбирательство было пустой формальностью, спешно проведенной по программе, написанной Екатериной. В качестве вещественного доказательства читали вслух книгу Радищева. Суд так боялся его крамольных идей, что во время этого чтения из залы заседания были высланы даже секретари суда.
После краткого допроса Радищева и лиц, причастных к печатанию и продаже книги, судебный процесс окончился. 24 июля Палата приговорила Радищева к смерти за то, что он издал книгу, «наполненную самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный и умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвесть в народе негодование противу начальников и начальства и, наконец, оскорбительными, неистовыми изражениями противу сана и власти царской». Так как Радищев был дворянином, то приговор его должен был утверждаться правительством. 26 июля он поступил в Сенат, и 8 августа сенаторы утвердили его. Доклад о решении Сената был представлен Екатерине 11 августа. Она приказала рассмотреть его в Государственном совете, намекнув при этом на то, что Радищев, помимо всего прочего, оскорбил своей книгой ее лично. 19 августа Совет утвердил приговор. Радищев ждал смертной казни 1 месяц и 11 дней. 4 сентября был подписан указ Екатерины о замене ему казни ссылкой в Сибирь, в Илимский острог, на 10 лет («помилование» было мотивировано торжеством мира с Швецией). Согласно приговору уголовной палаты, крамольная книга Радищева была осуждена на уничтожение.
Есть основания думать, что Екатерина узнала во время следствия по делу Радищева ряд фактов, не только опорочивших в ее глазах Радищева как автора «Путешествия», но и охарактеризовавших его как революционного деятеля вообще. Самая кара, уготованная ею Радищеву, была обусловлена не только его революционной книгой, но и всей совокупностью сведений о Радищеве, бывших в руках правительства и освещавших особо ярким светом смысл и значение самой книги. В конце своих замечаний на «Путешествие» Екатерина написала о Радищеве: «Вероподобие оказывается, что он себя определил начальником, книгою ли, или инако, исторгнуть скиптра из рук царей; но как сие исполнить един не мог, показываются уже следы, что несколько сообщников имел, то надлежит его допросить как
521
о сем и о подлинном намерении и сказать ему, чтоб он написал сам, как он говорит, что правда любит, как дело было; ежели же не напишет правду, тогда принудит меня сыскать доказательство, и дело его сделается дурнее прежнего». Радищев не назвал сообщников, и Екатерина исполнила угрозу.
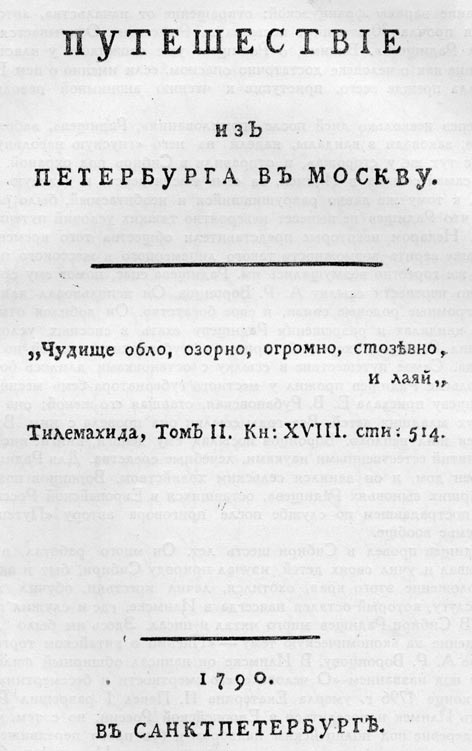
А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».
Титульный лист, изд. 1790 г.
Примечательна и следующая деталь: только что начав читать «Путешествие», Екатерина в тот же день заподозрила авторство Радищева. Секретарь императрицы Храповицкий записал в своем дневнике 26 июня 1790 г.: «Говорено о книге «Путешествие от Петербурга до Москвы». Тут
522
рассевание заразы французской: отвращение от начальства, автор мартинист: я прочла 30 страниц; посылка за Рылеевым. Открывается подозрение на Радищева». Видимо, о Радищеве уже сложилось у властей представление как о человеке достаточно опасном, если именно о нем Екатерина подумала прежде всего, приступив к чтению анонимной революционной книги.
Через несколько дней после «помилования», Радищева, заболевшего в тюрьме, заковали в кандалы, надели на него «гнусную нагольную шубу, взяв ее тут же у сторожа», и отправили в Сибирь под охраной. Все это, как и самая ссылка в Илимск, за семь тысяч верст, в далекую глушь, в острог, к тому же давно разрушившийся и необитаемый, было рассчитано на то, что Радищев не вынесет невероятно тяжких условий путешествия и жизни. Недаром некоторые представители общества того времени не хотели даже верить возможности такого лицемерного и жестокого приговора, другие же горестно возмущались им. Радищева спас, помог ему сравнительно легко перенести ссылку А. Р. Воронцов. Он использовал для этого и свои огромные родовые связи, и свое богатство. Он добился отмены приказа о кандалах и разрешения Радищеву ехать в сносных условиях. Он обеспечил Радищеву хороший прием у губернских властей по пути до Илимска. Самое путешествие в ссылку с остановками длилось более года. В Тобольске Радищев прожил у местного губернатора семь месяцев. Сюда к Радищеву приехала Е. В. Рубановская, ставшая его женой; она привезла ему двух младших детей. Все годы ссылки она провела с ним. В Илимске Радищев жил неплохо. Воронцов посылал ему деньги, книги, инструменты для занятий естественными науками, лечебные средства. Для Радищева был выстроен дом, и он занялся сельским хозяйством. Воронцов позаботился и о старших сыновьях Радищева, оставшихся в Европейской России, о его брате, пострадавшем по службе после приговора автору «Путешествия», о его семье вообще.
Радищев провел в Сибири шесть лет. Он много работал в ссылке, воспитывал и учил своих детей, изучал природу Сибири, быт и экономическое положение этого края, охотился, лечил крестьян, обучил медицине своего слугу, который остался навсегда в Илимске, где и служил потом лекарем. В Сибири Радищев много читал и писал. Здесь им было написано рассуждение на экономическую тему — «Письмо о китайском торге», адресованное А. Р. Воронцову. В Илимске он написал обширный философский трактат под названием «О человеке, его смертности и бессмертии».
В конце 1796 г. умерла Екатерина II. Павел I разрешил Радищеву покинуть Илимск и поселиться в Европейской России, но с тем, чтобы он жил в деревне под полицейским надзором и без права передвижения. Радищев оставался лишенным прав, дворянства, чина. На пути из Сибири в Тобольске 7 апреля 1797 г. умерла Елизавета Васильевна Рубановская. Это был тяжкий удар для Радищева.
Радищев поселился в Калужской губернии, в деревне Немцове, принадлежавшей его отцу. В начале 1798 г. он получил разрешение навестить отца в его селе Верхнем Облязове. Здесь он прожил около года, а затем вернулся в Немцово.
В деревне Радищев продолжал работать. Он написал поэму «Бова», из которой до нас дошло только вступление и первая песнь, замечательный очерк о «Тилемахиде» Тредиаковского, заключавший в художественной форме исследование метрики и звуковой инструментовки русского стиха, обрамленное остроумно написанной новеллой.
523
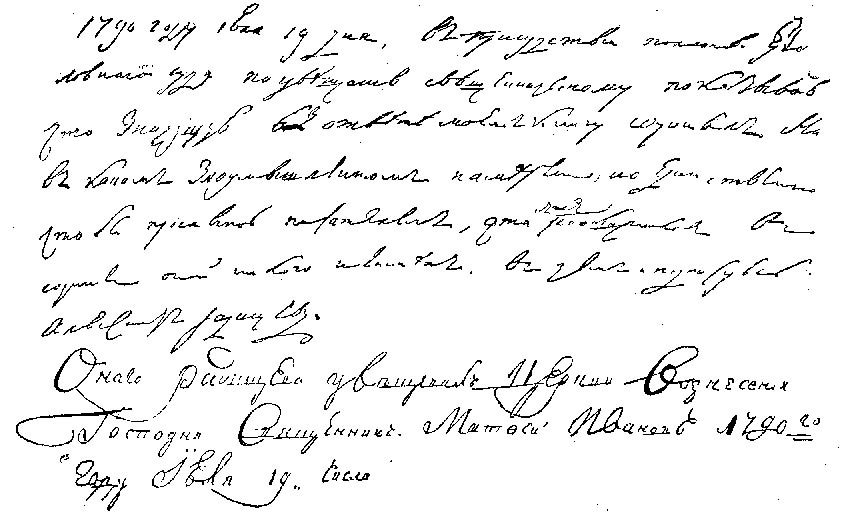
Автограф А. Н. Радищева. Показания в присутствии уголовного суда о книге «Путешествие из Петербурга в Москву».
524
В деревне Радищев начал писать «Описание моего владения» — агрономический и экономический трактат, в котором он, как видно по дошедшему до нас началу, хотел научно доказать необходимость свободы для крестьян. Ни ссылка, ни всевозможные испытания не изменили взглядов Радищева и не уменьшили его активности, его деятельности. Еще на пути в Сибирь, в 1791 г., на чей-то вопрос о том, кто он такой и куда едет: он отвечал стихами:
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх —
В острог Илимский еду.
Вступление на престол в 1801 г. Александра I благоприятно отразилось на судьбе Радищева. А. Р. Воронцов был близок к молодому царю. По его ходатайству Радищев был освобожден от ссылки совсем, ему вернули дворянство, чин и орден. Воронцов привлек Радищева к работе в Комиссии составления законов. Он принялся за дело с энергией. Он составлял проекты реформ, планы нового свободного законодательства и представлял их Воронцову. В комиссии он твердо отстаивал свои передовые взгляды.
Одновременно с этим Радищев не оставлял литературной работы. К этому времечи относятся две его поэмы (обе незаконченные): «Песни древние» и «Песнь историческая».
Во второй из них Радищев явственно показал, что он быстро понял лицемерие нового царя, понял, что его словесный либерализм — лишь маска.
Повествуя о событиях римской истории, Радищев писал здесь о гибели Тиверия, явно намекая на Павла I и его преемника:
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоку выю,
То что нужды, кто им правит?
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новый
Будет благ и будет кроток;
Но надолго ль? — на мгновенье:
А потом он, усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души.
Радищев решил, что долее бороться за осуществление своих идеалов бесполезно. На него производили, видимо, тяжелое впечатление и события на западе Европы, где революция превращалась в военную диктатуру буржуазии. Положение самого Радищева было непрочно. В комиссии составления законов на него смотрели, как на нераскаявшегося бунтаря, и начальство намекало, что он и во второй раз может оказаться в Сибири. 11 сентября 1802 г. Радищев покончил жизнь самоубийством.
Значение Радищева в истории русской культуры не исчерпывается тем, что это был великий мыслитель — революционер и замечательный писатель. Весь облик его как человека и деятеля, его личное обаяние, его огромная и глубокая культура, его рыцарская преданность идеалам свободы и
525
правды сами по себе были социальным фактом большого значения. Радищев и как мыслитель, и как писатель, и как человек был знаменем всего передового, что было в русском обществе его времени, и воспоминание о нем надолго оставалось как бы призывом к борьбе против рабства и тирании. Воспоминания и рассказы о нем воспитывали последующие поколения революционеров.
Вся жизнь и деятельность Радищева — высшее достижение русской культуры XVIII в. Он был последним и наиболее блестящим из плеяды мыслителей-энциклопедистов этого столетия в России. Он был во всеоружии в любой сфере человеческого творчества. Он владел достижениями науки своего времени в области физиологии, химии, физики, анатомии, минералогии, ботаники; он был политико-экономом и юристом по специальности и писал в этих областях; он написал историческое исследование, экономический трактат, работы по теории стиха (по метрике и инструментовке его), обширное и блестящее философское рассуждение; он говорил как знаток об агрономии в «Описании моего владения».
При этом поучительны были его целеустремленность и глубоко активное отношение ко всем вопросам. Все, что он знал, он использовал для построения единого революционного мировоззрения.
Радищев не был собирателем знаний для себя. Он был политическим деятелем, демократом и революционером. Его целью была не наука сама по себе, а жизнь, которую необходимо было перестроить. Для этой перестройки нужны были и теория, и план практических действий. Радищев принялся за созидание первой и за выработку, а потом и осуществление второго.
Теория переустройства жизни не могла быть исчерпана одной какой-либо отдельной наукой. Это была система всех наук. Именно поэтому Радищев стремился к всестороннему познанию мира. И какой бы областью науки он ни занимался, он всегда думал о конечной цели — о народе, его свободе и счастье. Отсюда — величайшая целеустремленность и внутреннее единство всего творчества Радищева. Когда он пишет об агрохимии, он старается научным путем подвести читателя к пониманию необходимости отмены крепостничества. Когда он пишет о теории русского гекзаметра или разбирает вопросы фонетики, он стремится к преодолению дворянской салонной эстетики, к созданию демократической эстетики и политически активного искусства. Когда он ставит вопрос о педагогических теориях и принципах, он указывает пути воспитания твердых, мужественных граждан-патриотов, людей, нужных свободному отечеству, а не подданных рабского государства. Строя в мучительных сомнениях концепцию развития общества и углубляясь в проблемы философии истории, он жаждет уяснить будущее русского народа, ищет научно обоснованного ответа на вопросы о возможностях русской революции, о ее путях и характере.
Это единство мысли и знания, страстной целеустремленности творчества и активной деятельности, теории и практики, единство всего морального и творческого облика Радищева и делали его тем рыцарем революции, перед обликом которого склонялись с глубоким уважением его наследники и преемники.
2
«Путешествие из Петербурга в Москву» — центральное, самое важное и поистине великое произведение Радищева. Но оно не исчерпывает его литературного наследия. Радищев писал в течение всей жизни, писал и в
526
прозе и в стихах. До нас дошло, без всякого сомнения, далеко не все написанное им. Вполне вероятно, что именно самые смелые, самые революционные произведения его, кроме «Путешествия» и оды «Вольность», не смогли увидеть света ни при жизни Радищева, ни в собрании его сочинений, выпущенном в 1806—1811 гг. его сыновьями с помощью А. Ф. Мерзлякова. Известно, что даже те тексты, которые вошли в это издание, «смягчались» для цензуры его редакторами. Есть также основание полагать, что Радищев печатался в журналах 1770—1780 гг., но мы не можем пока с уверенностью указать его произведения в этих журналах между 1772 г., когда был опубликован «Отрывок путешествия в *** И *** Т ***», и 1789 г., когда была напечатана в «Беседующем гражданине» «Беседа о том, что есть сын отечества». Да ведь и эта замечательная статья никем не приписывалась Радищеву вплоть до того времени, как были опубликованы (1906 г.) «Записки» С. А. Тучкова, сообщившего определенно, что автор ее — Радищев. Такие открытия еще возможны.
Так или иначе, при изучении Радищева нам приходится пока довольствоваться только тем небольшим кругом произведений, которые были напечатаны им отдельными книгами или же были включены в издание его сочинений 1806—1811 гг., двумя-тремя вещами, в отношении которых авторство его устанавливается более или менее точно, и несколькими незаконченными работами, дошедшими до нас в рукописи в составе архива А. Р. Воронцова. Следует помнить, что все произведения, напечатанные Радищевым при жизни, были анонимны.
Радищев вступил в литературу в 1770-х годах. Это был период перелома в литературном сознании эпохи. Классицизм, достигший расцвета в России в творчестве Сумарокова и его школы, начал ветшать, не успев укрепиться. Мощное воздействие предромантических эстетических идей совпало с началом поисков русской интеллигенцией новых путей в области мысли и искусства — поисков, глубочайшим образом связанных с кризисом социального уклада страны, так ярко проявившимся во время восстания Пугачева. В частности, проза отразила литературно-идеологические искания в наиболее полном виде.
При классицизме проза была вообще не в почете, и значительно большая часть творческого внимания писателей была направлена на «язык богов» — на поэзию. Прозу культивировали по преимуществу демократические писатели, и интерес Радищева к прозаическим жанрам связан с традицией русских новеллистов и романистов типа Чулкова, Попова и т. п. На «верхах» литературы проза завоевала к 1769 г. сатирическую журналистику. Но и эта проза, передовая по своим общественным установкам, не могла удовлетворить новые запросы литературы.
Роман и повесть этой эпохи, в особенности роман, открыли эру борьбы за человека, за право личности, чувства, за свободное человеческое переживание, независимое от каких бы то ни было условных норм, навязанных личности извне. Психологизм, культ чувства, культура анализа эмоций, тема индивидуальности — простого, обыкновенного человека — эти элементы сентиментального романа и других сентиментальных жанров не только были связаны с передовыми философскими учениями, но в первую очередь были порождены идеей защиты прав человека и гражданина, борьбы против феодального порабощения его. Ричардсон и Стерн, каждый по-своему, углубившись в душу человеческую и обьявив ее высшей ценностью, нашли свое логическое завершение в Руссо, не только давшем непревзойденные в XVIII в. образцы анализа души, но и политически обосновавшем свою литературную позицию.
527
Руссо, автор «Новой Элоизы» и «Исповеди», — это ведь тот самый Руссо, который провозгласил право народа на власть в «Общественном договоре». И для Радищева тема сентиментализма, тема души простого человека, живущего обыкновенной жизнью и открывающего в своей жизни и основания свободы, и трагедию борьбы за свободу, — тесно переплеталась с политической революционностью. Раскрыть внутренний мир человека — это значило потребовать свободы для его развития, для его творчества, чувства, свободы политической и социальной.
В 1770-х годах зарождается русский дворянский сентиментализм. В нем существенно искажается внутренний смысл передового демократического сентиментализма эпохи. Это была литература, освободившая человека от политики, от социальной борьбы, литература отказа от «внешнего» действия, замыкавшаяся в личность ради бегства от действительности, литература пассивности. Таким образом, сошлись в одной точке масонство и сентиментализм. И все-таки масонская литература открывала человека в его самодовлеющей ценности, открывала и психологический анализ. Недаром Юнга переводил и пропагандировал масон Кутузов. Но ведь он был в то же время друг Радищева.
В начале 1770-х годов (около 1773—1774 гг.) сам Радищев посещал масонскую ложу «Урания». Он не проникся масонским мировоззрением, а позднее, в 1780-х годах, был резко враждебен ему. Но он мог соприкоснуться с масонами, еще не ставшими окончательно на путь мистики, по линии поисков литературного и морального характера.
Первое произведение Радищева («Отрывок из Путешествия в *** И *** Т ***») по общему типу примыкает к традиции русской журнальной сатиры, хотя и в нем уже есть новые элементы. Подробное описание бытовых деталей, весьма конкретных и индивидуальных, хотя и социально-типических, данное в нем Радищевым, не встречается ни у Сумарокова (речь идет о прозе), ни у Фонвизина, ни в журналах Новикова — помимо того же «Отрывка». В то же время яркая лирико-патетическая окраска изложения Радищева, «чувствительность» речи автора, придает политическому радикализму «Отрывка» особый оттенок гражданского подъема, характерный и для Руссо, для Мерсье, для французских риторов-демократов этой эпохи. Но психологических задач «Отрывок» еще не ставил.
Эти задачи были поставлены Радищевым, — впервые с такой силой в русской литературе, — в его замечательном очерке «Дневник одной недели», написанном, примерно, в середине 1770-х годов (напечатан лишь после смерти Радищева). Этот очерк — одно из самых ранних и самых ярких проявлений сентиментального стиля в России, притом выраженного чрезвычайно резко и принципиально. Как и у других сентименталистов этого времени, рассказ в нем ведется от первого лица, как бы автобиографически, хотя герой рассказа вовсе не обязательно совпадает с самим Радищевым.
В «Дневнике одной недели» дана имитация подлинного человеческого документа. Как будто бы Радищев действительно и по реальному поводу вел в течение одиннадцати дней дневник, описывая в нем все свои мысли и настроения, заполнявшие для него эти дни, а потом взял и приготовил такой дневник, кусок его собственной, глубоко личной жизни, для печати. Читателю должна открыться вся интимная подоплека писательской личности, и писатель не стесняется занимать произведение только собой, потому что в его глазах индивидуальная психика — основа творчества. Автобиографическая иллюзия, созданная в «Дневнике одной недели», была так
528
сильна, что еще через сто с лишним лет ученые видели в этом психологическом этюде нечто вроде документа для биографии Радищева.
Между тем именно эта автобиографическая или, вернее, индивидуально-психологическая установка радищевского очерка имела глубокое принципиальное значение в двух направлениях.
Во-первых, важен был сам психологический анализ, данный в характерных очертаниях сентиментализма. Всякое переживание здесь предстает в увеличенных размерах; герой рассказа культивирует «чувствительность», характерную для сентиментализма, которую совершенно напрасно часто понимали как слезливость. «Чувствительный» — это человек, тонко и ярко реагирующий на всякое, хотя бы мимолетное, впечатление жизни. Иначе говоря, это человек, для которого мир воспринимается в свете его эмоциональных восприятий, для которого внешние предметы и события в той или иной степени субъективируются и в таком субъективном аспекте представляют преимущественный интерес. Кроме того, его эмоциональная жизнь прояснена, доведена до сознания и может быть выражена словом; она свидетельствует о высокой культуре его личности, ставшей и лозунгом в политике, и мерилом вещей в мировосприятии.
С другой стороны, Радищев отчетливо раскрыл противоречивость мгновенно сменяемых впечатлений, настроений и мыслей, весь неупорядоченный поток переживаний, составлявший основу анализа человеческой психики в течение почти целого столетия после Радищева. Радищеву не нужен сюжет, не нужны внешние коллизии для создания движения в повести. Поток событий заменен потоком психологических состояний. При этом, конечно, рушились рационалистические отвлеченные схемы оценки людей, свойственные литературе классицизма, так же как рушился метод показа человека на плоскости одной или двух унифицированных черт его поведения.
Путь к психологическому анализу, столь существенному для будущего реализма, лежал через автобиографизм и через перенесение критериев ценности из сферы предустановленных, феодальных, застывших норм в сферу понятий интенсивности внутренней жизни, психологической силы, индивидуальной характерности и т. п.
Радищев опирался при этом на новую эстетику, новое понимание психологии творчества. Во всех своих произведениях он борется против классических правил, против «томных», т. е. утомляющих предписаний, начертанных «хладнокровными критиками». Он вообще отрицает возможность рецептов в искусстве, нормативность схоластической риторики и поэтики. Он ищет в искусстве не законопослушность, а энергию выражения эмоционального и лично-идейного переживания.
Произведение возникает, с точки зрения Радищева, как продукт неповторимого индивидуального момента данной личной творческой энергии. Он говорит о великих ораторах: «Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения в их чувствах, сила доводов в их остроумии». Природа и личная гениальность творят великих людей и великие произведения, а вовсе не холодное размышление или следование образцам.
Радищев, как и другие люди его эпохи, в этом отношении близкие к нему, в писателе видит человека: за книгой они стремятся увидеть ее автора, его характер, его личность. Если читатель эпохи классицизма не интересовался личностью даже наиболее чтимых писателей, которые для него были лишь более или менее случайными орудиями отвлеченного разума, если он полностью мог воспринимать анонимное произведение, то Радищев
529
заинтересован биографией писателя. Именно Радищеву принадлежит первая большая критико-биографическая работа о русском писателе («Слово о Ломоносове»).
Автобиографизм «Дневника одной недели» свидетельствует о смене социальных мировоззрений. Радищев был в этом отношении новатором. Дворянская литература прятала автора от взоров читателя. Напротив, у ранних провозвестников буржуазного и демократического искусства XVIII в. появляется тенденция рассказать о себе, связать своих героев с подлинным или хотя бы идеализированным обликом писателя. Напомним Ф. Эмина («Непостоянная фортуна, или похождения Мирамонда», «Письма Ернеста и Доравры»).
В более поздних произведениях Радищева автобиографизм торжествует окончательно. Наиболее смелой и последовательной в этом отношении вещью является «Житие Ф. В. Ушакова», конечно вовсе не отрывок мемуаров, а повесть о политике, о судьбе государств и в то же время повесть о воспитании, о современной культуре, повесть психологическая и нравоописательная. Но эта повесть изложена в виде личных воспоминаний и именно о домашних, обыденных вещах. При этом воспоминания ни в малой степени не вымышлены; автор называет всех подлинных героев повести (одних полной фамилией, других, по соображениям такта, инициалами). Разница между мемуарами и художественными произведениями стирается. Она была снята и в «Исповеди» Руссо.
В начале «Жития Ушакова» Радищев говорит, обращаясь к А. М. Кутузову: «Я ищу в том (описывая жизнь общего друга) собственного моего удовольствия; а тебе, любезнейшему моему другу, хочу отверзсти последние излучины моего сердца.1 Ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в живых еще сущего».
«Путешествие из Петербурга в Москву» также построено как мемуарный отрывок, причем герой-путешественник в глазах читателя должен сопоставиться с автором. Ряд деталей наводит на мысль об их близости, хотя при всем том путешественник и автор ощутительно различаются. Неоконченная повесть о Филарете Милостивом — это тоже автобиографический рассказ.
В свете изложенного специфическую характерность приобретают и те жанровые формы, в которые отливались образы и замыслы художественного творчества Радищева. Это, в основном, «сентиментальные» жанры, хорошо известные и широко распространенные в литературе XVIII в. Ричардсон, Мариво, Стерн, молодой Гете и их многочисленные современники и ученики установили типические формы романа и повести в виде признаний о себе автора и героев. Мемуарная форма или же форма писем была естественным проявлением психологизма этой литературы, так же как стремления ее к документальности психологического наблюдения. Романы в письмах, как книга Ричардсона или «Новая Элоиза», романы-записки или рассказы о себе, как «Жизнь Марианны» Мариво или «Приключения маркиза» Г. Прево создали типические формы литературы сентиментализма.
И в России, чуть только стали пробиваться ростки сентиментальной литературы, появились те же жанры повествования. Федор Эмин написал роман в письмах — «Письма Эрнеста и Доравры» (1766), его сын Николай издал «Розу» — также роман в письмах (1788); Чулков издал первый том мемуарного романа «Пригожая повариха» (1770) и т. д.
530
Затем идут карамзинские вещи: и «Рыцарь нашего времени», и «Остров Борнгольм», и ориентированный на автобиографизм очерк «Чувствительный и холодный». В этом же ряду стоят «Дневник одной недели» и «Житие Ушакова» Радищева.
Субъективизм сентиментальной повести не мог и не должен был увести Радищева от реальности. Напротив, именно с «Дневника одной недели» начинается движение Радищева к завоеванию подступов к реализму. Радищев материалистически воспринимает мир; для него живы идеи сенсуализма. В «Дневнике одной недели» он связывает психологические состояния с хорошим или дурным сном и т. п. Описываемая им эмоция не только отбрасывает свою тень на внешний мир, но, в свою очередь, порождена впечатлениями, идущими от внешнего мира, для Радищева несомненно и материально существующего.
Радищев не отрекается и от интереса к быту, к деталям внешнего бытия. С особенной яркостью интерес к конкретной, «внешней», реальной действительности, — уже не только индивидуальной, а и социальной, — сказался в «Житии Ушакова». В этой замечательной повести Радищев дал краткий опыт той манеры, того метода, который в развернутом виде был реализован в «Путешествии», писавшемся в то же время.
Разумеется, идейная сущность «Жития Ушакова» никоим образом не сводится к мемуарному свидетельству, или даже рассказу о любопытных эпизодах жизни русских студентов в Лейпциге, или даже к психологическим разработкам и зарисовкам. Повесть Радищева вся пропитана острой политической мыслью — в ней говорится, в сущности, о государстве и народе, о тирании и революции, о воспитании свободолюбивых граждан, о революционной морали. Рассказывая о борьбе студентов с угнетавшим их начальником Бокумом, Радищев строит систему образов, заключающую мысль о борьбе народов с их угнетателями. Не только размышления Радищева, введенные в повесть, выдвигают тему революции, но и весь сюжет повести. Усиление гнета тирании приводит к восстанию народа; оно подавлено, но огонь революции уже зажжен в умах. «Революция» группы юношей, выведенных из себя грубым немцем-«гофмейстером», конечно, не очень серьезное событие; Радищев знает это и повествует о нем с добродушным юмором. Но он полагает, что те же общественные и психологические законы, которые заставили студентов выступить против Бокума и дали им право и силы бороться с ним, могут привести к великим восстаниям народов; кроме того, наивные волнения юности, бурные порывы ее, закаляясь в жизненной борьбе, вырастают в могучую силу мысли и энтузиазма. Повесть Радищева заключается невесело: герой ее умер; других ждет суровый путь борьбы. С удивительным искусством Радищев объединил в небольшом произведении и психологический анализ юношеского сознания, анализ, до него неведомый русской литературе, и серьезно поставленную педагогическую тему, и живое описание быта, и глубокую революционную мысль.
И в основном замысле, и в самом названии «Житие Ушакова» явственна новаторская, можно сказать литературно-революционная, установка Радищева. Радищев пишет «Житие»; «житием» называлось жизнеописание святого. Вообще же, кроме церковных «житий», в дворянской литературе могло появиться жизнеописание знаменитого человека, какого-нибудь вождя дворянской государственности; таково, например, идеализированное, лишенное черт индивидуальной характеристики произведение Фонвизина «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина». В журнале оно было даже названо «Сокращенное описание жития графа Никиты Ивановича Панина»
531
(«Зеркало света», 1786, № 4). «Житие Ушакова» полемически заострено и против настоящих житий святых, и против панегирикоз вельможам. Это «житие» на новой лад. Его герой никак не святой. Он и умер-то от «дурной» болезни. Он и не знаменитый вельможа или военачальник. Он незаметный юноша — чиновник, а потом студент, но он человек будущего века, преданный науке и идеям свободы, и он ценнее для Радищева всех сановников. Кроме того, он друг Радищева. Тема экзальтированной дружбы, общая почти всем сентиментальным писателям Европы XVIII в., выражена сильно в повести Радищева. Жизнеописание друга Радищева — это вызов феодальной литературе «житий».
Радищев подчеркивает полемичность своего «жития»; он начинает изложение жизни своего друга абзацем, намекающим на общий тип казенных панегириков-биографий.
В конце «Жития» Радищев прямо заявляет о своей позиции: «Сие пишу я для собственного моего удовольствия, пишу для друга моего, и для того мало нужды мне, если кто наскучит чтением сего, не нашед в повествовании моем ни одного происшествия, достойного памятника, и, ради мерзости своея или изящности ради, равно блистающего. Ибо равно имениты для нас Нерон и Марк Аврелий, Каллигула и Тит, Аристид и Шемяка, Картуш, Александр, Катилина и Стенька Разин...». Затем идет смелая филиппика против официально прославленных «героев», разоблачающая их как общественных злодеев. И далее: «Сказав сие, может быть не кстати, я возвращусь к умершему нашему другу и постараюсь отыскать в его деяниях то, что привлекательно быть может не для ищущих блестящих подвигов в повествованиях..., но для тех, коих души отверсты на любление юности».
Таким образом, жизнеописание человека, не «героя», а простого, хотя и превосходного человека, раскрывается совершенно по-новому. Дается характеристика его как личности, описываются его склонности, жизненные интересы; дается представление о среде, влиявшей на него, о его пристрастиях и недостатках. Затем автор подробно говорит об убеждениях своего героя, рассказывает обо всех этапах его идейного роста, о противоречиях этого роста, о книгах и людях, оказавших на него интеллектуальное влияние. Внешние события жизни излагаются со всеми бытовыми деталями, причем в центре событий именно личная жизнь, а не официальные успехи. В результате «Житие Ушакова» — это манифест нового понимания человека и общества. Сквозь сентиментальные формы и установки в повести уже явно пробиваются ростки грядущего реализма в его демократической, самой передовой сущности.
В качестве приложения к «Житию» Радищев опубликовал незаконченные философские работы Ф. В. Ушакова: очерк философии права («О праве наказания и о смертной казни»), отрывок «О любви» и пять «Писем о первой книге Гельвециева сочинения о разуме». В своих «Письмах» Ушаков не столько опровергает материалистическое учение Гельвеция, сколько стремится уяснить его самому себе. Основы мышления Ушакова материалистичны, хотя он не решается до конца следовать за Гельвецием и склоняется к дуализму, к признанию двойственной природы человека. Произведения Ушакова были написаны в Лейпциге в 1768—1770 гг. на немецком и французском языках. Радищев издал их в своем переводе, сделанном через два десятка лет, — переводе, вероятно, вольном и, может быть, включающем собственные философские размышления Радищева.
К 1789 г. относится статья-речь Радищева, напечатанная в журнале «Беседующий гражданин», — «Беседа о том, что есть сын отечества». Это
532
произведение всем своим содержанием, как и стилем, связано именно с политической практикой и политическими замыслами Радищева. Это настоящая политическая речь, рассчитанная на произнесение в аудитории, еще не подготовленной полностью к восприятию революционных идей Радищева. Такою и была аудитория Общества друзей словесных наук, для которого была написана «Беседа», аудитория, сочувствующая высоким гражданским идеалам, но не дошедшая в своем большинстве до революционных выводов. За пределами Общества Радищев обращался со своей речью к сотням молодых людей, также увлеченных передовыми идеями века, но которых надо было еще воспитывать в направлении роста их революционного сознания. Радищев выступает в своей речи как агитатор, выработавший четкую тактику. Он не хочет сразу же «отпугнуть» аудиторию непривычными для нее прямыми призывами к революции. Но он ставит своей задачей, при помощи горячего слова убеждения, возбуждая чувство гражданского долга, чувство патриотизма, подвести слушателя-читателя к пониманию этических задач, поставленных перед гражданином нарастанием революционной волны в Европе.
Осторожность Радищева в «Беседе» связана с тем, что он избирает тактику объединения, консолидации прогрессивных сил перед лицом возможных событий и предлагает формулы, приемлемые и понятные для такого блока. Однакоже основа этих формул революционна. Радищев ставит проблему патриотизма и показывает, что патриотом может называться только свободолюбец, только тот, кто посвятил свою жизнь не эгоистическим стремлениям, а счастью, свободе, освобождению своего отечества. Он исключает из состава общества и лишает права на гражданское уважение всех угнетателей народа. Он понимает патриотизм так же, как его понимали революционеры во Франции. А ведь известно, что патриотизм был лозунгом якобинцев, что они называли последовательных революционеров хорошими патриотами. И для Державина уже в 1789 г. «патриотизм» — синоним революционных идей (ода «На счастие»).
«Не все, рожденные в отечестве, — говорит Радищев, — достойны величественного наименования сына отечества (патриота)». Патриотом не может быть раб, так как патриотизм — чувство и свойство свободных людей или людей, борющихся за свою свободу. Патриотом не может быть угнетатель народа, бездельник, не дающий ничего отечеству, грабящий его себялюбец. Любовь к отечеству — это искание подлинной чести, это любовь к своему народу. Патриот скромен в своих подвигах и не ищет, совершая их, ничего, кроме чувства самоодобрения добродетели. Патриот стремится к культуре, ибо без нее его патриотизм может быть искажен.
«Беседа о том, что есть сын отечества» написана в патетическом тоне. Радищев стремится создать тот стиль пламенного, несколько риторического, приподнятого красноречия, стиль, обильный повторениями, восклицаниями, вопрошениями, острыми сентенциями, который получил такое развитие в речах ораторов Национального собрания, прогремевших на весь мир и бывших в это время символом революции. Недаром именем Мирабо заканчивает Радищев список величайших ораторов свободных стран в «Путешествии» («Слово о Ломоносове»), что и было отмечено Екатериной. «Тут вмещена хвала Мирабоа, которой не единой, но многия висельницы достоин», писала она в замечаниях на это место книги.
Стиль радищевской речи о патриотизме был стилем революции конца XVIII в. и в то же время это был стиль «сентиментальный», лирический,
533
эмоциональный, апеллирующий не только к разуму, но и к гражданскому чувству. Радищев выступал в своей речи как трибун, готовый к открытым классовым боям. Его учителями при этом были, с одной стороны, ораторы Англии и Франции и патетические писатели передового лагеря, вроде Рейналя или Руссо, а с другой и прежде всего — русские ораторы и публицисты XVIII в. Уже Комиссия по составлению нового уложения 1767—1768 гг. показала, что русское политическое красноречие созрело. Горячие дебаты, талантливые речи, полные глубокой социальной мысли, резкая полемика и искусство борьбы с врагом оружием ораторского слова — все это было на заседаниях Комиссии. Нет сомнения в том, что и после закрытия Комиссии искусство политической речи не угасло в передовых кругах.
3
Все произведения, написанные Радищевым до 1789 г. включительно, были как бы набросками, эскизами к «Путешествию из Петербурга в Москву». При этом все они, кроме «Отрывка путешествия в ***И ***Т ***», тематически не совпадают с центральным произведением Радищева и непосредственно не были использованы при написании его. Но Радищев разрабатывал в них литературные, философские, политические проблемы в том плане, как они были разрешены в «Путешествии», писавшемся одновременно с «Житием Ушакова», «Беседой о том, что есть сын отечества», отчасти и «Письмом к другу». Насколько близки были литературные замыслы и работы Радищева 1780-х годов к «Путешествию», хотя эти работы и не были связаны с ним внешне, видно из литературной судьбы «Слова о Ломоносове» и даже оды «Вольность».
Написанные независимо от «Путешествия» в качестве отдельных и законченных произведений, они были потом включены в текст «Путешествия»: первое — полностью, вторая — частично, при этом включены не в виде придатков, внешних добавлений, а органически; они вросли в контекст «Путешествия», заняв в нем определенное, композиционно и идейно необходимое место. Таким же образом в первоначальный текст «Путешествия» входила поэма «Творение мира»; так же, в сущности, в него вошла и «Систербецкая повесть», т. е. рассказ о едва не происшедшем несчастии во время морской поездки на лодке, помещенная в главе «Чудово», а ранее написанная самостоятельно.
«Путешествие» было, действительно, делом жизни Радищева. Он обдумывал эту книгу, писал ее, работал над ней восемнадцать лет. Он вместил в нее свои размышления и чувства по поводу всех основных вопросов бытия своей родины. «Путешествие» — книга многообразная и в то же время единая по своему эмоциональному содержанию. Герцен говорит о ней:
«Радищев смотрит вперед, на него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII в. Никогда человеческая грудь не была полнее надеждами, как в великую весну девяностых годов, все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычайного, святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями. Еммануил Кант, сняв шапочку, говорил, удрученный величием событий, при провозглашении Французской республики: ныне отпущаеши... С восторженными идеалами того времени Радищеву пришлось жить в России; слезы, негодование, сострадание, ирония, — родная наша ирония, ирония-утешительница, мстительница, — все это вылилось в его превосходной книге...
Радищев не стоит Даниилом в приемной Зимнего дворца. Он не ограничивает первыми тремя классами свой мир. Он не имеет личного
534
озлобления против Екатерины — он едет по большой дороге, он сочувствует страданиям масс, он говорит с ямщиками, дворовыми, с рекрутами, и во всяком слове его мы находим — с ненавистью к насилью — громкий протест против крепостного состояния».
Изучая «Путешествие» мы изучаем и мировоззрение, и стиль Радищева в целом.
Социальное мышление Радищева близко учению просветителей XVIII в. и Руссо. Однако в развитии идей «века Просвещения» Радищев проявил высокую степень самостоятельности. Он сам — один из плеяды европейских просветителей XVIII в., притом один из наиболее сильных умов в этой блестящей плеяде. Он черпает материалы для своей концепции не только из французских традиций, но и из английской. Он пытается осмыслить историю как закономерный процесс, найти ее движения, и этот историзм делает его в ряде вопросов более прозорливым, чем могли быть его французские предшественники.
В итоге мировоззрение Радищева — это поистине русское явление огромного международного значения, учитывающее достижения западной мысли, но выросшее на почве русской действительности и русской идеологической традиции.
Мировоззрение Радищева с большой полнотой воплотилось в его центральном произведении — «Путешествии из Петербурга в Москву». Эта великая книга представляет наиболее глубокое и яркое выражение русской революционно-демократической мысли вплоть до 1840-х годов. Социальной почвой, питавшей идеи Радищева, был классовый гнев широчайших народных масс России XVIII в., т. е. по преимуществу закрепощенного крестьянства. Именно это обстоятельство обусловило глубину и последовательность революционной мысли Радищева, недоступные западным передовым мыслителям и писателям, опиравшимся главным образом на буржуазные чаяния и стремления.
«Путешествие из Петербурга в Москву» — это книга о крепостнической и самодержавной России. Ее герой — не отдельный человек, и ее построение не зиждется на частном событии. Ее герой — родина, величественная, но угнетенная, и повествуется в ней о жизни всей страны и всего народа. Все частные случаи, эпизоды, портреты, проходящие перед читателем «Путешествия», — лишь примеры, служащие иллюстрацией к основной теме книги, а тема эта — призыв к свержению крепостнического помещичьего строя. Радищев разбил свою киигу на ряд глав, названных условно по станциям дороги от одной столицы до другой; каждая из глав содержит новую тему, а некоторые главы и по две темы. Так, в книгу вводится множество разнообразных проблем жизни страны; но книга от этого не становится сборником очерков, новелл и публицистических статей. Каждая глава-тема — это одна из сторон единого процесса жизни родины, и все они вместе образуют единство картины, подводящее к единому выводу: отмене подлежит самая основа бытия страны, и тогда отпадут все болезненные и чудовищные последствия этой основы, т. е. крепостничества. Одна за другой сменяются в главах книги темы: характер народа и фольклор («София»), феодальная иерархия («Тосна»), крестьянский подневольный труд («Любани»); античеловечность бюрократической власти («Чудово»); произвол местных властей, самодержавие («Спасская полесть»); народное просвещение («Подберезье»); удушение свободы народа царской властью; российская буржуазия («Новгород»); религия («Бронницы»); крепостничество («Зайцово»); воспитание («Крестцы»); общественная гигиена и народное здравие («Яжелбицы»);
535
проституция, любовь («Валдай»); разложение нравов дворянства и высокие добродетели в среде крестьян, тема любви и брака («Едрово»); пути освобождения крестьян («Хотилов»); развитие крепостничества («Вышний Волочок»); двор и придворные («Выдропуск»); цензура («Торжок); продажа крепостных и вопрос о революции («Медное»); революционная поэзия («Тверь»); рекрутчина, крепостные интеллигенты («Городня»); вельможи («Завидово»); эстетическая и нравственная жизнь народа («Клин»); быт и нищета крепостной массы («Пешки»); насильственные браки («Черная грязь»). Как видим, жизнь родины изучена, изображена, раскрыта с точки зрения вопросов социальных, политических, экономических, педагогических, вопросов культуры, быта, морали, искусства, философии. Попутно затрагивается множество других вопросов, вплоть до тонких размышлений о русском стихосложении или замечаний о путях сообщения. В итоге перед читателем возникает столь полная, многогранная и глубокая картина социального и культурного бытия страны и жизни людей ее, как ни у одного писателя до Радищева. И вся эта картина освещена одним страстным стремлением — к освобождению народа, одной ненавистью — к рабству. Радищев понимает, что основа всего зла — социальная, что искаженные, дикие формы политической жизни страны, ее быта и нравов — это следствие крепостничества. Он говорит о том, что власть монарха подчинена, в сущности, власти «дворянства наследственного», т. е. помещиков, что вопрос о крепостничестве не может быть решен разумно правительством потому, что на него оказывают влияние «великие отчинники» (крупные помещики); он знает, что «право собственности» — это лишь словесная оболочка хищнической классовой воли помещиков, что суд в крепостническом государстве судит не по какому-либо праву, а исходя из интересов тех же помещиков. Он стоит в этом важнейшем вопросе на значительно более передовых позициях, чем западные просветители и радикальные буржуазные мыслители, полагавшие, что миром правят мнения или же «нравы», общественная мораль (так думал, например, Мабли). Поэтому главный свой удар Радищев направляет именно на крепостничество, на угнетение человека человеком в феодальном обществе.
Он подходит к вопросу о крепостничестве с различных сторон. В ряде художественных очерков, картин, эпизодов он раскрывает возмущающую душу жестокость, безнравственность, бесчеловечность рабства. Он не смягчает красок, не боится потрясти читателя ужасом. Наоборот, он беспощаден с ним, он хочет заставить его содрогнуться, устыдиться своего равнодушия к злу, хочет лишить его покоя. Поэтому он раскрывает перед ним действительно ужасные в своей правдивости картины мучительства людей, издевательства над ними, физических и нравственных мук, ими претерпеваемых. Сюда относится и история диких самоуправств, гнусных преступлений в главе «Зайцово», и история крепостного интеллигента в «Городне», и другие места книги.
Но Радищев не хочет и не может ограничиться лишь эмоциональным воздействием на читателя, лишь возбуждением его справедливого негодования и ужаса. Он обращается и к разуму читателя; он стремится убедить его в необходимости ликвидировать крепостнический уклад общества. При этом он развертывает ряд аргументов — экономических, юридических, этических. В ряде образов и размышлений Радищев показывает, что крепостничество невыгодно для народного хозяйства страны, что рабский, подневольный труд, «в избыток чуждый», дает лишь скудный плод, тогда как свободный труд свободного гражданина гораздо более эффективен,
536
так как такой труд неутомим, радостен, инициативен. В данном вопросе Радищев опирался на буржуазную политическую экономию Адама Смита, перестраивая его учение в революционном духе, чуждом английскому экономисту.
С точки зрения юридической Радищев доказывает (например, в главах «Зайцово» и «Хотилов»), что крепостное «право» совершенно противозаконно, не опирается ни на какое понятие о праве, известное истории, что оно на самом деле есть лишь функция грубой классовой силы. Наоборот, уничтожение крепостничества, по мнению Радищева, есть акт высшей правовой законности. Существенны для Радищева и социально-этические аргументы против крепостничества. Целой системой образов он показывает, что оно развращает человека, морально губит рабовладельца и может погубить морально раба. «Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны, родится надменность, а с другой — робость. Тут никакой неможно быть связи, разве насилие...» (глава «Хотилов»). Опасение того, что рабы по условиям жизни могут стать вследствие угнетения рабами по духу, тревожит Радищева, потому что именно в порабощенном народе он видит доблести граждан, обеспечивающие возможность его освобождения. Помещичий класс в изображении Радищева развращен, жесток, циничен, грубо эгоистичен в целом. Это не случайность, не нравственная аномалия, а закономерность общественного бытия. Рабство, рабовладение безнравственно по существу своему; оно порождает безнравственность безнаказанностью любого преступления помещика по отношению к своим крестьянам, вельможи — к своим подчиненным, царя — к своим подданным. Поэтому-то царь всегда — «злодей злодеев всех лютейший». И еще: «Скажи же, в чьей голове может быть более несообразностей, если не в царской?» (эта фраза из главы «Торжок» чрезвычайно раздражила Екатерину и послужила одним из существенных пунктов обвинения Радищева). Помещики же, по Радищеву, — те же цари-самодержцы в своих владениях.
Отсюда — целая галлерея извергов-помещиков в «Путешествии»: здесь и асессор из главы «Зайцово», беспримерный тиран, потерявший облик человеческий, дикий зверь и садист; здесь и другие, продающие своих дочерей, доводящие своих рабов до совершенного голода, насильники и развратники, относящиеся к крепостным женщинам как к невольницам их гарема, и т. д.
И если в главе «Городня» мы видим помещика, относящегося к крепостным по-человечески, то что пользы? Сын его тем жесточе мучит своих рабов, в частности своего раба-интеллигента, героя повести, а жена молодого барина — мучительница еще более злая, чем он сам. Книга Радищева — обвинительный акт против целого класса.
Во всей книге, если не считать старого барина в главе «Городня», лишь упоминаемого коротко, и, конечно, идеального отца в «Крестцах», нужного для изложения радищевских принципов воспитания, есть только два дворянина, нарушающих общее правило: во-первых, сам путешественник — ненавистник крепостничества (характерно, что Радищев уже в начале книги, в главе «Любани», отмечает: «У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет»); во-вторых, господин Крестьянкин из главы «Зайцово», но уже его фамилия, не говоря о его поведении, показывает, с каким классом идет этот человек.
Помещичий класс в изображении Радищева разлагается не только морально, но и физически. Не один раз в своей книге Радищев касается вопроса о распространении в дворянской среде венерических болезней и
537
разрешает этот вопрос в социальной плоскости. Сифилис для Радищева — болезнь рабского общества, болезнь развращенного класса рабовладельцев. Вообще же отрава всяческого разврата идет в обществе сверху. Радищева ужасает опасность нравственной заразы, исходящей от «господ» и могущей осквернить их крепостных. Путешественник говорит Анюте (глава «Едрово») о ее женихе-крестьянине, которому угрожает опасность поехать в Питер на работу: «Не пускай его, любезная Анютушка, не пускай его: он идет на свою гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего он и тебя любить перестанет... А тем скорее, Анюта, если ему случится служить в дворянском доме. Господский пример заражает верхних служителей, нижние заражаются от верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень...».
На страницах «Путешествия из Петербурга в Москву» появляется много действующих лиц, очерченных автором кратко, но резко и выступающих в качестве представителей различных социальных слоев русского общества конца XVIII столетия. Все они отчетливо делятся на три группы. Первая из них — это угнетатели народа, помещики, чиновники, придворные. Они образуют в совокупности единый собирательный образ, отталкивающий и жуткий Этот собирательный образ призван вызвать в сознании читателя и гнев, и стремление уничтожить всю эту свору волков («звери алчные, пиявицы ненасытные!»), пьющую кровь народа. Вторая группа персонажей книги — это крестьяне, народ. Третья — это интеллигенты, не помещики, люди высоких духовных стремлений, душой приверженные к народу, готовые слиться с его стремлениями. Но в основном книга построена на противопоставлении угнетателей и угнетенных, «господ» и народа; это противопоставление, проведенное Радищевым открыто тенденциозно, отражает его понимание главного, решающего противоречия общественной жизни его времени, противоречия классов-антагонистов феодального общества — помещиков и крестьян. Собирательному образу гнусных черт угнетателей противостоит в «Путешествии» другой собирательный образ — крепостных. Сюда относится и труженик-крестьянин в главе «Любани», спокойный, величественный в своем прямодушии и трудовом мужестве; и матрос в главе «Чудово», своим упорством, смелостью, находчивостью и готовностью пойти на жертву во имя человеколюбия спасающий группу людей, погибающих в море; этот матрос противопоставляется в изложении главы (в «Систербецкой повести») чиновнику, которого его подчиненные не смеют потревожить во время его сна даже ради спасения человеческих жизней. Целая группа благородных, сильных духом и телом героев-крестьян, отданных на мучительство тупому извергу, показана в главе «Зайцово»; среди них — центральная фигура жениха, мужественно претерпевающего муки, но не уступающего своих человеческих прав, человека сильной любви, героического чувства чести. То же и в главе «Едрово», поэме о крестьянской любви, чести, семейственной доблести, и в главе «Пешки», где легкими чертами набросан образ сдержанной в своем страдании матери-крестьянки, и в главе «Городня», и в других. Все те черты нравственного и физического здоровья, чувства чести, собственного достоинства, гражданской доблести, которые Радищев решительно отрицает в помещичьей среде, показаны им как свойства людей народа. Радищев рисует своих крестьян в тонах восторженного преклонения перед народным духом, приподнимая их образы над всем низменным и даже мелко обыденным, как бы видя в них реальное воплощение легенд о доблестях граждан Римской республики воодушевлявших на подвиги революционеров и в Париже в 1793 г., и в Петербурге
538
в 1825 г. Конечно, для Радищева это не было зависимостью от образов и образцов классицизма, а было выражением его идеи о том, что именно народ является носителем гражданских начал, необходимых для построения свободного и процветающего общества, тогда как помещичий класс способен лишь отравить общественную жизнь и нравственность. Таким образом, идеализация народных образов у Радищева, несмотря на его стремление преодолеть манеру идиллий, наделить своих крестьян внешними чертами и даже речью подлинных русских крепостных людей, явилась следствием его защиты народа и его прав на возглавление государственной жизни. Здесь была скрыта серьезнейшая полемика с дворянскими идеологами, и либеральными в том числе, отстаивавшими сохранение преобладания дворянства в стране на том основании, что оно воспитано в правилах чести, тогда как народ дик и не способен вынести бремя свободы. Радищев отвечает им всей системой образов «Путешествия», показывающих, что дело обстоит иначе: дворянство потеряло всякую честь, сохраненную в народе, который способен построить свободную жизнь.
В соответствии с этим Радищев положительно оценивает художественное творчество народа. И до него русские писатели обращались к фольклору, черпали из него мотивы, образы и вдохновение. Но только Радищев признал народную поэзию высшей ценностью, увидев в ней выражение души народа, носителя высших моральных качеств в обществе. Для Радищева народное искусство более действенно, чем изысканное, искусственное художество, чуждое народу.
В главе «Клин» Радищев рассказыпает о слепом певце, поющем стих об Алексее — божьем человеке. «Неискусной хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взрощенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди...».
Еще в начале «Путешествия» (глава «София») Радищев говорит о русских песнях как о голосе народа, долженствующем указывать правителям народа направление их деятельности. Образом гениального ученого, выходца из среды народной — Ломоносова — Радищев закончил свою книгу («Слово о Ломоносове»). Он вовсе не безусловно хвалит Ломоносова. Наоборот, он горько и резко порицает его за отсутствие в его творчестве и деятельности революционной направленности, за то, что он считает лестью «царям, недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания». В пример и в укор Ломоносову он ставит историков, ненавидевших тиранов, — Тацита и Рейналя: Ломоносову-физику он предпочитает республиканца Франклина, борца за независимость Америки. Но Радищев все же искренне славит Ломоносова за то, что он был великим начинателем новой культуры, науки, поэзии в России. Его восхищает в Ломоносове страсть к науке, сила воли, могучая одаренность. Он видит в Ломоносове проявление таланта, неисчерпаемых духовных сил народа. Поэтому «Слово о Ломоносове» — это оптимистическое заключение «Путешествия», выражающее веру Радищева в русский народ. Противопоставив в своей книге угнетателей и народ, Радищев уделил в ней внимание и купечеству, русской буржуазии. Он безоговорочно отнес ее не к лагерю народа, а к лагерю угнетателей. И в этом вопросе Радищев решительно отличается от западных просветителей, видевших в буржуазии свой идеал, наделявших ее в драме, романе, публицистике всяческими добродетелями и агитировавших за нее более или менее открыто. Радищев показывает русских буржуа в главе «Новгород»; это гнусная семейка купцов,
539
развращенных мошенников, беспринципных стяжателей и дельцов. Они бесчестны и безнравственны. Их быт — пьянство, распутство, дикость, еле прикрытые внешними формами благопристойности. Они прекрасно устроились в помещичьей стране, и правительство помещиков вполне подходит им. Разумеется, им чужды какие бы то ни было помыслы об изменении существующих социальных порядков.
Наоборот, к лагерю народа духовно близки персонажи «Путешествия», образующие группу передовой интеллигенции. Так, Радищев весьма сочувственно, с симпатией рисует образ разночинца-интеллигента, семинариста, жаждущего знаний, страстного искателя света, — в главе «Подберезье». Сюда же относится образ Крестьянкина, смелого защитника прав народа, как и образ самого Путешественника.
Итогом основной, социальной темы «Путешествия» было проникнутое страстью требование ликвидации крепостнического общества.
При этом Радищев вполне ясно поставил вопрос и о классовом характере самого освобождения крестьян, к которому он стремился. Вопрос о том, кому должна принадлежать земля — крестьянину или помещику, вызывал споры в передовых кругах долго после Радищева. Еще у декабристов мы встретим взгляд о желательности освобождения крестьян без земли, т. е. с сохранением экономической власти помещиков. Решение вопроса о земле вплоть до середины XIX в. было одним из показателей классового характера мировоззрения того или иного социального мыслителя. Радищев разрешил этот вопрос последовательно-революционно, стремясь к полному устранению преобладания дворянства, становясь на крестьянскую точку зрения. Он требовал освобождения крестьян с передачей им всей земли. Наряду с вопросом о крепостничестве и вслед за ним Радищев поставил в «Путешествии из Петербурга в Москву» и вопрос о самодержавном политическом строе. Он потребовал его ликвидации с той же последовательностью и смелостью. Единственная форма правления, признаваемая Радищевым, — демократическая республика. О царской же власти в России Радищев говорит в «Путешествии» немало, и каждый раз с негодованием и презрением. Екатерина II правильно поняла Радищева, когда писала в своих заметках о его книге: «Сочинитель не любит царей и где может к ним убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкой смелостию».
Столь же решительно Радищев осудил царскую бюрократию и церковь, поддерживающую угнетение народа. В ряде образов своей книги Радищев показывает бессмысленную жестокость, самоуправство всей системы власти в России его времени, развращение участников системы управления, начиная от вельмож и до мелких чиновников. Вступая в борьбу с крепостнической монархией, Радищев показал яркие черты ее в России XVIII в. Его книга в высшей степени конкретна; она дает точные данные о социальной жизни его страны и его времени. Разрешая вопрос о монархии, Радищев имел в виду и монархию вообще, и непосредственно деятельность Екатерины II и Потемкина. В главе «Спасская полесть» Радищев говорит о царе; этот царь — Екатерина, и вся глава представляет разоблачение официальной лжи о российской монархии, проповедывавшейся правительством и самой Екатериной. Радищев включает в нее ряд прямых указаний и намеков на события и людей, на факты правительственной жизни 1780-х годов. Для Радищева важен не отвлеченный спор о сущности монархии, а реальная судьба России. При этом перед ним стоял вопрос о внутренней связи самодержавия со всем аппаратом
540
бюрократии и помещичьей власти, крепостничества. Радищев знает, что тиранство монарха не есть результат случайных низких моральных свойств его. Он знает, что вопрос о данном монархе есть в то же время общий вопрос о монархии.
Выход из трагического положения народа один: революция, — таков вывод из книги Радищева. Знаменитое заключение главы «Медное» в «Путешествии» отвергает возможность всякого сомнения в данном вопросе: «Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения».
Это призыв к революции, именно к народной, крестьянской революции, и уверенность в ее неизбежности. Екатерина II по поводу этого места его книги записала: «то есть надежду полагает на бунт от мужиков». Она была, конечно, права.
Восторженное прославление революции, и именно революции народной, содержит ода «Вольность», причем тема революции против царя сплетена в ней с темой освобождения народа от гнета рабства:
Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчана
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы:
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.
Радищев рисует картину «избраннейшего всех дней», дня восстания народа:
Внезапу вихри восшумели,
Прервав спокойство тихих вод;
Свободы гласы так взгремели,
На вече весь течет народ,
Престол чугунный разрушает.
Самсон, как древле, сотрясает
Исполненный коварств чертог;
Законом строит твердь природы;
Велик, велик ты, дух свободы,
Зиждителен, как сам есть бог!
Радищев проклинает царя и с восхищением описывает грядущий суд народа, осуждающий царя на казнь. Он утверждает и в оде «Вольность», и в «Путешествии», что революция — это не нарушение права, а осуществление его. Уже в начале книги (глава «Любани») он затрагивает этот вопрос, пока как будто в отвлеченном моральном смысле: «Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может». Затем, уже обстоятельно он разрабатывает вопрос о праве народа на восстание в главе «Зайцово».
Радищев рассказывает здесь о восстании крестьян и об убийстве тиранов-помещиков. Он изучает черты этого восстания и приходит к выводу, что крестьяне имели право и должны были сделать то, что они сделали.
541
Но Радищев не ограничился признанием права народа на революционное свержение тирании царя и помещиков и даже призывом к такому свержению. Он изучил вопрос о реальной возможности революции в России и пришел к выводу, что она не только возможна, но и неизбежна. Конечно, он подходил к этому вопросу еще не без метафизических предрассудков, ненаучно. Но его заслугой является уже то, что он поставил такой вопрос и искал ответа на него в революционном духе. Он пытается сделать вывод о неизбежности революции, исходя из анализа характера русского народа и тех условий, в которые он поставлен. Он утверждает, что русский народ свободолюбив и несет в себе возможности активного боевого вмешательства в ход истории.
В главе «Зайцово» Радищев говорит: «Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость».
Многозначительна и картина крестьянского восстания в главе «Зайцово»; Радищев показывает, как угнетение народа приводит его к восстанию. В главе «Хотилов» сказано: «Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам (т. е. дворянам; ведь это текст «манифеста» — «Проект в будущем». — Гр. Г.) предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в развитии его противиться не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и безчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем».
Здесь же Радищев говорит о Пугачевском восстании. И здесь, и в другом месте «Путешествия» Радищев — первый и единственный из русских писателей до Пушкина — говорит об этом восстании без ненависти к бунтарям и даже с сочувствием, видя в нем доказательство революционных возможностей русского крестьянства. Однако он не идеализирует его. Он говорит и о диком, по его мнению, характере крестьянского движения. Для него Пугачевское восстание вовсе не походит на ту организованную, созидательную революцию, несущую новый твердый закон республики, о которой он мечтает. Он считает, что хотя такая революция непременно произойдет в России, но это будет еще не скоро: «Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие» (глава «Городня»). И в другом месте: «О! горестная участь многих миллионов! Конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих...» (глава «Черная грязь»).
Во времена Радищева распространенным возражением против революционной теории и даже проектов реформ со стороны дворянских политиков было соображение о том, что, мол, народ некультурен и не сможет управиться с государством без дворян. В ответ на эту «теорию» Радищев выдвигает свою концепцию революционной культуры, развивающейся именно из победы восставшего народа. Он пишет (в главе «Городня»): «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи
542
для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны».
Радищев поставил вопрос о неизбежности революции в России и потому, что он по-новому подошел к проблемам философии истории. В этой особенности радищевского мировоззрения заключается в значительной мере его своеобразие. На основе богатства идей, добытого всей передовой мыслью человечества в его время, Радищев строил свою собственную систему революционной мысли.
Радищев соединил материалистические основы своей философии с значительными моментами историзма. Теории естественного права и общественного договора претерпели в его учении существенное изменение и частью были совсем преодолены им в силу того, что он стал на путь исторического понимания фактов общественного бытия человечества.
Радищев отверг теорию естественного права, принятую Руссо, на том основании, что не может быть речи о каком бы то ни было праве по отношению к периоду общественного развития, предшествующему образованию государства, так как самое понятие права рождается только в государственном бытии людей. Таким же образом Радищев отверг введенное Монтескье и принятое едва ли не всеми государствоведами XVIII в. деление всех государственных форм на три вида — деспотия, монархия, республика — потому, что деление это основано на отвлеченном умозрении, а не на конкретном наблюдении реальных форм общественного бытия (неизданные философские заметки).
Учение Монтескье о влиянии географических и климатических условий, некоторые суждения Вольтера, Тюрго, Мабли подготовляли почву для построений исторического характера. Но, в основном, механистический антиисторизм остается типической чертой французских социальных теорий XVIII столетия. Для них человек и государство — понятия всегда себе равные, и ход истории определяется неразумием или разумом, злой или доброй волей ее носителей и руководителей.
Развитие мысли Радищева к конкретно-историческому пониманию человека и общества было определено тенденциями предшествующей русской демократической мысли, выраженными у Десницкого и Аничкова.
Десницкий и Аничков, излагая свои взгляды на земное происхождение религии, значительно отступали от французских просветителей-рационалистов, полагавших, что религию придумали и навязали народам сознательные обманщики — жрецы и тираны. Десницкий и Аничков считали, что религия родилась на основе психологических актов и переживаний первобытного человека. Правда, в их теории психологический и социальный моменты, взятые отвлеченно, играли значительно бо́льшую роль, чем исторический, но все же наличествовал и этот последний. Взгляды Десницкого и Аничкова восходят к Юму и Адаму Смиту, хотя, без сомнения, и французская передовая мысль наложила известный отпечаток на мышление московских профессоров. При этом свойственная Юму тенденция оправдания веры, хотя бы и не имеющей достоверности знания, так же как морализм сентиментального типа, дающий себя чувствовать в «Теории нравственных чувств» Смита, несколько отделяют обоих английских мыслителей от русских. Десницкого отличает от англичан и социологизм его построения.
Несомненно, и Радищев не мог не знать о работах Юма и Смита по вопросам религии и этики. И непосредственно из этих работ и через русских учеников Юма и Смита он должен был воспринять то новое, что было ими внесено в методологию изучения социальных функций человека, причем он воспринимал эти новые методы, преломляя их в своем
543
революционном сознании. Не могли не оказать некоторого воздействия на Радищева и известные ему капитальные труды английских историков, того же Юма, Гиббона, Робертсона.
Попытки подойти к пониманию истории как единого и закономерного процесса, попытки понять факты истории в принципиальной их связи друг с другом и с окружающей человека природой начались в XVIII в., пожалуй, с Вико, с его «Основания новой науки об общей природе народов» (1725).
Предшественником Гердера считается И. Изелин, издавший в 1764 г. «Философские предположения об истории человечества». Наконец, Гердер построил свою концепцию всемирно-исторического процесса и как бы начал эпоху историзма в передовом мышлении человечества. Радищев воспринял от Гердера все, что тот мог ему дать. Он знал работы Гердера хорошо и ценил его труды, хотя относился к ним свободно, критически. Повидимому, именно Гердер обратил внимание Радищева на тот глубокий смысл, который имеет фольклорное народное искусство. Уже русская традиция собирания народных песен и поверий, работы Чулкова и Попова обратили внимание Радищева на поэзию народа. Но обратиться к народному искусству, как выразителю народного духа, национального характера, Радищеву помог Гердер. Правда, следует подчеркнуть, что Гердер не мог научить видеть в народной песне показатель социальной судьбы данного народа, видеть то, что увидел Радищев в поисках уразумения революционных возможностей его.
Нет сомнения в том, что именно историческая концепция Гердера, его стремление охватить всю мировую историю единством своего понимания человеческой культуры, глубокое понимание народной культуры, чуждое шовинистических черт и в то же время высоко ценящее понятие о национальном достоинстве всех народов, — все это импонировало Радищеву, так же как постоянно выражаемая Гердером ненависть к тиранам, к рабству, к угнетению, его гуманизм, его связь с просветительским движением.
Историческая концепция Гердера имеет в высшей степени ограниченный характер. Гердер выдвигает на первый план факторы природы, климата, географического положения страны и народа в качестве основных определителей данной культуры. Он исходит от Монтескье, но превращает его принцип в закон истории, закон развития человечества. Тем самым он преодолевает тенденцию французов XVIII в. (свойственную даже и Монтескье) — видеть в исторических образованиях результат лишь правильного или, наоборот, неправильного, произвольного законодательства. Однако географизм Гердера крайне сужает его точку зрения, поскольку он отодвигает в тень или совсем игнорирует социальный характер исторических фактов.
Радищев усвоил географическую или климатическую теорию Гердера. Но эта теория занимает в его концепции исторического человека лишь второстепенное место. В «Путешествии» мы вовсе не встретим отражения ее. В трактате «О человеке» мы находим ее следы. Для Радищева климатические условия менее важны, чем экономическая потребность, чем факты социальные.
Для Радищева в центре исторического понимания действительности — вопросы обоснования исторической неизбежности революции. Его не удовлетворяет рассмотрение проблемы революции в моральном плане. Для него вопрос не только в том, хочет ли революции он сам, Радищев, а в
544
том, каков закон истории народа, — предусматривает ли этот закон революцию или нет. Материалами для положительного прогноза в системе Радищева служат: общая концепция законов истории, предрешающих судьбы России, и конкретное изучение национального характера русского народа и экономико-политического положения его. Все это построение Радищева следует признать оригинальным плодом его революционной мысли, опередившей как французских, так и английских и немецких просветителей.
Самое понятие законов истории Радищев толкует натуралистически: он хочет объяснить законы истории законами природы. В «Путешествии» он склоняется к теории циклов или, вернее, к схеме движения истории по типу качания маятника: «Таков есть закон природы: из мучительства (т. е. тирании) рождается вольность, из вольности рабство».1 В главе «Подберезье» дана развернутая схема развития европейской религиозной мысли: первоначальное христианство, как вольное учение, превратилось в тираническую власть; затем тирания папы, подточенная Лютером, рушилась в философском движении, современном Радищеву, но он с печалью замечает признаки замыкания цикла в масонских увлечениях его времени: «Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию».
Согласно этой концепции Радищева, усиление помещичьей и царской тирании в России было признаком неизбежности грядущей революции. И все же концепция эта не была лишена пессимистической окраски.
Следует полагать, что в основе этого пессимизма лежит изучение Радищевым исторического материала, относящегося к буржуазной революции, в частности к той революции, результаты которой он мог уже учитывать, — к революции английской. Радищев видел, что из этой революции родилась новая система подавления человека человеком, — система, в значительной мере определившаяся как капиталистическая. Именно глубоким проникновением, — пусть больше чутьем, чем сознанием, — в ограниченный характер буржуазной революции, именно прозрением того, что она несет народам не только освобождение от феодализма, но и новые цепи, следует объяснить пессимизм Радищева. Его идеал революции, всенародной и до конца освобождающей народ, не соответствовал практике буржуазных революций. Тем замечательнее то обстоятельство, что Радищев перестроил свое понимание законов истории, преодолев пессимизм, и именно тогда, когда сам он был брошен в далекую ссылку. Повидимому, в изменении взгляда Радищева на историю главную роль сыграли сведения об успехах французской революции. Во всяком случае в своих сибирских и более поздних работах Радищев высказывает убеждение уже не в циклическом движении человечества, а в поступательном ходе его, становится на точку зрения прогресса как основы истории, подчеркивая при этом бесконечность совершенствования. И эта концепция приводит Радищева к мысли о неизбежности революции в России, но она менее схематична и лишена пессимистической окраски, свойственной концепции маятникообразного колебания исторического движения.
Обе концепции, изложенные Радищевым, приводили его к одинаковому прогнозу в отношении к будущему России на данном этапе ее развития. Здесь важно было именно убеждение в наличии неизменяемого закона исторического процесса, закона, предопределяющего неизбежность
545
революционного переустройства русского государства, неизбежность освобождения русского народа от феодального рабства.
В понимании зависимости человека и народа от условий общественного бытия Радищев пошел очень далеко. По его мнению, идеи людей зависят не только от природных, но и от социальных условий их жизни. Если бы все дело было в климате, в географической среде, то народ, живущий веками на одном месте, не мог бы измениться и совершенствовать свою жизнь и культуру. Радищев же утверждает, что все народы могут стать культурными и свободными: для этого нужны лишь исторически благоприятные обстоятельства. Не отрицая влияния климата, Радищев рядом с ним ставит влияние социальных явлений. По Радищеву, человек формируется природой, обществом и воспитанием: «Обстоятельства делают великого мужа». Лишь в исторически определенных условиях Ньютон мог сделать свои великие открытия. Лишь определенные исторические условия порождают понятия нравственности, чести, славы, правосудия, равно как «любовь к отечеству, к человечеству вообще». Общественное бытие человека — закон человеческого бытия. Рассмотрение человека вне общества и мысль о «выдумке общества» есть странное увлечение Руссо: «Человек рожден для общежития» (трактат «О человеке»).
Исходя из такого понимания, Радищев основывает свой прогноз о революции в России на конкретном изучении характера и условий жизни русского народа. Здесь важен самый метод, применяя который Радищев преодолевал механистичность и идеализм социального мышления своего времени. Он ищет черт русского народа в его истории, творчестве (фольклоре), в его быту, в социальной практике. Такое изучение русского народа — основное содержание «Путешествия из Петербурга в Москву» и исторических работ Радищева. В русской народной песне он искал отпечаток свойств русского народа, его характера, его будущей судьбы. В самом начале «Путешествия» Радищев писал: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека, найдешь его задумчива. Если захочет разогнать скуку, или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак, повеся голову, и возвращающийся, обагренный кровью от оплеух, многое может решить, доселе гадательное в истории российской».
Весь материал «Путешествия» характеризует русский народ как народ физически и духовно здоровый, мужественный, обладающий высоким чувством чести и солидарности, готовый восстать против своих угнетателей и беспощадно биться с ними. Свободолюбие русского народа, его социальный характер, требующий свободных демократических форм общественного бытия, подчеркивает Радищев в своих (неизданных) выписках по русской истории, где он собирает факты, характеризующие свободные демократические институты древней Руси. В этом же смысле он толкует сохранность в русской деревне общинного схода: для него сход — это остаток «собраний общественных древней Руси, остаток, сохраненный народной массой и удостоверяющий, что ей свойственны и привычны демократические
546
институты. На опыте истории завоевания Сибири Ермаком Радищев показывает военные и государственные возможности русского народа. «Здесь имеем случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский... О народ, к величию и славе рожденный, если они (эти качества. — Ред.) обращены в тебе будут на снискание всего того, что соделать может блаженство общественное». Гимном воинскому героизму, любви к отечеству и нравственному величию русского народа является, в значительной степени, и поэма Радищева «Песни древние».
Элементы историзма обнаруживаются и в трактовке Радищевым вопроса о происхождении и сущности религиозных верований. В отличие от французских просветителей, объяснявших происхождение религии обманом жрецов и выгодой тиранов, Радищев считает, что различные религии и церковные обряды — это различны« проявления преклонения перед высшей силой, силой природы, соответствующие историческому уровню культуры. Здесь переплелись деизм и историзм Радищева. В письме к А. Р. Воронцову из Илимска от июня 1794 г. Радищев писал: «Если бы я не опасался затянуть, я бы послал Вам описание религиозного действа тунгусов, которое они исполнили по моей просьбе под Илимском, — действо, которое называют шаманством, которое простой народ считает вызыванием дьявола, которое толкуют обычно только как простую комедию, разыгрываемую для одурманивания легковерных; на мой же взгляд, это одна форма столь различных выражений ощущения высшей силы — существа, которого нельзя познать, но величие которого обнаруживается в малейших вещах» (перевод с французского).
Деятельность отдельных выдающихся членов общества Радищев стремится оценить, исходя не из отвлеченных схем морального идеала, а из их исторического места. Он во многом готов осудить Ломоносова, но прославляет его потому, что ценит его заслуги исторически, показывая их значение в развитии русской культуры, в свое время и на своем месте. Такой подход был глубок и нов.
Понимание и изображение обыкновенных, рядовых людей у Радищева подчинено тому же принципу. Социальная типичность всех действующих лиц «Путешествия», не лишающая этих образов индивидуальности, характерна для Радищева.
Как художественное произведение «Путешествие» вобрало в себя наиболее прогрессивные течения общеевропейской литературной мысли, что не мешает ему быть и в художественном смысле глубоко оригинальным и вполне русским литературным явлением.
«Путешествие из Петербурга в Москву» остро ставит перед литературоведом вопрос о реалистических элементах русской литературы второй половины XVIII в. Книга Радищева является произведением «зрителя без очков», как назвал автора «Путешествия» А. Р. Воронцов, из всех писателей XVIII в. наиболее прямо, правдиво и отчетливо видевшего и изображавшего действительность. Это было обусловлено глубокой прогрессивностью, революционностью всего мировоззрения Радищева.
Историзм понимания общества и социальный подход Радищева к пониманию, оценке и изображению человека позволили ему создать типические образы не в духе отвлеченно-логических схем классицизма, а как собирательно-социальные и притом индивидуальные характеры.
Реалистическая устремленность творчества Радищева не противоречит
547
тому, что он как писатель является представителем того литературного движения, которое в истории литературы носит обычно наименование сентиментализма.
Именно в творчестве Радищева человек понимается в его социальной функции. Это поднимает Радищева выше его западных и русских предшественников и в этом вопросе. Его центральное произведение написано в жанре сентиментальных путешествий, но и здесь, как и во всем, Радищев оригинален.
Сентиментальные путешествия были видом творчества, в высшей степени характерным для литературы той эпохи. После знаменитой книги Стерна их появилось множество на разных европейских языках. Основная установка их — это изображение общества и природы сквозь призму личных переживаний автора-путешественника. Но в пределах этого жанра можно указать разновидности, в значительной мере несходные между собой. С одной стороны, это, например, «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Стерна, в котором материал наблюдений и описаний поглощен лирикой, самораскрытием психологии героя-автора. Скепсис и безразличие к внешнему миру индивидуалиста-эстета определяют позицию Стерна. С другой стороны, путешественники типа Дюпати («Письма об Италии», 1785) увлечены возможностью свести в одну книгу, благодаря удобной композиционной форме и обильный фактический материал, и передовую идейную пропаганду, конечно в преломлении сентиментального индивидуализма.
В сентиментальных путешествиях боролись противоречивые стихии буржуазного индивидуализма XVIII в.; объективный мир вступил в конфликт с замкнутой личностью, — и чем более боевое мировоззрение было свойственно автору книги и его окружению, тем более побеждало объективное начало. В этом смысле характерны и деловитость, и идейная заостренность французского типа сентиментального путешествия, создавшегося на подступах к великой буржуазной революции, и напряженная интроспективность Стерна, выросшего в окружении бытия английской буржуазии, давно победившей, более консервативной и умеренной. Радищевское «Путешествие» примыкает к традиции французов, а не Стерна, но оно вполне самостоятельно. Оно почти вовсе не дает осведомительного, образовательного материала (по географии, истории и т. п.), но целиком построено на «внешнем» материале. Центр тяжести этого материала — политика, социальные отношения, идеи.
Радищева интересует не столько психология его героев, сколько социально-политическая среда, их окружающая. Однакоже и герои Радищева не лишены черт индивидуальности.
В историческом смысле, в своей прогрессивной тенденции по отношению к литературе классицизма, искусство Радищева было новаторским — оно открывало пути грядущему реалистическому искусству. Радищев видит людей, вещи, отношения и события сквозь призму своего личного восприятия, но он видит объективный социальный мир.
Классическая поэзия сама строила свой мир из элементов отвлеченной мысли. Реальность, признававшаяся классической поэзией, метафизична. Наоборот, объект изображения в творчестве Радищева конкретен и реален.
Радищев создает образы индивидуальных людей, изображает единичные, неповторимые события, реальные факты. Все, им изображаемое, типично именно как характерное проявление общественной сущности, социальной практики данной страны и эпохи. Политические романисты типа Фенелона, а в России — Хераскова разбирали в своих произведениях
548
вопросы бытия государства вообще; Радищев же в «Путешествии» ставит вопрос о данном государстве, о России, со всеми конкретными ее особенностями, с ее исторически сложившимся общественно-политическим укладом.
Изображая людей, Радищев старается наделить их индивидуальной характеристикой, иногда описывает внешность. При этом он опять дает черты типические, в его представлении, для социального типа. Портрет асессора из главы «Зайцово», или губернатора в «Спасской полести», или яркий психологический рисунок в изображении крепостного интеллигента в главе «Городня», или внешние портреты купца и членов его семьи в «Новгороде» и др. могут служить примером характерологической установки Радищева. Примечательны и характерны также зарисовки быта, нимало не приукрашенного и не осмеянного в «Путешествии» Радищева. В этом отношении Радищев подхватил творческую инициативу Державина и Фонвизина. Но он подошел к воспроизведению бытовых сцен как политический обличитель, видящий и в мелочах быта черты социальной неправды, вызывающей его гнев. Вспомним описание крестьянской избы в главе «Пешки», историю с устрицами в «Спасской полести», трагедию, описанную в главе «Зайцово», и др.
От Стерна и традиции, связанной с ним, Радищев взял ряд технических приемов связывания кусков произведений; мы встретим у него и найденную рукопись, и рассказ встреченного в путешествии человека, и экскурсы в воспоминания самого путешественника в качестве метода включения в книгу ее составных частей. Но механизм использован Радищевым вовсе не по-стериовски и с другими целями. Радищев понимает и использует искусство как активную общественно-политическую силу. Он отказывается от стремления к красоте изображаемого во что бы то ни стало («украшенная природа»), отвергает стремление искусства воспарить в сферу «вечных идеалов». Он пишет свою книгу для того, чтобы воздействовать на людей, преследуя конкретные, злободневные, политически-практические цели. Для него нет и не может быть грани между публицистикой, политикой, философией, с одной стороны, и искусством — с другой. Идейность является для него основным принципом художественности, агитационность — основным качеством искусства, активность — его сущностью.
Как стилист Радищев очень своеобразен. Он отказывается от принципа стилистического единства произведения. Каждая тема, включенная в его кругозор, приносит с собой свой стилистический характер. «Путешествие» заключает весьма разноликие куски в отношении языка. Бытовые сцены написаны разговорным, живым языком со стремлением к передаче народного склада речи. Другие отрывки (например, рассказ о сестрорецких путешественниках в главе «Чудово») написаны книжным, литературно-условным языком. Наконец, там, где Радищев обращается к читателю как бы с речью и призывом, где он говорит о политике, философии, о правах человека и гражданина, язык его приобретает черты напряженно-торжественной и страстной риторики, усложняется, становится несколько неестественным. Он умеет и дифференцировать язык персонажей, передавая его складом социальное лицо говорящего: купец, семинарист, поэт, помещик, крестьянин говорят у него по-разному. Приподнятость, даже «надутость» радищевского стиля в проповеднических местах «Путешествия» вызывала нарекания критиков, начиная с Пушкина. Их смущало и обилие славянизмов, славянских оборотов, в самом деле нередко переходящее через край, нарочитое и подчеркнутое, причем Радищев пользовался оборотами и формами, уже
549
исчезавшими из обычной литературной речи даже «одического» стиля.
Эта славянизация речи Радищева не может, конечно, быть понята в смысле его принадлежности к «архаистам», тем более принадлежности его стиля к сфере идеологического влияния дворянства. Славянская речь, именно как язык старинной русской культуры, формировала в XVIII в. словесное мышление недворянских слоев культуры. Именно демократически настроенные литераторы (Курганов, отчасти Попов) стремились апеллировать к ней в борьбе за национальный облик культуры, противопоставляемый космополитизму дворянской идеологической и языковой практики. Кроме того, славянская стихия речи традиционно связывалась в представлении эпохи с мыслью о «высоком», о значительных и, в частности, государственных идеях и целях речи. Отсюда и стремление Радищева проповедывать высокие истины революции торжественно-славянизированным языком. Однако нельзя не признать, что решение стилистических проблем передовой русской литературы, практически предложенное Радищевым, не было правильным. Прогресс русского литературного языка должен был заключаться не в затрудненности его, а во внедрении в него принципов разговорной, легкой и гибкой речи. Пушкин не смог использовать опыта Радищева-стилиста, творя современный литературный русский язык.
4
Цикл произведений Радищева, написанных после «Путешествия из Петербурга в Москву», открывается неоконченной повестью о Филарете милостивом. История создания этой вещи замечательна. Радищев писал ее летом 1790 г. в крепости, ожидая смерти за свой революционный подвиг. Защищаясь от Шешковского и Екатерины, Радищев был принужден вести сложную тактическую линию во время следствия. Именно поэтому, вероятно, ему захотелось рассказать своим детям, а может быть и потомству, правду о себе. И вот, сидя в тюрьме, он начал писать повесть о Филарете милостивом, якобы переложение минейного жития святого, а на самом деле автобиографический рассказ. Если в документах следствия Радищев был принужден бранить себя, то здесь, где он писал о себе правду, он с полным сознанием величия своего дела изображал себя в образе праведника.
Таким образом нашла свое продолжение установка «Жития Ушакова» с его проповедью нового идеала свободного человека, в данном случае — уже не свободно мыслящего студента, а зрелого мужа, посвятившего свою жизнь делам правды. В то же время мы опять встречаемся с интересом Радищева к личной, индивидуальной биографии человека, объясняющей, по его мысли, его деятельность. Этот интерес был проявлением общей тенденции мировоззрения Радищева искать обоснования субъективных фактов в объективном бытии и, с другой стороны, проявлением его культа человеческого достоинства, открываемого в индивидуальной жизни простого человека.
Невольное пребывание Радищева в Сибири оставило заметный след в его литературной работе. Проезжая по Сибири, останавливаясь иногда подолгу в сибирских городах, затем живя в Илимске, Радищев не мог быть только бесстрастным наблюдателем природы и жизни нового для него края. Он с огромным интересом всматривался в него, изучал его, читал книги, которые могли помочь понять его историю, природные условия, экономику.
550
Свои замечания и наблюдения он систематически сообщал в письмах к А. Р. Воронцову, в целом составляющих весьма примечательный труд. Значительная часть этих писем писана еще по пути в Илимск. Они содержат описания природы, климата, местоположения городов, наблюдения над социальными взаимоотношениями в Сибири, над торговлей, земледелием, промыслами, над бытом и культурной жизнью.
Радищев сопровождает свои описания и наблюдения глубокими замечаниями, иногда рассуждениями. Он твердо убежден в том, что будущее Сибири может быть блестящим. Но он с горечью пишет о тяжких условиях социального уклада, мешающих развитию края. «Какая богатая своими естественными произведениями страна эта Сибирь! — писал Радищев Воронцову из Тобольска 24 июля 1791 г. — Какая мощная страна! Нужны еще века, — но когда она будет населена, она предназначена играть со временем великую роль в летописях мира. Когда могучая сила, когда непреодолимая причина придаст благотворную активность закосневшим народностям этих мест, тогда еще увидят, как потомки товарищей Ермака будут искать и откроют себе путь через льды Северного океана, слывущие непроходимыми, поставя таким образом Сибирь в непосредственную связь с Европой, выведут земледелие этой необъятной страны из состояния застоя, в котором оно находится; ибо по справкам, которые я имею об устьях Оби, о заливе, который русские называют Карским морем, о проливе у Вайгача, в этих местах можно легко проложить себе короткий и свободный от льдов путь. Если бы я должен был влачить свое существование в этой губернии, я охотно вызвался бы найти этот проход, несмотря на все затруднения, обычные в такого рода предприятиях» (подлинник по-французски; перевод Я. Л. Барскова).
Радищев не упускает случая отметить бедность крестьян, поборы и несправедливости, которым они подвергаются. В письме из Иркутска от 26 ноября 1791 г. он дает целую статью о народном просвещении вообще и о просвещении Сибири в частности. Здесь же он пишет: «Если Европа обязана Руссо революцией, которая произошла в результате его воспитательного влияния, то, несомненно, Базедову обязаны упрощенными и облегченными методами обучения детей тому, к чему еще в начале века дерзали приближаться только в двадцать лет» (подлинник по-французски).
Особо заинтересовался Радищев вопросами экономики Сибири, в частности вопросом о торговле ее с Китаем через Кяхту, приостановленной как раз в то время, когда он ехал в Илимск. В ряде писем он высказывает свои соображения по этому поводу и, наконец, уже в 1792 г., он написал целый трактат на эту тему в виде письма или докладной записки, адресованной Воронцову. Вообще говоря, Радищев сообщал Воронцову, президенту Коммерц-коллегии, и сведения, и свои соображения не просто для удовлетворения любопытства друга, а для того, чтобы повлиять на его действия, на действия руководителя русской торговой политики. Таким образом, Радищев даже после процесса и приговора не хотел и не мог отказаться от попыток воздействовать на реальную политическую жизнь своего отечества, так же как он не потерял активности, воли к действию до конца своей жизни. Следует отметить, что свой трактат о кяхтинской торговле, так называемое «Письмо о китайском торге», Радищев написал по предложению самого Воронцова.
Кроме «Письма о китайском торге», непосредственно с пребыванием Радищева в Сибири связана его неоконченная работа «Сокращенное повествование о приобретении Сибири». Эта работа построена на материале
551
«Описания Сибирского царства» Г. Ф. Миллера. Радищев взял оттуда фактическую сторону рассказа, местами — принятую Миллером последовательность изложения, но добавил к материалу авторитетного историка свои соображения, толкования фактов и общие размышления на исторические и политические темы. С Сибирью и ее историей связан и замысел его исторической повести или поэмы в прозе «Ермак». До нас дошел лишь небольшой отрывок поэмы («Ангел тьмы»). Общий замысел ее был связан, судя по сохранившемуся отрывку, с манерой макферсоновского Оссиана и с Мильтоном, которого Радищев высоко ставил и хорошо знал.
Без сомнения, центральным произведением Радищева, из числа написанных в Сибири, был обширный философский трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии».
В этой работс Радищев ставит основную проблему философии вообще: он изучает спор между материализмом и идеализмом. Спор этот, извечный в истории классового общества, приобрел особую остроту во второй половине XVIII в. В эту пору к обоим течениям философии примыкали мыслители передовой политической ориентации, — если не говорить о консерваторах и реакционерах, проповедывавших церковность и мистицизм.
Радикальные мыслители Франции, просветители Ламетри, Гельвеций, Гольбах, Дидро были материалистами. В лагере материалистов воевал против идеализма и такой замечательный ученый, как англичанин Джозеф Пристли, впрочем, несмотря на отчетливость своего материализма, остававшийся священником и веривший в деистического бога. Но в лагере идеалистов был Руссо, были и ученики Руссо, радикалы и демократы (например, Мерсье), был Мабли. Идеалистом был и Гердер. Руссо и Гердер пытались преодолеть механистичность французского материализма XVIII в., но ценою отказа от самого материализма.
С другой стороны, против материализма выступили учителя мистики, оформившие мировоззрение русских розенкрейцеров, и первый среди них — Сен-Мартен, а в России — Шварц. Их идеализм имел мало общего с эмоциональным культом героической души Руссо; это было реакционное течение, направленное на борьбу против «духа времени». Именно в московских розенкрейцерских кругах вопросы «идеальной», духовной или же материальной сущности человека усиленно дебатировались, и усердно освещался вопрос о бессмертии человеческой души. Поэтому Радищев, обращаясь к теме своего трактата, занимался не «академической» проблемой, — это был животрепещущий вопрос, определявший борьбу мировоззрений в русской интеллигенции 1780-х годов, вопрос, требовавший ответа со стороны Радищева уже потому, что неправильный ответ на него был бы одним из орудий пропаганды реакции в среде людей честных, но заблуждающихся. Именно к таким людям и обращался Радищев со своей книгой. Характерно в этом смысле, что он придал ей форму огромного письма (или ряда писем) к близким ему людям, — точный адрес трактата угадывался: это было послание Радищева к его сыновьям, юношам, готовившимся к вступлению в жизнь и лишенным личного руководства отца, сосланного в Сибирь. Радищев хочет как бы обезопасить своих сыновей от дурных философских влияний. Вместе с тем он хочет направить по верному руслу мысль всех юношей, ищущих правды и часто попадающих в сети лжи.
В конце 80-х и тем более в начале 90-х годов Радищев был уже решительным противником масонских мистических «бредоумствований», которыми увлекался его друг Кутузов. В своем трактате Радищев старается
552
понять и изложить аргументацию обоих борющихся в философии его времени течений, — и взгляды Гельвеция — Пристли, и Гердера — Руссо, но он совершенно исключает из серьезного рассмотрения взгляды Сен-Мартена и Шварца. Масонская мистика ему чужда; она не заслуживает анализа; она осуждена ироническими замечаниями еще в «Путешествии», и иронии, сатиры для нее достаточно.
Именно против масонского идеализма, против розенкрейцерских «изучений» египетских «учений» и древней каббалы направлено следующее место в главе «Подберезье» в «Путешествии», где Радищев выступает открыто как материалист: «Поступая в познании естества, откроют, может быть, смертные тайную связь веществ духовных или нравственных с веществами, телесными или естественными; что причина всех перемен превращений, превратностей мира нравственного или духовного зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обиталища и других к солнечной системе принадлежащих тел, равно как и оно, кругообразных и коловращающихся... На мартиниста похоже, на ученика Шведенборга... Нет, мой друг! я пью и ем не для того только, чтобы быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаюся тебе, как отцу духовному, я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цыфири или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным витязям».
Не случайно, что этот выпад против масонов, «новых духовных витязей», вложен Радищевым в уста семинариста-разночинца, интеллигента, читателя и ценителя Блекстона, т. е. человека, интересующегося передовой политической мыслью. Далее радищевский семинарист говорит о масонстве так:
«Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию. Разверни новейшие таинственные творения, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений, когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том» был ли в речении смысл, когда задачею любомудрия почиталося и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острии может уместиться душ.
Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезный бы был труд писателя, показавшего нам из прежних деяний шествие разума человеческого, когда сотрясший мглу предубеждений он начал преследовать истину до выспренностей ее и когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и ниспускаться в туманы предрассудков и суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет: ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранит хотя некоторых от пагубныя стези и заградит полет невежества».
Таким писателем, устраняющим «хотя некоторых от пагубныя стези», и хотел быть Радищев — и в «Путешествии», и в трактате «О человеке». В конце главы «Подберезье» он дает пародию на масонские «разыскания» и обряды: смешную страницу из древнееврейских «правил» «таинства закона» насчет того, как следует вести себя, уединяясь для выполнения естественной нужды. Здесь Радищев обращается к «возлюбленным», к друзьям-масонам, из которых первый — Кутузов, которому посвящено «Путешествие». Характерно, что в трактате «О человеке» Радищев
553
довольно широко использует «Федона» Мендельсона, но принципиально иначе, чем масоны, также ценившие эту книгу. Для масонов-розенкрейцеров Мендельсон нужен как оружие против рационализма и материализма, и они берут его целиком; Радищев же вовсе отбрасывает основу учения Мендельсона, постулат субстанциональности души, т. е. старается препарировать Мендельсона, оставляя в его учении только, то, что кажется ему относительно рациональным, и отвергая то, что было ближе всего масонам.
Итак, Радищев еще в «Путешествии» полностью отверг реакционное ученье мистиков-масонов. Однако в том же «Путешествии», в главе «Бронницы», идущей почти вслед за главой «Подберезье», он высказывает свое признание существования бога. Правда, он тут же заявляет, что его бог — не христианский бог. Радищевский бог — это бог всех религий и даже всех философских учений; он имеет два признака: во-первых, бог Радищева — это непременный закон природы, во-вторых — это закон добродетели, морали.
В этом типично деистическом месте книги Радищева характерно замечание о том, что безбожник, признающий закон природы, славит бога лучше, чем «песнопения», т. е. лучше, чем церковь. Между тем ведь не кто иной, как Гольбах, воинствующий атеист и материалист, восторженно славил закон природы, — и этот закон, и сама природа приобретали у него как бы черты божества. Таким образом, деизм Радищева не заставлял его вступать в борьбу с материализмом, а, наоборот, уживался с ним, подобно тому как это было у Пристли.
В работе над трактатом «О человеке» Радищев разрешал задачу, еще не ставившуюся в русской литературе, задачу создания специально философского исследования, философской монографии. Русские мыслители до него затрагивали философские вопросы попутно, излагая свои этические, политические, естественнонаучные, юридические или экономические взгляды, не аргументируя подробно специально философские учения, не пускаясь в обстоятельные доказательства. Характерны в этом смысле философские работы Сумарокова: это или этические максимы, или микроскопически краткие онтологические и гносеологические утверждения. Учение Локка о познании Сумароков отстаивает в статейке в три страницы («О разумении человеческом по мнению Локка», 1759). Учение о сущности вещей, о сущности материи Сумароков изложил на двух с лишним страницах («Письмо к приятелю», 1763). Глубочайшая философская система Ломоносова выражена в его научных трудах по химии, физике и др., в его методе и в отдельных замечаниях.
Специальные философские работы в России XVIII в., если не говорить о переводах, были по преимуществу учебными сводками и обзорами, компиляциями; во всяком случае, они не ставили задач построения единого умения по конкретной философской проблеме. Так, в 1751 г. вышла книга Г. Теплова «Знания, касающиеся вообще до философии», содержащая три части: 1) о человеческом познании и о задачах философии; 2) история философии («О начале и приращении философской науки даже до нашего времени»); 3) основы метафизики. Книга Теплова — это компиляция популярного типа.
Более самостоятелен, но все же имеет учебно-компилятивный характер труд Тредиаковского, помещенный им под видом серии предисловий к томам «Истории» Роллена, переведенной им. Несомненно, самостоятелен по целенаправленности труд Я. П. Козельского («Философические предложения», 1768), хотя и этот ученый-демократ строит свою книгу как учебник, кратко освещающий все основные вопросы и не разрабатывающий конкретно монографически ни одного из них.
554
В 1780-х годах появился ряд переводных книг по истории философии и переводов философских статей. Главным рассадником философской мысли в это время оказывались масонские организации. С точки зрения научной, попытки сотрудников этих журналов рассуждать философски «мели дилетантский характер. Именно на фоне этих упражнений особое значение приобретает углубленная монография Радищева, построенная как подлинно научный труд, опирающаяся на огромный материал и вобравшая опыт философской мысли человечества за два столетия.
В своем трактате Радищев широко использовал философскую литературу XVIII в. — французскую, немецкую и английскую. Вообще говоря, трактат обнаруживает огромную начитанность Радищева в самых различных областях знания, энциклопедичность его научных интересов, колоссальную широту его мысли. Но ближайшим образом — в соответствии с темой работы — Радищеву пришлось опираться в ней именно на философскую литературу. При этом он не только помнил при работе над трактатом общий смысл многочисленных философских учений его времени, но использовал книги своих предшественников в деталях, иногда следуя близко за изложением избранного им автора, иногда даже вольно переводя его целыми абзацами. Таким образом Радищев использовал, например, работы Гердера, Мендельсона, Пристли. Кроме того, он опирался на сочинения Бонне, Вольфа, Гольбаха, Ламетри, Мопертюи, Гельвеция, Локка, Адама Смита, Руссо, Робине, Лукреция, Декарта и др.
Следует подчеркнуть, что, широко используя своих предшественников, Радищев тем не менее сохранял полную независимость, оригинальность мысли. Он брал из Гердера, Пристли, Гольбаха и других только то, с чем он соглашался, отбрасывая другое; учения этих мыслителей приобретают совсем новый и своеобразный характер в обработке и в сочетании их элементов у Радищева, потому что Радищев вовсе не был эклектиком и вовсе не шел на поводу у своих предшественников.
Трактат Радищева построен очень своеобразно. Радищев не хочет ограничиться изложением только одной точки зрения на вопрос; он освещает его с двух противоположных позиций — материализма и идеализма, как бы вступая в спор с самим собой.
Основной вопрос философии Радищев решал, хотя и непоследовательно, с материалистических позиций. Именно выяснению этого вопроса посвящен его трактат «О человеке». Без сомнения, уже то обстоятельство, что Радищев избрал темой своего основного труда главную проблему всякой философии, образующую водораздел материализма и идеализма, показывает остроту и зоркость его философской мысли.
Теория познания Радищева не лишена механистических черт (в этом он был сыном своего века), но она насквозь материалистична. Радищев ни на минуту не сомневается в объективном бытии материального мира, независимо от познания его человеком, мыслью. «Бытие вещей, — по его словам, — не зависимо от силы познания о них и существует само по себе».
Вся совокупность бытия познаваема. Если мы не познаём чего-либо в бытии, то только вследствие несовершенства наших орудий восприятия, допускающих, однако, бесконечное совершенствование; микроскоп, телескоп и другие приборы, созданные человеком, могут и должны в конечном счете создать условия для восприятия чувствами и, следовательно, познания всех явлений мира. Радищев пишет: «Вещественностью называют то существо, которое есть предмет наших чувств, разумея, — есть
555
или быть может предметом наших чувств. Ибо, если оно им не подлежит теперь, то происходит оно от малости или тонкости своей, а не вследствие своего естества». Особо Радищев выделяет вопрос о времени и пространстве. Он признает их объективными свойствами материи как основы мира, свойствами материальной реальности. К этим двум свойствам он добавляет третье, наиболее общее, — бытие. «Поелику чувственностию имеем мы представление о вещах, а разумом получаем понятия, то-есть познания их отношений, и поелику общее всех представлений есть пространство, общее всех понятий есть время, а общайшее сих общих есть бытие, то что себе ни вообрази, какое себе существо ни представь, найдешь, что первое, что ему нужно, есть бытие, ибо без того не может существовать о нем и мысль; второе, что ему нужно, есть время, ибо все вещи в отношении или союзе своем понимаются или единовременны, или в последовании одна за другою; третие, что ему нужно, есть пространство».
Основание и единственный источник нашего познания, по Радищеву, есть опыт. «Распространение просвещения и общий разум показали, что опыты суть основание всего естественного познания». Опыт дает человеку правильную картину мира. Если человек заблуждается в познании мира, то «заблуждение сего рода происходит не от вещи и не от действия ее над нашими чувствами (поелику внешние вещи всегда действуют на нас соразмерно отношению, в котором они с нами находятся), но от расположения нашей чувственности». Так, больному желтухой все представляется желтым. Все заблуждения, как в непосредственном восприятии вещей, так и в рассуждениях о них, проистекают от нас самих, но мы имеем все возможности избежать таких ошибок, правильно пользуясь опытом и логикой, законами мысли, которые, в свою очередь, опираются на опыт и проверяемы им.
Опытом Радищев называет восприятие вещей; опыт есть непосредственное познание вещей по тем переменам, которые они производят в нас, в нашем организме. Рассуждением Радищев называет наше познание связей и соотношения вещей. Следовательно, рассуждение не есть нечто, отличное от опыта. Оно является лишь более сложным опытом, разумным опытом, в отличие от чувственного опыта. Плод опыта — представление, плод рассуждения — мысли или понятия. Мысли-понятия суть также следствия чувственного восприятия вещей, но данных в их взаимоотношениях. Следовательно, рассуждение, мышление не есть особая сила «духа», навязывающего внешнему миру свое творчество, а отражение в нашем сознании материального мира через посредство чувств. Радищев подчеркивает, что вне опыта нет ни познания, ни мысли. «Рассуждение есть не что иное, как прибавление к опытам, и в бытии вещей иначе нельзя удостовериться, как через опыт». Радищев неоднократно осуждает произвольные вымыслы, рождаемые человеком «при первом шаге в область неосязательную», неоднократно говорит о том, что «нутрозрительного» познания не существует, что уход мысли за пределы чувственности неизбежно приводит к фантазиям и выдумкам.
Таким образом, Радищев решительно рвет с идеалистической теорией познания. При этом он отвергает и идеалистическое понимание мышления (рефлексии) как самостоятельной творящей силы духа, и противоположную крайность — сведение мышления к простому ощущению (Гельвеций), устраняющее различие мышления и восприятия и отрицающее активное начало мысли, обобщения. В этом вопросе Радищев ближе всего к Дидро и Гольбаху.
556
Весь окружающий человека мир, по Радищеву, материален. В мире нет и не может быть ничего, что не могло бы пройти через опыт, т. е. воспринято чувствами. Этим предрешается вопрос о человеке и его «душе», о смертности и бессмертии. И этот вопрос Радищев стремится разрешить, не покидая почвы материализма, без апелляции к «нутрозрительному» познанию и к предрассудкам традиционного мышления. Радищев не смог полностью справиться с этой задачей. Но его усилия в разрешении ее замечательны и своей идейной направленностью, и глубиной постановки проблем.
Трактат Радищева «О человеке» состоит из четырех «книг». Первая из них содержит введение, основные гносеологические предпосылки, и постановку проблемы. Рассмотрению подлежит вопрос: материальна ли целиком природа человека или в нем есть некий дух, независимый от материи? иначе говоря, умирает ли весь человек со смертью своего тела или же дух человеческий обладает бессмертием? По сути дела, это вопрос о том, кто прав — материалисты или идеалисты. Радищев рассматривает человека в ряду других явлений материального мира, сравнивает его с животными и растениями, изучает физическую и психическую природу человека. Весь этот раздел труда Радищева изложен последовательно в духе материализма.
Вторая книга трактата посвящена доказательству материалистического учения о смертности человека, о всецело материальной природе его.
Начиная с третьей« книги Радищев собирает аргументы в пользу обратного тезиса — бессмертия души. В третьей книге он еще не покидает материалистическую почву. Он изучает здесь возможность согласовать бессмертие человека с положением своей материалистической теории познания и с материалистическим мировоззрением вообще. В итоге он приходит к половинчатому решению проблемы: личное бессмертие отрицается; дух человека распадается на элементы вместе с распадением его телесного состава и пребывает в качестве идеи человечества, мысли, живущей в мире и после исчезновения данной личности; дух вечен как идея мира, как смысл миропорядка.
Однако в четвертой книге Радищев стремится доказать личное бессмертие человека, его души. Он как бы демонстрирует перед читателем три возможные точки зрения: законченный материализм, непоследовательный материализм и идеализм.
На какой же из этих точек зрения стоит сам Радищев? Еще Пушкин писал о радищевском трактате: «Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма».1 Пушкин прав, считая, что Радищев был и оставался материалистом, но Радищев вовсе не «вооружается» против материализма и не «опровергает» тезисы, изложенные в первых двух частях его книги. Объединение в одной книге противоречивых взглядов было попыткой примирения веры в бессмертие с учением материалистов. Материалистические предпосылки первой части трактата относятся ко всему трактату в целом. Материализм как основа мировоззрения должен остаться, по мысли Радищева, непоколебимым. Иное дело, что Радищеву не удается удержаться на высоте этого принципа; однако это происходит помимо его воли и, повидимому, незаметно для него самого.
Во всяком случае, Радищеву свойственно осознанное стремление к материалистическому монизму в философии. В том же трактате он
557
высказывается в этом смысле достаточно определенно. Дуалистическая концепция, к которой склонялся в конце 60-х годов Ушаков и которая, повидимому, в те годы могла привлекать и студента Радищева, позднее, когда он достиг идейной зрелости, не могла его удовлетворить, и он отверг ее с полной определенностью.
Как уже было сказано, во второй части своего трактата Радищев доказывает смертность человека, обусловленную безраздельной материальностью его природы. Он отрицает особое, отдельное от тела, существование души и духа. В самом начале трактата он говорит, обращаясь к человеку: «Кусок хлеба, тобою поглощенный, превратится в орган твоея мысли», и ниже: «Устремляй мысль свою, воспаряй воображение, — ты мыслишь органом телесным; как можешь представить себе что-либо опричь телесности? Обнажи умствование твое от слов и звуков, — телесность явится пред тобою всецела, ибо ты — она, все прочее — догадка». Этот взгляд свойствен Радищеву и в других его произведениях, это его общее и основное убеждение. В «Путешествии из Петербурга в Москву» он говорит о периоде умственной зрелости юношей, о периоде, когда, «как то говорят, рассудок становится определителем делания и неделания, а лучше сказать, когда чувства, доселе одержимые плавностью младенчества, начинают ощущать дрожание, или когда жизненные соки, исполнив сосуд юности, превышать начинают его воскраия, — ища стезю свойственным для них стремлениям». Конечно, физиологические представления Радищева туманны и примитивны, в соответствии с представлениями науки его времени, но философский смысл этих представлений совершенно ясен: мысль, сон, все духовные функции человека обусловлены материальными процессами в его организме.
В этом отношении важнее отдельных формулировок «Путешествия» самое построение книги, весь ход ее изложения. Умственный процесс, совершающийся в сознании путешественника, не рассматривается автором как некий самостоятельный логический процесс мысли. Наоборот, каждая идея, каждый вывод героя есть прямое следствие воздействия на него самой действительности, внешних обстоятельств, реальных фактов, воздействующих, в свою очередь, на его чувства. Весь текст «Путешествия», в этом смысле, демонстрирует в художественных образах психологическое учение материализма и его теорию познания в пределах его понимания Радищевым.
В трактате «О человеке» Радищев также объясняет все проявления душевной и интеллектуальной жизни человека материальными фактами. «Умственные силы» человека, по мнению Радищева, «следуют законам естественности». «На различии полов основана... в человеке склонность к общежитию, из коея паки проистекают различные человеческие склонности и страсти». Физиологические различия людей Радищев склонен даже привлечь к объяснению различий «в представлениях божества». Вывод Радищева таков: «То, что называют обыкновенно душой, то-есть жизнь, чувственность и мысль, суть произведения вещества единого, коего начальные и составительные части суть разнородны и качества имеют различные и не все еще испытанные».
Каковы наиболее общие определения материи? Радищев подробно останавливается на этом вопросе, следуя трудам материалистов Гольбаха, Дидро, Пристли и др. Прежде всего Радищев устанавливает единство материи. Камень, растение, животное, человек — различные и последовательные ступени организации материи, единой в своей сущности, лестница существ, непрерывной восходящей ряд их от неорганической
558
природы до человека. Свойства единой материи, по Радищеву, — «непроницательность, протяженность, образ, разделимость». «Непроницательность» материи Радищев понимает как закон, согласно которому два тела (или две частицы тела) не могут находиться одновременно в одном и том же месте. Но он отвергает (вслед за Пристли) непроницательность как закон, согласно которому «одна вещь через другую проходить не может», превосходя в этом вопросе механистические воззрения французских материалистов. Радищев использует завоевания современной ему химии, чтобы поставить под сомнение приписывавшееся материи свойство «твердости». В этом вопросе он колеблется, но все же склоняется к мнению о бесконечной делимости материи хотя бы в потенции, в идее.
Особо интересует Радищева проблема движения. Он отвергает привычное представление о «бездействии», покое как свойстве материи. Наоборот, свойство материи — движение. «Вещественность движется и живет: заключим, что движение ей сродно, а бездействие есть вещество твоего воспаленного мозга, есть мгла и тень. Сияет солнце, а ты хочешь, чтобы свойство его была тьма; огонь жжет, а ты велишь ему быть мразом. Отступи со своим всесилием, оно смех токмо возбуждает».
В этом важнейшем вопросе Радищев также преодолевает механистические представления о привнесении движения в материю. Он свободен от понимания движения как силы, сообщенной материи извне («первый толчок»), и считает движение существенным свойством самой материи, не требующим никаких посторонних ей допущений.
Теория движения развивается Радищевым в духе передовых учений его времени, главным образом Пристли. Согласно Радищеву, материи свойственно противоречивое движение притяжения и отталкивания. Взаимодействие этих динамических сил образует элементы материи (атомы) и все сложные формы существования материи, тела. «Притяжение и отражение, — пишет Радищев, — простерлися из среды своей действием, явился образ и протяженность, вещественность приняла вещество».
Динамический принцип противоречивого движения обусловливает организацию материи. Именно это понятие подводит его к решению вопроса о сущности душевных явлений. Они — по Радищеву — в общем виде также свойственны всем явлениям материи, но зависят от ее организации. Низшее, примитивнейшее проявление их — «чувствительность», которая и есть жизнь. Жизнь — это свойство организованной материи. В наименее развитом виде это свойство присуще даже неорганической природе, царству минералов. Этот взгляд разделяли, как известно, и другие материалисты XVIII в. (Ламетри, Дидро).
Чем выше организация материи, тем выше и проявления ее «чувствительности». На определенной стадии организации чувствительность приобретает форму сознательности, мысли. Следовательно, «чувственность и мысль суть свойства вещественности»; «там, где лучшая бывает организация, начинается и чувствование, которое, восходя и совершенствуя, постепенно досязает мысленности, разума, рассудка».
Радищев отвергает, таким образом, механистическое представление о духовной деятельности как свойстве материи, независимой от конкретных форм ее организации. «Мы не скажем, — пишет он, — да и нелепо то было бы, что чувствование, мысль суть то же, что движение, притяжение или другое из описанных выше сего свойств вещественности». Для Радищева и чувствование и мысль — это свойства определенным образом организованной материи.
Человек умирает весь — таков вывод, следующий из материалистического учения Радищева о «душе» и «духе», но с этим выводом он не
559
хочет согласиться. Ему страшна мысль о беспросветной гибели, и он ищет утешения в бессмертии духа. Сначала (в III части трактата) он изучает вопрос о возможности допустить бессмертие духа при сохранении усвоенной им системы материалистических взглядов. Он приходит к выводу, что этим путем личное бессмертие недоказуемо. Поскольку вся материя одушевлена в той или иной степени, распадение тела на частицы не может уничтожить одушевленность этих частиц. Но такое бессмертие одушевленности не есть сохранение личного бессмертия мыслящей индивидуальности, так как организация человеческого тела исчезает с его смертью, теряется единство личности, память и т. п. «Нет, не токмо сила, в человеке чувствующая и мыслящая, не исчезнет, но вследствие непрерывного шествия, в природе явного, она прейдет в другой вещей порядок». В природе ничто не исчезает, значит не исчезнет и дух человеческий. В природе все явления представляют непрерывный восходящий ряд. Скачки в «шествии» природы Радищев отрицает вместе со всеми мыслителями XVIII столетия. Духовное начало, по мысли Радищева, являясь функцией высшей формы организации материи, не может, распадаясь, вернуться к состоянию скрытой одушевленности низших форм — растений или минералов, но должно после смерти человека вступить в высшее сочетание природных элементов. Таким сочетанием является мир как целое, как единый организм. Мировая душа бессмертна. Она есть то, что называют богом. По мнению Радищева, сила духа, как принцип природы, как вечный разум мира, как его закон, живет и будет жить вечно, подобно тому как сила притяжения живет и после уничтожения каждой отдельной вещи, в которой она действовала. Человек умирает, но дух человеческий пребывает вечно в человечестве, вливаясь в единый дух мира — в бога.
Таким образом, на этом этапе своих рассуждений Радищев находится на распутье. Он открывает дверь идеализму и в то же время пытается удержаться на позициях материализма, толкуя бессмертие как вечный круговорот материи, распадающейся и вновь созидающей, как вечное сохранение творений человеческого духа в истории человечества и, наконец, как закономерность вечного бытия вселенной.
Однако такое решение вопроса не преодолевает мысли об исчезновении «я», и в поисках надежды на личное бессмертие Радищев, в последней части своего трактата, покидает материалистическую почву. Это приводит к явному противоречию с основными принципами его мировоззрения.
Радищев сам видит это противоречие и не хочет отказаться от своей материалистической позиции. Он делает безнадежную попытку примирить идеалистические тенденции с материалистической базой своей системы. При этом он испытывает воздействие Пристли, Гердера и особенно сентиментализма Руссо, импонировавшего Радищеву демократизмом и революционным характером своего мировоззрения. Гельвеций, Гольбах, Дидро не были в такой мере близки Радищеву как политические мыслители.
Радищев утверждает как бы два пути открытия истины, сходящиеся в высшем согласии. Один из них — это логически доказуемая и объективная истина науки, путь мысли, изучающей объективный мир, материальный и закономерный, предписывающий свои законы и нашему сознанию, составляющему его часть. Путь научного доказательства, отражающего реальность объективного мира, с несомненностью убеждает в истине философского материализма.
Другой путь — это признание истины, логически недоказуемой, субъективной, но тем не менее непреодолимой в качестве переживания и
560
чувства человека. Бога нет — доказывает наука. Но я переживаю веру в бога, и моя вера — реальность, в которой невозможно сомневаться; моя вера тоже истина, хотя и субъективная, не обязательная для других. Сама эта вера, не являясь отражением объективной реальности, может быть, является следствием материальных причин, но это не меняет дела. Объективно вера есть функция материальных причин, а субъективно — переживание реального бога.
Примерно таков был ход мысли сентименталистов конца XVIII в., среди которых был и Радищев. Дуализм, изгнанный Радищевым, проникал в его учение в форме дуализма объективного и субъективного познания. Притягательная сила этой индивидуалистической и идеалистической концепции заключалась для Радищева в ее действенности, в том, что она как бы побуждала людей к активной деятельности. Радищев ищет принципа, придающего философской мысли более волевой, динамический, социально активный характер. В этих поисках, в сознательном стремлении сделать философию революционно-действенной — одна из характернейших черт философского творчества Радищева.
Попытка Радищева объединить учение материализма с элементами идеализма была связана с его стремлением объединить материализм с революционной активностью и демократизмом в условиях ограниченности мировоззрения его эпохи. Не видя возможности такого синтеза на почве метафизического материализма, Радищев пошел по пути уступок идеализму.
Радищев не смог разрешить поставленную им самим задачу, не покинув материалистической позиции, но его неудача была неизбежна по условиям его времени, а постановка задачи была его подвигом.
Личное бессмертие, по Радищеву, это — чувство, переживание души, но не доказуемый тезис. Оно существует как факт душевной жизни, как реальность ее. Не будучи научно доказуемым, переживание субъективной истины имеет практическое значение, определяя во многом волю и действия людей.
Еще в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев говорил, что истина заключена в разуме и в сердце человека. В первой части трактата «О человеке» Радищев утверждал, что понятие о боге в человеке есть, независимо от того, «сам он его себе сложил или получил откуда»; пусть правы атеисты, объясняющие понятие о боге этнографически или иными естественными явлениями, — все равно, и в душе материалиста есть ощущение божественной силы, природы или как бы ее ни называли.
В начале второй части трактата, посвященной утверждению тезиса о смертности души, Радищев говорит: «Надежда, бывшая неотступною спутницею намерений в человеке, не оставляет занесшего уже ногу в гроб. Надежда путеводительствует его рассудку, и вот его заключение: я жив, не можно мне умереть. Я жив и вечно жить буду. Се глас чувствования внутреннего и надежды вопреки всех других доводов». Далее Радищев говорит о том, что доводы материализма «блестящи и, может быть, убедительны», но он оставляет за собою право избрать не те мнения, в которых более убедительности, а те, которые вливают утешение в душу скорбящую.
В начале третьей части трактата Радищев заявляет: «Верьте, в касающемся до жизни и смерти чувствование наше, может быть, безобманчивее разума». Далее начинается длинный ряд оговорок и указаний, идущих до самого конца трактата. Множество раз Радищев напоминает и подчеркивает, что все соображения в пользу бессмертия души, все
561
«доказательства» его, которые он сам приводит, имеют весьма слабую объективно-научную значимость и доказательность, все это — «истина сердца».
Все ответы на вопросы о бытии души после смерти «гадательны», пишет Радищев. В доводах сторонников бессмертия души «нет очевидности». И все же ищущий истину «в себе носит не токмо доводы и доказательства, что в смерти не есть его кончина, но он о истине сей имеет убеждение, убеждение столь сильное, что за слабостию умственных доказательств оно одно становится для него уверением...». «Я сам знаю, чувствую, — говорит Радищев, — что для убеждения в истине о бессмертии человека нужно нечто более, нежели доводы умственные, и поистине касающееся до чувствования чувствованием должно быть подкрепляемо. Когда человек действует, то ближайшая причина к деянию его никогда есть умозрительна, но в чувствовании имеет свое начало, ибо убеждение наше о чем-либо редко существует в голове нашей, но всегда в сердце. Итак, для произведения убеждения о бессмертии человека нужны чувственные и, так сказать, сердечные доводы...».
Радищев излагает доводы, знакомые ему по Гердеру и отчасти по Мендельсону, в пользу личного бессмертия души, которые могли бы хоть как-нибудь подкрепить «чувствование сердца». «Может быть, я заблуждаю, — заключает он, — но блуждение сие меня утешает;...подобно, как будто привлекательное какое повествование, в истинности никакой основательности не имеющее, но живностию своих изображений, блеском картин и сходствием своих начертаний удаляя, отгоняя даже тень печального, влечет воображение, а за ним и сердце в царство хотя мечтаний, но в царство веселий и утех». Моральное чувство человека требует его бессмертия, но все же «весьма трудно, дабы не сказать — невозможно вообразить себе, каким образом продолжится совершенствование человека по смерти, ибо если на земли была в том ему пособием телесность и его органы, то как то может быть без оной? Чувства его дали ему понятия, а без них их бы он не имел». Говоря о теориях, пытающихся выйти из этого затруднения, Радищев утверждает, «что все таковые системы суть плод стихотворческого более воображения, нежели остроумного размышления».
Истина науки — в материализме, но истина чувства и действования — в надежде на бессмертие. Однако это — только вера, и Радищев оканчивает трактат словами: «Верь, скажу паки, верь, вечность не есть мечта».
Аргументацию идеалистов Радищев не может принять как разумное обоснование истины. Но он хочет отделить истину переживания и действия от истины научной. В этом была его ошибка, но ошибка эта вырастала из стремления придать активный, действенный характер материализму просветителей.
Итогом хода всех рассуждений Радищева оказывается материализм, хотя и непоследовательный. Важно при этом то, что общий тип мышления Радищева, его художественный метод, как и его социально-политическое мировоззрение, имели в самой своей сущности материалистический характер. Это отчетливо сказалось, например, в построении «Путешествия из Петербурга в Москву», во всем отношении Радищева к раскрытию темы этого произведения.
Радищев показывает в нем становление революционного сознания интеллигента его времени. Его герой выезжает из Петербурга, еще полный либеральных иллюзий; в начале книги он еще верит в декларации
562
Екатерины II относительно «законности» человеколюбия, прогрессивности действий правительства, верит в то, что население России живет в нормальных гражданских условиях. От главы к главе столкновения с действительностью разрушают его иллюзии, открывают ему глаза, заставляют его убедиться в лживости официальной идеологии, в том, что страдания народа превзошли все границы, что Россия — это страна рабства, произвола, тирании. Герой книги страдает от своих открытий, а жизнь, впечатления жизненной правды, набегая одно на другое, все более настойчиво требуют ответа на вопрос — как же быть, что делать, чтобы изменить невыносимое положение вещей. Постепенно надежды на изменение социальной действительности самим ходом вещей, на изменение ее «сверху», рушатся, и герой книги приходит к мысли о народной революции как единственному реальному и законному выходу.
Эта органически единая сюжетная концепция «Путешествия», составляющая его принципиальное отличие от построения всех других сентиментальных путешествий европейских литератур XVIII в., целиком дана во взаимоотношении роста и изменения субъективного сознания героя и фактов «внешней» для него, вполне объективной социальной действительности. При этом существенно важно здесь то, что у Радищева субъективное сознание героя в своем движении полностью зависит от внешне объективных фактов. Каждый этап развития его мировоззрения, его духовное «путешествие» от иллюзий к истине, от либерализма к революционности обусловлены воздействием на его чувства и разум того или иного социального факта.
Соответственно этому построены все главы книги Радищева. Сначала дается изображение внешнего факта: встреча с крестьянином, рассказ знакомого, картина рекрутского набора, описание избы, описание продажи крепостных с аукциона и т. п.; затем говорится о впечатлении, произведенном на душу героя этим внешним фактом; потом в большинстве случаев дается глубокое размышление героя и, наконец, политический вывод из факта, преломленного сознанием героя.
Следовательно, хотя у Радищева в центре его изложения — раскрытие внутренней духовной жизни человека, героя, как и у других сентименталистов, но сама эта духовная жизнь подчинена объективному, реальному и прежде всего социальному началу, является его результатом, производным из него, его следствием. Подлинной самостоятельностью, таким образом, обладает именно бытие как материальная сущность и совокупность, а субъективное восприятие бытия развивается в качестве отражения закономерности самого объективного бытия.
При этом следует подчеркнуть еще два обстоятельства.
Во-первых, субъективное сознание героя у Радищева, в отличие от Стерна или Карамзина, дано вовсе не в преимущественно или исключительно эмоциональном плане. Мысли героя Радищева возникают в связи с его душевным переживанием действительности, но они не исчерпываются эмоциями. Радищев сохраняет логический ход мыслей и доказательств, отвергнутый другими сентименталистами; его герой рассуждает, и его мысли обусловлены действительностью, рациональной структурой всей книги в целом и логикой разумной убедительности. Радищев в гораздо большей степени, чем другие авторы сентиментальных путешествий, остается связан с традицией французских просветителей, рационалистов и материалистов, несмотря на то, что именно он так глубоко воспринял и разнил учения Руссо, Гердера и других мыслителей, выступавших против рационализма. Отсюда и преодоление Радищевым «растрепанной», эмоционально хаотической, алогичной композиции стерновских книг, и своеобразное
563
построение «Путешествия из Петербурга в Москву» не как сборника очерков душевной жизни, а как рассказа о едином, целеустремленном, имеющем железную логику развития душевном и духовном сознании, вырастающем из самой действительности.
Во-вторых, самую эту «внешнюю» по отношению к сознанию героя действительность Радищев понимает как материалист, и прежде всего как действительность социальную. Недаром он так много занимался экономическими вопросами. Экономика общества для него — факт первоочередный, первостепенный, законообразующий. Это обстоятельство выступает каждый раз, когда Радищев говорит о крепостном праве, которое в свою очередь является для него основой всего политического строя государства его времени, подлежащего отмене. Что же касается материалистического (еще в несколько механистическом плане) понимания процесса духовной жизни человека, то Радищев декларирует его в «Путешествии» неоднократно, даже с некоторой подчеркнутостью, как бы дразня пугливого читателя.
В главе «Любани» он пишет: «Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал».
Или в главе «Спасская полесть»:
«Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго.
Возмущенные соки мыслию стремилися, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Нещетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил».
Возвращаясь к философскому трактату Радищева «О человеке», следует указать, что и в этом научном произведении отчетливо видим характернейшие черты литературной манеры автора «Путешествия». В самом деле, трактат написан в манере художественного произведения. Радищев дает в нем связное и логически построенное рассуждение не в отвлеченном плане, а как живую речь индивидуального человрка, повествующего о ходе своих мыслей и в то же время о чувствах, связанных с этими мыслями. Выводы и аргументы волнуют повествователя — героя трактата (ибо можно говорить о герое этого произведения), заставляют его страдать, надеяться, радоваться. Этот герой — в данном случае сам Радищев, и он включает в цепь мыслей и чувств своей книги сведения о своих «внешних» обстоятельствах; этот герой — мученик правды, сосланный в Сибирь и отторгнутый от своих детей за смелость мысли и слова; и в самой этой книге он с прежней смелостью добивается истины, как бы трудна и непривычна она ни была.
Философский трактат Радищева написан как лирическое признание и как разговор с друзьями. И все же эти субъективные ноты нимало не искажают чистоты рационального хода рассуждений. Между тем в ряде мест Радищев поднимается в трактате до подлинного идейно-психологического пафоса. Таково, например, обширное заключение второй книги трактата, страстный монолог материалиста, опять же, по указанию самого Радищева, говорящего «гласом» автора-героя.
Радищев пишет свой трактат в тоне горячей речи, безостановочно прибегая к восклицаниям, риторическим вопрошениям, повторам. Он пишет его тем же напряженно высоким и славянизированным языком, который он применил в патетических местах «Путешествия». Он постоянно дает
564
яркие примеры, исторические ссылки, даже исторические анекдоты, вводит лирические отступления. В общем трактат «О человеке» представляет исключительное в русской литературе явление: опыт художественного изложения сложнейших философских построений; при этом элементы эстетической обработки текста у Радищева играют значительно большую роль и даны в большем количестве и в более принципиальном качестве, чем это было у Руссо и у Юма (например, в его диалоге о религии), и у Гердера, или даже Мендельсона. Основа же этого своеобразия Радищева — в его целостном понимании человека и как интеллекта, и как эмоциональной структуры, в совмещении рационалистических и «сентиментальных» начал в его творчестве, в его стремлении преодолеть противоречие этих начал на пути понимания человека как органического результата социально-исторических причин.
После возвращения из Сибири, живя под надзором в деревне, Радищев начал писать новый трактат, также задуманный как обширное произведение, — «Описание моего владения».
Трактат не был закончен. Это по внешности как бы специальное сочинение на узкую сельскохозяйственную тему, но сущность трактата несравнимо шире только агрономической темы. При этом исследование текста Радищева установило, что его трактат дает описание и анализ вовсе не той единичной деревни или того поместья, «владения», в котором жил Радищев, а анализ среднего, типического помещичьего «владения», типической крестьянской экономики в условиях крепостничества. И вот, тщательно изучая экономику русской крепостной деревни, Радищев опять дает критику самого социального уклада ее, критику крепостничества. Задача задуманной им книги — доказать научно, с цифрами и фактами в руках, пагубность крепостничества для народной жизни, культуры, для народного хозяйства.
Наконец, последней прозаической работой Радищева, если не считать его законодательных проектов 1801—1802 гг., был замечательный очерк «Памятник дактилохореическому витязю» — полуновелла, полутрактат. В новелле рассказывается о судьбе Фалалея, младшего брата фонвизин-ского Митрофана, а в трактате («Апология Тилемахиды и шестистопов») дается анализ стиховых проблем на материале поэмы Тредиаковского. «Памятник» был написан в 1801 г. В центре внимания Радищева во всем тексте «Памятника» стоит поэма Тредиаковского. Новелла первой части представляет пародию, «перелицовку» «Тилемахиды», уснащенную ироническими цитатами из нее. Радищев как бы сливает в едином гротескном образе мир философской эпопеи с миром фонвизинской сатиры. Вместе с тем он стремится показать, что̀ именно в поэме Тредиаковского он считает нелепым и что̀ — глубоким и ценным. Отвергнув сюжет, идейный замысел и композицию «Тилемахиды», Радищев высоко оценил опыт Тредиаковского в области усовершенствования русского стиха. Исследователь «Памятника» Л. В. Пумпянский пишет:
«В «Апологии» можно различить три основные мысли. Во-первых, выяснение и защита литературной позиции и исторической заслуги Тредиаковского в образовании русского стиха. Во-вторых, «Апология» разрабатывает (впервые в России) вопрос о реальном ритме стиха, в частности гекзаметра, не совпадающем с школьной схемой стихосложения. В-третьих, «Апология» развивает учение о звуковой организации стиха или, как выражается Радищев, о «гармонии изразительной». Первый в России он поставил вопрос, в чем состоит «чародейство изразительной гармонии». Радищев считает, что оно «состоит в повторении единозвучной гласной, но с
565
разными согласными». Соединяя эту мысль с учением о ритме, Радищев приходит к окончательному выводу: хорош тот стих, в котором с «изразительной гармонией» соединяется «числительная красота, красота мерная времени».
«Апологией» начат был тот подъем научного стиховедения в России, который отмечает эпоху Пушкина. Пушкин писал о Радищеве: «Вообще Радищев писал лучше стихами, нежели прозою», и отозвался с похвалою в стихотворении его «Осьмнадцатое столетие» и о поэме «Бова». Радищев писал стихи всю жизнь, занимался поэзией с любовью, много думал о поэзии, о ее теоретических проблемах. Он был превосходно знаком со всеми современными ему течениями поэтического искусства. Какое значение Радищев придавал поэзии, — и даже техническим вопросам стихотворства, которые он глубоко изучал, — видно из того, что он уделил поэзии и проблемам метрики место в своем важнейшем труде — «Путешествии из Петербурга в Москву». При этом в своей поэтической работе, как и в стиховедческих изучениях, Радищев всегда оставался до конца принципиальным мыслителем, стремясь к реорганизации русской поэзии и к усвоению ею задач пропаганды освободительных идей.
До нас дошло немного стихотворных произведений Радищева: их было, без сомнения, больше. Рассказывая историю своего литературного творчества в письме-показании к Шешковскому из крепости во время следствия о «Путешествии», в 1790 г., Радищев писал о времени до 1775 г., до своей женитьбы: «Родяся с чувствительным сердцем, опыты моего письма обращалися всегда на нежные предметы, но все было с неудачею». Очевидно, он имел здесь в виду именно поэтическое творчество, может быть любовные песни. Стихотворения Радищева этого рода до нас не дошли, кроме одной песни; отчасти к этому же кругу тем можно отнести и «Идилию», и «Сафические строфы». Однако у нас нет оснований отнести эти стихотворения к ранней поре творчества Радищева.
Первым из дошедших до нас крупным датированным, хотя и не совсем точно, стихотворением Радищева является ода «Вольность», написанная в 1781—1783 гг. в связи с победой американской революции и являющаяся как бы приветствием русского революционера своим собратьям за океаном. В этой оде Радищев формулирует свои демократические и революционные позиции с не меньшей, пожалуй, отчетливостью, чем в «Путешествии из Петербурга в Москву». Он проклинает в оде рабство и деспотизм, призывает день народного восстания, славит революцию, требует казни для царя. Он доказывает один из наиболее важных для его социальной программы тезисов — о невыгодности для народного хозяйства крепостнической системы, стремясь одновременно нарисовать величественную картину свободной творческой жизни народа, ниспровергнувшего тиранию и рабство. В той же оде Радищев славит свободный дух и гений человечества, рвущего путы предрассудков, и, наконец, излагает свою философски-историческую концепцию неизбежного перехода общества от рабства к свободе.
Значительна идейно-политическая содержательность и других стихотворений Радищева. Он не пропускал случая, например, в поэме «Бова», намекнуть более или менее прозрачно на печальную судьбу русского государства в его время, на узаконенный бандитизм властей и т. п. В поэме «Песнь историческая» Радищев дает обозрение древней истории в качестве ряда иллюстраций для своих тираноборческих идей, в качестве пропаганды освободительного политического мировоззрения. Даже эпитафия, написанная Радищевым для надгробия его первой жены (1783), оказалась
566
недопустимой с точки зрения властей, в данном случае духовных, так как в ней выражалось сомнение в бессмертии души, «безверие» Радищева.
Исключительна глубина мысли в стихотворении «Осьмнадцатое столетие» и в неоконченной поэме «Песни древние». Стихотворение о веке Просвещения Радищев написал в тот краткий промежуток времени, когда и он, подобно другим, увлекся надеждами на молодого царя Александра I, воспитанника республиканца Лагарпа и, на словах, противника тирании всякого рода. Но не в приветствии новому царю смысл этого великолепного стихотворения, а в приветствии человеческому духу, непобедимому в своем вечном стремлении вперед, к свету и счастью. Радищев тяжело переживает падение надежд на революцию 1789 г., он видит, что она не принесла человечеству свободы и процветания. Тем более замечателен общий оптимистический тон этого гимна науке, свободе, прогрессу, созданного Радищевым, уже разбитым, казалось бы, в борьбе, потерявшим почти все в жизни, уже подходящим к трагическому дню самоубийства.
Такой же оптимистический тон овевает всю поэму «Песни древние» (полное название поэмы: «Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам»), во многом перекликающуюся по своему идейному содержанию с «Осьмнадцатым столетием». Только если в стихотворении Радищев говорит по преимуществу о судьбе всего человечества и прозревает его свободное будущее через мрак угнетения в настоящем, то в поэме он воплощает ту же мысль в применении именно к своему народу. «Песни древние» — это поэма о патриотизме и духе свободы, искони свойственных русскому народу. Недаром толчком к созданию этой поэмы явилось издание «Слова о полку Игореве». Радищев описывает нашествие иноплеменников на древний языческий Новгород, не знающий чуждой власти, грабежи и убийства — и битву новгородцев за свободу своего народа. Иноплеменники в изображении Радищева — поработители народа; призывы его героя к лютой борьбе с ними звучат, как призывы самого Радищева к беспощадной борьбе народа с угнетателями.
Воспевание в образах национально-освободительной борьбы прошлого социально-освободительной борьбы современности хорошо известно у наследников Радищева, поэтов декабристской традиции — Катенина, Рылеева, молодого Языкова и др. И опять Радищев, видевший, казалось бы, беспросветный мрак настоящего, обращается мыслью к будущему, и бодростью веет от его уверенности в непобедимости народа. Характерна и воинственность, которую проявляет Радищев в своей поэме, его беспощадность к врагам. Радищев был бойцом по натуре, и его не пугала мысль о суровой расправе с врагами свободы. Устами своего героя он как бы обращается к своим современникам с призывом к кровавой мести за порабощенье:
О! род ненавистной
Славянску языку!
Се смерть, сто разинув.
Сто челюстей черных,
Прострет свою лютость
В твою грудь и сердце!
Восплачешь, взрыдаешь:
Не будет спасенья
Тебе ни откуда...
Но... увы! мы только мщенье,
Мщенье сладостное вкусим!
А враг наш не истребится...
Долго, долго, род строптивой,
Ты противен нам пребудешь...
Но се мгла мне взор объемлет,
Скрылось будущее время...
567
Поэтическая работа Радищева примечательна остротой и принципиальностью разрешавшихся ею эстетических задач. Во всех своих произведениях Радищев выступает как противник закостеневшего уже в его время классицизма сумароковского толка, хотя самого Сумарокова он ставил высоко как поэта. Впрочем, Радищев не отказывался от использования форм классицизма, когда они соответствовали данному конкретному творческому заданию, в особенности в начале своего творческого пути. Так, ода «Вольность», написанная в начале 1780-х годов, вырастает на основе старой классической жанровой формы, «философической оды», культивировавшейся, например, Херасковым, но у Радищева наполненной новым содержанием.
Демократический романтизм — таков основной стиль поздней поэзии Радищева, несмотря на использование в «Бове» вольтеровой «Девственницы». С самыми передовыми идеями романтизма связана и постановка проблемы фольклора в его поэмах.
Здесь существенно стремление самого Радищева творить на основе русского фольклора, выразившееся, например, в его поэмах «Бова» (Радищев считал «Бову» народной сказкой, каковой она в сущности и стала в XVIII в.) и «Песни древние».
Вообще говоря, революционная тенденция, всего мировоззрения Радищева нашла свое выражение и в его поисках как поэта. Он стремится построить поэзию пропагандистскую, включающую при этом всю глубину философской и политической проблематики передового учения о мире. Ода «Вольность» написана как пламенный гимн, как поэтическая ораторская речь, и в то же время это своего рода трактат в стихах, в котором излагаются определенные положения политической экономии, дается изложение целой концепции философии истории и т. д.
Это в подлинном смысле слова научная поэзия, и в этом смысле она перекликается с ломоносовской. В некоторых других стихотворениях Радищева соединение агитационной патетики с научностью, иногда с крайней сгущенностью, сложностью смысла, не менее, если не более заметно. Радищев, едва ли не первый в России, строит с такой последовательной глубиной подлинно философскую поэзию.
«Осьмнадцатое столетие» — это опять целая концепция философии истории, это картина прогресса человеческого разума, включающая чрезвычайно поэтическое изображение успехов конкретных наук: физики, астрономии, географии и др. И все обширное научно-философское содержание этого стихотворения согрето пафосом общечеловеческого гуманизма.
Научный характер имеет поэма Радищева «Песнь историческая», поскольку она включает изложение исторических взглядов поэта.
В поэме «Бова» Радищев создает произведение, полемически направленное против истолкования жанра поэмы-сказки поэтами русского дворянского сентиментализма, уводившими читателя от острой социальной тематики в мир романтической грезы. Наоборот, «Бова» Радищева пронизан сатирическими нотами, полон пафоса ниспровержения феодального мировоззрения.
Именно в борьбе со сглаженностью, идеологическим оппортунизмом дворянского сентиментализма карамзинского толка, как и в борьбе с механистичностью классицизма, строились и новые принципы поэтического стиля Радищева.
Он стремился не к внутренней соотнесенности всех стилистико-композиционных элементов произведения, а к выразительности каждого из этих элементов. Выразительность стиля, мотивов произведения в целом была новым пределом, к которому были направлены усилия художника. Это значило, что теперь у Радищева каждый элемент художественной структуры
568
непосредственно и самостоятельно должен был выражать свою тематическую, идеологическую, пропагандистскую зарядку. Тематизм становился законом эстетики, которая не могла уже давать никаких предписаний художнику, поскольку не предписания, а тема, жизнь, идея указывали метод своего оформления.
Поиски выразительности заставляют иногда Радищева нарушать не только классические правила, но и привычные нормы легкой или даже ясной речи. В этом смысле замечательно принципиальное оправдание Радищевым своего собственного стиха из оды «Вольность»: «Во свет рабства тьму претвори». В «Путешествии» (глава «Тверь») Радищев пишет по поводу строфы, заключающей этот стих: «Сию строфу обвинили для двух причин: за стих «во свет рабства тьму претвори» — «он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв: «бства, тьму претв.»: на десять согласных три гласные, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на итальянском»... «Согласен... хотя иные почитали, стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия...».
Трудно ярче противопоставить две точки зрения на стиль: с одной стороны, априорные нормы классической эстетики, с другой — отказ от понятий «художественного» или «нехудожественного» как независимых категорий в творческом мышлении самого Радищева.
Именно поиски индивидуально-выразительных форм стиля привели Радищева и к исканиям в области новых ритмических возможностей стиха. Нивелировка размеров («засилье» ямба) в поэзии была так же враждебна ему, как сглаживание стилистической характерности в прозе. Он предлагает ввести в русскую поэзию все богатство античной метрики; тогда ритмическое построение стихотворения сможет отвечать его содержанию, а не будет заданным, как механический метрический импульс.
Радищев защищал свою точку зрения теоретически и в то же время пропагандировал ее своими поэтическими опытами. В частности, он предлагал узаконить соединение разнообразных размеров в пределах одного произведения и попытался практически осуществить это соединение в неоконченной им поэме-оратории «Творение мира». Античные размеры он использует в стихотворении «Осьмнадцатое столетие» (элегические двустишия) и «Сафические строфы». Он работает над введением в русскую поэзию безрифменного стиха («Идилия», «Журавли», поэмы), над строфикой («Песня», «Ода к другу моему»).
Все эти стиховые поиски Радищев производил обдуманно и сознательно. В «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Тверь») он писал о Ломоносове: «Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По нещастию случилося, что Сумароков в то же время был, и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все, вслед за ними, не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи... Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнасс окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле».
Радищев, следовательно, был принципиален и в своей борьбе протир рифмы как обязательного признака стиха; превратившегося в украшение; ему импонировала мужественная простота стиха античных поэтов и их современных Радищеву подражателей, в котором напев, музыка, звуковая выразительность основаны на ритмическом богатстве и инструментовке, а не
569
на опорных созвучиях. В той же главе «Тверь» он продолжает: «Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо ко краесловию.1 Слышав долгое время единогласное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо, негладко и нестройно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении».
В этом же месте своей книги Радищев высказывает (как видим, задолго до опыта Гнедича, показавшегося еще таким смелым в начале XIX в.) желание увидеть Гомера, переведенного на русский язык гекзаметром. Впрочем, суждение Радищева в этом вопросе не осталось без влияния на Гнедича и поддерживавших его литераторов — в их мнении о предпочтительности гекзаметрического перевода Гомера ямбическому.
В «Житии Ушакова» Радищев говорил о том, что его друг не мог замкнуться в пассивном «исследовании мнений чуждых»: «Но в сем-то и состоит различие обыкновенных умов от изящных. Одни приемлют все, что до них доходит, и трудятся над чуждым изданием; другие, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных стезей и вдаются в неизвестные и непроложенные. Деятельность есть знаменующая их отличность, и в них то сродное человеку беспокойствие становится явно, — беспокойствие, произведшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно до пределов даже невозможного и непонятного, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, не щадящее ни дружбы, ни любви, терпящее хладнокровно скорбь и кончину, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, сатану, бога».
В этих глубоко прочувствованных словах Радищев дает и свой собственный творческий портрет. Всей своей жизнью он доказал преданность свою идеалам истины и свободы, воспитанным в нем революционными стремлениями русского народа.
Творчество Радищева нашло отклик в среде передовой молодежи конца XVIII — начала XIX в. Его произведения запрещались властями, изымались из обращения, но, по слову Пушкина, «Радищев, рабства враг, цензуры избежал». Сочинения Радищева распространялись в списках, из рук в руки переходили немногочисленные печатные экземпляры «Путешествия из Петербурга в Москву» и собрания других его сочинений, изданных в 1806—1811 гг. Эти книги воспитывали вольнолюбцев и вольнодумцев и оказали прямое влияние на формирование взглядов декабристов.
В последние два десятилетия XVIII в. творило и действовало немало молодых мыслителей, испытавших личное влияние Радищева, входивших в кружки, в которых он вел пропаганду своих идей, посещавших его дом. Радикальные политические идеи Радищева воспринял юноша Крылов, издававший в 1789 и 1792 гг. журналы «Почта духов» и «Зритель». Философские идеи Радищева оказали влияние на творчество поэта и прозаика Клушина, соиздателя и сотрудника «Зрителя», радикала и атеиста.
Следует, однако, заметить, что ни один из непосредственных учеников Радищева не достиг высоты его взглядов, ни один из них не дошел в своем мировоззрении до тех бесстрашных революционных выводов, которые принял и проповедывал Радищев. Тем не менее воздействие радищевских идей было плодотворно, подготовляя почву и для революционной деятельности декабристов, и для взлета революционно-демократической мысли 40—60-х годов.
570
Среди молодых писателей-демократов, лично связанных с Радищевым, наиболее замечательны были В. В. Попугаев, разночинец-радикал, вольнодумец, один из литераторов, подготовлявших идеологию самых радикальных течений декабристского движения, и И. П. Пнин, радикальный публицист и поэт.
Еще в момент своего выхода в свет «Путешествие» Радищева нашло своих читателей. В России в то время было немало людей, способных понять проповедь Радищева, подготовленных к восприятию его агитации. Граф Безбородко, человек в высшей степени осведомленный, писал В. С. Попову 16 июля 1790 г., во время процесса Радищева, о «Путешествии»: «Книга сия начала входить в моду... но, по счастию, скоро ее узнали». Книгопродавец Г. К. Зотов, продававший книгу Радищева, показывал на допросах, что книга вызвала большой интерес.
После осуждения Радищева и его книги интерес к последней еще повысился. Есть известия современника (Массона) о том, что были люди, которые добывали экземпляр «Путешествия» на время и платили за прочтение этой книги большие деньги. Примечательно и большое количество дошедших до нас списков «Путешествия». Уже в конце XVIII в. они проникли даже в Сибирь. Сам Радищев, возвращаясь из Сибири в мае 1797 г., видел «копию с моей книги» в Кунгуре («Дневник путешествия из Сибири»). Массон говорит: «Несмотря на розыски в домах, учиненные деспотизмом, его книга («Путешествие» Радищева) находится у многих его соотечественников, и его память дорога всем разумным и чувствительным людям». Другой современник, Гельбих, писал: «Конфискацией книги не помешали тому, чтобы она стала известной. В России появились в обращении списки с нее и были экземпляры (списков), проникшие за границу». В 1836 г. в первоначальном варианте так называемого «Памятника» Пушкин писал:
И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.
Радищева продолжали помнить и наследники декабризма. Герцен напечатал его «Путешествие» в Лондоне в 1858 г., впервые после 1790 г.
Русские революционные демократы знали Радищева и усвоили его наследие. Наконец, революционный пролетариат глубоко чтит память о Радищеве. Великий Ленин писал в 1914 г.: «Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов».1
Первым памятником, поставленным молодой Советской республикой, был памятник Радищеву в Ленинграде. Наследие Радищева только после великого Октября стало достоянием широких масс народа нашего отечества.