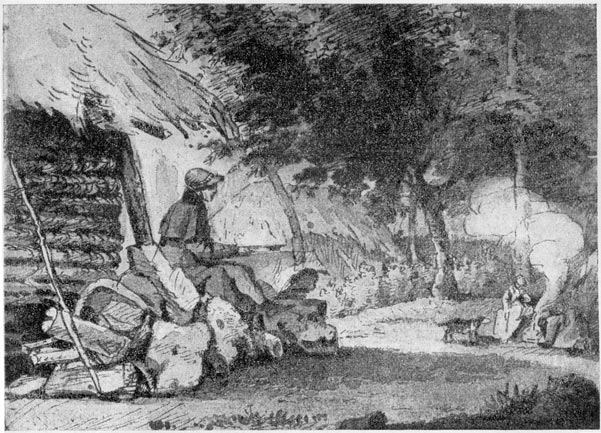- 446 -
Львов
Развитие русского дворянского сентиментализма тесно связано с именем Карамзина. Неверно было бы оспаривать большое значение этого писателя, но среди причин, подготовивших восторженный прием «Московского журнала», «Писем русского путешественника», «Бедной Лизы», нужно отметить деятельность ряда поэтов, которые в течение двадцати с лишним лет прокладывали дорогу Карамзину.
Одним из наиболее характерных поэтов этой группы был Николай Александрович Львов (1751—1803), человек исключительно разносторонних дарований: поэт, музыкант, рисовальщик, гравер, архитектор, археолог, геолог. Не получив в юношестве достаточного образования, он сумел в течение нескольких лет восполнить пробелы своего воспитания, а затем стать одним из образованнейших людей своего времени. По возвращении из-за границы, куда он и Хемницер ездили в 1776 г., Львов был замечен Безбородкой, стал правой рукой всесильного канцлера и поселился у него в доме.
Человек большого вкуса, Львов играл ведущую роль в объединившемся вокруг него дружеском кружке, центральной поэтической фигурой которого был Державин. Хемницер, Капнист, Хвостов, Храповицкий, Вельяминов (несколько ранее М. Н. Муравьев) выслушивали советы Львова и зачастую подчинялись им. Державин в своих «Записках» с благодарностью говорит о своем друге, который оказал значительное влияние на его литературное мировоззрение.
В течение всей своей жизни Львов сохранял интерес к литературе. Им написано значительное количество стихотворений, «Богатырская песнь — Добрыня», «Ботаническое путешествие на Дудорову гору» (произведение в стиле «Le voyage de Chapelle et Bachaumont), либретто опер «Ямщики на подставе», «Парисов суд», «Милет и Милета», «Пастушья шутка для двух лиц», «Сильф, или мечта молодой женщины» и др. Большинство этих произведений осталось ненапечатанным, и проследить развитие поэта мы можем только по дошедшим до нашего времени рукописям.
Свою литературную деятельность Львов начинал как ученик Сумарокова, но развивал он преимущественно одну сторону многообразного поэтического наследия своего учителя, — его песенное лирическое творчество.
Сохраняя приемы, словарь и подчас ритм сумароковской песни, Львов вносит отдельные изменения; в его песнях обнаженнее звучит преднамеренность «голоса», задача музыкальности, вследствие чего автор чаще прибегает к повторам, к рефрену.
Ранние стихи Львова, при всей их несамостоятельности и узости задания, представляют интерес как посредствующее звено, помогающее уловить
- 447 -
переход к творчеству зрелых сентименталистов, связывающее в одну линию развития таких поэтов, как Сумароков и Дмитриев. Львов постепенно удаляется от простоты и естественности своего учителя, подменяя большое человеческое чувство сумароковских песен салонной чувствительностью в духе знаменитых «Овечек» Дезульер.
Путь от сумароковской песни ведет Львова не только к сентиментальному романсу, но и к подлинно народной поэзии. Становясь в один ряд с крупнейшими представителями европейской литературы, усвоив и переработав романтическую теорию Гердера о роли и значении национальной народной поэзии, Львов один из первых в России выдвигает проблему народности в литературе, связывая ее в первую очередь с понятием национальности. Уже в шуточном посвящении комической оперы «Ямщики на подставе» (1788) он объявляет себя сторонником народного творчества:
Я от тебя не потаю:
По нотам мерного я не причастен вою,
Доволен песенкой простою,
Ямскою, хватской, удалою;
Я сам по русскому покрою
Между приятелей порою
С заливцем иногда пою.Написанная по случаю путешествия Екатерины II (о встрече «матушки» речь идет на протяжении всей пьесы), опера, в отличие от многих произведений из «народной» жизни, затрагивает не совсем безобидный вопрос, вопрос о несправедливой сдаче ямщика в рекруты, разрешаемый, по условиям жанра, совершенно благополучно. Однако интерес ее в ином — в песнях, которыми она начинается и кончается, — песнях, фактически создающих пьесу.
Все использованные в опере песни вошли в подготовленное Львовым «Собрание народных русских песен с их голосами», положенных на музыку Прачем; этот сборник был едва ли не основным трудом жизни Львова, трудом, не утерявшим интереса и значения до наших дней уже в силу того, что «Собрание» Львова значительно более отвечает требованиям науки, чем выходившие до этого нотные песенники.
В борьбе за национальные формы поэзии Львов был очень последователен. Так, в 1799 г. он пишет Державину «Письмо прозой и стихами вдвойне», в котором протестует против «норвежскаго богословия», заменившего в стихах Державина привычные мифологические образы.
В 1793 г. Львов переложил на русский язык «Песнь Гаральда Смелого» размером народной песни «Не звезда блестит в чистом поле», причем, стремясь передать языковый колорит эпохи, строго отбирает слова, хотя порою из-за этого ему приходится отходить от подлинника.
В декларативной поэме «Добрыня» Львов выступает с призывом к созданию произведений, национальных и по форме и по содержанию. Сюжеты их должны заимствоваться из былин, народных сказок, из русской истории.
Львов выступает и против ямбического засилья, против традиционных размеров, ведущих свое начало еще от Ломоносова.
Призыв Львова не остался без ответа. На него откликнулись Карамзин в Илье Муромце», затем Херасков в «Бахариане», Н. А. Радищев в «Алеше Поповиче» и «Чуриле Пленковиче» и др.
Внимание Львова к песням, жанру, в котором Сумароков был наиболее самостоятелен, развитие этого жанра и обращение к фольклору характерны
- 448 -
для стремления поэта обойти французскую классическую традицию. Отсюда же идет у него и внимательное изучение в начале 70-х годов Петрарки, поэта, привлекавшего особое внимание и современников Львова — немецких «бурных гениев».
Пытаясь уловить переливы чувства, найти слова для обозначения тонких оттенков эмоции, Львов переводит сонет Петрарки и стихами и прозой. Затем Львов углубляется в изучение античности; в ней его привлекает лирика Сафо. Глубокий лиризм Сафо несет освобождение от традиционных форм, и в 1778 г. Львов упорно работает над переводом ее од, стремясь наиболее точно приблизиться к подлиннику. Интерес к античности сохраняется и позднее: в 1794 г. Львов издает перевод Анакреона. В отличие от всех писателей XVIII в., обращавшихся к Анакреону, Львов стремился передать звучание оригинала. Он переводит его белыми стихами, сохраняя размер подлинника и создавая первый образец нового понимания классицизма в русской литературе.
Ряд других произведений Львова свидетельствует о тех же попытках отойти от традиций классической поэзии. Так, Львов разрабатывает жанр дружеского послания, причем под его пером оно превращается как бы в обычное письмо в соответствии с узостью интимной задачи, поставленной автором, «семейностью» его лирики.
Ироническое отношение к традиционным поэтическим условностям переносится и в серьезные произведения. «Торжественная ода во вкусе Архилоха на взятие Варшавы», написанная «античными» строфами, неожиданно заключается словами:
Пиит бы здесь возвысил тон:
Под кедром лавры зеленеют,
Ахиллы новые в нем зреют,
Пал Троев град. Но я не он.Легкая шутка, перемежающаяся с фривольным намеком, и ироническая галантность, нарушаемая неподходящими для салонного разговора словечками, характерна для Львова, например, в одном из значительных его произведений — «Ботаническое путешествие на Дудорову гору»:
Пустились мерять мы и ямы и равнины
Обутым циркулем тупых и грязных ног...Достаточно прочитать последнюю строку, чтобы увидеть, что Львов здесь не предваряет изысканного карамзинского стиля, тем более изощренного, когда поэт говорит о женщине или обращается к ней, что он противоречит ему, оставляя за собой право введения в поэтическое произведение натуралистических деталей, простой и грубоватой шутки, естественной в обращении к близкому человеку и создающей иллюзию непринужденного разговора.
Львов решается на введение просторечия преимущественно в шуточных произведениях (что не мешает ему ставить напр. в «Добрыне» принципиальные вопросы). При этом с Державиным роднит его не только разговорная интонация стиха, а и неотделимость автора от произведения. Так, балладный эпизод «Ночи в чухонской избе на пустыре» вырастает из лирической исповеди, повествующей о тоске, чувстве внутреннего холода, вызванном одиночеством, мраком, свистом ветра, воем волков. В этой балладе, одной ил первых в России, наиболее полно отражаются принципы Львова, его
- 449 -
своеобразие. «Ночь» написана «русским» размером, трафаретно-литературные образы чередуются с мотивами и образами народной поэзии:
Уже скатерть белобранная
На столе дубовом постлана,
Уж стояли яства сладкие...
Рисунок Н. А. Львова. Из путевого альбома 1802—1803 года с записями
и зарисовками Крыма и НовороссииПерефразируются плачи:
Умерла моя любезна дочь,
И печаль вошла в мой горький дом.Фольклорные элементы в свою очередь переплетены со всеми аксессуарами сентиментальной поэзии:
Он летит вперед, надеяся
Встретить ангела любви его.
Воротися, добрый молодец,
Для тебя уж ночь не кончится...Заключительные строки стихотворения возвращают читателя к реальности, поясняя, что все, о чем говорилось до сих пор, только плод фантазии автора, галлюцинации:
Может ветра свист в ущелинах
Мне в пустынном одиночестве
Показался голос девичий.
- 450 -
Если эти стихи еще оставляют место сочетанию фантастики и действительности, то показанная вначале романтическая обстановка — мрак, пустыня, которым так идет название «Ночь», освещается совсем иначе прозаически точным добавлением: «в чухонской избе на пустыре», которое снимает налет таинственности с этих ночных страхов.
Последовательнее Львов в стихотворении «Музыка, или семитония». Это — романтический гимн музыке, трактуемой как «глагол таинственных небес»:
Глагол таинственных небес!
Тебя лишь сердце разумеет;
Событию твоих чудес
Едва рассудок верить смеет.
Музыка властная, пролей
Твой бальзам сладкой и священной
На дни мои уединенны,
На пламенных моих друзей.
Как огнь влечет, как гром разит
Закон твоей всесильной власти;
Он чувства нежные родит,
Жестоки умягчает страсти.
Гармония, не глас ли твой
К добру счастливых убеждает,
Несчастных душу облегчает.
Отрадной, теплою слезой?Укладывающееся по своей стилистической структуре в рамки карамзинской поэзии, стихотворение это по своему полному отказу от примата разума и реальности, по мысли о слиянии человека через искусство (в данном случае через музыку) с «небесами», по самому прославлению интуитивного познания красоты стоит в ряду многочисленных произведений романтиков и в известной мере предваряет поэзию Жуковского.