152
Фонвизин
1
Денис Иванович Фонвизин родился 3 апреля 1745 г. Он происходил из старинного дворянского рода. Его предок, барон Петр фон Визин, рыцарь-меченосец, был при Иване IV взят в плен вместе с сыном Денисом, а затем служил русскому царю в качестве русского дворянина. В XVII в. Фонвизины перешли в православие и совершенно обрусели. Отец писателя был помещиком хорошего достатка; сам воспитанный «по старинке» (он родился в 1700 г.) и будучи человеком не очень образованным, хотя и любителем чтения, он и сына своего обучал по-домашнему и по-ветхозаветному. Денис Фонвизин в раннем детстве немало упражнялся в чтении церковных книг и участвовал в качестве чтеца-псаломщика во время домашних богослужений. Иностранным языкам дома его не обучали.
Десяти лет от роду Фонвизин поступил в только что открытую гимназию при Московском университете. В гимназии он вскоре выделился своими способностями и успехами. Он изучал латинский, немецкий, а затем и французский языки и зарекомендовал себя удачными литературными выступлениями. Выступал он на торжественных актах с речами — на русском и немецком языках, а в 1760 г. директор университета возил его в числе лучших учеников в Петербург для представления куратору Шувалову. В Петербурге Фонвизин видел Ломоносова и побывал в театре, который произвел на него неизгладимое впечатление.
В том же 1760 г. Фонвизин, учившийся вместе со своим братом, впоследствии второстепенным поэтом, был «произведен в студенты». В университете он учился два года; тогда же он выступил впервые в печати.
И своими семейными связями, и своими связями по гимназии и университету Фонвизин был подготовлен к вхождению в кружки передовой дворянской интеллигенции. Его отец был человеком петровского закала, чуждым грабительской жадности, охватившей помещиков в середине века. И отец и мать писателя были дворянами «хороших» родов, имевшими право считать себя аристократами, ничем не обязанными трону (мать Фонвизина была из рода Дмитриевых-Мамоновых). Впоследствии сестра Фонвизина вышла замуж за В. А. Аргамакова, один из родственников которого был директором Московского университета, а в доме другого жил и учился юноша Радищев. Фонвизин еще в ранней юности был знаком с некоторыми литераторами из круга Сумарокова и Хераскова. С самими Сумароковым и Херасковым он был довольно близок и в 1760-х годах и позднее. В университете Фонвизин учился с Н. И. Новиковым и со многими участниками кружка Хераскова. Он сам стал членом этого кружка, придавшего его
153
литературным дебютам серьезно-моралистический характер, несмотря на склонность Фонвизина к иронии, несмотря даже на некоторую распущенность, свойственную ему в это время, как и большинству молодежи тех лет.
В 1761 г., шестнадцати лет от роду, Фонвизин выступил в печати в качестве переводчика книги Л. Гольберга «Басни нравоучительные», изданной при университете; к этому же году относится и перевод очерка «Правосудный Юпитер», помещенный в журнале Хераскова «Полезное увеселение». В следующем году он поместил несколько переводов в журнале профессора Рейхеля «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия». В это время он, видимо, занимался переводами и вообще литературным трудом почти профессионально. Во всяком случае, литературным занятиям он уделял очень много времени. Повидимому тогда же Фонвизин перевел в стихах трагедию Вольтера «Альзира», один из ярких памятников борьбы великого ненавистника фанатизма с «культурой», подавляющей свободу человека. Перевод «стал делать много шума», как вспоминал впоследствии сам Фонвизин. Впрочем, текст перевода обнаруживает, что Фонвизин не только еще не вполне правильно понимал в это время французский язык, но и не совсем овладел свободной стихотворной речью. Очевидно, не художественные достоинства перевода (весьма скромные), а идейное содержание пьесы было причиной вызванного ею «шума». Перевод «Альзиры» не был издан в XVIII в., как и выполненный Фонвизиным тогда же перевод «Превращений» («Метаморфоз») Овидия. С того же 1762 г. начал печататься обширный перевод Фонвизина политико-нравоучительного романа Террасона «Геройская добродетель, или жизнь Сифа, царя Египетского» (4 части, 1762—1768). Это была книга в духе фенелонова «Телемака»; в ней перемешивалось изображение древнего Египта, как его представляли себе в XVIII в., с элементами авантюрного романа и, — более всего, — с поучениями царям и вельможам и с своеобразной утопией — изображением идеального патриархального государства и идеального государя-философа. Нет сомнения в том, что «Сиф» воспринимался во времена Фонвизина как книга политически смелая. Сам Фонвизин так излагает ее содержание в предисловии к своему переводу:
«Сие сочинение, разделенное на десять книг, в рассуждении исправления нравов есть весьма полезно. Египетский Сиф представлен здесь героем, почерпшим мудрость от нравоучения, через которое он, будучи еще в цветущей юности, в состоянии уже был делать другим наставления. Потом, пришед в совершенные лета и находясь по случаю в долговременном плене, употребил сие время в изыскании неизвестных стран, кои освободил от ужасных суеверий. При возвращении своем, побуждаем будучи геройскою добродетелью, избавил знатнейшую республику от неприятелей, приступивших уже к вратам градским. Но пришед в отечество, сделался он благодетелем тех, коих имел причину почитать себе злодеями; наконец, посвятил геройство благополучию общества».
Проза перевода «Сифа» не лучше стихов перевода «Альзиры». Семнадцатилетний Фонвизин упорно работает над своим языком, но еще не нашел ни своего стиля, ни своего понимания языковых проблем. Он ищет ощупью, экспериментирует, но читать его переводы трудно. Несомненный и довольно быстро осуществившийся (года в два) перелом в языке Фонвизина произошел в 1763—1764 гг., когда он стал работать под руководством и под явным влиянием Елагина, признанного в те годы мастера стиля.
Переходный характер имеет перевод повести Бартелеми «Любовь Кариты и Полидора», выполненный Фонвизиным в 1763 г. (или, может быть,
154
еще в 1762 г.). Эта повесть — нечто вроде стилизации в духе александрийских романов и, прежде всего, «Дафниса и Хлои».
В конце 1762 г. Фонвизин уволился из университета и поступил переводчиком в Коллегию иностранных дел. Юноша Фонвизин вполне пришелся ко двору в Коллегии. Его переводы составили ему определенную репутацию, так же, как его остроты, явно вольнодумные и дерзкие. Впоследствии он вспоминал об этом времени: «Острые слова мои носились по Москве, а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою... Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть». Вскоре Фонвизин был послан с небольшим дипломатическим поручением в Германию. Затем, в следующем году, он перешел на службу к кабинет-министру И. П. Елагину, заведовавшему театрами. Повидимому, Фонвизин избрал новую службу именно для того, чтобы стоять ближе к театру, уже тогда привлекавшему его творческое внимание.
Вокруг Елагина сгруппировался небольшой, но активный кружок литераторов, главным образом работавших для театра. Этот кружок поставил своей целью создать или, вернее, расширить репертуар русского театра, преимущественно за счет переводов иностранных комедий. При этом сам Елагин и его сотрудники имели в виду создание именно национального репертуара; они явственно испытывали на себе влияние новых идей буржуазного просвещения и оформлявшегося в это время сентиментализма с его интересом к национальной тематике и национальному стилю. Отсюда — доктрина, выдвинутая кружком Елагина и решительно высказанная в печати одним из его членов Лукиным, — о необходимости переделки заимствуемых с Запада пьес, «склонения их на наши нравы», замены чужих имен и обычаев своими, русскими. Отсюда же и тема, излюбленная в кружке: сатира против «чужебесия», против галломании, против забвения национальных традиций. Сам Елагин «склонил на русские нравы» комедию Гольберга «Jean de France» («Француз-русский»), в которой изобличается юноша, побывавший в Париже и вернувшийся на родину галломаном. Борьба с галломанией играет существенную роль в «Бригадире» Фонвизина, написанном, повидимому, в 1766 г. (роли Иванушки и Советницы). Тезис елагинского кружка о «склонении на наши нравы» Фонвизин осуществил в стихотворной драме «Корион» (1764): это — переделка драмы Грессе «Сидней»; Фонвизин дал слуге героя русское имя Андрей да и других действующих лиц назвал так, что они могут сойти за русских (Зиновия, Менандр); он перенес действие пьесы в подмосковную деревню, ввел в нее упоминания русских бытовых явлений. В пьесе сказались и передовые политические настроения Фонвизина. Он вставил в нее отсутствующий в оригинале диалог слуги Андрея с крестьянином, в котором с резкостью говорится о тяготах жизни крестьян, о поборах, о взятках, которые с них дерут, об избиениях их. «Корион» — психологическая драма; ее прообраз «Сидней» был одним из первых сентиментально-психологических произведений французской драматургии. Пьеса Фонвизина — не комедия в смысле Буало или Сумарокова, а именно драма, первая попытка перенести сентиментализм на русскую сцену. В ней повествуется о любовной тоске и вообще о меланхолии некоего дворянина Кориона, ставшего мизантропом и покинувшего свет. Он говорит:
Противен город мне, и двор, и весь сей свет:
Они наполнены премножеством сует.
Я отвращенье к ним жестокое имею;
Доволен буду я судьбиною моею,
Когда останусь здесь в спокойствии весь век
И буду от сует свободный человек.
155
В конце концов Корион принимает яд; но все кончается благополучно; возлюбленная возвращена Кориону, и Андрей объявляет, что он заменил яд водой и что, таким образом, Корион не отравился. Комедийная развязка не устраняет серьезного, даже трагического тона почти всей пьесы.
В высшей степени сентиментальный характер имеет и изданный в 1769 г. перевод Фонвизина повести Арно «Сидней и Силли, или благодеяние и благодарность», а также его перевод поэмы в прозе Битобе «Иосиф», вышедший в том же 1769 г. «Сидней и Силле» — типичная семейная повесть «английского» стиля, впрочем, не лишенная еще и приключенческого характера, но в основном посвященная патетическому изображению высоких добродетелей и лирических состояний. «Иосиф», появившийся на французском языке только в 1767 г. и сразу же снискавший значительный успех во всей Европе, — это лирическое повествование на библейскую тему, чрезвычайно трогательное, уделяющее много места именно поэтической передаче психологических состояний; поэма эта исполнена бесконечного умиления чрезвычайными добродетелями ее героев. В ней силен элемент руссоистической идеализации жизни первобытных пастухов и — в тесной связи с этим — вообще романтической идеализации древних народов. Самый склад поэмы — лирическая ритмическая проза, напоминающая и Геснера и даже Оссиана, имеет специфический сентиментально-романтический характер. Сам Фонвизин в своих мемуарах не без гордости писал, что повесть об Иосифе «послужила мне самому к извлечению слез у людей чувствительных. Ибо я знаю многих, кои, читая Иосифа, мною переведенного, проливали слезы».
Перевод «Иосифа» был выполнен Фонвизиным более совершенно, чем его переводы 1761—1763 гг. На этой новой работе Фонвизина сильно сказалось влияние Елагина. Елагин был пропагандистом «славенщины» в русской речи, торжественно-лирической окраски и ритмической организации прозы. Таким именно языком, притом весьма звучным и ясным при всей орнаментальности и славянизации, переведен «Иосиф». Стиль этого перевода близок также к величественному стилю «Нумы Помпилия» Хераскова и, в свою очередь, без сомнения, повлиял на сентиментально-патетический язык поздних романов Хераскова, например, «Кадма и Гармонии».
Живя в Петербурге, Фонвизин встречался с Сумароковым, бывал усердно в «свете», но, пожалуй, больше всего увлекался общением с вольнодумцами, которых немало появилось в обществе в это время и которые открыто проповедывали свои взгляды, пользуясь относительной свободой мнений первых лет царствования Екатерины II. В это именно время (1763—1766) Фонвизин испытал на себе наиболее значительное влияние философских идей Просвещения, шедших из Франции. К восприятию их он был вполне подготовлен в Московском университете и в кружке Хераскова, в те годы разделявшего деистические взгляды умеренных просветителей. В своих мемуарах Фонвизин писал: «В то же самое время вступил я в тесную дружбу с одним князем, молодым писателем [Ф. А. Козловским], и вошел в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтено».
Это было написано в конце жизни Фонвизина, когда он под влиянием тяжкой болезни впал в истерическую религиозность. Поэтому Фонвизин
156
излагает события не совсем точно. Козловский, поэт, ученик Сумарокова и приятель Хераскова, был близок со всем кругом, воспитавшим Фонвизина. Сам Фонвизин не только острил, но весьма серьезно сомневался в бытии бога. Далее Фонвизин старается доказать, что он отказался от философского вольномыслия уже в 1766 г. Действительно, в это время он сделал попытку пересмотреть свое отношение к вопросам религии и отказаться от «крайностей» материализма и атеизма. Однако он не вернулся к церковности, остановившись, повидимому, на философском деизме, удовлетворявшем большинство передовых людей XVIII в. России, как он удовлетворял и на Западе таких мыслителей, как Монтескье, а позднее даже Мабли. В 1766 г. Фонвизин в чрезвычайно остроумном письме к сестре весело и совершенно неприкрыто издевался над церковными обрядами, над всяческой церковной мистикой, и все это по поводу наступавшей пасхи.
В «Бригадире», написанном тоже в 1766 г., в роли Советника Фонвизин дал злую и очень смелую по тем временам сатиру на церковность. Антицерковный характер имеет и сатира на «кутейников» в «Недоросле» (роль Кутейкина), еще в 1780—1783 гг. Первый же набросок «Недоросля», относящийся, примерно, к 1763—1764 гг., густо насыщен сатирой не только на старозаветную церковную обрядность, но и вообще на религиозность, для Фонвизина этого времени неразрывно связанную с дикостью, невежеством отсталых провинциальных помещиков. Для современников Фонвизин остался безбожником навсегда. Дворянский сатирик Д. П. Горчаков неодобрительно писал о том, что Фонвизин шутил «священным писанием», очевидно, имея в виду именно «Бригадира» и «Недоросля». Да и сам Фонвизин напечатал в 1769 г. свое антирелигиозное стихотворение «Послание к слугам». Однако в том же «Бригадире» есть и ноты борьбы против активного материализма. Взгляды французских материалистов на взаимоотношения детей и родителей, мысль о том, что дети ничем не обязаны родителям и что родители не должны иметь власти над детьми, Фонвизин заставил идиотским образом излагать своего Иванушку. Между тем эта мысль не прошла мимо русских вольнодумцев. Излагая эту мысль в Комиссии 1767—1768 гг., Я. П. Козельский требовал соответственного изменения законодательства. Эту же мысль страстно защищал Федор Козельский в стихотворении «Размышление о любви отечества». Ее же отстаивал Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», в главе «Крестцы». А все же Фонвизин и в 1760-х, и в 1770-х годах, и даже позднее сам оставался вольнодумцем.
Тем менее мог и хотел Фонвизин отказаться от своего политического вольномыслия. Политические взгляды и искания Фонвизина в 1760-е годы, несомненно, шли по линии разработки передового мировоззрения его времени. В 1766 г. был напечатан его перевод книги «Торгующее дворянство, противуположенное дворянству военному, или два рассуждения о том, служит ли то к благополучию государства, чтобы дворянство вступало в купечество. С прибавлением особливого о том же рассуждения г. Юстия». История этой книги такова. В 1754 г. маркиз де Лассе выступил в парижском журнале со статьей, в которой, признавая торговлю делом необходимым, а купечество — классом весьма важным, протестовал в то же время против разрешения дворянам торговать. Его взгляды совпадали со взглядами Монтескье, изложенными в «О духе законов». В 1756 г. аббатКуайе выпустил книгу о торгующем дворянстве, направленную против статьи де Лассе; он доказывал пользу для государства и для самого дворянства от вовлечения дворян в капиталистические операции. В том же году
157
появился ответ аббату Куайе, анонимная книжка «Военное дворяство, или французский патриот». Затем немецкий юрист и государствовед Юсти, весьма популярный в России в 1760-х — 1770-х годах, перевел статью де Лассе и книжку Куайе на немецкий язык и прибавил к ним свои замечания, в которых поддерживал точку зрения Куайе. Книгу Юсти и начал переводить Фонвизин, но издал только первую часть ее, трактат Куайе и предисловие Юсти. Почему издание не завершилось и был ли выполнен перевод второй части книги, неизвестно. Остается неясной и позиция самого Фонвизина в данном споре, поскольку он ограничивался ролью переводчика и собирался представить читателю обе точки зрения. Во всяком случае, перевод «Торгующего дворянства» показывает, что Фонвизина интересовали уже в середине 1760-х годов конкретные вопросы социально-политической жизни. Книга же Куайе не могла не привлечь его внимания и не вызвать его сочувствия резкой критикой дворянства, его нравов, понятий, жизни, — критикой, вполне относившейся и к русскому «сословию благородных». Книга эта — гимн буржуазии, прославление грядущего капитализма. Куайе хочет, чтобы буржуазия ликвидировала дворянские предрассудки; дворянство потеряло силу, оно нищает. К временам феодальной власти дворянства Куайе относится отрицательно.
Около 1763—1766 гг. началось оригинальное творчество Фонвизина, одновременно и в области поэзии и в области драматургии. В дошедших до нас произведениях этой поры явственно видны идеологические установки вольномыслия молодого Фонвизина.
Фонвизин писал стихи только в молодости. Но он написал их больше, чем до нас дошло. А дошло до нас полностью всего два стихотворения и еще два в отрывках («Послание к Ямщикову» и сатира «К уму моему»), если не считать незначительной эпиграммы и приписываемого Фонвизину отрывка послания к Княжнину. Но и эти два полностью сохранившихся и напечатанных при жизни Фонвизина стихотворения дают ясное представление о его поэтическом творчестве. Фонвизин-поэт был исключительно сатириком, и сатира его имела достаточно острое направление. Его стихотворения ходили по рукам и имели успех; их хорошо знали в обеих столицах.
Первое из дошедших до нас стихотворений Фонвизина — это басня-сатира «Лисица-казнодей» (казнодей значит проповедник). Это ядовитое и остроумное разоблачение официальных похвал монархам в торжественных речах, одах и т. п. С необычайной смелостью Фонвизин нападает здесь на русских деспотов. В басне рассказывается следующее: царь-лев умер. Лисица-казнодей произносит на его похоронах панегирик его добродетелям и прекрасному его правлению. Это — злая пародия на настоящие панегирики царям. Далее идет убийственная характеристика тиранической деятельности царя.
«О, лесть подлейшая», — шепнул Собаке Крот,
Я знал Льва коротко: он был пресущий скот.
И зол, и бестолков, и силой вышней власти
Он только насыщал свои тирански страсти...»
Так как эта басня написана около 1762—1763 гг., т. е. вскоре после смерти императрицы Елисаветы Петровны, то вполне возможно, что она имеет конкретного адресата. Если это так, ее сатирическая сила еще увеличивается. Во всяком случае, Фонвизин выступает в своей басне как ненавистник российской деспотии, российских политических порядков вообще и в то же время как ненавистник духовенства, елейно прославлявшего все то, что возмущало Фонвизина. Следует отметить, что Фонвизин почти до конца
158
своей жизни не изменил взглядам, выраженным в «Лисице-казнодее»; в 1787 г. он сам отдал басню для напечатания в журнале учеников благородного пансиона при Московском университете «Распускающийся цветок». «Лисица-казнодей» — стихотворение, по своему стилю близкое к сумароковской манере; Фонвизин, подобно Сумарокову, пишет совершенно свободным разговорным языком, не боится резкости выражений, называет вещи своими именами. Но есть и отличия от сумароковских басен. Во-первых, Фонвизин сохраняет александрийский стих, замененный уже у Сумарокова разностопным ямбом; во-вторых, он почти не дает речи от лица автора, тогда как у Сумарокова автор, длинно разговаривающий с читателем, выступает в баснях на первый план. Фонвизин и в своей басне — драматург. Он дает диалог, заполняющий почти всю басню. Наконец, басня Фонвизина почти совсем или даже совсем лишена сюжета и поэтому приближается к сатире. Эта особенность останется свойственной в дальнейшем почти всем прозаическим произведениям Фонвизина.
Все указанные черты своеобразия построения «Лисицы-казнодея» сохранены и во втором его стихотворении, диалоге-сатире, без всякого основания названном «Посланием к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке»; никакого послания здесь нет, а есть передача беседы автора с тремя слугами. Блестящее остроумие Фонвизина, проявившееся в «Лисице-казнодее», а потом расцветшее в его комедиях и в его сатирической прозе, свойственное Фонвизину владение меткими формулами и всеми богатствами живой русской речи торжествуют в «Послании» подлинную победу. Белинский сказал что оно «переживет вес толстые поэмы того времени».
В «Послании к слугам» Фонвизин выступает против основ церковного учения и против всяческих защитников религии, говоривших о божественной цели мироустройства; Фонвизин заявляет, что он не знает, на что создан свет, и что создан он, — во всяком случае, в части человеческого общества, — отвратительно, а вовсе не так мудро, как уверяли защитники религии и церкви.
Вот как рассуждает в фонвизинском послании кучер Ванька, с которым, очевидно, солидарен автор:
Попы стараются обманывать народ,
Слуги — дворецкого, дворецкие — господ.
Друг друга господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман.
До денег лакомы посадские дворяне,
Судьи, подьячие, солдаты и крестьяне.
Смиренны пастыри душ наших и сердец
Изволят собирать оброк с своих овец.
Овечки женятся, плодятся, умирают,
А пастыри притом карманы набивают,
За деньги чистые прощают всякий грех,
За деньги множество в раю сулят утех.
Но если говорить на свете правду можно,
То мнение мое скажу я вам не ложно:
За деньги самого всевышнего творца
Готовы обмануть и пастырь, и овца.
Что дурен здешний свет, то всякий понимает.
Да для чего он есть, того никто не знает.
«Послание к слугам» было написано около 1765—1766 гг. (напечатано впервые в 1769 г. и затем много раз переиздавалось). Еще раньше, около 1764 г., Фонвизин, как указано выше, начал писать комедию «Недоросль».
159
но не окончил ее. Это была пьеса о провинциальных дворянах, совершенно диких и невежественных, но весьма усердных по части церковных обрядов. Они очень плохо воспитывают своего сына Иванушку, вырастающего негодяем. Им противопоставлен культурный дворянин, давший образцовое образование своему сыну. Комедия должна была получиться довольно живая и забавная; язык ее — острый и реальный фонвизинский язык; но идейная глубина ее далеко отстоит от будущей знаменитой пьесы Фонвизина, носящей то же название.
В 1766 г. был написан «Бригадир». Фонвизин, обладавший, кроме литературного, еще и дарованием чтеца-актера, читал комедию при дворе и в гостиных знатных вельмож. Комедия имела большой успех. Никита Иванович Панин уловил в ней нотки, показавшие ему, что молодой автор ее — человек близких ему взглядов. Он познакомился с Фонвизиным, обласкал его, и «сердце мое с сей минуты к нему привержено стало», — вспоминал впоследствии Фонвизин.
Действительно в «Бригадире» уже довольно явственно заметно стремление молодого автора критиковать если не основы, то типические проявления всего строя жизни помещичьего класса, той «низовой массы» его, наиболее некультурной, отсталой и реакционной, которая поддерживала крепостническую политику самодержавия. Именно дикость нравов, тупоумие, развращенность, политическое неразумие дворянства были объектом остроумного изображения и разоблачения в «Бригадире». При этом Фонвизин видит опасность увлечения дворянства всем западным, наносной внешней «европеизации» быта, — и он нападает на галломанию, на презрение молодых дворян к здоровым началам отечественной культуры, к родному языку. Комедия Фонвизина проповедует идею национальной самобытности культуры и идею гражданского самосознания и подлинного просвещения. Само собой разумеется, что просветительская установка комедии была в то же время установкой политической; она требовала изменения форм жизни во имя идеала гражданственности и высокой моральной культуры. В то же время Фонвизин опирается в «Бригадире» на определенную социальную программу, пусть не развернутую, но достаточно ощутимую. Он против пролезания к власти подьячих, бюрократов. Советник — наиболее темная фигура во всей галлерее отрицательных образов комедии. Он не дворянин, с точки зрения Фонвизина. С другой стороны, сам Бригадир — бравый воин — не лишен симпатичных автору черт; он наделен умом, он подкупает своеобразным прямодушием. В отношении к Бригадиру Фонвизин применяет критику, отчасти дружескую; в отношении к Советнику он беспощаден, и это потому, конечно, что Бригадир — офицер: он делает, хоть и плохо, но настоящее дело, а Советник — бюрократ, взяточник, враг государственного блага, с точки зрения Фонвизина.
2
В 1769 году Фонвизин окончательно разошелся с окружением Елагина, да и с ним самим, и охладел к своей работе в придворном ведомстве. Его политические интересы и мысли влекли его в штаб дворянского либерализма, группировавшийся вокруг Н. И. Панина. Он перешел на службу в иностранную коллегию, руководимую Паниным, и быстро выдвинулся здесь. Вскоре он стал главным помощником своего начальника, занял ответственный пост секретаря коллегии (нечто вроде товарища министра иностранных дел), а затем и другом Панина. В годы напряженной работы в коллегии, поглощавшей целиком и время и силы Фонвизина, созрело
160
окончательно его политическое мировоззрение. Он стал одним из руководящих деятелей либеральной оппозиции 1770-х годов, причем в этой среде он занимал наиболее решительную позицию, видимо, отличавшуюся и от взглядов самого Панина; Фонвизин стремился к преодолению дворянских, помещичьих традиций, тяготевших над Паниным и его окружением; он двигался от этих традиций в сторону буржуазного демократизма и радикализма, хотя и он не смог порвать с дворянскими привычками мысли. Впрочем, перед лицом общего врага, крепостнической реакции и самодержавия, Фонвизин и Панин были союзниками, и их ближайшие стремления во многом совпадали.
Фонвизин сблизился и с друзьями Панина и с его братом, генералом Петром Ивановичем. Никита Панин очень дорожил Фонвизиным и как талантливым писателем, помогавшим оппозиции своим сатирическим пером, и как энергичным и усердным помощником в дипломатической работе. Получив от правительства в 1773 г. большие поместья, Панин подарил Фонвизину имение с тысячью с лишним душ. В среде русских дипломатов Фонвизин также пользовался значительным влиянием; к его помощи и поддержке они прибегали нередко в затруднительных случаях.
Именно в 1770-е годы дворянский либерализм вступает в активную борьбу с правительством, все более отчетливо становившимся на путь реакции, особенно после Пугачевского восстания и перехода власти в руки Потемкина. И Фонвизин все более резко выступает против правительственной политики. Он нее еще не может порвать с представлением о том, что наследственному днорянстиу, по его мнению долженствующему быть носителем культуры, чести, государственного разума, следует «возглавлять нацию», руководить страной. Но сравнение его идеала с реальным обликом помещичьего класса, дикого, жадного, жестокого и эгоистического, толкало Фонвизина к отрицанию тех форм помещичьего господства, которые он наблюдал вокруг себя. И он протестовал, как против рабства крестьян, так и против бесправия вообще, насаждавшегося полицейской системой самодержавия. Между тем Фонвизин остро ощущал глубокие сдвиги в общественном бытии и в общественном сознании. Буржуазная революция нависла над Европой. В России крестьянское восстание наполнило ужасом помещичье общество. Утопия, имевшая феодальную оболочку, была для Фонвизина спасительным миражем. Он хотел ее противопоставить напору враждебных сил, и сам не замечал того, что его утопия строилась не столько на основе знания фактов прошлого (это прошлое вовсе и не было похоже на мечту Фонвизина), сколько на основе идей будущего, идей, властно требовавших права на осуществление, идей просветительских, новых, передовых. Это выразилось и в том, что в публицистике Фонвизина, как и в его художественном творчестве, понятие о дворянине все более теряло узкосословный и даже узкоклассовый характер, превращаясь в понятие лучших людей отечества. Отсюда оставался один шаг до признания дворянских привилегий недействительными. Фонвизин не сделал этого шага, но он подготовил его. Он попытался создать компромисс между помещичьими правами и «естественным правом» просветителей, готовивших французскую революцию. Компромисс не мог удаться. Надо было или отказаться от идеи народного блага, или же понять ее так, по крайней мере, как ее поняли декабристы. Фонвизин не мог сделать ни того, ни другого.
Подобно Сумарокову, подобно большинству передовых политических мыслителей его времени, Фонвизин опирается в своих взглядах на учения французских просветителей. В основе его концепции идеального государства лежат взгляды Монтескье. Но если Монтескье, рисуя различные типы
161
государственного устройства, готов предпочесть буржуазную демократию, с ее движущим принципом — добродетелью, аристократической ограниченной монархии, движущая пружина которой, по Монтескье, честь, — Фонвизин пытается примирить оба принципа. Он считает, что возможен, и в частности для России возможен, средний тип государства — ограниченная твердыми законами монархия, допускающая развитие буржуазной демократии и в то же время сохраняющая преобладание дворянства; при этом он считает, что в таком идеальном, по его мнению, государстве принципом действий человека и гражданина должны быть и добродетель и честь, т. е. он стремится к утопии, объединяющей признаки гражданской свободы с привилегиями, долженствующими быть гарантией от деспотических поползновений центральной власти.
Без сомнения, Фонвизин не пошел далее парламентских чаяний умеренных просветителей; революционно-демократическое мировоззрение Руссо или Мабли в своих конечных выводах ему чуждо. Но он взял кое-что и от Руссо.
Близка Фонвизину эклектическая система Юсти. Эта система изложена в книге Юсти «Существенное изображение естества народных обществ и всякого рода законов», в русском переводе Авр. Волкова вышедшей в свет в 1770 г. Юсти во многом следует за Монтескье, но в некоторых существенных пунктах вступает с ним в спор. Он старается при этом примирить Монтескье с Руссо. Совсем по Руссо (по «Общественному договору») Юсти говорит, что источником всякой власти является только народ. По Руссо он доказывает, что люди не могут сами «подвергнуть себя строжайшему правлению», т. е. угнетению. «Люди были бы наибезумнейшие, когда бы добровольно и с намерением променяли неоцененное свое благо, то есть вольность, на рабство». Его тезис таков: «Люди не могли никогда иметь воли покориться необузданной власти другого»; это — тезис Руссо.
«Каждый правитель и правительство, принуждающие подданных своих по одному своему своенравному хотению, делают таким образом истинное мучительство, ибо присвояют себе власть, им никогда не вверяемую, и прямо идущую против воли и намерения, сопрягающих людей в гражданских учреждениях».
Из этих положений Руссо сделал последовательный вывод: он доказал этим право народа на революцию. И вот тут-то Юсти и отступил от Руссо, отказался от его вывода. Этот пункт чрезвычайно важен, — и он явно соответствует позиции Фонвизина. Юсти пишет:
«Когда же, наконец, народ находится в крайнем страхе порабощения от наружных неприятелей, коим противиться невозможно, или от худых поступков правительства, то в таком случае естественным образом основательная власть народа возобновляется. Ибо когда народ увидит, что средство и образ, для употребления соединенных оного сил предустановленные, намерению нимало не способствуют, и государство уже к падению наклоняется, то в таком случае будет несогласно с пользою общества, ежели оно в медленности и малодушии станет ожидать своей погибели, но вместо того долженствует народ сам рассмотреть тогда собственные свои надобности и делать полезные заключения. Всякая власть от другого учреждения по естеству вещи тогда престает, и возвращается к своему началу, как скоро явно окажется, что сия установленная власть намерению своему нимало поспешествовать не может, или не поспешествует...
Между тем можно весьма погрешить, когда кто из сего заключить похочет, что основательная власть народа вознесена над деятельною верховною
162
властию, и потому право имеет присвоить себе в довольно важных случаях судительное познание и верх над последнею. Такое погрешительное учинили англичане заключение из основательныя сея власти и величества народа, как они в прежнем веке короля своего Карла I пред суд позвали, осудили и действительно казнили; однако тем незагладимое пятно в истории сделали. Погрешность наиглавнейше состоит в том, когда себе вообразим, что народ по силе основательныя своея власти деятельную власть законным или повелительным образом кому-нибудь поручает так, как господин своему подданному что-нибудь исполнить приказывает».
Именно таким компромиссом объясняется и политическая позиция Фонвизина. Он не хочет революции, боится народного восстания, считает нужным сделать все, чтобы предотвратить его. Но в то же время он считает, что «худые поступки правительства» лишают его права на поддержку и что необходимо вмешательство подданных в дела государства. Отсюда — заговорщический характер их действий, не переходящий, в революционный.
Юсти — лютый враг тирании; он требует ограничения монархии. Он старается доказать монархам, что «честь и чин государя не происходят от неограниченныя власти». Он требует, чтобы гарантией свободы в монархии (т. е. ограниченной монархии) были выборные от народа «поверенные».
Говоря о формах государственного правления, Юсти вступает в полемику с Монтескье, установившим три такие формы: деспотию, монархию и республику. Юсти утверждает, что деспотии как особой формы государства не существует, так как деспотия — не государство, а преступление. «Вообще насильственное начальство [так переведено здесь слово — деспотия] невозможно признавать особливым правления образом, оно ничто иное есть, как злоупотребление власти единоначалия [т. е. монархии], или такое единоначалие, которое не имеет предметом намерения государства и, следовательно, мучительски правительствует... Злоупотребление же не есть и быть не может особым родом правления».
В сущности так же смотрел на дело Фонвизин, если он озаглавил так называемое «Завещание Панина», сочинение о пагубности именно деспотии в России, так: «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей».
Далее Юсти возражает Монтескье, считавшему, что наследственное дворянство есть неотъемлемый атрибут монархии и что оно гарантирует ее от перерождения в деспотию.
«Исключая одну Турцию, все деспотические государства имеют наследственное и знатное благородство, как-то: Япония, Индия, Сиам, Цейлон и прочие. Но нигде благородство деспотству препятствовать не могло. Что ему делать, когда оно утеснено, и когда правитель всю возможную власть себе присвоил? Сыскивается всегда довольно таких людей, которые для корысти своей бывают орудиями к порабощению других».
Очевидно, что такое же положение было и в России. Фонвизин (и Панин) признавал, — например в «Завещании Панина», — что «благородство» в России утеснено деспотией, что оно само по себе оказалось бессильным предотвратить насилие деспотии. Следовательно, и в этом существенном пункте Фонвизин согласен с Юсти.
Юсти ненавидит деспотию не менее Монтескье. При этом его яркие и гневные тирады против деспотии очень близки и по содержанию, и по тону, и по стилистической манере к фонвизинским. Характерно, что и Юсти и Фонвизин особо выделяют и подчеркивают вопрос о фаворитизме, о
163
недостойных любимцах деспота, роль которых им представляется исключительно пагубной.
В то же время Фонвизин очень многими мыслями обязан и Монтескье. В центре его политической концепции, — как и у Монтескье, и у Юсти, — стоит ненависть к деспотии, к неограниченному «беззаконному» самодержавию. Деспотия для Фонвизина — это правительство Екатерины II, правительство Потемкина. «Царь, коего самовластие ничем не ограничено», — первый враг Фонвизина. Конституция, «фундаментальные законы» (по Монтескье) — первое его требование. Неприкосновенность «фундаментальных законов», ограничивающих деспотию, должна гарантироваться свободой граждан, и, прежде всего, — свободой дворянства. Само по себе дворянство должно руководиться не узко классовым эгоизмом, а честью и добродетелью, должно быть культурным, идеальным сословием лучших граждан страны, по образцу Правдина и Стародума.
«Фундаментальные законы», ограничивающие монархию, должны, с другой стороны, определять границы власти дворян над крестьянами, и гарантией неприкосновенности крестьянских прав является монарх, правительство. Такова утопия Фонвизина: в стране нет рабов, нет и деспота; люди не принадлежат людям, а все являются слугами государства; крестьяне кормят все государство и в том числе дворян; дело дворян руководить крестьянами и всей страной. Власть царя и свобода дворянства уравновешиваются. Это была попытка применить государственное учение просветителей к крепостнической стране, попытка безнадежная. Но крушение этой попытки выявило в ней то, что было в ней существенного — борьбу с рабством, борьбу с деспотией. Пусть это была война во имя мечты. Мечта рассеялась, война с самодержавием, с рабовладением осталась.
Конкретная, практическая социальная программа Фонвизина явствует из его записки «Краткое изъяснение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». Первая часть этой записки представляет перевод, а вторая — почти целиком оригинальное сочинение Фонвизина. Записка не была напечатана в XVIII в., да и не предназначалась, вероятно, для печати. Анонимный текст ее сохранился в архиве Воронцовых среди бумаг Н. И. Панина. Авторство Фонвизина бесспорно устанавливается на основании недвусмысленного указания П. А. Вяземского, человека и исследователя весьма осведомленного, и ясных языковых признаков (напечатана записка анонимно в «Архиве кн. Воронцова», т. XXVI, 1882; потом не переиздавалась). Первая часть записки — панегирик французскому дворянству, его усердной службе отечеству, его свободе, — панегирик, сам по себе мало содержательный. Для Фонвизина он мог представлять интерес как противопоставление свободы, гордости, чести французских дворян низкопоклонству и угнетению русских.
Вторая часть записки названа «Рассуждение о третьем чине». Здесь дана апология буржуазии. Правда, автор считает, что глава государства — дворянство; о третьем чине он говорит двойственно: «он — душа общества; он политическому корпусу есть то, что желудок человеческому».
Уделяя третьему сословию подчиненное место, ниже дворянства, автор все же всячески прославляет его.
«Народ земледельчеством своим производит плоды, различных сортов товары, первые материи богатства. Но третий чин, составляя одно с народом, от коего происходит сам и который оного привлекает, старается о мануфактурах, устанавливает промены вещей, оценивает товары, учреждает
164
оных расходы. Словом, он делает комерции и производит счастие благородных».
«Есть некоторые из благородных, кои успели в науках, имевших от них покровительство; но третий сей чин есть убежище наук и освященное место человеческого познания. Нет такого рода заслуг и добродетели, которых бы не производил третий чин. Кольберт, Вобан, Розе, Корнейль, Расин, Мольер были все от третьего чина. Он произвел великих ораторов, великих стихотворцев и великих министров. Медики, хирургики, физики, натуралисты, живописцы, рещики, гравировальщики, золотарики, словом, все художники во всех родах имеют свое происхождение от третьего чина. Во внутренности оного произошли те славные банкиры, те великие купцы, кои повелевают торгом во всем свете и кои бывают помощию великих государств. Благородные имеют без сомнения похвальные качества, но иногда не достает им случая производить оные в действо. Напротив того, третий чин упражняется ежедневно в благоразумии, честности, изобильном вспомоществовании, точности, постоянстве, терпении и правосудии».
«Всякая держава, в коей не находится третьего чина, есть несовершенна, сколь бы она ни сильна была: сие весьма ясно видеть можно... Третий чин есть училище великих людей, в нем воспитываются добрые подданные во всех родах, коих государь находит при случае со всеми их способностями».
Далее Фонвизин переходит к положению и России. Он считает необходимым и нетрудным делом создание третьего сословия и в России. Источником его должен быть народ, крестьянство. «Надлежит только продавать освобождение всем знатным купцам и славным художникам» из крепостных. Надо создать цеха, и «каждый цех должен купить освобождение всем своим членам». Фонвизин считает необходимым допустить детей крепостных в учебные заведения и, в частности, в университет (вспомним это же требование Ломоносова).
«Равным образом все те, кои, упражняясь с успехом в науках, обучатся в университете вышним наукам, как то юриспруденции, философии, математике, медицине, хирургии, аптекарству и протчим полезным знаниям, должны иметь освобождение, по атестатам, кои они получать будут. Когда всякой в состоянии будет упражняться в том, к чему имеет дарование, составят все нечувствительно корпус третьего чина с протчими освобожденными, о коих выше упомянуто. Равным образом должно быть сему и в рассуждении художеств. Все те, кои в оных успеют, должны иметь освобождение. Что может возбудить более к добрым делам, как надежда почти уже известная получить вольность свою и найтить свое счастие?»
Фонвизин требует далее мероприятий для улучшения методов земледелия и развития вольнонаемного труда. Он заключает: «Словом, в России надлежит быть: 1) дворянству совсем вольному, 2) третьему чину совершенно освобожденному и 3) народу, упражняющемуся в земледельстве, хотя не совсем свободному, но по крайней мере имеющему надежду быть вольным, когда будут они такими земледельцами или такими художниками (т. е. ремесленниками), чтоб со временем могли привести в совершенство деревни или манифактуры господ своих».
Следовательно, Фонвизин требует ограничения крепостничества, предоставления права освобождения от него как по образованию, так и по купеческой и ремесленной деятельности; он считает необходимым предоставить крестьянству широкие права на получение высшего образования (оно было закрыто в XVIII в. для крестьян законом) и на занятие любой
165
деятельностью. Фонвизин придает огромное значение росту и свободе буржуазии, мелкой буржуазии и интеллигенции, вышедшей из народа (в сумме это и есть «третий чин»), хотя над всем возносит дворянство.
Вся эта программа имеет буржуазно-освободительный характер. Фонвизин хочет избегнуть революции постепенной социальной реформой; но самый характер реформы, предлагаемой им, направлен на реорганизацию социальной системы в том ее виде, который существовал в России.
В начале 1780-х годов политическая борьба правительства крепостников против дворянских либералов подходила к концу; Потемкин расправлялся круто и решительно с крамолой внутри помещичьего класса. В это именно время и литературно-общественная борьба Фонвизина с реакцией достигла своей высшей точки. В 1782 г. Н. И. Панин был лишен возможности действовать: он был уволен в отставку. Его разбил паралич, и в следующем году он умер. Перед его смертью Фонвизин написал один из самых ярких документов русской публицистики XVIII столетия, — политическое завещание Панина, как бы манифест всей его политической группы, содержащий суровый обвинительный акт против самодержавия Екатерины и Потемкина. Завещание это называлось так: «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей». Рассуждение предназначалось для будущего императора Павла Петровича, воспитанника Панина; оно должно было быть вручено ему лишь после вступления его на престол и быть руководством для него при проведении им реформ, предполагавшихся необходимыми.
Завещание Панина было целиком написано Фонвизиным, лишь «по мыслям» его друга и начальника, мыслям, без сомнения, разделявшимся Фонвизиным, хотя быть может и не исчерпывавшим основных положений его политического мировоззрения.
Завещание Панина написано вовсе не тем разговорным, домашним языком, который обработан с таким блестящим искусством, например, в письмах Фонвизина. В согласии с ответственным политическим заданием этого произведения, оно написано высоким языком, патетическим стилем, но в то же время оно чуждо школьной риторики елагинского стиля, повлиявшего на фонвизинский перевод «Иосифа» и в полной мере использованного Фонвизиным в его «Слове на выздоровление Павла Петровича» (1771). Язык «Завещания Панина» — ясный и в основном чистый русский язык. Стиль завещания — это совершенно новый ораторский стиль, страстный, использующий контрасты, периоды, остроумные и блестящие формулы и сентенции, стиль парламентского красноречия. Зарождался этот стиль когда-то у Феофана Прокоповича; затем он разрабатывался ораторами Комиссии 1767—1768 гг. Но только Фонвизин придал ему подлинное совершенство, сблизив его с принципами красноречия французских публицистов-просветителей. В сущности стиль «Завещания Панина» приближается к будущей манере ораторов французского Национального собрания и журналистов 1789—1793 гг.
«Завещание Панина» — это и памфлет и программа одновременно.
Прежде всего Панин и Фонвизин требуют ограничения самодержавия твердыми законами, обязательными для самого монарха и гарантированными гражданскими правами.
«Без непременных государственных законов не прочно ни состояние государства, ни состояние государя... Где же произвол одного есть закон верховный, там прочная связь и существовать не может, тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан. Тут подданные порабощены
166
государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу...» «Тут алчное корыстолюбие довершает общее развращение; головы занимаются одним промышлением средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет».
С величайшим негодованием обрушиваются Фонвизин и Панин на фаворитизм, — высшее, по их мнению, выражение разгула самодержавной власти, гнуснейшее порождение деспотии. Все зло самодержавного произвола воплотилось для них в облике некоронованного тирана Потемкина. О нем именно в «Завещании» сказаны беспощадные слова:
«Но если провидение в лютейшем своем гневе к человеческому роду попускает душою государя овладеть чудовищу, который все свое любочастие полагает в том, чтоб государство неминуемо было жертвой насильств и игралищем прихотей его; если все уродливые движения души влекут его первенствовать только богатством, титлом и силою вредить; если взор его, осанка, речь ничего другого не знаменуют, как: боготворите меня, я могу вас погубить; если беспредельная его власть над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению, сластолюбец, бесстыдник, ленивец, — тогда нравственная язва становится всеобщею, все сии пороки разливаются и заражают двор, город и наконец государство».
Панин и Фонвизин подвергают жестокой критике государственный строй царской и помещичьей России, отсталой крестьянской страны. Они выступают против полицейского гнета, подавляющего общественную инициативу; они протестуют против бесправия и угнетения.
Положение России пол властью неограниченного самодержавия Фонвизин рисует так:
«Теперь прсдстаинм себе государство, объемлющее пространство, какового ни одно на всем известном земном шаре не объемлет, и которого по мере его обширности нет в свете малолюднее; государство, раздробленное слишком на тридцать больших областей и состоящее, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут люди большею частию по нужде [т. е. в Петербурге], в другом большею частию по прихоти [т. е. в Москве] ... государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся и никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели [здесь имеется в виду восстание Пугачева]; государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от сотворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царския особы; государство, где есть все политические людей состояния, но где ни которое не имеет никаких преимуществ, и одно от другого пустым только именем различается;... государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьею над человеком другого состояния, где каждый, следственно, может быть завсегда или тиран, или жертва; государство, в котором почтеннейшее из всех состояний, долженствующее оборотом отечества купно с государем корпусом своим представлять нацию, руководствуемое одною честию, дворянство уже именем только существует и продается всякому подлецу, ограбившему отечество; где знатность, сия единственная цель благородныя души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавером, поглотившим всю пищу истинного любочестия, — государство не деспотическое: ибо нация никогда не отдавала себя государю в самовольное его управление
167
и всегда имела трибуналы гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое: ибо нет в нем фундаментальных законов; не аристократия: ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкался во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства».
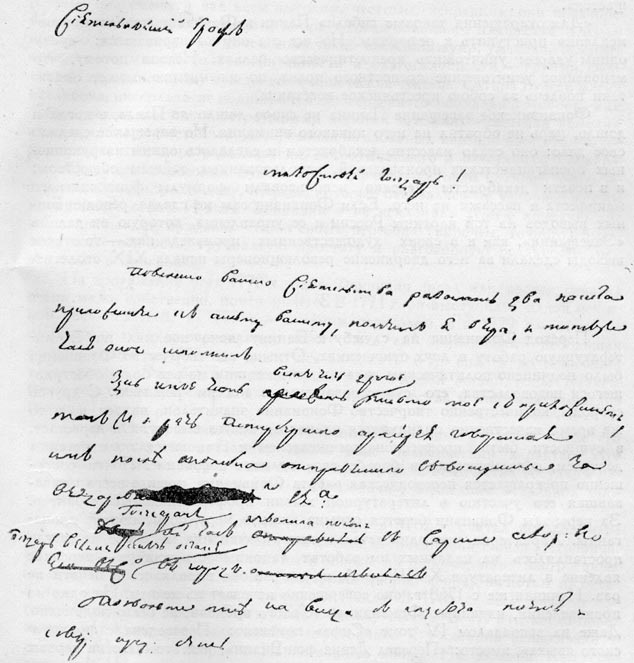
Автограф Д. И. Фонвизина. Письмо к П. И. Панину.
В этой исключительной по гражданскому подъему и ораторскому таланту тираде как бы заключены все особенности политической ориентации Фонвизина. Он считает, что дворянство, руководимое честью, должно «представлять нацию»; но в то же время он с благородной независимостью говорит о великом назначении этой нации, о рабстве народа, им ненавидимом, о бесправии крепостных, о необходимости законности; за его гневными приговорами встает идеал, который движет им.
168
Фонвизин и Панин считают, что царское правительство неустойчиво: «Такое положение долго и устоять не может; при крайнем ожесточении сердец... вдруг все устремляются расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство? Колосс, державшийся цепями. Цепи разрываются, Колосс упадает и сам собой разрушается. Деспотичество, рождающееся обыкновенно от анархии, весьма редко в нее опять не возвращается».
«Для отвращения таковые гибели» Панин и Фонвизин предлагают немедленно приступить к реформам. Но все же они оговариваются: сразу одним ударом уничтожить крепостничество нельзя. Нельзя потому, что мгновенное уничтожение крепостного права, по их мнению, может опять-таки повлечь за собою крестьянское восстание.
Фонвизинское завещание Панина не скоро дошло до Павла, а когда и дошло, царь не обратил на него никакого внимания. Но завещание сделало свое дело: оно стало известно декабристам и сделалось одним из рукописных пропагандистских произведений, использованных тайным обществом; и в печати декабристы нередко использовали формулы фонвизинского манифеста и пассажи из него. Если Фонвизин сам не сделал революционных выводов из той картины России и ее управления, которую он дал в «Завещании», как и в своих художественных произведениях, — то такие выводы сделали за него дворянские революционеры начала XIX столетия.
3
Переход Фонвизина на службу к Панину явно повлиял на его литературную работу в двух отношениях. Отныне все творчество Фонвизина было подчинено политическим задачам, вытекавшим из все более обострявшегося недовольства его существовавшим в России режимом. С другой стороны, количественно творчество Фонвизина значительно падает, но в то же время качественно поднимается на недосягаемую высоту. Он перестает, в сущности, быть профессионалом-писателем и становится политическим деятелем, использующим в борьбе свое великое дарование. Почти совершенно прекращается переводческая работа Фонвизина, прежде всего придававшая его участию в литературной жизни профессиональный характер. За переводы Фонвизин берется отныне лишь в меру потребностей пропаганды. Характерна еще одна деталь: имя Фонвизина и ранее не всегда проставлялось на изданных им работах (анонимность вообще — нередкое явление в литературе XVIII века), но все же оно появлялось в печати не раз. Начиная же с 1768 г. оно совершенно исчезает из печати. Ни одно из произведений, изданных Фонвизиным с этого времени, не было подписано. Даже на запоздалом IV томе «Сифа» помечено: «Переведена с французского языка», вместо: «Перевел Денис фон-Визин», как это было на первых трех томах.
Вероятно, в конце 1760-х годов, на переломе двух периодов жизни и творчества, «елагинского» и «панинского», Фонвизин начал писать комедию, от которой до нас дошел лишь отрывок, самое начало. О содержании комедии мы не можем судить. Любопытно, что в ней должен был действовать некий благоразумный человек с именем Стародум. Тогда же, повидимому, Фонвизин переводил комедию Буасси «Les dehors trompeurs ou l’homme du jour» («Обманчивая наружность, или человек по моде», 1740). До нас дошло три явления I действия этого перевода, но исчерпывается ли этим все переведенное Фонвизиным, неизвестно.
169
Комедия Буасси, пользовавшаяся значительным успехом во Франции и державшаяся там в репертуаре в течение всего XVIII в., могла заинтересовать Фонвизина своей идейной направленностью. Буасси дал в ней сатиру на петиметров, на «высший свет». Он нападает на пустоту, безделье, легкомыслие, распущенность нравов, беспринципность, некультурность светских людей; им незнакома серьезная мысль, они отказались от добродетели и разума, они смеются над всем высоким, честным, искренним; они пренебрегают всеми законами истины и добра во имя салонного изящества и изысканного распутства. А в своем доме такой светский жуир, умеющий пленить «общество» маской благовоспитанности и благосклонности, — грубый, черствый тиран, которому чужды все человеческие чувства. Сатира Буасси мягка, неглубока, нисколько не поднимается до серьезного социального обобщения. Его комедия, писанная остроумными легкими стихами, — светская комедия, изящная, благопристойная, построенная на забавных кви-про-кво; это — комедия в духе светского развлекателя, остроумнейшего и блестящего Реньяра.
Фонвизин переводил Буасси прозой, очевидно, ради большей реальности, подобно Дидро, Седену, Мерсье, которые отказались от условной формы комедийного стиха. И хотя Фонвизин и не «склонял» чужую комедию «на наши нравы», он придавал стилю своего перевода (впрочем, точного) бо́льшую естественность, грубоватую простоту и разговорную реальность, чем это было в оригинале.
На протяжении всех 1770-х годов Фонвизин писал или, вернее, печатал очень мало, собственно, почти ничего. В 1771 г. он выступил с одной печатной речью-статьей, в 1777 г. — с одним переводом, а в 1779 г. — с двумя не очень большими переводами; может быть, ему принадлежит небольшая серия очерков в 1772 г. — и это все за десять лет, вплоть до появления «Недоросля». Это были годы активной политической жизни, годы Пугачевского восстания, затем — годы реакции правительства и широких замыслов группы Панина.
Первое же оригинальное выступление Фонвизина в печати после его перехода на службу к Панину имело явно политический характер. Это было «Слово на выздоровление его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича», вышедшее отдельной брошюрой в 1771 г.
Общеизвестно, что Никита Панин еще в 1762 г. считал необходимым возвести на престол не Екатерину, а своего воспитанника Павла Петровича. Этот план не удался, но и Панины и многие из оппозиционно настроенных по отношению к правительству Екатерины дворян вообще и потом не оставляли мысли о возведении на престол Павла. В 1768 г. был раскрыт заговор Опочинина против Екатерины в пользу Павла. В 1771 г., когда положение в государстве было крайне неустойчиво и восстания вспыхивали в разных местах его, вопрос о Павле возник вновь. На далекой Камчатке ссыльный поляк Беньовский поднял бунт среди своих собратьев по ссылке и избрал в качестве лозунга, понятного им, именно Павла Петровича, которого он объявил «императорским величеством», т. е. императором. В Петербурге в это время подозрительность Екатерины по отношению к сыну и ее неприязнь к нему проявлялись при дворе открыто и довольно решительно. Именно в этом году Павел перенес опасную болезнь; боялись за его жизнь; особенно тревожились люди круга Панина, возлагавшие надежды на Павла. В августе Павел выздоровел, и по этому-то поводу Фонвизин выступил со своим словом, написанным в высокоторжественном стиле славянизированных ораторских произведений, образцы которых дал Ломоносов.
170
«Слово» Фонвизина — официальный документ; поэтому в нем высказан ряд комплиментов Екатерине, обязательных в таком выступлении. Но подчеркнутое выдвигание значения Павла Петровича как надежды и опоры всей страны, имело в 1771 г. определенное политическое значение, которое не могло быть приятно императрице. Фонвизин высказывается в тонах высокой гражданственности; он говорит о себе: «Я... исполню долг гражданина». У него идет речь не о подданных монарха, а о гражданах, о своих согражданах. О Павле он высказывается так, что становится ясным его отношение к нему, именно как к чаемому монарху. «Се Павел, отечества надежда, драгоценный и единый залог нашего спокойства...», «возможно ли без трепета воспомянуть те лютые часы, в кои едва не пресеклась жизнь толико драгоценная, жизнь толиким народам нужная. И как не ужасаясь привести себе на мысль те самые минуты, в кои носящие гром тучи разверзалися над Россами». Фонвизин повествует о том, как якобы весь народ горевал во время болезни Павла. «Не моя, но павлова жизнь, — говорил старец, — потребна к счастию детей моих». «Иной, в крепости лет своих, истинный сын отечества и усердный сердцем к Павлу, познав опасность предстоящую и возмутясь духом, устремляется к другу своему. «Трепещи», вопиет ему, «гибнет отечество наше: Павлова жизнь едва ли не в отчаянии, и что с нами будет, когда его лишимся?»
Здесь говорится как будто об императоре, уже царствующем. Далее Фонвизин рисует в идеальных тонах мужество самого Павла: «Он знал, что с сохранением жизни его сопряжено истинное благо народа, им любимого и ему усердного»; опять Павел выступает как монарх. Фонвизин обращается затем к Н. И. Панину с настоящим дифирамбом, тем более многозначительным, что уже в это время Екатерина искала случаев, чтобы избавиться от влияния опасного для нее вельможи (его брат, бывший его опорой в армии, был уже в это время в своей деревне в опале и под «присмотром» полиции).
«Но ты, который благим воспитанием вселил в него сие драгоценное нам чувство, муж истинного разума и честности, превыше нравов сего века! Твои Отечеству заслуги не могут быть забвенны. Ты вкоренил в душу его те добродетели, кои составляют счастие народа и должность государя. Ты дал сердцу его ощутить те священные узы, кои соединяют его с судьбою миллионов людей и кои миллионы людей с ним соединяют».
В конце «Слова» Фонвизин обращается к самому Павлу Петровичу и дает ему наставления в духе государственной доктрины Панина; он поучает «своего» монарха, и его поучения — это протест против реального правительства Екатерины, поступавшего обратно тому, чего хочет Фонвизин:
«Позволь, о государь! вещать тебе гласом всех моих сограждан. Сей глас произнесет тебе некие истины, достойные твоего внимания. Буди правосуден, милосерд, чувствителен к бедствиям людей, — и вечно в их сердцах ты будешь обитати. Не ищи, великий князь, другия себе славы. Любовь народа есть истинная слава государей. Буди властелином над страстями своими и помни, что тот не может владеть другими с славою, кто собой владеть не может. Внимай единой истине и чти лесть изменою. Тут нет верности к государю, где нет ее к истине. Почитай достоинства прямые и награждай заслуги. Словом, имей сердце отверсто для всех добродетелей — и будешь славен на земле и угоден небесам».
20 сентября 1772 г. исполнялось совершеннолетие Павла Петровича. С этой датой связывались новые надежды дворянской оппозиции на то, что Павел получит возможность влиять на государственные дела; вновь возник вопрос о смене российского монарха. В октябре того же года Новиков
171
перепечатал вновь «Слово на выздоровление Павла Петровича» в «Живописце», — «по желанию многих из моих читателей», как он указал сам в своем журнале. В данных обстоятельствах политически острый смысл «Слова» выступал с особой яркостью.
Вообще Фонвизин поддерживал в начале 1770-х годов какие-то отношения с Новиковым, с которым он был в это время близок в политическом смысле. В 1770 г. в новиковском «Пустомеле» было перепечатано «Послание к слугам» Фонвизина. В «Живописце» была помещена серия очерков, — переписка Фалалея, — которые, как это можно с большой степенью вероятности утверждать на основании исследований последнего времени, принадлежат перу Фонвизина. Этих очерков всего пять: первый из них, «Письмо уездного дворянина к его сыну», — это смелая сатира на помещиков. «Письмо» переносит нас в круг отношений и понятий Простаковых и Скотининых. «Уездный дворянин» пишет: «...с мужиков ты хоть кожу сдери, так не много прибыли. Я, кажется, и так не плошаю, да што ты изволишь сделать: пять дней ходят они на мою работу, да много ли в пять дней сделают; секу их нещадно, а все прибыли нет: год от году все больше мужики нищают; господь на нас прогневался...» И ниже: «И во святом писании сказано: друг другу тяготы носите, и тако исполните закон христов: они на нас работают, а мы их сечем, ежели станут лениться; так мы и равны, — да нашто они и крестьяне: его такое и дело, што работай без отдыху...» и т. д. В конце сообщается о собаке, которую укусила другая, бешеная: «Ну, да полно и было за ето людям; Сидоровна твоя всем кожу спустила: то-то проказница; я за то ее и люблю, што уж коли примется сечь, так отделает, перемен двадцать подадут...» Одно место Новиков выпустил в статье и сделал здесь примечание: «Я нечто выпустил из сего письма: такие мнения оскорбляют человечество». В «Письме» есть и пассаж для цензуры: «уездный дворянин» пишет о том, что «бояре» свихнулись: «недалеко от меня деревня Григория Григорьевича Орлова; так знаешь ли, по чему он с них [крестьян] берет, стыдно сказать, по полтора рубля с души, а угодьев-то сколько: и мужики какие богатые...» и т. д. Этот пассаж в то же время мог дать пример для подражания. Вообще, оброк, видимо, пропагандировался здесь, а барщина унижалась.
В дальнейших номерах «Живописца» были помещены письма самого Фалалея, сына «уездного дворянина», опять его отца, его матери и дяди. Все они вместе составляют как бы серию очерков, написанных с необычайной художественной силой и посвященных одной теме — изображению тупой, жестокой, полной суеверий жизни, хамства и гнусности мелкого провинциального дворянства. «Письма эти замечательны по мастерству своего лукавого юмора», — пишет Добролюбов.
«Письма к Фалалею» демонстрируют высшую точку развития искусства сатиры 1769—1774 гг., как в смысле полноценного умения нарисовать живой человеческий образ, окруженный и объясненный социальной средой, породившей его, как в смысле высокого гражданского просветительского пафоса, осуждения крепостнического варварства, так и в смысле самого языка, слога этого блестящего произведения.
После 1771—1772 гг. Фонвизин молчит около пяти лет. Затем, в 1777 г., он выступает с переводом «Слова похвального Марку Аврелию» Тома, одного из французских просветителей. Фонвизин взялся за этот перевод, без сомнения, потому, что в произведении Тома были изложены его собственные взгляды на поведение идеального монарха и государственного деятеля вообще.
172
Под покровом скромной роли переводчика Фонвизин давал уроки будущему самодержцу Павлу Петровичу и в то же время имел возможность горько осудить практику Екатерины, столь непохожей на Марка Аврелия, изображенного в переведенной книжке. В ней повествуется о том, как во время похорон Марка Аврелия «вдруг старец некий предстал среди народа... Все познали Аполлония, стоического философа..., а сверх того учитель и друг был Марка Аврелия». Аполлоний обращается с речью к римлянам и к Коммоду, наследнику Марка Аврелия. Последнему он говорит: «Днесь ты царствовати будешь. Уже ласкательство заразить тебя готово. Глас вольности, может быть, в последний раз услышится тобою». Глас вольности пред лицом тирана — такова формула всего творчества Фонвизина в 1770—1780-е годы.
Не случайны и упоминания с высоким пиететом имен Катона и Брута в «Слове». Старец Аполлоний цитирует сочинение Марка Аврелия. Последний сурово порицает в царе «сластолюбие», «роскошь». Но ведь их крепко возлюбила Екатерина. Марк Аврелий восклицает: «О боже! не создал ты ни царей быть утеснителями, ни народы быть утесненными». Марк Аврелий, подобно Фонвизину, противник рабства:
«Я начинаю вольностию, римляне! ибо вольность есть первое право человека, право повиноваться единым законам и кроме их ничего не бояться. Горе рабу, страшащемуся произносить ее имя! Горе той стране, где изречение его вменяется в преступление! Бедствие сие было при тиранах ваших, но что произвела тщетная их лютость? Погасила ль она в сердцах отцов ваших сие великодушное чувствование? Можно угнести его, но не истребить; оно пребывает везде, где души тверды; оно в оковах сохраняется, в темницах обитает, под ударами мучителей возрождается. Доколе оно в вас, о римляне! дотоле вы бодрственны и добродетельны пребудете».
Нет никакого сомнения в том, что эта яркая тирада в переводе Фонвизина имела прямое применение к нему самому, к его друзьям и единомышленникам. Далее идут весьма сильные инвективы in tyrannos — против «самовластия столь же ненавистного, но подлейшего любимцев государских»; автор резко порицает тирана, «который все в ничто преобращал для того, что все относил к единому себе, и казался вещающим к народам: имение ваше, кровь ваша, все мне принадлежит; страждите и умирайте! Я знаю, римляне, что никогда вы не давали, ниже могли давать сих ненавистных прав вашим государям; но когда они во едино время суть князи, судии, первосвященники и полководцы, то кому поставить власти их преграду, если они ее не поставят?»
Понятно, что Марк Аврелий, «вооруженный всей силой неограниченныя власти, слагает ее с себя добровольно», ограничивает могущество монарха, «умножает силу законов», словом, заменяет деспотию монархией в том духе; как это считал необходимым и Фонвизин. Марк Аврелий уважает и бедных людей и земледельцев. Он стремится не только к свободе, но и к равенству. «При нем низкая порода не исключала от должностей и достоинств государственных. Руки, влачившие плуг, водили при нем преторские стражи, и для избрания супруга своей дщери обратил он очи на помпеянина, который, вместо знатных предков, имел единое достоинство. Союз с добродетелью, вещал он, не может владыку земного обесславить».
Но Фонвизину приятно и то, что идеальный монарх «Слова» уважает дворянство, правда, понятое по-фонвизински: «Возвышавший сим образом
173
знаменитых плебеян, не мог забыть дворянства государственного, но хотел, чтоб оно знатность свою делами подкрепляло. Презирал его, если оно токмо что надменно; почитал его, если добродетельно; помогал ему, если оно бедно».
4
Таким образом, перевод «Слова» Тома явился как бы сводкой взглядов самого Фонвизина в области политики, сводкой не вполне точной, не имеющей характера программы, но достаточно определенной в ее общей тенденции.
Фонвизин перевел «Слово» высоким стилем; оно соприкасается в этом отношении с «Иосифом» и оригинальным «Словом на выздоровление Павла Петровича». Фонвизин сохранил и в 1777 г. от «елагинской» манеры стремление к ритмической организации сложной фразы, известный риторический налет ее. Но в то же время он постепенно отходил от напряженной славянизации, от перегрузки своей речи аппаратурой патетики и торжественности. В этом отношении уже «Слово» 1771 г. было шагом в направлении к простоте русской речи в условиях торжественного жанра. В переводе «Слова» Тома Фонвизин еще более упрощает язык, стараясь, однако, не утерять его торжественности. Манера «Слова» о Марке Аврелии уже недалека от языка идеальных героев «Недоросля», впрочем, отличающегося еще более «светским» характером, например, допускающего галлицизмы.
В 1777—1778 гг. Фонвизин путешествовал по Европе и довольно долго пробыл во Франции. Поводом к путешествию была болезнь жены Фонвизина, но можно думать, что он имел и некоторые дипломатические поручения к западным дворам, — не от русской императрицы, конечно, но от руководителя русской внешней политики Н. И. Панина, который вел свою дипломатию, не всегда спрашиваясь у Екатерины и не всегда в ее интересах. Во всяком случае, Фонвизин, в это время уже сам крупный деятель, «правая рука» Панина, путешествовал как магнат и был любезно принимаем коронованными особами и важными сановниками.
Литературным плодом путешествия была серия писем Фонвизина к П. И. Панину и параллельная ей серия писем его к сестре Федосье Ивановне. Это были не обычные частные письма, а скорее очерки, оформленные в виде писем. В особенности это относится к письмам к Петру Панину, для которых письма к сестре были иной раз как бы первыми набросками, эскизами. Письма к Панину Фонвизин тщательно обрабатывал стилистически. Несколько дошедших до нас черновиков показывают, с какой серьезностью Фонвизин подходил к разработке их языка. Затем Фонвизин использовал в этих письмах не только свои личные наблюдения, но и литературный материал, например, известную в то время книгу Дюкло «Размышления о нравах нашего времени», дающую довольно резкую осуждающую характеристику французского дворянского общества середины XVIII в. Дюкло вовсе не был радикалом; это был умеренный моралист, не больше; но его книга давала достаточно материала, удостоверяющего деградацию, разложение феодального уклада в самой психике, в быту, в нравах властвующего сословия, причем этот материал был изложен остроумно и живо. Впрочем, необходимо отметить, что рядом с умеренным Дюкло Фонвизин, повидимому, использовал для характеристик французского «общества» и гневные инвективы Руссо в письмах любовника Юлии из Парижа («Новая Элоиза»).
Письма Фонвизина из-за границы, и в частности письма к П. Панину, не были, конечно, предназначены для одного лица. Они должны были
174
играть роль своего рода публицистических статей, известных читателю в списках, как бы подспудной журналистики передового круга.
В смысле использования частного письма в качестве формы для публицистики, очерка или художественного произведения, Фонвизин включился в общеевропейское течение, характерное для XVIII в. Нужно напомнить, что традиции писем, предназначенных для распространения, для печати, была чрезвычайно развита в пору Возрождения, в частности в Италии и затем во Франции, где уже в XVII в. по стопам Аретино, Бембо или Каро усердно шли такие мастера художественного письма, как, например, Бальзак и Вуатюр. Однако эта традиция во французской литературе заглохла с падением изысканного стиля «précieux», представителями которого были и указанные писатели. Эпоха классицизма не способствовала расцвету литературного письма, отвергая ценность частной жизни человека и индивидуального восприятия мира в литературе и в идеологии вообще. Наоборот, по мере формирования в XVIII в. новой, сентиментальной или предромантической, эстетики вновь возникает интерес к письму как проявлению индивидуальности, психологическому признанию или зарисовке конкретных бытовых наблюдений. В 1762 г. был напечатан первый сборник знаменитых писем г-жи де Севинье, вскоре же заслуживших всеевропейскую славу. Севинье была еще тесно связана с традицией прециозной литературы; но ее письма, превосходно написанные, были наполнены бытовыми зарисовками, мелочами придворной и светской жизни, конкретными сведениями о людях и событиях. Эта их жизненность в свете новых задач антиклассического литературного движения была по-новому воспринята. Раннему сентиментализму оказались близки и нужны также лирические пассажи писем Севинье, говорящие о ее любви к дочери, живущей далеко от нее; материнское чувство, дружба матери и дочери, даже семейные детали, подробности личного быта — все эти мотивы включались в систему поисков новой литературы. Во второй половине XVIII в. письма стали привычной формой как рукописной, так и печатной художественной литературы и публицистики во Франции. Психологические и бытовые письма, пересыпанные размышлениями, но в основном являющиеся как бы очерками и материалами о душевной жизни, эскизами психологических романов, как, например, письма г-жи Леспинас или Aucce, хотя и не печатались при жизни их авторов, были известны в литературных кругах, как и письма, например, законодательницы вкуса, хозяйки салона, сыгравшего большую роль в истории просветительского движения, г-жи Дю Дефан. Исключительна была роль публицистических писем Вольтера. Его огромная переписка во многом заменяла газету, являлась орудием пропаганды идей фернейского мудреца и организации общественного мнения вокруг задач, им выдвигаемых. При цензурных затруднениях прессы письма вообще превращались в замену ее, письма политические и бытовые, содержавшие и информацию, и передовые статьи, и фельетоны. Так родились в середине века письма-газеты. В 1747 г. Рейналь начал писать серию писем к герцогине Саксенготской, и эта серия превратилась в рукописную газету «Nouvelles littéraires». С 1753 г. в виде писем к той же герцогине стал составлять свою «Correspondance littéraire, philosophique et critique» Мельхиор Гримм, — и скоро вытеснил своего конкурента Рейналя. «Correspondance» Гримма сделалась регулярной рукописной газетой, подписчиками которой были коронованные лица, в том числе Екатерина II. Фонвизин, без сомнения, читал «Корреспондецию» Гримма, так как без нее не могла обойтись коллегия иностранных дел. Гримм сообщал и освещал в своих письмах-листках все новости Парижа, как литературные и
175
театральные, так и политические и бытовые. «Издавалась» «Корреспонденция» Гримма вплоть до 1792 г. Она сделалась в конце концов «изданием» коллективным: когда Гримм уезжал из Парижа, ее номера писали Дидро, г-жа Эпине и др. В 1780-х гг. и в Германии появился рукописный журнал, но совсем другого характера. Это тоже были письма. Их писал Лафатер, рассылавший письма циркулярно многочисленным подписчикам, для которых они размножались от руки. Это были письма-рассуждения, моральные, психологические, религиозные, философские. В России получал эти письма, например, Карамзин.
В то же время письма становятся излюбленной формой художественной литературы, романа. Романы Ричардсона, «Перувианские письма» г-жи Графиньи (а еще раньше — «Персидские письма» Монтескье) сделали эту форму широко принятой во всех европейских литературах, причем именно у Ричардсона письма стали служить мотивировкой углубленного психологического анализа и широкого бытописания в романе. Завершителем этой манеры романов в письмах был Руссо со своей «Новой Элоизой». Наконец, соединение писем как литературно-обработанных документов и публицистики с сентиментальным романом в письмах оформилось в описаниях путешествий (тоже сентиментальный жанр) в виде писем. В английской литературе укажем, например, на «Взгляд на общество и нравы во Франции, Швейцарии и Германии» Дж. Мура (1778), во французском переводе названный «Письма английского путешественника» (1782), или на «Письма В. Кокса» о Швейцарии (франц. перевод — 1781); во французской литературе — «Письма об Италии» Дюпати (1785); в немецкой — «Письма одного саксонца из Швейцарии» (1785).
В России еще в середине XVIII в. частное письмо не воспринималось как материал художественной обработки (конечно, иначе было в Московской Руси). Превосходные письма Ломоносова не создавались им для читателей и предназначались только тем, кому они были адресованы. Характерно, что в 1750-х годах не установилась еще и самая терминология, и письмо не имело еще твердого названия; Сумароков, например, письмами по старинке называет литературные произведения, творения писателя. Собственно культура художественно обработанного письма начинается в России в пору сентиментализма (письма Карамзина) и расцветает в начале XIX в., когда создают циклы писем П. А. Вяземский, А. И. Тургенев н др. В начале этой традиции и стоит Фонвизин, цикл писем которого соотносится с западными явлениями этого же типа; в частности, журналистика в письмах (Гримм) — это и было то, что хотел создать Фонвизин и что он создал.
Белинский писал, что письма Фонвизина из Франции «по своему содержанию несравненно дельнее и важнее «Писем русского путешественника»; читая их, вы чувствуете уже начало французской революции в этой страшной картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником».
В самом деле, Фонвизин попал за границу н острый момент. Американская революция потрясла Францию, в которой уже назревал свой революционный взрыв. Фонвизин увидел во Франции разгул и развал феодальной власти, беспомощность и тиранию деспотического королевского правительства. С другой стороны он увидел растущую буржуазию, уже готовившуюся захватить власть, рост капиталистических отношений, пролетаризацию широких слоев городского населения. Все это вызывало его резкое неодобрение, раздражало его. Он презирает феодальную власть старой Франции и не доверяет прогрессу в капиталистических формах.
176
«Первое право каждого француза есть вольность; но истинное настоящее его состояние есть рабство; ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою; а если захочет пользоваться драгоценною своею вольностью, то должен будет умереть с голоду. Словом, — вольность есть пустое имя, и право сильного остается правом превыше всех законов», — писал Фонвизин П. И. Панину. Дворянские привычки мысли Фонвизина заставляют его неодобрительно отзываться об угождении французских дворян народу. С другой стороны продажность, произвол, неправосудие «высшего общества» возмущают его. Столь же отрицательно оценивает он и культурную жизнь Франции. Оставаясь на позициях деизма, он насмехается над церковным фанатизмом, над суеверием, над химерами, выгодными для духовенства. Но он озлобленно нападает и на философов-материалистов, самых передовых мыслителей запада в его время. «Д’Аламберты, Дидероты — в своем роде такие же шарлатаны, каких видел я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присоединяет беспримерное тщеславие». И в другом месте, в письме к сестре, Фонвизин пишет о французских писателях: «Все они, выключая весьма малое число, не только не заслуживают почтения, но достойны презрения». И опять: «Из всех ученых удивил меня Д’Аламберт. Я воображал лицо важное, почтенное, а нашел премизерную фигуру и преподленькую физиономию». Он спешит подвести под свое раздражение идейную базу: «Сколько я понимаю, вся система нынешних философов состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии, но они, которые ничему не верят, доказывают ли собою возможность своей системы? Кто из мудрых века сего, победив все предрассудки, остался честным человеком? Кто из них, отрицая бытие божие, не сделал интереса единым божеством своим и не готов жертвовать ему всею своею моралью?» Те же, в сущности, мысли вложил Фонвизин впоследствии в уста Стародума в «Недоросле».
Иначе относится Фонвизин к Руссо, наиболее последовательному из всех передовых мыслителей. Франции XVIII в. в смысле политического радикализма. Руссо, сам выступавший против материалистов, видимо, устраивает Фонвизина. Без сомнения, Руссо и как писатель-художник импонировал ему. Не случайно, что именно у Руссо заимствует Фонвизин некоторые черты характеристики французского общества. Еще через несколько лет, во время второго своего путешествия по Европе, Фонвизин писал сестре из Италии, что здесь «Вольтер, наш любимый Руссо и все почти умные авторы запрещены. Французская литература, можно сказать, здесь вовсе неизвестна».
Изучив Францию, ее государственный строй и экономику, ее искусство и быт, Фонвизин сделал вывод: «Славны бубны за горами, — вот прямая истина».
И в другом месте: «Если кто из моих сограждан, имеющих здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства и начнет в сердце своем от нас отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию. Здесь, конечно, узнает, но самым опытом скорее, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок и что в нашем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, однако, можно быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом».
177
Фонвизина интересует Франция не только и не столько сама по себе, сколько потому, что он надеется, изучив ее, лучше понять пути России. Любовь к России заставляет его искать лекарств от язв, разъедавших ее. За границей он убедился в том, что путь Франции, путь буржуазной революционности не отвечает его идеалам. Для России он хочет другого, чем то, что он увидел во Франции; чего именно он хочет — он и сам ясно не представляет себе. Но он знает, что в России плохо, и знает, что́ именно в России прежде всего плохо: рабство и самодержавно-чиновничья деспотия.
В 1786 г. Фонвизин больной уезжает за границу (в третье путешествие). Он записал в своем дневнике: «Совет венского моего медика Столя и мучительная электризация, которою меня бесполезно терзали, решили меня поспешить отъездом в чужие края и избавиться Москвы, которая стала мне ненавистна. Сия ненависть так глубоко в сердце мое вкоренилась, что, я думаю, по смерть не истребится». Москва для него — не только место физических мучений. Россия для него — прежде всего страна, отданная на поток и разграбление угнетателям. Он переехал границу: «и я возблагодарил внутренне бога, что он вынес меня из той земли, где я страдал столько душевно и телесно». Однако за границей он тоскует по родине.
В 1787 г. он вернулся в Россию: он подъехал к постоялому двору в бурю: «Дождь ливмя лил. Мы стучались у ворот тщетно; никто отпереть не хотел, и мы, простояв больше часа под дождем, приходили в отчаяние. Наконец, вышел на крыльцо хозяин и закричал: «Кто стучится?» — На сей вопрос провожавший нас мальчик кричал: «Отворяй: родня Потемкина». Лишь только произнес он сию ложь, в ту минуту ворота отворились, и мы въехали благополучно. Тут почувствовали мы, что возвратились в Россию».
Во имя того, чтобы отечество освободилось от Потемкина, от самоуправства, от деспотии, Фонвизин сражался всеми доступными ему средствами, в том числе и идеями французских просветителей, даже тех самых, которых он бранил.
1780—1783 гг. были годами, когда Екатерина II и Потемкин решили разделаться с оппозицией.
В эти годы был создан «Недоросль», написанный около 1781 г. и поставленный в 1782 г. (напечатан только в 1783 г.). Правительственные органы долго не пропускали комедию на сцену, и лишь хлопоты Н. И. Панина через Павла Петровича привели к ее постановке. Комедия имела шумный успех. Вот, что пишет Современник о первом представлении «Недоросля в бенефис И. А. Дмитревского, игравшего Стародума: «Несравненно театр был наполнен, и публика апплодировала пьесу метанием кошельков. Характер Мамы (т. е. роль мамки Еремеевны) играл... актер г. Шуйский к несравненному удовольствию зрителей. Сия комедия, наполненная замысловатыми изражениями и множеством действующих лиц, где каждый в своем характере изречениями различается, заслужила внимание от публики. Для сего и принята с отменным удовольствием от всех»... (Драматический словарь, 1787).
Сам Фонвизин удостоверяет, что публика вполне оценила значение тех идей, носителем которых в комедии является Стародум. В «Письме к Стародуму» (1788) он писал: «Я должен признаться, что за успех комедии моей Недоросль одолжен я Вашей особе».
Однако вовсе не вся публика одобряла «Недоросля». В правительственных кругах к комедии отнеслись отрицательно, — прежде всего по политическим мотивам, но отчасти и из-за реализма комедии, уяснявшего ее
178
сатирическую направленность. Характерно, что «Недорослю» пришлось выдержать цензурный натиск не только в столице. Одновременно с постановкой комедии в Петербурге, Фонвизин отдал ее для постановки в Москве «Содержателю» московского театра Медоксу. И вот московская цензура, в свою очередь, испугалась и не пропускала комедию. По этому поводу Фонвизин писал еще в сентябре 1782 г. Медоксу: «Мой брат, я надеюсь, передал Вам известный пакет и объяснил Вам, мой дорогой Медокс, решение, принятое мною, чтобы заставить замолкнуть все толки, возбужденные упрямством Вашего цензора. Ваше долгое молчание слишком ясно доказало мне неуспех ваших стараний получить разрешение. Я положил конец интриге и мне кажется, что тем я доказал самое достоверное наличие разрешения играть мою пьесу, поскольку актеры двора ее императорского величества представили ее с письменного разрешения правительства. Сыграли ее 24 сего месяца. Успех был полный... Вы можете уверить г. цензора, что во всей моей пьесе и, следовательно, и в местах, которые его сильно напугали, не было изменено ни одного слова». (Привожу письмо в переводе с французского).
Цензурные мытарства комедии Фонвизина отражали отрицательное отношение к ней правительственных кругов в целом. Сохранилось даже известие, что недоброжелательное отношение известной части, видимо, влиятельных лиц, привело к давлению на театральный коллектив и что актеры сначала не хотели играть «Недоросля». Д. И. Хвостов в сатире «К разуму» (подражание Буало) писал:
Лишь Недоросля как фон Визин написал,
Надменин автора исподтишка кусал,
Тут стрелы злобные отвсюду полетели,
Комедию играть актеры не хотели, —
и в примечании: «Недоросль фон Визина вытерпел большое гонение, что известно современникам и театральной архиве» («Невский зритель», 1820, ч. III, сентябрь). Также и Пимен Арапов в своей «Летописи русского театра» сообщает, что «Недоросль... обратил на себя негодование придворных».
Без сомнения, официальное отношение к «Недорослю» выражал и Богданович в своей эпиграмме: «От зрителя комедии Недоросля»; в этой эпиграмме Богданович формулирует недовольство реалистическим изображением дикого поместного быта в комедии Фонвизина:
Почтенный Стародум,
Услышав подлый шум,
Где баба непригоже
С ногтями лезет к роже.
Ушел скорей домой.
Писатель дорогой,
Прости, я сделал то же.
Следует заметить, что легенда, будто бы на первом представлении «Недоросля» Потемкин сказал Фонвизину: «Умри теперь, Денис, или хоть больше ничего уже не пиши: имя твое бессмертно будет по этой одной пьесе», — ложна. Она возникла в начале XIX в.; впервые она была изложена в «Русском вестнике» в 1808 г. (№ 8, стр. 264), но еще без уверенности в подлинности сообщаемого факта (и притом с более двусмысленной редакцией слов Потемкина). Легенда эта, невероятная уже вследствие активно враждебных отношений Потемкина и панинского секретаря Фонвизина, вследствие
179
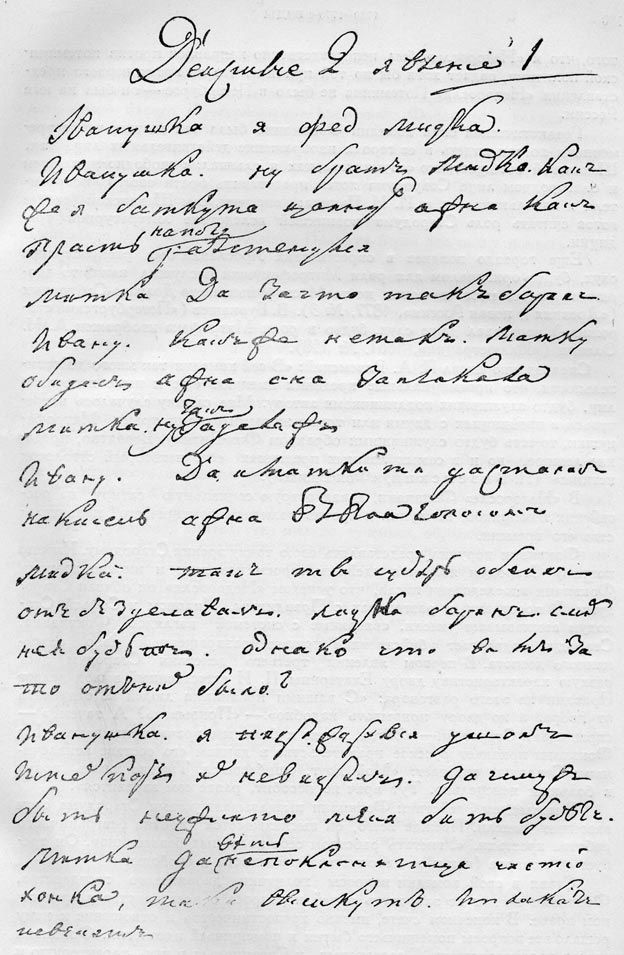
Автограф Д. И. Фонвизина. Ранний текст «Недоросля»
180
того, что и «Недоросль» был непосредственно направлен против потемкинской политики, падает хотя бы по той причине, что во время первого представления «Недоросля» Потемкина не было в Петербурге — он был на юге России.
Реалистическая сила комедии Фонвизина была так велика, что современники хотели видеть в ее героях изображение действительных лиц. Так, Шаховской сообщает, что «сочинитель, как я слышал, в свободно-мыслящем и благородном лице Стародума хотел представить брата своего покровителя и начальника», т. е. П. И. Панина; впрочем, сам Шаховской скорее готов считать роль Стародума возникшей вследствие литературной традиции.
Еще гораздо позднее в окрестностях Ярославля был распространен слух, будто оригиналом для роли Митрофанушки послужил какой-то дворянчик из тех мест, из семьи не то Мустафиных, не то Долгово-Сабуровых («Древняя и новая Россия», 1877, № 3). В. Бурнашев («Петербургский старожил») передавал даже слух, будто в роли Митрофана изображен А. Н. Оленин («Иллюстрация», 1861, № 158).
Справедливо писал П. А. Вяземский: «В сей комедии так много действительности, что провинциальные предания именуют еще и ныне несколько лиц, будто служивших подлинниками автору. Мне самому случалось встретиться в провинциях с двумя или тремя живыми экземплярами Митрофанушки, то-есть будто служившими образцом Фон-Визину. Вероятно, предание ложное, но и в самых ложных приданиях есть некоторый отголосок истины» (П.Вяземский, «Фон-Визин»).
В «Недоросле» Фонвизин, давая острую социальную сатиру на российских помещиком, выступил и против политики помещичьего правительства его времени.
Фонвизин поручил представлять свою точку зрения Стародуму. Именно поэтому Стародум является идейным героем комедии; и именно поэтому Фонвизин впоследствии писал, что успехом «Недоросля» он обязан Стародуму. В пространных разговорах с Правдиным, Милоном и Софьей Ста-родум высказывает мысли, связанные с системой взглядов Фонвизина. Стародум подвергает убийственной критике развращенный двор современного деспота. В первом явлении третьего действия Стародум дает резкую характеристику двору Екатерины II. И естественный вывод делает Правдин из этого разговора: «С вашими правилами людей не отпускать от двора, а ко двору призывать надобно». — «Призывать? А зачем?» — спрашивает Стародум. — «Затем, зачем к больным врача призывают». Но Фонвизин признает русское правительство в данном его составе неизлечимым; Стародум отвечает: «Мой друг, ошибаешься. Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится».
В последнем действии Фонвизин высказывает устами Стародума свои заветные мысли. Прежде всего, он высказывается против безграничного рабства крестьян. «Угнетать рабством себе подобных беззаконно». Он требует от монарха (как и от дворянства) законности и свободы.
Ставя в своей комедии вопросы политики дворянского государства, Фонвизин не мог не затронуть в ней и вопроса о крестьянстве и крепостном праве. В конечном счете, именно крепостничество и отношение к нему решало все вопросы помещичьего бытия и помещичьей идеологии. Фонвизин ввел в характеристику Простаковых и Скотининых и эту характерную и чрезвычайно важную черту: они — изверги-помещики. Простаковы и Скотинины не управляют крестьянами, а мучают и беззастенчиво грабят их,
181
стремясь выжать из них побольше доходов. Они доводят крепостную эксплоатацию до крайнего предела, разоряют крестьян.
И опять здесь выступает на сцену политика правительства; нельзя давать много власти Простаковым, — настаивает Фонвизин, — нельзя предоставлять им бесконтрольно хозяйничать даже у себя в поместьях, иначе они разорят страну, истощат ее, подорвут основу ее благосостояния. Дикие расправы с крепостными, безграничная эксплоатация их Простаковыми были делом опасным и в другом отношении. Фонвизин не мог не помнить о Пугачевском восстании.
Существенным моментом в идеологической направленности комедии Фонвизина было и ее заключение: Правдин берет под опеку поместье Простаковых.
Вопрос об опеке над помещиками-тиранами, о контроле над действиями помещика у себя в деревне был, в сущности, вопросом о возможности вмешательства правительства и закона в крепостнические отношения, вопросом о возможности ограничения крепостнического произвола, о введении крепостного права хоть в какие-нибудь нормы. Вопрос этот неоднократно выдвигался передовыми группами дворянства, требовавшими законодательного ограничения крепостничества. Правительство отвергало проекты закона об опеке. Фонвизин ставит этот вопрос со сцены. При этом развязка «Недоросля» — это изображение не того, что фактически делает власть, а того, что она должна делать и не делает.
Защищая Правдиных и нападая на Скотининых, Фонвизин подчеркивал культурность первых и некультурность вторых.
Воспитание для Фонвизина так же, как и для его учителей, это основа и оправдание дворянских привилегий.
Уже Сумароков считал, что именно «учение», образование, воспитание добродетели и разума отличают дворянина от его подданного-крестьянина. Херасков, ученик Сумарокова и отчасти учитель Фонвизина, также много писал о воспитании. Он требовал, чтобы дворянских детей не давали пестовать нянькам, мамкам, дядькам из крепостных слуг. Так и в «Недоросле» крепостная «мама» Еремеевна только вредит делу воспитания Митрофанушки. В пятом действии «Недоросля» Стародум нападает на дворян-отцов, «которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному».
Для Фонвизина тема воспитания — основная в его литературном творчестве О воспитании дворянских детей писал Фонвизин в комедии «Выбор гувернера», в статьях для журнала «Друг честных людей, или Стародум»; о недостатках своего собственного воспитания скорбел в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях»; о воспитании должна была итти речь в неоконченной комедии «Добрый наставник».
И «Недоросль» — прежде всего комедия о воспитании. В первом ее наброске, написанном за много лет до того, как закончен был общеизвестный текст комедии, это в особенности видно. Воспитание для Фонвизина — не только тема общих нравоучительных рассуждений, а животрепещущая злободневная политическая тема.
Фонвизинский Стародум говорит: «Дворянин! Недостойный быть дворянином — подлее его ничего на свете не знаю». Эти слова направлены против Простаковых и Скотининых. Но они направлены и против всего помещичьего класса в целом, как против него направлена в сущности вся комедия. В пылу борьбы с угнетателями отечества и народа Фонвизин переходил грани дворянского либерализма и специфики дворянского мировоззрения вообще. В самом деле, в чем заключалась основа
182
борьбы Фонвизина? Он выступал против самодержавия и рабства. А ведь это и были устои подавления народа, устои феодально-абсолютистского государства. Какова бы ни была положительная программа Фонвизина, в своей отрицательной программе он был поистине прогрессивен.
Фонвизин хотел противопоставить дурным дворянам идеальных дворян. Но ведь эти идеальные дворяне никак не были типическим явлением. В лице Стародума и Правдина Фонвизин хотел изобразить лучших людей своей среды, конечно, идеализировав их. Но дело в том, что его идеальные дворяне по своему мировоззрению уже не столько дворяне-помещики, сколько превосходные граждане того превосходного государства почти равных людей, в котором все работают на пользу общества. Напротив, Простаковы-Скотинины — это был подлинный портрет большинства класса помещиков, и их изображение было гневной сатирой на весь этот класс, на угнетателей народа. Таким образом, «Недоросль» фактически был обвинительным актом российскому крепостничеству.
5
1782—1783 годы, годы отставки и смерти Никиты Панина, годы последней отчаянной борьбы Фонвизина за свои идеалы против деспотии, были, как уже сказано, высшей точкой расцвета фонвизинской литературной деятельности. В 1782 г. был поставлен и в 1783 г. напечатан «Недоросль», в 1783 г. было написано так называемое «Завещание» Панина. В том же 1783 г. Фонвизин выступил с рядом очерков в правительственном органе, журнале «Собеседник любителей российского слова», и эти его выступления привели его к открытому столкновению с императрицей.
«Собеседник», начавший выходить именно в 1783 г., издавался при Российской Академии под наблюдением и при ближайшем участии Екатерины II. Сама Екатерина печатала в нем из номера в номер по частям свои «Записки касательно Российской истории» и свои фельетоны под общим серийным названием «Были и небылицы», в которых императрица делала попытки писать остроумно и легко; однако, фельетоны получались тяжеловесные. И вот рядом с этими изделиями монаршего пера стали появляться в журнале блестящие, острые статьи Фонвизина.
В первом номере «Собеседника» был напечатан анонимно «Опыт российского сословника» Фонвизина. Это небольшая работа, дающая тонкий семантический анализ оттенкам значений синонимов.
Фонвизин подбирает примеры нарочито: «Сколько судей, которые, не имев о делах ясного понятия, подавали на своем роду весьма много мнений, в которых мало мыслей». «Не действуют законы тамо, где обиженный притесняется». «Сумасброд весьма опасен, когда в силе». «Глупцы смешны в знати». «В низком состоянии можно иметь благороднейшую душу, равно как и весьма большой барин может быть весьма подлый человек... Презрение знатного подлеца к добрым людям низкого состояния есть зрелище, унижающее человечество».
Итак, сотрудникам Екатерины досталось в синонимах Фонвизина. Но вот он пишет о самой императрице; это — пример на синонимы «основать, учредить, установить, устроить». «В России Екатерина II основала общество благородных девиц, учредила наместничества, установила совестный суд и устроила благочиние». Невозможно не видеть в этой тираде издевательства, насмешки, пародии. Вместо обычных и ставших обязательными заявлений о
183
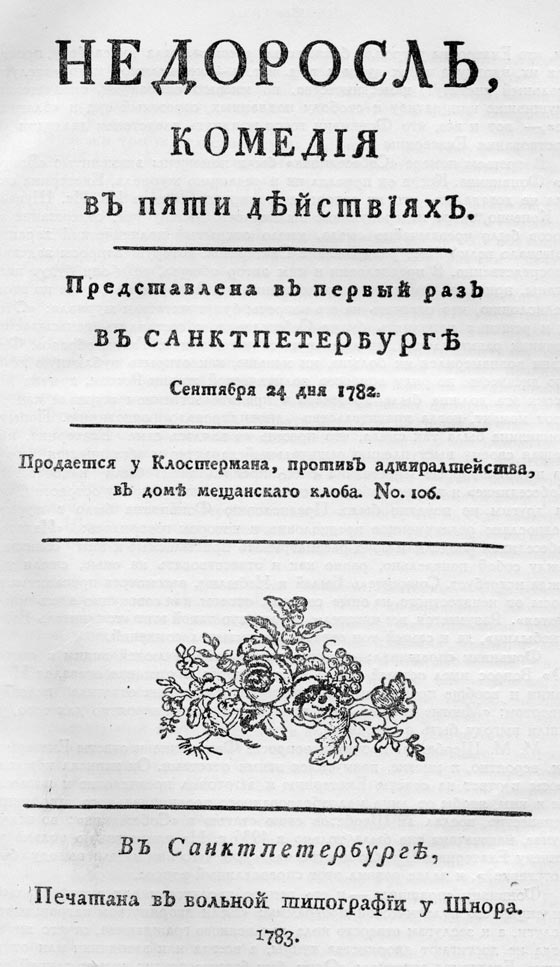
Д. И. Фонвизин, «Недоросль», Титульный лист
184
том, что Екатерина устроила блаженство россиян, дала им свободу, просветила их, вдохнула в них души и т. д. и т. д. — немыслимо мало «заслуг»: Смольный институт, наместничества, по мнению оппозиции, окончательно задушившие инициативу и свободу подданных, совестный суд и «благочиние», — вот и все, что Фонвизин готов признать следствием двадцати лет царствования Екатерины II.
В третьем номере «Собеседника» были помещены знаменитые «Вопросы» Фонвизина. Когда он прислал их в редакцию журнала, Екатерина сначала не догадалась, кто их автор; ее подозрение пало на Ив. Ив. Шувалова. Конечно, скоро недоразумение выяснилось. Между тем, содержание вопросов было чрезвычайно смело, имело открытый политический характер и вызвало величайшее раздражение Екатерины, которую вопросы задевали непосредственно. В предисловии к ним автор обещал, если они будут напечатаны, прислать немедленно продолжение их. Автор думал, судя по этому предисловию, что отвечать на его вопросы будут читатели журнала: «Ответы и решения наполнять будут Собеседника и составлять неизсыхаемый источник размышлений, извлекающих со дна истину». Таким образом Фонвизин вознамерился ни больше, ни меньше, как открыть публичную печатную дискуссию по ряду вопросов политической жизни России, причем дискуссия эта должна была протекать в правительственном журнале как раз в тот момент, когда правительство ликвидировало оппозицию. Попытка Фонвизина была так смела, что пресечь ее взялась сама Екатерина, придавшая своему выступлению решительный характер и обставившая его не без шума. Вопросы Фонвизина с его предисловием были напечатаны в «Собеседнике» и тут же «обезврежены», да еще по принципу острастки, чтобы другим не повадно было. Предисловию Фонвизина было в журнале предпослано редакционное предисловие, в котором говорилось: «Издатели Собеседника разделили труд рассматривать присылаемые к ним сочинения между собой понедельно, равно как и ответствовать на оные, ежели того нужда истребует. Сочинитель Былей и Небылиц, рассмотрев присланные вопросы от неизвестного, на оные сочинил ответы, кои совокупно здесь прилагаются». Разумеется, все читатели знали, кто такой этот «сочинитель Былей и небылиц», да и самый тон ответов не вызывал сомнений.
Фонвизин спрашивал: «Отчего много добрых людей видим в отставке?» Вопрос имел острый смысл в пору, когда в отставке оказался Н. И. Панин и вообще представители оппозиции. Екатерина ответила неловким вывертом: «Многие добрые люди вышли из службы вероятно для того, что нашли выгоду быть в отставке».
М. М. Щербатов, прочитав вопросы Фонвизина и ответы Екатерины, как, вероятно, и многие, возмутился этими ответами. Он написал новые вопросы в ответ на ответы Екатерины и заготовил предисловие и послесловие к ним, якобы от лица малообразованного провинциального дворянина. Неизвестно, послал ли Щербатов свою статью в «Собеседник»; во всяком случае, напечатана она была только в 1935 г. На приведенную только что отписку Екатерины Щербатов ответил: «Для чего они нашли выгоду быть в отставке?», и далее развил этот справедливый вопрос.
Фонвизин спрашивал, — и его вопрос характерен для антифеодальной тенденции его политической программы: «Если дворянством награждаются заслуги, а к заслугам отверсто поле для всякого гражданина, отчего же никогда не достигают дворянства купцы, а всегда или заводчики или откупщики». Екатерина ответила: «Одни, быв богатее других, имеют случай оказать какую ни на есть такую заслугу, по которой получают отличие».
185
Щербатов вскрыл сущность ответа императрицы: «Следственно, кто богатее, как бы ни получил богатство, хотя бы разорением части государства, будет полезнее подданный нежель усердный и умный, но бедный гражданин. Ведь после сего, ведь разве всем воровать и богатиться, а потом наворованного часть дать и сказать: я сделал услугу».
Фонвизин требует гласного суда: «Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства?» Екатерина опять уклонилась от ответа: «Для того, что вольных типографий до 1782 г. не было». Справедливо уличил ее Щербатов: «Не тяжущимся надлежит печатать определения вышнего правительства, но правительству самому, ибо сим оно дает отчет народу в справедливости своих суждений и налагает на себя обязанность противуречительно не решить, а не вольным типографиям печатать определении судебных мест...»
Фонвизин сетует на то, что передовое дворянство, задавленное реакцией, не может собираться для обсуждения дел культуры и государства: «Отчего не только в Петербурге, но и в самой Москве [Москва — штаб оппозиции] перевелися общества между благородными?» Опять Екатерина лживо уклоняется: «От размножившихся клобов». Фонвизин укоряет правительство в том, что дворянство развращено, погрязло в долгах. Екатерина считает, что дворяне сами виноваты. Фонвизин намекает на полицейский террор: «Отчего в наших беседах слушать нечего?» Екатерина в ответ намекает на то, что она недовольна содержанием «бесед», и это недовольство, видимо, оправдывает в ее глазах пресечение «бесед»: «От того, что говорят небылицу». Фонвизин говорит о том, что в «высших сферах» подвизаются негодяи: «Отчего известные и явные бездельники принимаются везде равно с честными людьми?» Екатерина отвечает: «От того, что на суде не изобличены», а Щербатов уличает ее во лжи: «Так только тот бездельник, кто под виселицу подведен? Однако и такие чины получают и в обществе принимаются».
Фонвизин поставил два вопроса прямо о Екатерине, — о ее государственной деятельности. Именно с середины 1770-х до середины 1780-х годов Екатерина находилась в законодательной горячке, была одержима законодательной манией, как она сама говорила. Она издавала законы, положения, перекраивала жизнь страны и была уверена в том, что лучше ее законов не может быть. А вот Фонвизин, явно игнорируя все ее усилия, не считая ее законы заслуживающими серьезного внимания, требуя, очевидно, общественного участия в законодательной работе, спрашивал: «Отчего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?» Екатерина не выдержала и прикрикнула на непокорного подданного: «Оттого, что сие не есть дело всякого». Фонвизин не побоялся задать вопрос о Комиссии нового уложения 1767—1768 гг.; явно эту Комиссию он разумел в вопросе: «Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостию, потом же оставляются, а нередко и совсем забываются?» Ответ Екатерины намеренно неясен: «По той же причине, по которой человек стареется».
Фонвизин задел в своих вопросах и политику Екатерины, и ее лично, и ее двор, и правительство. Он писал: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а нынче имеют и весьма большие?» Екатерину обидело не только то, что, по Фонвизину, лучшие люди были в отставке, а в правительстве действовали либо бездельники, либо шуты, — но и то, что Фонвизин позволил себе персональный намек: шпынем называли и придворных кругах друга Екатерины вельможу Л. А. Нарышкина. Ответ Екатерины вначале также намеренно неясен, а затем обнаруживает ее
186
раздражение: «Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей вопрос родился от свободоязычия»...
Екатерина не ограничилась резкими ответами на вопросы Фонвизина. В следующем же, четвертом, номере «Собеседника», в очередном продолжении «Былей и небылиц» она многословно и злобно обрушилась на крамольные вопросы. «Дедушка», представляющий в фельетонах императрицы точку зрения автора, говорит: «Молокососы! не знаете вы, что я знаю; в наши времена никто не любил вопросов, ибо с оными и мысленно соединены была неприятные обстоятельства». Намек-угроза здесь достаточно явен; и далее: «Нам подобные обороты кажутся неуместны, шуточные ответы на подобные вопросы не суть нашего века; тогда каждый, поджав хвост, от оных бегал». Затем Екатерина издевалась над самыми вопросами и пародировала их, — и опять задевала их с разных сторон. Наконец, «дедушка» специально остановился на вопросе о шутах, шпынях и балагурах, вопросе, его крайне разозлившем; по поводу этого-то вопроса он говорит: «В прежние времена врать не смели, а паче письменно, без... опасения... Когда дедушка дошел до шпыней, тогда разворчался необычайно и крупно, говоря: шпынь без ума быть не может, в шпиньстве есть острота; за то, продолжал он, что человек остро что скажет, ведь не лишить его выгод тех, кои в обществе даются в обществе живущим, или обществу служащим».
Без сомнения, Екатерина не удовлетворилась литературными назиданиями и угрозами Фонвизину. Ему пришлось сдать позиции. В следующем, пятом, номере «Собеседника» в тексте «Былей и небылиц» Екатерина опубликовала покаянное письмо «К г. сочинителю Былей и небылиц от сочинителя Вопросов», сопровождавшееся торжествующими комментариями самой царицы. Между тем, Фонвизин вовсе не собирался не только менять свои позиции, но даже отказываться от борьбы. В том же самом четвертом номере журнала, в котором Екатерина бранила вопросы, Фонвизин поместил две статьи «Челобитная российской Минерве от российских писателей» и продолжение «Российского сословника». Первая из этих статей — это своеобразное прошение от русских писателей к Екатерине II с жалобами на вельмож, «кои достигли до знаменитости, не будучи сами умом и знанием весьма знамениты», которые угнетают литераторов и литературу. Эти люди «забыли, что умы их суть умы жалованные, а не родовые, и что по статным спискам всегда справиться можно, кто из них и в какой торжественный день пожалован в умные люди». Они постановили «всякое знание, а особливо словесные науки почитать не иначе, как уголовным делом», и писателей «к делам не употреблять», а уже служащих «от дел отрешать». Смысл этого «прошения» ясен: это — протест против похода реакции, решившейся удалить от всякого влияния дворянскую оппозицию, главным образом сосредоточившуюся в рядах литераторов. Не менее смело было продолжение «Сословника».
«Честный человек не закону повинуется, не рассуждению следует, не примерам подражает; в душе его есть нечто величавое, влекущее его мыслить и действовать благородно. Он кажется сам себе законодателем. В нем нет робости, подавляющей в слабых душах самую добродетель. Он никогда не бывает орудием порока. Он в своей добродетели сам на себя твердо полагается». И новые выпады против врагов: «Праздный шатается обыкновенно или без дела у двора, или в непрестанных отпусках, или не служа в отставке и исчезает с именем презренного тунеядца». Или: «Власть может повелеть такое-то дело предать забвению, но нет на свете
187
власти, которая могла бы повелеть то же самое дело не только забыть, ниже запамятовать».
В конце статьи Фонвизин поместил, — также в виде примера, — целый очерк, биографию некоего «известного Глупона», вельможи и дурака: очерк написан резко, сатирически зло; нет сомнения, что в нем изображен какой-то реальный сановник.
Фонвизин не собирался и далее прекращать кампанию в журнале; но ему пришлось прекратить ее. Он приготовил для «Собеседника» еще одну статью, направленную против вельмож, против двора (т. е. правительства) и против придворных подхалимов. Статья называлась «Всеобщая придворная грамматика». Она не была допущена в печать, повидимому, самой Екатериной II. Но она ходила по рукам в списках. Радищев упоминает ее с сочувствием в «Путешествии из Петербурга в Москву». «Придворная грамматика» была вершиной фонвизинской сатиры 1783 г.
Судьба «Вопросов» и «Придворной грамматики» научила Фонвизина, выступать в журнале с боевыми произведениями он больше не мог. В седьмом номере «Собеседника» он поместил «Поучение, говоренное в Духов день иереем Василием в селе П***». Это — забавная проповедь, в которой сельский иерей обращается к крестьянам не с выспренными отвлеченностями, а с простой и даже грубоватой речью на тему о вреде пьянства, обращаясь персонально к отдельным слушателям. Видимо, Фонвизин хотел указать духовенству полезное занятие вместо обычных его действий, по его мнению, бесполезных или вредных. В «Поучении Василия» Фонвизин дал в густо сентиментальном тоне умиленную характеристику идеального патриархального крестьянина, предвосхищающего карамзинского Фрола Силина. Но политической остроты, сатиры, нападений на власть в этой статье Фонвизина нет. В десятом номере «Собеседника» было помещено второе и последнее продолжение «Российского сословника». Ни одного примера, имеющего политическое звучание, ни одного сатирического выпада в этом продолжении нет. Зато в конце его есть такой пример: «Исцеля себя от ложного любочестия, пошел в отставку и живу в покое».
В самом деле, когда этот номер «Собеседника» вышел в свет, Фонвизин был уже не у дел. Тотчас же после смерти Никиты Панина он был принужден выйти в отставку. Все пути для участия в политической жизни страны были для него отрезаны. Тогда же для него, в основном, закрылась и литература. Ни «Недоросля», ни «Вопросов» Екатерина не могла простить Фонвизину, как она не могла простить ему близости к Паниным. Запрещение «Придворной грамматики» было первым проявлением политики запрета, примененной к нему Екатериной. С 1784 г. Фонвизин тяжко заболел. В том же году он уехал за границу, жил в Германии, в Италии и вернулся только через год, летом 1785 г. В августе Фонвизина постиг апоплексический удар. Меньше чем через год, летом 1786 г., он опять уехал за границу, главным образом с целью лечения, а также для того, чтобы избавиться от опального положения, мучившего его на родине. Он лечился в Вене, в Карлсбаде, затем в Тренчине и вернулся в Россию только осенью 1787 г. Летом 1789 г. он опять поехал лечиться в Ригу, Бальдон и Митаву — до осени. Лечение не помогло. Фонвизин был наполовину парализован и говорил с трудом; последние годы его жизни были чрезвычайно тяжелы. Но он все время пытался заниматься литературой, делал выписки, писал.
В 1784 г. он написал на французском языке некролог Н. И. Панина и анонимно напечатал его отдельной брошюрой. На титульном листе помечено место печати: Лондон; то же издание было повторено через четыре
188
года с пометой: Париж. На самом деле книжка была издана, конечно, в Петербурге. Ложные пометы были сделаны для отвода глаз, для правительства, для Екатерины. Напоминать лишний раз о Панине, а тем более хвалить его было опасно. А Фонвизин именно хвалил Панина, излагал биографию врага императрицы в тонах прославления великого гражданина, «коего душа столько же была благородна, как и его происхождение». Фонвизин и не скрывал политической смелости своей работы; он писал: «Здесь предстоял бы случай изобразить душу и сердце сего почтеннейшего мужа простым повествованием всех подробностей только долговременного его делами управления; здесь было бы место представить во всей истине труды и подвиги его служения: какую твердость и неустрашимость являл он в происшествиях, возмущавших спокойствие души его; как в течение двадцати лет боролся он непрестанно то с невежеством, то с надменностью людей невоспитанных, захвативших всю ту силу и доверенность, которые следуют одним истинным достоинствам; как отвращал он устремление и ухищрение сильных, руководствуемых пристрастными своими видами на разрушение основанной им внешней системы, приобретшей отечеству истинную славу; с каким великодушием терпел он все и со всех сторон оскорбления; с каким презрением сносил все коварства мелких душ, искавших уязвлять его привязками, недостойными века Екатерины II; но время жизни его так еще ново, что важные причины не допускают открыть подробности всего того, что, без сомнения, через некоторое время история предать потомству не оставит».
Фонвизин прославляет Панина именно за те черты его облика, которые характеризуют его не как слугу монарха, а как независимого деятеля: «Характер покойного графа Никиты Ивановича достоин был искреннейшего почтения и любви. Он имел твердость, свойственную душе великой. Никакие прельщения, никакие устрашения не могли никогда ее поколебать. Не было на свете власти, которая могла бы заставить его предложить государю свое мнение или согласиться с мнением государя, вопреки внутреннему своему убеждению. Сею самою твердостию колико благ сделал он для отечества и колико зол до него не допустил! Почтен был душевно от своих друзей и неприятелей. Титло честного человека дано ему было гласом целой нации».
В 1786 г. фонвизинский некролог Панина был напечатан по-русски в журнале «Зеркало света» и отдельной брошюрой. В том же году в «Новых ежемесячных сочинениях» появилась повесть Фонвизина «Каллисфен». Это — сильное и мрачное произведение. Его содержание замечательно. В нем говорится о мудреце, который пытался научить царствовать добродетельно Александра Македонского. Но царь, развращенный придворными и неограниченной властью, сделался гнусным тираном; ему стали докучать наставления мудрого Каллисфена; когда же Каллисфен громко назвал его чудовищем, недостойным имени человека, он был подвергнут пытке и умер в тюрьме. Судьба Фонвизина была похожа на судьбу Каллисфена.
Рассказ написан сжато, без всякой лирики; он полон едкой иронии и блестящих эпиграмматических формул. Картины придворного подхалимства, гнусного издевательства над человеческой личностью, разврата и всяческого безобразия, данные без всякого подчеркивания, как бы спокойно, с горьким смехом, именно вследствие сдержанности автора, скрытого гнева, извнутри освещающего изложение, производят и до сих пор сильное впечатление. Фонвизин явно учился этой манере убийственной сатиры у Вольтера,
189
автора «Кандида». В свою очередь он дал образец для русской политической сатиры в форме экзотической повести, в которой за людьми отдаленной эпохи легко угадываются современники писателя.
В 1788 г. Фонвизин хотел издавать сатирический и нравоучительный журнал под многозначительным названием «Друг честных люден, или Стародум». Он заготовил для журнала ряд своих статей, напечатал объявление о журнале. На этом дело и кончилось: журнал был запрещен еще до выхода первого номера. Заготовленные для него статьи дошли до нас; тут, кроме «Всеобщей придворной грамматики», были превосходные сатирические очерки: о помещике Дурыкине, человеке вроде Скотинина, и о том, как он искал учителя для своих сыновей, о вельможе, обделывающем темные делишки совместно с чиновником Взяткиным, «Разговор у княгини Халдиной» — о воспитании, о правосудии и т. д. Эти сатирические очерки продолжали и идейную и художественную линию «Недоросля».
Следует отметить, что «Разговор у княгини Халдиной», впоследствии вызвавший положительную оценку Пушкина, близок по построению и манере к философско-публицистическим диалогам Дидро, а переписка Стародума с Софьей, повидимому, зависит от неоконченного Руссо продолжения «Новой Элоизы», где, как и у Фонвизина, счастье идеальной пары, устроенное в конце предшествующего произведения, разрушено изменой одного из супругов — под влиянием столичного разврата.
Между 1790 и 1792 гг. Фонвизин написал или, вернее, набросал комедию в трех действиях «Выбор гувернера». Это произведение не может итти ни в какое сравнение с «Недорослем» и даже с «Бригадиром». Оно написано довольно вяло. Правда, можно думать, что дошедший до нас текст комедии, чрезвычайно краткий, был бы развит Фонвизиным при дальнейшей работе над комедией. В ней выводится княжеская семья, помешанная на своей княжеской спеси, некультурная и безобразная. Князь и княгиня, которым предлагают двух гувернеров для их сынка, отклоняют услуги умного и добродетельного Нельстецова и принимают проходимца-француза. Положительные герои. Нельстецов и Сеум беседуют в пьесе о французской революции, к которой они, — и, стало быть, Фонвизин, — относятся отрицательно. Впрочем, рассуждения Нельстецова-Фонвизина по этому поводу характерны. Он вовсе не бранит революцию за низвержение трона самодержца и вообще за уничтожение старого режима. Он как будто даже сочувствует ликвидации «князей» во Франции. Он вообще не бранит революцию так, как это делали реакционеры и даже умеренные консерваторы. Он рассуждает, и рассуждает только о социальной стороне дела. Он не верит в успех революции; он не верит, что французам удастся установить «равенство состояний», «какие бы законы они ни сделали; ибо всегда одна часть подданных будет принесена в жертву другой». Отсюда вопрос, естественно возникающий из его размышлений: «Но когда не могут быть законы, кои бы всякого частного человека делали благополучным, то что же остается делать законодателю?» Ответ Фонвизина таков: «Остается расчислить так, чтоб число жертвуемых соразмерно было числу тех, для благополучия коих жертвуется». Следовательно, Фонвизин и в начале 1790-х годов стоит за социальные реформы, за смягчение и относительное «равновесие» в неравенстве, за ликвидацию строя, при котором миллионы приносятся в жертву тысячам, сотням и даже десяткам.
К последним годам жизни Фонвизина относится ряд его набросков. Тут и отрывок «О древне-римских обычаях», и наброски «Ипократ и Демокрит», «В Риме» и др. Повидимому, к этому же времени относятся
190
короткие отрывки-наброски двух комедий (одна: «Добрый наставник», другая — без названия). Тогда же Фонвизин начал переводить «Илиаду» (шестую песнь) и «Смерть Авелеву» Геснера.
В 1790 г. Фонвизин собрался переводить Тацита; он написал об этом Екатерине II; она не позволила ему познакомить русских читателей с историком-тираноборцем. Жизнь Фонвизина угасала в вынужденном бездействии и в физических мучениях. В течение 1791 г. его четырежды поражал удар. Он впал в судорожную религиозность и стал считать свою предшествующую политическую да и литературную деятельность греховной. Он написал об этом в наброске под названием «Рассуждение о суетной жизни человеческой», который явился откликом на смерть Потемкина. Религиозно-покаянный характер должны были иметь и мемуары «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», начатые Фонвизиным в конце жизни (смерть прекратила работу Фонвизина над мемуарами). Но вот что замечательно: Фонвизин не мог переделать себя. И в эту последнюю пору его гибели и религиозного исступления он оставался резким сатириком. Никакого патриотического нравоучения у него не получилось. Он хотел каяться и поучать вере и смирению, но в написанных им главах «Признания» он быстро и, конечно, поневоле, — покинул постный тон и дал ряд ярких, блестящих, остроумных и очень злых бытовых зарисовок, дышащих сатирическим гневом против дикости, некультурности, варварства русского дворянского общества. Он хотел смириться, — и невольно переходил в наступление, и опять «грешил» поистине праведным гневом. Самый интерес его к своей собственной личности, к живому индивидуальному человеку, к себе, как к индивидуальности, — был проявлением не церковной морали, а общеевропейского передового литературного движения, нашедшего свое выражение в подъеме и распространении жанра мемуаров, именно как литературного жанра, и в расцвете романа в мемуарной форме. За «Признанием» Фонвизина стоит не церковная литература, а «Жизнь Марианны» Мариво, романы Прево, наконец, «Исповедь» Руссо, на которую сам Фонвизин указывает в первых же словах «Вступления» к своим мемуарам («Исповедь» была напечатана в 1781—1782 гг. неполностью и в 1788 г. — целиком).
6
Не только политическая прогрессивность творчества Фонвизина, но и художественная его прогрессивность определила то глубокое уважение и интерес к нему, которые явно проявил Пушкин. Точно так же, как для декабристов и Пушкина Фонвизин был предшественником по линии политической идеологии, так для Пушкина он был предшественником по формированию реалистического метода в литературе. В этом именно заключалась великая заслуга Фонвизина перед русской литературой, поскольку элементы реализма, введенные им, были теснейшим образом связаны с его передовым политическим мировоззрением, с его борьбой против самодержавия и крепостнического рабства. Элементы реализма возникали в русской литературе 1770—1790-х годов одновременно на разных ее участках и разными путями. Но Фонвизин сделал в этом направлении больше других, — если не говорить о Радищеве, пришедшем после него и не без зависимости от его творческих открытий, — потому что именно Фонвизин впервые поставил вопрос о реализме как философском принципе, как системе понимания человека и общества. В этом смысле его эстетические завоевания отличались от метода Чулкова и даже на другом материале — Державина, которые не поднялись выше эмпиризма натуралистического толка, лишенного элементов
191
философского обобщения. У Чулкова преобладала протокольная запись фактов, фотография отдельных деталей быта, недостаточно осмысленных. Фонвизин сделал попытку осмысления материала жизни в реалистическом направлении.
Реалистические моменты в творчестве Фонвизина были связаны с его сатирическим заданием. Именно отрицательные явления действительности он умел понять в реалистическом плане, и это специфически определяло не только охват тем, воплощенных им в новой открытой им манере, но сужало и самый характер его постановки вопроса. Фонвизин включается в этом отношении в традицию «сатирического направления», как его назвал Белинский, составляющего характерное явление именно русской литературы XVIII в. Это направление своеобразно и едва ли не раньше, чем это было на Западе, подготовляло образование стиля критического реализма. Само по себе сатирическое направление выросло в недрах русского классицизма; оно в конце концов взорвало принципы классицизма, но его происхождение от классицизма же очевидно.
Фонвизин вырос как писатель в литературной среде русского классицизма 1760-х годов, в школе Сумарокова и Хераскова. На всю жизнь его художественное мышление сохранило явный отпечаток влияния этой школы.
Так у него многие персонажи строятся не по закону индивидуального характера, а по заранее данной ограниченной схеме морально-социальных норм. Мы видим сутягу, — и только сутягу, советника, галломана Иванушку — и весь состав его роли построен на одной-двух нотах; у солдафона Бригадира, кроме солдафонства, мало характерных черт.
Фонвизин видел в человеке не личность, а единицу социальной или моральной схемы общества. Он пишет некролог-биографию своего учителя и друга Никиты Панина; в этой статье есть горячая политическая мысль, подъем, политический пафос; есть в ней и послужной список героя, есть и гражданское прославление его; но нет в ней человека, личности, среды, нет, в конце концов, биографии. Это — «житие», схема идеальной жизни не святого, конечно, а политического деятеля, как его понимал Фонвизин. Еще более заметна антипсихологическая манера Фонвизина в его мемуарах. Они названы: «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», — но раскрытия внутренней жизни в этих мемуарах почти нет. Между тем Фонвизин сам ставит свои мемуары в связь с «Исповедью» Руссо, хотя тут же характерно противопоставляет свой замысел замыслу последнего. В своих мемуарах Фонвизин прежде всего блестящий бытописатель и сатирик; индивидуалистическое автораскрытие чуждо ему. Мемуары в его руках превращаются в серию нравоучительных зарисовок типа сатирических писем-статей журналистики 1760-х — 1780-х годов. Они дают при этом исключительную по богатству остроумных деталей картину социального быта в его отрицательных проявлениях, и в этом их огромная заслуга. Люди у Фонвизина-классика статичны. Бригадир, Советник, Иванушка, Улита (в раннем «Недоросле») и т. д., — все они даны с самого начала и не развиваются в процессе движения произведения. В первом действии «Бригадира», в экспозиции, они сами прямо и недвусмысленно определяют все черты своих схем-характеров, — и в дальнейшем мы видим лишь комические комбинации и столкновения тех же черт, причем эти столкновения не отражаются на внутренней структуре каждой роли. Затем характерно для Фонвизина словесное определение масок. Солдатская речь Бригадира, подьяческая — Советника, петиметрская — Иванушки в сущности исчерпывают характеристику.
192
За вычетом речевой характеристики не остается иных, индивидуально-человеческих черт. И все они острят; острят дураки и умные, злые и добрые, потому что герои «Бригадира» — все же герои классической комедии, а в ней все должно быть смешно и «замысловато», и сам Буало требовал от автора комедии, чтобы «слова были повсюду изобильны остротами» («Поэтическое искусство»). Русские классики презирали сюжетные жанры. И Фонвизин чаще всего чужд интереса к сюжетной стороне произведения. И у него в ряде произведений, в раннем «Недоросле», в «Выборе гувернера», в «Бригадире», в повести «Каллисфен» сюжет — только рамка, более или менее условная. «Бригадир», например, построен как ряд комических сцен и прежде всего ряд объяснений в любви: Иванушки и Советницы, Советника н Бригадирши, Бригадира и Советницы; всем этим парам противопоставлена — не столько в движении сюжета, сколько в плоскости схематического контраста — пара образцовых влюбленных: Добролюбов и Софья. Действия в комедии почти нет. «Бригадир» очень напоминает в смысле построения сумароковские фарсы с парадирующей перед зрителем галлереей комических персонажей.
Однако, удержаться на «высотах» классического бесстрастия Фонвизин не мог. Напряженность политической борьбы толкала его на радикальные шаги в отношении к восприятию и изображению реальной действительности, враждебной его мировоззрению. Борьба активизировала его жизненную зоркость. Он ставит вопрос об общественной активности писателя-гражданина более остро, чем это могли сделать дворянские писатели до него. «При дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено... может ли истина свободно изъясняться?» — пишет Фонвизин в повести «Каллисфен». А ведь перед ним именно задача — изъяснить истину. Возникает новый идеал писателя, писателя-бойца, передового деятеля просветительского движения.
Почему в России почти нет культуры красноречия? — ставит вопрос Фонвизин в «Друге честных людей», и отвечает: «Никак нельзя положить, чтоб сие происходило от недостатка национального дарования, которое способно ко всему великому, ниже от недостатка российского языка, которого богатство и красота удобны ко всякому выражению. Истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пустою хвалою, но Претурою, Архонциями и Консульствами награждается. Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Максима Тирянина, а Прокопович, Ломоносов, Елагин и Поповский в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны». Итак, отсутствие свободы, отсутствие общественной жизни, недопущение граждан к участию в политической жизни страны, — вот по Фонвизину причина отсутствия красноречия. Искусство и политическая деятельность связаны друг с другом теснейшим образом. Для Фонвизина писатель — «страж общего блага», «полезный советодатель государю, а иногда и спаситель сограждан своих и отечества».
Так возникает активная, политически насыщенная литература, полная практической жизненной силы, неспособная отказаться от вглядывания в жизнь родины, поскольку она хочет бороться с нею и во имя нее.
Именно такое гражданственное понимание роли литературы и писателя привело Фонвизина к перестройке всех основ системы классицизма в драматургии. Он порывает с отвлеченностью комедийной традиции классицизма для того, чтобы показать на сцене как бы кусок живой жизни, во
193

Д. И. Фонвизин.
Портрет маслом работы К. Фогеля.
всей ее неприкрашенной грубости. Он хочет поразить зрителя резким впечатлением сходства изображенного на театре с окружающей его правдой повседневного быта, он добивается этого для того, чтобы тем убедительнее раскрыть свою политическую мысль, свое отрицание общественных устоев жизни его эпохи. Поэтому-то уже в «Бригадире» Фонвизин как бы вводит зрителя (и читателя) в дом Советника и заставляет его наблюдать быт этого дома. На сцене разливают и пьют чай, загадывают на картах, играют в карты, в шахматы. Актеры говорят не в зрительный зал, а друг другу; они перебрасываются карточными терминами по ходу игры и т. п., т. е. появляется словесный материал, сущность которого не в чистом развитии
194
темы данного типа-характера, а в воспроизведении жизненной ситуации; слово не само по себе декламируется актером, а сопровождает житейское действие человека, которого должен воплотить актер. Еще гораздо более отчетливо видна эта реалистическая установка в «Недоросле». Пятнадцать лет, отделяющие «Недоросля» от «Бригадира», не прошли даром для Фонвизина в данном отношении.
«Недоросль» построен как картина одной семьи, семьи Простаковых-Скотининых. Фонвизин вводит нас в бытовой интерьер этой семьи. Пьеса сразу, с самого начала, вводит зрителя в быт сценой примеривания нового кафтана. Затем на сцене урок Митрофана, за сценой — семейные скандалы и т. д. При этом в «Недоросле» вовсе не все смешно. В этой комедии больше злой сатиры, чем юмора. В ней есть элемент серьезной драмы, есть мотивы, которые должны были умилить, растрогать зрителя. В «Недоросле» Фонвизин не только смеется над пороками, но и прославляет добродетель. «Недоросль» — полукомедия, полудрама.
Фонвизин вывел своих Скотининых и Простаковых на сцену во всей их реальной неприглядности, потому что он должен был бороться с ними, с их властью, потому что ему уже казалось неубедительным просто «разумное» осуждение невежества и варварства, потому что в разгаре борьбы он должен был показать не варварство, а варваров, чтобы картина потрясла зрителей своей несомненной правдой, чтобы она кричала о невозможности терпеть скотининское безобразие. Его комедия беспощадна, страстна, резка; он не боится грубого слова, он не боится и острого комического эффекта, напоминающего народные «игрища». В этом отношении он больше ученик Сумарокова, чем Лукина, потому что уже Сумароков отказался в тоне своих комедий от предписанного Буало бесстрастия и изящной сдержанности и уже он черпал свободно из источника «площадного» театра. Однако резкость Сумарокова и его связи с народной сценой приобретают у Фонвизина и большую глубину и большую художественную яркость, так как они обоснованы реалистически и в то же время обоснованы пафосом политической борьбы с реакцией.
Грубость языка и действий Простаковой — не грубость Фонвизина, а яркая деталь ее жизненного облика. «Простонародность» сцены драки учителей глубочайшим образом связывается с призывом к избавлению народа от беспросветного рабства под властью варваров, объективно звучащим во всей комедии. И это, и самая священная злоба Фонвизина делают его пьесу не столько комической, сколько страшной, несмотря на много очень смешных мест в ней.
Между тем Буало всячески подчеркивал: греческая комедия только тогда стала хороша, когда «научилась смеяться без горечи, сумела поучать и осуждать без желчи и яда и стала невинно нравиться в стихах Менандра» ... «Не дело автора комедии идти на площадь и прельщать там чернь низкими и грязными словами; нужно, чтобы его действующие лица шутили благородно..., чтобы его стиль, скромный и нежный, становился высоким в нужных местах». Все эти правила нарушил Фонвизин. Его пьеса нимало не невинна; она полна горечи и яда; ее стиль — нисколько не скромный, и но всем этом сила Фонвизина.
Буало писал о Мольере, что он, может быть, и мог бы претендовать на первенство в комедии, «если бы он был меньше дружен с народом, если бы он не заставлял часто своих героев кривляться, покидая ради шутовства тонкую приятность и соединяя без всякого стеснения Табарена с Теренцием». Сила Фонвизина (и отчасти даже Сумарокова) в том, что и он не боялся в этом смысле дружить с народом.
195
Чрезвычайно велики достижения Фонвизина-драматурга в решающе важном вопросе, — в методе изображения человека, характера.
В «Бригадире» Советница, Советник, Иванушка, а тем более Софья и Добролюбов, — еще маски, хотя, кроме двух последних, и очень живые и яркие; при этом они условно распределены на два лагеря — дурных и хороших образов-схем. Но уже Бригадирша, Акулина Тимофеевна, образ иного, нового типа. Недаром именно роль Бригадирши поразила наиболее умных и понимающих современников своей жизненностью. Так именно реагировал на комедию Фонвизина Н. И. Панин, только что познакомившийся с молодым драматургом. Сам Фонвизин рассказывает в «Чистосердечном признании» о том, что во время чтения комедии у наследника престола «паче всего внимание графа Никиты Ивановича возбудила Бригадирша». «Я вижу, — сказал он мне, — что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу». По окончании чтения Никита Иванович делал свое рассуждение на мою комедию. «Это в наших нравах первая комедия, — говорил он, — и я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали, однако, роль ее столько интересною, что все хочется ее слушать». В другом месте «Чистосердечного признания» Фонвизин указывает, что роль Бригадирши построена на материале наблюдений над живым человеком, над матерью девушки, за которой сам Фонвизин ухаживал в шестнадцатилетнем возрасте; тем самым опять-таки указывается жизненность этого образа.
В самом деле, в отличие от персонажей классической комедии, роль Акулины Тимофеевны психологически сложна. Бригадирша осуждена автором за глупость, скупость, невежество, крохоборство, и в этом отношении она обычный, хоть и усложненный, отрицательный персонаж классической комедии; но она в то же время несчастная женщина, забитая солдафоном-мужем и все-таки сердечно преданная ему, она — мать, умиляющаяся, глядя на своего сына, и минутами ее становится жалко. Творческой победой Фонвизина в этом смысле является вторая сцена четвертого действия «Бригадира» — разговор Акулины Тимофеевны с Добролюбовым и Софьей. Этот разговор — лишний с точки зрения правила единства действия; к тому же он нисколько не смешон. Но он крайне нужен для углубленного понимания образа Бригадирши, и это для Фонвизина важнее всяких правил.
Акулина Тимофеевна плачет; Добролюбов спрашивает ее, о чем ее слезы.
«Бригадирша. — Я, мой батюшка, не первый раз на веку плачу. Один господь видит, каково мое житье.
Софья. — Что такое, сударыня?
Бригадирша. — Закажу и другу, и ворогу идти замуж.
Софья. — Как, сударыня? Можете ли вы говорить это в самое то время, когда хотите вы того, чтоб я женою была вашего сына?
Бригадирша. — Тебе, матушка, для чего за него нейти. Я сказала так про себя...
...Софья. — Да о чем же?
Бригадирша (плача). — О том, что мне грустно. Теперь Игнатий Андреевич напади на меня ни за что, ни про что. Ругал, ругал, а господь ведает за что. Уж я у него стала и свинья, и дура; а вы сами видите дура ли я.
Добролюбов. — Конечно, видим, сударыня.
196
Софья. — Да за что он так на вас теперь напал?
Бригадирша. — Так, — слово за слово. Он же такого крутого нрава, что упаси господи; того и смотрю, что резнет меня чем ни попало; рассуди же, моя матушка, ведь долго ль до беды: раскроит череп разом! После и спохватится, да не что сделаешь.
Добролюбов. — Поэтому ваша жизнь всякую минуту в опасности?
Бригадирша. — До лихого часу долго ли.
Софья. — Неужели он с вами столько варварски поступал, что вы от него уже и терпели на это похожее?
Бригадирша. — То нет, моя матушка. Этого еще не бывало, чтоб он убил меня до смерти. Нет, нет еще!
Добролюбов. — Об этом, сударыня, вас никто и не спрашивает.
Софья. — Довольно, ежели он имел варварство пользоваться своим правом сильного.
Бригадирша. — То он силен, матушка. Однажды, и то без сердцов, знаешь, в шутку, потолкнул он меня в грудь, так веришь ли, мать моя, господу богу, что я насилу вздохнула: так глазки под лоб и закатились, не взвидела света божьего.
Софья. — И это было в шутку!
Бригадирша. — Насилу отдохнула; а он — мой батюшка — хохочет, да тешится.
Добролюбов. — Изрядный смех!
Бригадирша. — Недоль через пять, шесть и я тому смеялась, а тогда, мать моя, чуть-было-чуть богу души не отдала без покаяния.
Добролюбов. — Да как же вы с ним жить можете, когда он и в шутку чуть было нас на тот свет не отправил?
Бригадирша. — Так и жить. Ведь я, мать моя, не одна замужем. Мое житье-то худо-худо, а все не так, как бывало наших офицершей. Я всего нагляделась. У нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванью Гвоздилов; жена у него была такая изрядная, изрядная молодка. Как, бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной: так, веришь ли богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а ни дай ни вынеси за что. Ну, мы, наше сторона дело, а ино наплачешься, на нее глядя.
Софья. — Пожалуйста, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество».
Прекрасно рассказанная — чисто народным складом — история капи-танши Гвоздиловой, как бы обобщает тему, подымает ее до уровня типической; перед нами судьба русской женщины, жены, доставшейся во власть грубому мужу, тема неизбывного горя женщины, которая могла ведь быть в сущности хорошей, любящей, терпеливой и счастливой женой. Это тема многих народных песен, и Фонвизин, приближаясь к реализму, приближается к народному творчеству. Существенно здесь и то, что его Акулина Тимофеевна не подведена под мерку схемы. Она — человек, и несмотря на то, что в ней до крайности искажен идеал человека и гражданина, Фонвизин видит и показывает в ее образе ценность человеческого самого по себе.
В еще большей степени все это относится к «Недорослю», в особенности, к роли Простаковой и, пожалуй, еще к роли Еремеевны.
Простакова, несомненно, — отрицательная фигура, при этом данная типологически, собирающая множество отрицательных черт своего классового тина. Она невежественна, корыстолюбива, жестока, цинична; она —
197
изверг во всех, кажется, отношениях, и ее социальная практика должна вызывать отвращение и ужас. Но все же она — человек. Фонвизин, при всех ее отталкивающих пороках, наделяет ее материнским чувством, и это спасает жизненность ее образа. Ее материнская любовь тоже приобретает безобразные формы, но все-таки это — остаток человеческого достоинства, хотя бы и искаженного до последней степени. В этом смысле значительна заключительная сцена «Недоросля». Простакова понесла кару за свои пороки; она лишена власти, унижена, осрамлена; она больше не может быть помещицей в том смысле, как это понимает она сама; и вот тогда-то, когда помещица в ней погибает, в ней как бы просыпается мать, человек. Она бросается к своему детищу: «Один ты остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка!» — говорит она народным складом причитанья. И здесь именно она терпит последнее и самое тяжкое поражение: грубый хам Митрофан отталкивает ее. Она восклицает: «И ты! и ты меня бросаешь! А, неблагодарный!» — и падает в обморок. Этот возглас ее — возглас трагического героя. И в самом деле, сцена эта трагична, и образ Простаковой в эту минуту углубляется в глазах автора и зрителя. Комедия превращается в трагедию порочного человека, но все-таки человека. Фонвизин подчеркивает это отношением в эту минуту к Простаковой идеальных действующих лиц пьесы.
«Софья (подбежав к ней). — Боже мой! она без памяти...
Стародум (Софье). — Помоги ей, помоги. (Софья и Еремеевна помогают).
Правдин (Митрофану). — Негодница! Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья...
Стародум (Еремеевне). — Что она теперь? Что? ...»
Итак, Правдин уже знает, что случившееся с Простаковой, — это несчастье, Стародум и Софья волнуются за нее, помогают ей. И это не просто эффектная концовка пьесы. Это углубление роли Простаковой подготовлено всей комедией. Простакова — мать; она — человек, и ее нравственное безобразие начинает пониматься не как случайный порок, который может быть исправлен усилием воли порочного. Почему Простакова так ужасна? Ведь она могла бы быть человеком не хуже других, ведь в ней есть корень всех добродетелей — человеческое доброе чувство, любовь. Ответ на этот вопрос дан всей комедией. В том, что Простакова изверг, виновато воспитание, виновата среда, виноват уклад жизни, сделавшие ее извергом; виновато, по Фонвизину, и правительство, виноват и указ о «вольности дворянства», виновато, в конце концов, крепостничество. Простакова стала извергом потому, что бесконтрольное рабовладение развращает рабовладельца, способствует его моральной гибели, превращает его в раба своих страстей, в зверя.
В этой концепции, органически заключенной в образе Простаковой, — высшая точка, достигнутая великим дарованием Фонвизина. Здесь он подошел вплотную к реалистической постановке вопроса в самом глубоком смысле слова. Здесь он открыл дорогу пониманию человека как личности и одновременно как социального явления.
Существенно и то, что проблема, заключенная в образе Простаковой, оттеняется и пополняется в «Недоросле» образом Еремеевны. И ее роль осложнена чертами человечности, снимающими схематизм отрицательной характеристики. Это важно в особенности потому, что ведь Еремеевна — «раба», не дворянка, и традиции дворянского мышления тем менее могли подсказать понимание ее образа как такого, в котором сущность — это попранное достоинство личности. Между тем, именно так отнесся к этому
198
образу Фонвизин и доказал этим, что в достигнутых им высотах творчества и понимания он свободно перешагнул через эгоистическую узость класса.
Образ Простаковой наглядно показывает, как рабовладение искажает достоинство и ценность человека в рабовладельце. Образ Еремеевны демонстрирует, как рабство искажает достоинство человека в рабе, потому что трагизм этой смешной фигуры заключен в том, что она — раба «духом, как и состоянием», как выразился об одном из своих героев Радищев. Она усердствует в службе своим барам до подлости, и это именно вызывает чувство отвращения не только у нас, но и у Фонвизина, умеющего ценить свободный дух в человеке превыше всего. Но опять, Еремеевна — человек, она могла бы быть другой, если бы не рабство, сгубившее ее человеческое достоинство. Ведь Фонвизин написал: «В низком состоянии можно иметь благороднейшую душу, равно как и большой барин может быть весьма подлый человек». И он же сказал: «Равенство есть благо, когда оно, как в Англии, основано на духе правления» (письмо к П. И. Панину). Как ни усердствует Еремеевна, услужая господам, она не получает от них ничего, кроме издевательства и побоев. Она горюет из-за этого, и ее также становится жалко. Она смешна, но она несчастна, и ее несчастье заставляет Фонвизина отнестись к ней серьезно.
Второе действие «Недоросля» оканчивается любопытной сценой. Простакова при Кутейкине и Цыфиркине грубо обругала Еремеевну за недостаток усердия к Митрофанушке.
«Еремеевна (заплакан). — Я не усердна вам, матушка! Уж как больше служить, не знаешь... рада не токмо что... живота не жалеешь... а все не угодно.
Кутейкин. — Нам во свиней повелите?
Цыфиркин. — Нам куда поход, ваше благородие?
Г-жа Простакова. — Ты же еще, старая ведьма, и разревелась.
Поди, накорми их с собою, а после обеда тотчас опять сюда........
...Кутейкин. — Житье твое, Еремеевна, яко тьма кромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпьем сперва чарку...
Цыфиркин. — А там другую, — вот-те и умножение.
Еремеевна (в слезах). — Нелегкая меня не приберет. Сорок лет служу, а милость все та же...
Кутейкин. — А велика ль благостыня?
Еремеевна. — По пяти рублей в год, да по пяти пощечин на день. (Кутейкин и Цыфиркин отводят ее под руки).
Цыфиркин. — Смекнем же за столом, что тебе доходу в круглый год».
В этой сцене Еремеевну жалко, она вызывает сочувствие, она — жертва; ее стараются развеселить Кутейкин и Цыфиркин, и последнее в особенности примечательно. Человеческое, душевное отношение к несчастной «рабе» проявили не баре, ради которых она готова «живота не жалеть», а, наоборот, нищая братия — Кутейкин и Цыфиркин; их участие к Еремеевне, даже их шутки трогательны.
Фонвизин был величайшим мастером языка. Он знал русский язык и умел им пользоваться, как никто другой в XVIII в., во всяком случае, до Карамзина. Сочность, яркость, образность его речи беспримерны, и в этом отношении наследниками его в русской прозе являются великие сатирики Гоголь и Салтыков-Щедрин. И в своем языке Фонвизин преодолевает классические каноны жанровой классификации и литературной условности речи. Но здесь, однако, он связан еще во многом с классической манерой. Он еще пишет торжественное «Слово» на выздоровление
199
Павла Петровича специфическим «высоким» языком, не тем, которым он писал сатирические статьи или стихотворения. Он дает еще — по Сумарокову — речевые маски комических персонажей в комедии. Но основная стихия фонвизинского языка — реальная разговорная речь, живая, подлинная стихия бытового языка. Перед Фонвизиным стоит задача передать речью не сущность условного жанрового типа творчества, не только схему маски-роли, а реальность фактической языковой практики его эпохи. Фонвизин любит еще острить во что бы то ни стало, любит словесный орнамент, игру словами, каламбуры, — и умеет великолепно пользоваться словесным узором. Но он ценит и эмпирическое наблюдение практики языка, он подслушивает живую речь. Его языковый реализм эмпиричен, он в плену у разговорного языка, но и это было путем, по которому шел реализм в данной области.
Я. К. Грот так говорит о стиле Фонвизина: «По замечанию князя Вяземского, небрежности в слоге и в языке, встречающиеся в дорожных письмах Фонвизина, оправдываются тем, что эти письма не назначались для печати. Мы полагаем, что небрежность, с какою они писаны, составляет в них великое достоинство, потому что обнажает перед нами вседневный или, так сказать, домашний язык того времени. Видим, что люди образованные тогда говорили почти точно так же, как нынче, но так писать никто не умел, кроме Фонвизина».
Фонвизин по праву занял почетное место в истории русской литературы. Мало того, это был первый русский прозаик и драматург XVIII столетия, творчество которого может считаться крупным фактом не только русской, но и европейской литературы в целом. Основанием для такого утверждения является не одна бесспорно выдающаяся талантливость его произведений, но и совершенная их оригинальность. При этом Фонвизин использовал в своей литературной работе многое, созданное западными писателями и в драматургии и в журнальной сатире; он не боялся иногда прямо заимствовать тот или иной мотив, то или иное наблюдение, замечание, выражение. Таких заимствований немало указано учеными и в «Недоросле», и в очерках-статьях Фонвизина, и в письмах к Панину о Франции.
На этом основании в дореволюционной науке делались даже попытки объявить Фонвизина писателем не самобытным, а подражателем. Так, например, с некоторым злорадством уличал в заимствовании Фонвизина А. Н. Веселовский в своей книге «Западное влияние и новой русской литературе», ядовито замечая, что именно Фонвизин, якобы, «проникавшийся с годами нетерпимою национальною гордостью должен бы, казалось, обладать большею самостоятельностью». Не говоря о раннем «Корионе», Алексей Веселовский пытается доказать, что «Бригадир» написан под влиянием комедии датского драматурга XVIII в. Гольберга. Между тем, ни сюжет, ни действующие лица комедии Гольберга не сходны с фонвизинской. Сходство заключается только в фигуре Иванушки, в роли которого есть несколько — весьма немного — заимствований, и то не прямых. Однако самый этот образ «русского парижанина» — французомана, мешающего русскую речь с французской, есть уже в ранних комедиях Сумарокова (Дюлиж в «Чудовищах», 1750, и Дюлиж в «Пустой ссоре», 1750). Нечего и говорить о всей системе образов «Бригадира», о стиле, о художественной манере этой комедии: они очень далеки от Гольберга.
Так же обстоит дело и с указанными в науке заимствованиями в других произведениях Фонвизина. Так, например, Алексей Веселовский указал, что переписка помещика Дурыкина со Стародумом в «Друге честных людей» заимствована у немецкого сатирика Рабенера. Соединенными
200
разысканиями Евгения Болховитинова, П. А. Вяземского, Н. С. Тихонравова указаны заимствования в речах Стародума в «Недоросле» из «Характеров» Лабрюера, из книги Дюфрени «Серьезные и смешные забавы» (1706—1719), из книги Дюкло о нравах. Знаменитый разговор о пользе географии в том же «Недоросле» восходит к аналогичной сцене в новелле Вольтера «Жанно и Колен» (1764). К этому можно добавить и то, что разговор об истории в той же сцене (в особенности в первоначальном тексте комедии) восходит к такой же остроте в комедии Детуша «Ложная невинность, или деревенский поэт» («La fausse Agnés ou le Poëte campagnard». 1739).
Следует заметить, что указание на заимствование рассуждения о храбрости и неустрашимости в реплике Милона (д. IV, явл. 6) из книги Жирара «Словарь синонимов» неверно. Это место появилось лишь в переиздании книги Жирара после смерти Фонвизина. Он заимствовал его из книги Тюрпена де Криссе «Опыт о военном искусстве» («Essai sur l’art de la guerre» P. 1754. T. I. Discours préliminaire»).
Между тем все эти заимствования не могут поставить под вопрос степень оригинальности творчества Фонвизина, в частности его комедий. Заимствованные мотивы, включаясь в самостоятельно созданную систему образов, подчиняются ее законам. Между тем тот тип комедии, который создал Фонвизин, не имеет источника на Западе. Он переплавил все заимствованное из лучших традиций России и Запада в свой собственный сплав и отлил из него своеобразное создание. При этом он опирался на родную русскую традицию. С начала XVIII в. русские писатели обрабатывали материалы, взятые с Запада, по-своему, в манере, обоснованной специфически национальными особенностями истории русской культуры. Но именно Фонвизину удалось на основе этой предварительной работы установить первые твердые очертания русской прозы и драмы, тяготеющих к реализму. Никак невозможно свести его комедию к «влиянию» или другому иному типу воздействия какого бы то ни было западного драматурга. Напротив, творческие открытия Фонвизина оказали большое влияние на русскую литературу XIX столетия, и его произведения вошли в золотой фонд русской культуры.