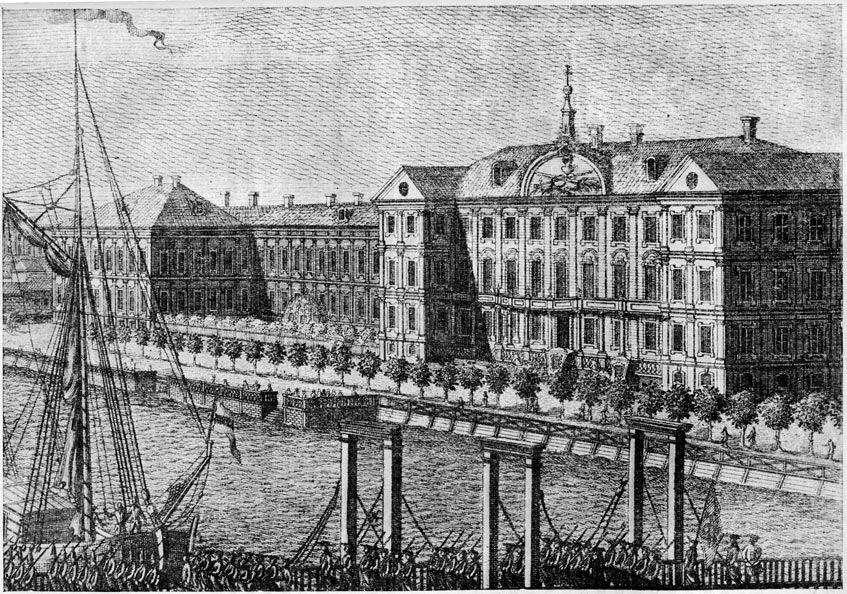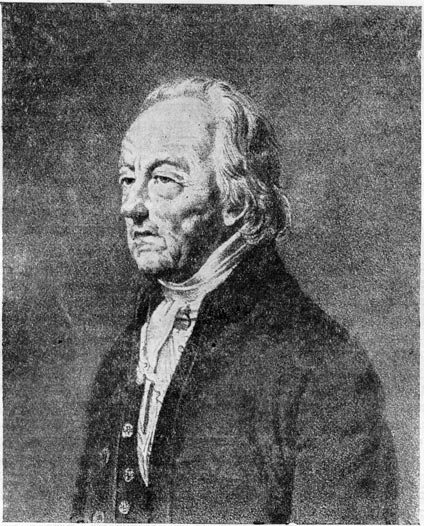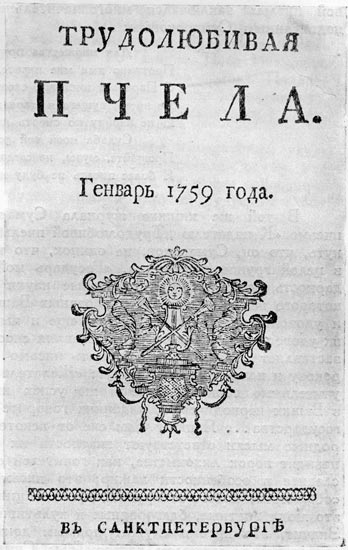- 349 -
Сумароков и его литературно-общественное
окружение1
Годы 1730—1760 являются временем формирования европеизированной, новой, послепетровской дворянской интеллигенции; в это именно время довольно многочисленные представители дворянской, главным образом столичной, молодежи начинают заниматься делами культуры серьезно, уделяя им огромное внимание. Грандиозный толчок, данный России петровскими реформами и всей деятельностью Петра, отразился в последующие после смерти царя годы двояким образом. С одной стороны, подлинно-прогрессивный характер петровской работы, оживившей глубокие слои народного сознания, поднявшей народное самосознание, привел в качестве своего последствия к появлению Ломоносова и ряда других, менее ярких деятелей культуры относительно демократического типа. С другой стороны — работа Петра как созидателя монархии помещиков и торговцев привела к образованию новой культуры, и придворной и социально-верхушечной вообще. Уже через несколько лет после смерти Петра дворянство, освободившееся от палки лютого царя, но замечательного деятеля, уставшее от ломки старого и стройки нового, довольное тем, что прогрессивный пыл Петра уступил место пассивности его более покладистых преемников, выделило свою интеллектуальную аристократию, которая и принялась за устройство своей собственной культуры. Эта новая дворянская интеллигенция, жадно вбиравшая опыт западноевропейских феодальных традиций, но не чуждавшаяся и передовых течений мысли, шедших с Запада, должна была противопоставить свой тип мировоззрения, морали, просвещения, бытовых навыков тому «плебейскому» облику также новой и также европеизированной культуры, который воплощали люди петровского закваса, типа Посошкова или Тредиаковского, и который гениально воплотился в Ломоносове.
Нужно сразу же подчеркнуть, что, по мере углубления этой дворянской культуры, по мере увеличения запросов интеллектуального порядка в среде новой дворянской интеллигенции и в ее литературе, и сама эта интеллигенция и ее литература все более и более преодолевали узкоэгоистическую сословно-классовую ограниченность и тем самым все более отрывались от основной реакционной невежественной, дикой «массы», помещичьего класса. Вместе с тем наиболее передовые группы дворянской интеллигенции низбежно оказывались в аппозиции к помещичьему правительству, к его бюрократии, к грабительской и к торгашеской политике его. Дворянский либерализм в конце концов пришел к разрыву с той классовой базой, на основе которой он вырос.
При Петре и в ближайшие годы после смерти Петра книжные, гуманитарные, литературные интересы в среде дворянства либо имели
- 350 -
придворно-правительственный характер, либо были проявлениями индивидуальной инициативы, не выходившей на сколько-нибудь широкую арену. Практическая техническая, военная, узко-деловая работа поглощала почти все силы людей, втянутых в сферу воздействия правительства. Татищев, Никита Трубецкой, даже Кантемир были, с одной стороны, практиками, деятелями политики и власти, с другой стороны, были дилетантами, сосредоточившими интересы гуманитарной культуры в двух-трех частных домах. Но они все же были зачинателями традиции, окрепшей в целое течение к середине века. Именно в это время, в середине века, уже сравнительно значительный слой дворянства создавал свою новую культуру сам, не при помощи выписных специалистов или наемников из среды «разночинцев», не по приказу власти, а независимо от нее, в надежде, наоборот, повлиять на центральную власть. Когда в 1730 г. столичное дворянство помогло новопоставленной императрице Анне Ивановне разделаться с «верховниками»-олигархами и восстановить самодержавие, оно предъявило ей ряд своих требований, конечно, обязательных для дворянской царицы. Среди этих требований содержалось указание на необходимость открытия специально дворянского учебного заведения. При этом представители дворянства, выдвигавшие это пожелание, интересовались не только вопросами культуры своего класса, но хотели в то же время добиться хотя бы частичного обхода петровского закона об обязательной для всякого дворянина службе государству, начиная с нижних чинов. Этот закон тяготил все более осознававших свою власть помещиков и мешал их сыновьям заняться своим образованием. Надо было создать учебное заведение, учеба в котором считалась бы военной службой и тем самым избавляла бы от солдатчины. Во исполнение этого требования дворянства правительство Анны Ивановны и открыло в 1732 г. Шляхетский кадетский корпус. Учиться в нем могли только дворяне; количество учащихся было сравнительно велико. Оканчивая корпус, его питомцы получали сразу офицерские чины. Содержали и обучали кадет в корпусе бесплатно, за счет правительства. Именно корпусу, первому специфически дворянскому учебному заведению XVIII столетия, суждено было стать очагом новой дворянской культуры.
Вскоре после основания корпуса, в 1732 г., в него поступил сын генерала и аристократ Александр Сумароков, которому было тогда 14 лет. В 1743 г. в корпус поступил десятилетний Херасков. Еще ранее, в 1738 г., поступил И. П. Елагин. Тогда же учились или служили в корпусе Адам Олсуфьев, А. А. Нартов, И. И. и П. И. Мелиссино, И. Шишкин, С. Порошин и другие будущие литераторы.
Воспитание, получаемое молодыми дворянами в корпусе, значительно отличалось от того, которое было принято в школах, созданных при Петре I. Время технических школ, время практицизма, преобладания точных знаний прошло. С самого начала своего существования корпус сделался дворянским университетом. Военная муштра, а вместе с нею и специальные военные знания отошли на второй план в системе образования, дававшегося корпусом. Наоборот, история, география, юридические науки, языки, затем фехтование, танцы — весь этот круг общеобразовательных и светских дисциплин и навыков выдвинулся вперед. Основной педагогической задачей корпуса стало воспитание образцовых дворян, вполне цивилизованных, обладающих элементарными гуманитарными знаниями и умеющих себя держать в обществе. Корпус готовил не работников, как петровские школы, а начальников. Практику студенты проходили во дворце. Корпусное начальство было поставлено перед необходимостью заниматься обучением европейским приличиям и культуре быта дворянских сынков,
- 351 -
прибывавших в учебное заведение часто неотесанными парнями с замашками своих родителей, воспитанных в школе Петра I; нелегко было отучить их держать в комнатах и дортуарах собак, разводить грязь, безобразничать. Отучали, впрочем, усердно не стесняясь ни поркой, ни иными суровыми карами. Нужно было добиться превращения российского помещика в «рыцаря» на западный лад. Кроме наук, кадет обучали не только танцам, но и декламации (в корпусе преподавалось множество наук, и студент мог специализироваться в той или иной области; вообще прохождение курса не было унифицировано). В особенности отчетливо этот салонно-армстократический стиль приобрело корпусное воспитание при Елизавете, когда и в личном составе служащих корпуса произошли последовательные перемены: германское делячески-бюргерское влияние заменилось влиянием французским, которому суждено было сыграть столь большую роль в образовании, психики русского дворянского интеллигента. Идеал голландской верфи уступил идеалу Версаля. В системе гуманитарного образования, как и в системе светского воспитания, в корпусе существенное место занимало искусство, в том числе литература. Сохранилось предание, не слишком достоверное, что уже в 40-х годах (или даже еще раньше) в корпусе существовало литературное общество. По многим биографиям Хераскова странствовало малодостоверное известие, якобы он уже в корпусе писал стихи и даже задумал «Россиаду». В этих преданиях, независимо от точности сообщаемых ими фактов, сохранено общее правильное воспоминание: в корпусе занимались литературой. Еще императрице Анне Ивановне кадеты подносили сочиненные ими в ее честь стихотворения, среди которых были н сумароковские. И позднее литературные интересы в корпусе не заглохли. С 1750-х годов при корпусе работала типография; на ее основе выросло целое издательство, выпускавшее самые разнообразные книги, главным образом переводные.
В 1759 г. группа учащихся и офицеров корпуса предприняла на свой страх и на свой счет издание журнала, печатавшегося также при корпусе под названием «Праздное время в пользу употребленное». В этом журнале сотрудничал и Сумароков, не порвавший связи с корпусом после окончания его в 1740 г. В корпусе была библиотека, выписывалось много иностранных газет и журналов. Большую, может быть решающую, роль сыграл Шляхетский кадетский корпус и в истории русского театра. Именно в корпусе была впервые поставлена первая русская «правильная» трагедия, написанная питомцем корпуса Сумароковым; в стенах корпуса образовалась та полулюбительская, полупрофессиональная труппа молодых дворян, работа которой, перенесенная во дворец Елизаветы Петровны, послужила первой основой для создания постоянного русского театра в Петербурге. В корпусе же и под руководством корпусных актеров-любителей завершили свое театральное и общее образование ярославцы, главные деятели русского театра XVIII столетия.
2
Первым крупным успехом педагогики Шляхетского кадетского корпуса был именно Сумароков. Родовой аристократ, он первый взялся за литературное дело профессионально, стал создавать литературу для своего класса; именно поэтому он вовсе не был самодуром, когда заявлял, что он является начинателем новой русской литературы. Данную литературную традицию начал действительно он. Впервые он адресовался в своем творчестве к группе дворянских интеллигентов одного социально-культурного типа с ним самим. В его руках литература отказалась говорить от лица
- 352 -
правительства и заговорила от лица дворянской общественности. Екатерина II, вступив на престол, предоставила Сумарокову казенное содержание и взяла на себя расходы по изданию всех его сочинений. Это не было той платой за службу двору, которую выдавали в свое время Тредиаковскому, а потом — В. Петрову; это было демонстрацией готовности правительства оплачивать и уважать проявления общественной инициативы дворянства и его эстетические потребности. Когда курс политики власти изменился и Екатерина сочла возможным открыто подавить дворянский либерализм и общественную активность передовых групп дворянства вообще, Сумарокову пришлось плохо: он попал в немилость. Екатерина смеется над ним, делает ему выговоры, ее чиновники помыкают им; он кончает жизнь в бедности, в состоянии полуопального заштатного деятеля.
Вообще говоря, жизнь Сумарокова, бедная внешними событиями, была весьма печальна. Это был человек крайне нервный, остро реагировавший на окружающую его дикость нравов, на торжествующее варварство в его собственном классе. Еще из корпуса он вынес высокое и совершенно нереальное представление о достоинстве дворянина, человека, рожденного для служения отечеству, чести, культуре, добродетели. Избранный им путь литератора, руководителя общественной мысли своего класса, казался ему путем великого служения идеалу, пусть только дворянскому, но все же по-своему возвышенному. Его воображение рисовало перед ним картину государства, в котором мудрые и благородные дворяне благоразумно руководят счастливым, хотя и неграмотным народом. Он был готов отдать все свои силы, чтобы этот идеал осуществился. Первые блистательные успехи на литературном поприще вскружили ему голову; он крепко уверовал в свое призвание воспитать русское дворянство и в свою непререкаемую гениальность. И вот начались тяжкие разочарования. Жизнь постоянно и упорно разбивала его мечты. Дворянство не хотело ни культивироваться, ни исправлять свою мораль. Жадные, жестокие, грубые и невежественные люди управляли государством и совершенно не желали слушаться поэта. Большинство класса помещиков смеялось над высокими помыслами дворянских интеллигентов, видело в них одержимых, чудаков, опасных мечтателей. Сумароков, привыкший к преклонению перед ним в дружеских кружках литераторов, не мог перенести тупого безразличия к своему искусству со стороны дикарей-дворян, чуждых культуре. Правительство нисколько не желало поддерживать его в его притязаниях.
Казалось, организация театра, во главе которого был поставлен Сумароков, даст ему опору. Но вскоре выяснилось, что творческая работа и в театре наталкивается на тысячу бюрократических проволочек, на безразличие властей. Сумарокова подчинили придворным чиновникам. Несдержанный, вспыльчивый, требовавший уважения к себе и как поэт и как аристократ, Сумароков не мог не ссориться с бюрократами, вельможами, придворными дельцами. Его выгнали из театра. Придворный человек мог его обругать, мог помыкать им. Сумароков раздражался. Он метался, впадал в отчаяние, не знал, где найти поддержку. Интеллигент среди варваров, он глубоко страдал от своего бессилия, от невозможности реализовать свой идеал. Его неукротимость и истеричность вошли в поговорку. Он вскакивал, бранился, убегал, когда слышал, как помещики называли крепостных слуг «хамовым коленом». Он доходил до истерики, защищая свое авторское право от посягательств московского главнокомандующего; он громко проклинал самоуправство, взятки, дикость общества; дворянское «общество» мстило ему, выводя его из себя, издеваясь над ним.
- 353 -
Вступление на престол Екатерины II, заигрывавшей с либералами в среде дворянства, казалось, могло принести Сумарокову признание, даже участие в ходе политических дел. Вскоре, однако же, стало ясно, что и эта надежда тщетна. Сумароков остался в стороне от власти, в стороне от дел. С ним никто не хотел считаться, кроме группы либералов, интеллигентов, литераторов, лучших людей его класса; но их было слишком мало, а врагов слишком много. Сумароков наживал себе новых врагов с каждым днем. Пасквили на него ходили по городу. Он рассорился со своими родными; даже его мать считала его чуть ли не преступником. Сумароков однажды так поссорился с ней и так при этом буйствовал, что она подала на него жалобу, в которой писала, что она боится его, боится, чтобы он не убил ее; муж его сестры Бутурлин отравлял ему жизнь интригами; он же впутал его в денежный процесс. Сумароков злился, отругивался, брюзжал и все чаще впадал в отчаяние. В то же время он разорился, его мучили долги. Богач Демидов тянул из него жилы, требуя — явно нарочно, чтоб помучить его — отдачи долга, и уже начали описывать его последнее имущество: книги, гравюры, дорогие ему как поэту, оценивались в гроши. Сумароков писал одно за другим отчаянные письма Потемкину, умоляя о помощи; ничего не помогало; а вокруг московские помещики и подьячие злорадствовали. Еще в 1760-х годах в басне «Сатир и гнусные люди» Сумароков рассказал иносказательно о себе, — о том, как дикие пастухи-пьяницы поймали умного сатира, который смеялся над их безобразиями, и избили его. Конец жизни Сумарокова был отравлен и печальной семейной историей. С первой женой своей он разошелся уже давно. Сумароков любил простую девушку, свою крепостную. Гнусная сплетня об их отношениях ходила по Москве. Сумароков женился на ней, не боясь дворянского «общественного мнения». Он был дворянским писателем, но вовсе не верил в особые качества «голубой крови». Тогда родственники первой жены Сумарокова начали процесс против него, требуя лишения прав его детей от второй жены.
Процесс длился долго и измучил Сумарокова. Наконец, он был разрешен в его пользу.
Издерганный, обнищавший, осмеянный дворянством и его императрицей, Сумароков запил, опустился. Его не утешала даже слава, которой он пользовался среди литераторов. Он писал:
Во Франции сперва стихи писал машейник
И заслужил себе он плутнями ошейник,
Однако королем прощенье получил,
И от дурных стихов французов отучил.
А я машейником в России не слывуИ в честности живу;
Но если я Парнасс российский украшаю
И тщетно в жалобе к Фортуне возглашаю,
Не лучше-ль, коль себя всегда в мученьи зреть,Скорее умереть?
Слаба отрада мне, что слава не увянет,
Которой никогда тень чувствовать не станет.Какая нужда мне в уме,
Коль только сухари таскаю я в суме?
На что писателя отличного мне честь,Коль нечего ни пить, ни есть?
(«Жалоба».)
- 354 -
3
Первые дошедшие до нас стихотворения Сумарокова показывают, что он начал писать, следуя урокам Тредиаковского. Это — две оды, напечатанные в 1739 г. брошюркой с таким заглавием: «Ее императорскому величеству, всемилостивейшей государыне Анне Ивановне, самодержице всероссийской, поздравительные оды в первый день нового года 1740 от кадетского корпуса сочиненные чрез Александра Сумарокова».
В том же 1740 г. выступил впервые в печати Ломоносов. Его произведения произвели огромное впечатление на Сумарокова. Он подпал под влияние своего великого современника. Они познакомились, и между ними установились дружеские отношения; Сумароков сам вспоминал впоследствии, что было время, когда они виделись каждый день: «г. Ломоносов со мною несколько лет имел короткое знакомство и ежедневное обхождение» («Некоторые строфы двух авторов», 1774), и в другом месте — о том, что они с Ломоносовым «были приятели и ежедневные собеседники, и друг от друга здравые принимали советы» («О стопосложении»), что «мы прежде наших участных ссор и распрей всегда согласны бывали» («О правописании»). В 1744 г. Ломоносов и Сумароков вместе выступили против Тредиаковского в теоретическом споре об эмоциональном содержании размеров русского стиха, в состязании на перевод 143-го псалма. Сумароков писал в это время оды в ломоносовском духе. Это был период подготовки Сумарокова к его творческой работе, период учебы. Еще в 1747 г. Сумароков не отошел окончательно от ломоносовских стилистических установок, не осознал резко отличия своего поэтического пути от ломоносовского; это видно в его двух эпистолах: «Письмо о русском языке» и «О стихотворстве», в которых он дает характеристику риторского стиля и жанра оды вполне в ломоносовском стиле, рекомендует писателю — как это потом сделает и Ломоносов, — читать церковные книги и заимствовать из них те выражения, которые не устарели; тут же дается комплиментарная характеристика Ломоносова, в обращении к поэту:
... возьми гремящу лиру,
И с пышным Пиндаром взлетай до небеси,
Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:
Он наших стран Малгерб, он Пиндару подобен.Через много лет Сумароков напишет о хвалителях Ломоносова, превозносящих его «громкие» оды: «Слово — громкая ода к чести автора служить не может: да сие же изъяснение значит галиматию, а не великолепие» («Некоторые строфы двух авторов», 1774).
Однако в тех же двух эпистолах Сумарокова уже явственно заметны следы того нового, специфически сумароковского, что разовьется вскоре и определит его отличие от Ломоносова. Так, Сумароков выдвигает, на ряду с величественными жанрами государственной тематики — одой и трагедией, — и другие жанры, интимно-лирические, салонные, комические, чуждые или даже враждебные Ломоносову (песня, эклога, комическая поэма). Сумароков впервые формулирует, например в разделе о песне, свои требования рационалистической простоты стиля; он при этом утверждает правила и образцы строго-классической нормы, претворенной им, однако, в русских литературных условиях.
Две эпистолы Сумарокова и две его первые трагедии «Хорев» (1747) и «Гамлет» (1748) были его победой как поэта. С этих пор он входит в литературу как большая сила. Вскоре вокруг него образуется группа
- 355 -
Шляхетский корпус в Петербурге (б. Меньшиковский дворец).
Гравюра с рисунка М. Махаева.
- 356 -
почитателей, учеников и последователей, и он выступает в роли вождя дворянской литературы, а затем и культуры в целом. Именно эта позиция дворянского идеолога и поэта определила многое в самом составе творчества Сумарокова; она же определила и его решительное расхождение с Ломоносовым, происшедшее лишь в самом конце 1740-х или даже в самом начале 1750-х годов.
К сожалению, нам в весьма небольшой мере известен и состав группы поэтов, окружавших Сумарокова в конце 1740-х и начале 1750-х годов, и самое их творчество. Но мы хорошо знаем, что именно с этого времени неприятели Сумарокова могли выходить из себя, видя его самоупоение в кругу его почитателей. Среди этих почитателей несомненно находился И. П. Елагин, который писал, обращаясь к Сумарокову: «Ты... к стихотворству мне охоту в сердце влил». Елагин вышел из Шляхетского кадетского корпуса, как и другие представители этой ранней школы Сумарокова — И. Шишкин, П. С. Свистунов, Н. Е. Муравьев, Н. А. Бекетов и др. Все эти поэты — в это время молодые люди с хорошим положением в столичном дворянском обществе, чающие карьеры и в то же время желающие строить вольную и, по их мнению, передовую дворянскую культуру. Они пишут не торжественные оды, а произведения «камерного» стиля: песни, элегии, дружеские послания, эпистолы; при этом наиболее близким им жанром является именно любовная песня. Начиная с 1740-х годов пишет песни и Сумароков, и за ним все его ученики и единомышленники. Эти песни не печатались, но были известны и даже пользовались популярностью в среде дворянской молодежи; они бытовали не столько в качестве читаемого литературного произведения, сколько в живом звучании, с музыкой; они входили в быт дворянства и выполняли свою функцию культивирования тонких чувств в среде привилегированного сословия, а за ним и в более широких кругах. В то же время песни культивировали и тонкость, деликатность, эмоциональную выразительность самого языка, который должен был стать образцом речи российских «благородных» юношей и девушек.
Когда Сумароков осознал себя и свое творчество во всей остроте своей враждебности к позиции Ломоносова, вслед за ним оказались враждебны Ломоносову и представители его школы. Так, Елагин счел необходимым, именно опираясь на Сумарокова с его требованием ясности слога, нарочито полемизировать с ним же по поводу лестных для Ломоносова стихов из «Письма о стихотворстве», приведенных выше; спора нет, что Сумарокову в начале 1750-х годов такая полемика была только приятна. Елагин писал, обращаясь к Сумарокову:
Ты, которого природа
К просвещению народа
Для стихов произвела,
И в прекрасные чертоги,
Где живут парнасски боги,
Мельпомена привела!Научи, творец Семиры,
Где искать мне оной лиры,
Ты которую хвалил;
Покажи тот стих прекрасный,
Вольный склад, притом и ясный,
Что в эпистолах сулил.
- 357 -
И. П. Елагин.
Гравюра И. Х. Майра по портрету работы Ж. Вуаля.Где Малгерб, тобой почтенный,
Где сей Пиндар несравненный,
Что в эпистолах мы чтем?
Тщетно оды я читаю,
Я его не обретаю,
И красы не вижу в нем.и т. д. (1752—1753)
В то же время Елагин написал прозаический памфлет-пародию на Ломоносова в виде афиши «От российского театра объявление». Здесь он издевался и над трагедией Ломоносова «Тамира и Селим», и над величественно-грандиозной космической образностью од Ломоносова, и над его занятиями химией, мозаикой, окрашиванием стекла (выделыванием бисера), которые в кругу дворянских интеллигентов воспринимались как занятия «низменные». Наконец, целая обширная полемика возгорелась из-за сатиры Елагина «На петиметра и кокеток»; и этой сатире прославлен «учитель мой» Сумароков и попутно задет Ломоносов; кроме того, эта сатира была направлена против придворной молодежи, а молодые
- 358 -
дворянские интеллигенты круга Сумарокова, гордившиеся своею независимостью, имели тенденцию обвинять Ломоносова в службе двору, неверно и полемически истолковывая его государственное служение. Ломоносов, напавший на Елагина в письмах к Шувалову уже по поводу его прежних выступлений, ответил на его сатиру резкой стихотворной отповедью («Златой младых людей и беспечальной век...»). Затем началась стихотворная перепалка, содержащая до десятка произведений, в которой досталось и Елагину и Ломоносову.
Все эти полемические произведения не попадали в печать, как и лирические стихотворения поэтов школы Сумарокова в это время; они расходились в списках, и этого было совершенно достаточно для представителей школы; со своим творчеством они вовсе не стремились обращаться к широкой аудитории; они писали только для «своих людей», для дворян своего круга. Однако их лирика, распространяясь в пении, сыграла известную роль в формировании читательских вкусов в сравнительно широких слоях.
Интимная лирика, учительство в области нравов и искусства и даже литературная полемика занимали Сумарокова и поэтов его школы до середины 1750-х годов. В 1756 г. началась Семилетняя война. Политическое положение в государстве обострилось и осложнилось в высшей степени. Правительство оказалось в руках кучки вельмож, интриганов и дельцов, усиленно грабивших страну и зажимавших проявления общественной инициативы, даже дворянской. Торгашеский дух, ажиотаж грандиозных спекуляций, бюрократический произвол, овладевшие правительством, вызывали в среде передовой части дворянства недовольство. Сумароков в это именно время завершает построение своего политического мировоззрения и выступает как один из политических вождей от лица своей группы.
4
Сам Сумароков считал, что его поэтическая деятельность является служением обществу, формой активного участия в политической жизни страны. В самом деле, он нисколько не был пассивным наблюдателем жизни; тем более он не стремился творить «искусство для искусства». Наоборот, это был человек и поэт, усиленно вмешивавшийся в политику, открыто боровшийся за свои политические идеалы, зло нападавший на своих политических врагов.
Политическое мировоззрение Сумарокова было противоречиво. Он был дворянином не только по происхождению, но и по своим взглядам. Власть дворян-помещиков над своими вассалами-крестьянами казалась ему необходимой основой общества, связью его, крепящей все его элементы. Когда Екатерина II в рукописи своего «Наказа» поставила — весьма осторожно и неопределенно — вопрос о том, не следует ли освободить крестьян от крепостной зависимости, Сумароков решительно запротестовал: он настаивал на сохранении крепостного права; он писал: «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя; скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут, и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян; и будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанная будет в государстве междоусобная брань... Мне в деревнях во веки не жить; но все дворяне, а может быть и крестьяне сами такою вольностью довольны не будут, ибо с обеих сторон умалится усердие. А это примечено, что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень
- 359 -
любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет...»
В 1766 г. Вольно-экономическое общество объявило конкурс на сочинение на тему о собственности крестьян; тема эта ставила вопрос о крепостнических отношениях. Сумароков немедленно прислал в общество, коего членом он даже не состоял, резкое возражение против самой постановки вопроса; он заявлял, что само собой разумеется, для крестьян лучше быть свободными, так же, как, например, канарейке, забавляющей хозяина, лучше быть на воле, а не в клетке, или собаке, стерегущей дом, лучше быть не на цепи. «Однако, одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина»; но, по мнению Сумарокова, интересы дворянства совпадают с интересами государства; он делает вывод: «свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит». Когда произошло Пугачевское восстание, Сумароков написал два стихотворения, в которых говорил о Пугачеве с беспримерной яростью и свирепо требовал жесточайшей расправы с ним.
Сумароков считал, что только родовое дворянство призвано управлять государством и народом. Но, с другой стороны, Сумароков был столь же решительно недоволен теми формами зависимости крепостных от помещиков, которые установились в его время в России. Его дворянское мышление не мешало ему быть настроенным либерально в основных вопросах социально-политического бытия страны. Его концепция идеального государства имела характер феодальной утопии. Он считал, что государство должно зиждиться на двух социальных слоях, как на своих устоях; этими слоями являются крестьянство и дворянство; крестьяне должны работать руками и содержать все государство, в частности — дворян. Они могут не иметь ни культуры, ни высокой морали; их удел — физический труд. Наоборот, дворяне должны работать головой и руководить всем государством; для того, чтобы они могли успешно усваивать необходимую для этого культуру ума и морали, для того, чтобы они свободно могли осуществлять свою функцию разума страны и руководства, они должны быть освобождены от производительного труда, и их должны содержать крестьяне. Таким образом, эта «рациональная» четкая схема должна была оправдать крепостное право. Но она не могла оправдать рабства. Сумароков различал законную с его точки зрения вассальную зависимость от рабства. Дворянин, по его мнению, имел право получать от крестьян прокормление и имел право, даже обязан был быть судьею и начальником своих вассалов. Но он не имел никакого права видеть в крестьянах свою собственность, обращаться с ними как с рабами, — а такова именно была социальная практика крепостничества в XVIII столетии в России.
И вот, Сумароков ополчается против диких форм крепостного рабства. Он считает, что не дело для «мужика» лезть в начальники. Но от начальников, от дворян, он требует уменьшения их крепостнических притязаний. Объективно он борется за смягчение, ограничение крепостного права, введение его в «законные» рамки, выступая против кровных классовых интересов реакционного большинства своего собственного класса. В целом ряде своих произведений — в баснях, сатирах, комедиях, статьях — он резко нападает на чрезмерную эксплоатацию крепостных крестьян, на мучительство в отношении к ним. Он мечтает о государстве, в котором:
Со крестьян там кожи не сдирают,
Деревень на карты там не ставят,
За морем людьми не торгуют. («Хор по превратному свету».)
- 360 -
Он возмущен дворянчиком-мотом, который «страдает от долгов».
А етова не воспомянет,
Что пахарь, изливая пот,
Трудится и тягло ему на карты тянет.(«Ось и Бык», 1769.)
В тех же замечаниях на «Наказ», в которых Сумароков заявил себя крепостником, он тем не менее писал: «Продавать людей, как скотину, не должно». Здесь же он проводил свою идею разницы между рабом и вассалом-крепостным: «Между крепостным и невольником разность: один привязан к земле, а другой к помещику». В статье «О домостроительстве» Сумароков писал: «Домостроительство состоит в приумножении изобилия. Многие превозносятся прехвальным именем домостроителя, и заслужили себе похвалу; но рассмотрим, похвалы ли они достойны или чего иного, и в чем состоит домостроительство, а паче, какая от него истинная польза. На первое услышу я сей ответ: дабы умножены были тщанием хозяина прибытки; на второе дабы тем обогащалося государство. Чьи прибытки? ежели только единого хозяина, так это ему единому разрешение вина и елея, а крестьянам сухоядение; а польза государственная или паче общественная — умножение изобилия всем, а не единому; почему ж называют тех жадных помещиков экономами, которые или на свое великолепие, или на заточение злата и серебра в сундуки сдирают со крестьян своих кожи и коих манифактуры и прочие вымыслы крестьян отягощают и все время у них на себя отъемлют, учиняя их невинными каторжниками, кормя и поя, как водовозных лошадей, противу права морального и политического, единственно ради своего измышленного изобилия, раздражая божество и человечество. Блаженство состоит во спокойствии духа. Что приятнее богу и государю: то ли, когда господин, обитатель великой деревни, ест привезенных из Кизляра фазанов и пьет столетнее токайское вино, а крестьяне его едят сухари и пьют одну воду; или когда помещик ест кашу и пьет квас, а крестьяне тоже? Вкус помещика потоне; так пускай щи его будут погуще, погуще и квас, когда ему угодно. Когда солнце равно освещает и помещика и крестьянина, так можно и крестьянину такие же есть яйца, какие высокородный его помещик кушать изволит...
«Помещик, обогащающийся непомерными трудами своих подданных, суетно возносится почтенным именем домостроителя, и должен он назван быть доморазорителем. Такой изверг природы, невежа и во естественной истории и во всех науках, тварь безграмотная, непочитающий ни божества, ни человечества, каявшийся по привычке и по той же привычке возвращавшийся на свои злодеяния, заставляющий поститься крестьян своих, разрушающий блаженство вверенных ему людей, стократно вреднее разбойника отечеству. Увеселяюся ли я тогда, имея доброе сердце и чистую совесть, когда мне такой изверг показывает сады свои, оранжереи, лошадей, скотину, птиц, рыбные ловли, рукоделия и прочее? Но я с такими домостроителями не схожуся, и пищи, орошенныя слезами, не вкушаю. Много оставит он детям своим; но и у крестьян его есть дети. В таком обеде пища — мясо человеческое, а питие — слезы и кровь их. Пускай он то сам со своими чадами кушает». В этой гневной инвективе слышатся уже ноты крыловской сатиры.
Сумароков принципиально считает, что никто не может продавать человека, что помещик, торгующий людьми, — фигура социально-вредная.
Не жалко ль? может бык людей быку продать.
- 361 -
Сумароковская концепция смягченного крепостного права — но не рабства, как идеала, теснейшим образом связана с его концепцией обязанностей дворянина, основной для всей его литературно-публицистической деятельности. Главная задача всего творчества Сумарокова — просвещение, воспитание дворянства как правительствующего сословия. Он выступает как дворянский просветитель, исходя из утопического, чтобы не сказать фантастического, идеала мудрых, благородных, культурных дворян, якобы преданных интересам государства и народа. Тема дворянского воспитания для Сумарокова, как позднее для Новикова и Фонвизина, — это тема политическая и весьма ответственная. Сумароков чужд, конечно, мысли о каких-нибудь особых, от бога установленных правах помещиков, людей «голубой крови». Он для этого слишком культурен и слишком высоко ценит Вольтера. Но он считал, что дворяне, путем родовых традиций культуры и чести, должны специально подготовляться к делу управления и должны быть наиболее подготовлены к этому. Он считал, что дворянин обязан служить государству, обязан быть высококультурен, образцово честен, морален, благороден; если этого нет, — дворянин должен быть лишен прав на пользование крепостным трудом, должен быть лишен привилегий господина страны. Сумароков согласился бы полностью с формулой фонвизинского Стародума: «Дворянин, недостойный быть дворянином, — подлее его ничего на свете не знаю!» В своих сатирических нападках на этих «недостойных» дворян Сумароков бывал необычайно резок. Но беда его была в том, что фактически почти весь класс помещиков оказывался таким «недостойным»; ведь это были помещики-рабовладельцы, а не идеальные руководители, не заинтересованные в своем положении и приносящие свои силы и свое достояние на алтарь отечества. И в результате сатира Сумарокова на злонравных дворян иногда звучала как сатира на крепостничество. В этом отношении программным произведением Сумарокова была его «Сатира о благородстве» (т. е. о дворянстве); он писал здесь:
Сию сатиру вам, дворяне, приношу!
Ко членам первым я отечества пишу.
Дворяне без меня свой долг довольно знают,
Но многие одно дворянство вспоминают,
Не помня, что от баб рожденным и от дам
Без исключения всем праотец Адам.
На то ль дворяне мы, чтоб люди работа́ли,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Какое барина различье с мужиком?
И тот и тот земли одушевленный ком;
А если не ясней ум барский мужикова,
Так я различия не вижу никакова.
Мужик и пьет и ест, родился и умрет;
Господский также сын, хотя и слаще жрет,
И благородие свое нередко славит,
Что целый полк людей на карту он поставит.
Ах! должно ли людьми скотине обладать?
Не жалко ль? может бык людей быку продать.
А во учении имеем мы дороги,
По коим посклизнуть не могут наши ноги.Этот идеал дворянина, человека чести и культуры, потому только владеющего первым местом в государстве, разительно расходился с фактическим характером представителей помещичьего класса, и Сумароков не
- 362 -
мог не видеть этого. Он положил все свои силы как писатель, публицист, общественный деятель, чтобы приблизить своих собратьев по классу к своему идеалу, — и не успел в этом, конечно, нисколько. Он был разбит в борьбе со своим собственным классом. Но его проповедь высокой общественной морали хотя бы в пределах дворянства, к которому он обращался, сыграла известную воспитательную роль и за пределами помещичьей культуры, хотя сам он хотел воспитывать своей сатирой, своими трагедиями, своей лирикой дворян. Крестьянам, по его мнению, нужно было не воспитание, а покорность и трудолюбие. Тех же, кто не хотел и не мог уложиться в его социальную схему, он хотел просто уничтожить.
Грабители кричат: бранит он нас!
Грабители, не трогаю я вас;
Не в злобе, в ревности к отечеству дух стонет;
А вас и Ювенал сатирою не тронет.Тому, кто вор,
Какой стихи укор?Ворам сатира то: веревка и топор.
(Эпиграмма.)
Эти «грабители» были в первую очередь русские царские чиновники, бюрократы, «подьячие», по терминологии Сумарокова, На верху всей лестницы российской бюрократии находился царь. Политическая практика русской монархии XVIII в., ее структура вызывают порицание Сумарокова, так же, как социальная практика русских помещиков. Конечно, Сумароков чужд республиканских идей. Но он не может согласиться с деспотизмом русских царей, с произволом, с развращением и продажностью правительственного аппарата, с бюрократическим и полицейским характером его. Он стоит на либерально-дворянских позициях и в вопросах политического устройства страны. Он хочет некоторого ограничения власти монарха, введения его в некоторые законные рамки. Он усвоил учение о государстве Монтескье, который вообще оказал огромное влияние на политическое мышление дворянских либералов XVIII столетия вплоть до Фонвизина. В своем классическом труде «О духе законов» (1748) Монтескье установил различение трех видов государства: республика, монархия и деспотия. Республика управляется народом, и принципом государственного управления в ней, предпосылкой ее бытия является добродетель граждан. Монархия управляется государем, власть которого ограничена законом, для него обязательным; принцип монархии — честь и опора ее — аристократия. Деспотия управляется неограниченным государем, повинующимся только своей прихоти; принцип власти деспотии — страх. Монтескье блестяще, смело и ярко нападает на деспотию, ненавистную ему; республику он ставит очень высоко; но ближайшим образом, как достижимую программу для своего отечества, он предлагает монархию, образец которой он видит в конституционном, в значительной мере уже буржуазно-демократическом строе современной ему Англии.
Сумароков — также «монаршист»; он считает, что монарх должен быть подчинен законам чести, воплощенным в государственных законах, что он должен управлять во имя государства и силами дворянства и что дворянство должно своими правами гарантировать сохранность «свободы» и независимость законов. Он говорит: «Монархическое правление, я не говорю диспотическое — есть лучшее» («Некоторые статьи о добродетели»). Без всякого сомнения, русское государство своего времени Сумароков считал деспотией и считал своим долгом поэта и дворянского
- 363 -
идеолога бороться за создание в России «монархии», сословной, дворянской, но обеспечивающей свободу дворянина и обеспеченной организациями дворянской общественности.
Исходя из своего идеала сословной монархии, Сумароков со свойственной ему запальчивостью и дерзостью напал на те социальные явления и социальные силы, которые он расценивал отрицательно. Последовательная, резкая, озлобленная борьба с реакционными силами государства проходит красной нитью через все его творчество, начиная от трагедий и кончая злободневными статейками. Первый враг Сумарокова — бюрократия, по его терминологии — «подьячие». Подьячие Сумарокова — это вовсе не мелкие взяточники, это чиновники вообще, это та власть, которая опирается не на «благородство» своих представителей, а на прямое подавление бюрократическим аппаратом. Сумароков непрочь был предложить полное искоренение подьячих, в которых он видел плевелы общества.
Сумароков изображает своих подьячих чаще всего нечистоплотными, некультурными, жадными и наглыми взяточниками, мошенниками, утеснителями народа. Метит он при этом и в самых властных вельмож; так, он называет подьячим своего начальника по театру, вельможу К. Е. Сиверса, с которым он рассорился и в котором видел и самодура, и выскочку из «смердов», и «чухонскую блоху»; «озлобленный мною род подьяческий, которым вся Россия озлоблена, изверг на меня самого безграмотного из себя подьячего и самого скаредного крючкотворца», — писал Сумароков о Сиверсе. В 1759 г. Сумароков рассказал в одной из своих статеек притчу: «Утесненная Истина пришла некогда пред Юпитера и, жалуяся на приказных служителей, просила чтоб он истребил из них тех, которые до взяток охотники, ради народного спокойствия. Юпитер отрекался и говорил ей, сколько вдов и сирот останется и сколько прольется слез, нищих умножится, ходящих по миру и просящих милостыни. Нет, — отвечала она, — нищих будет меньше, ибо меньше грабительства будет. Или разве тебе больше угодно, чтоб невинных людей, ими ограбленных, жены, дети и они сами слезы проливали и по миру таскались? Сверх того редко бывает, чтобы по мужней смерти жена или по смерти отцовской сын или дочь после приказнова человека по миру ходили; всегда после их имения остается довольно; разве покойник чаще бывал на кабаке, нежели в приказе. По долгом ее прошении согласился наконец Юпитер ударити громом; но клялся Стиксом, что он того в другой раз не сделает; лучше, говорил он, их исправлять, нежели истреблять; и хотя Истина и уверяла его, что удобнее петиметра удержать от наряда, нежели подьячего от взяток, однако Юпитер согласился однажды только громом удалить и сказал: хотя бы я и не клялся, я бы в другой раз не сделал сего, убегая порекания; беззаконники за строгость тебя и меня поносят, и ежели по большинству голосов нас обвинять станут, так мы от поношении не убежим. Почтенна ты на свете, но Политика тебя еще почтеннее; без тебя на свете обойтися удобно, а без нее никак невозможно...» Все в этой аллегории примечательно: и уверенность, что подьячих нельзя испранить, а надо искоренить, и недоверие к принципу большинства голосом, и упреки Юпитеру (правительству) в том, что он вершит дела не по истине. Точку зрения истины представляет, конечно, сам Сумароков, а по «политике», т. е. по незаконному политиканству, в угоду подьячим действует правительство Елизаветы. «Ударил Юпитер, повалилися подьячие, запели жены их обыкновенную пригробную песню. Народное рукоплескание громче юпитерова удара было. Обрадовалася Истина; но в какое смятение пришла она, когда увидела, что самые главные злодеи из приказных служителей осталися целы. Что ты сделал, о Юпитер; главных ты пощадил грабителей!
- 364 -
вскричала она. И когда Юпитер извинялся неведением и говорил ей: кто мог подумать, что ето подьячие! Я сих богатых и великолепных людей почел из знатнейших людьми родов; — Ах! говорила она, отцы сих богатых и великолепных людей ходили в чириках, деды в лаптях, а прадеды босиком». Сумароков прекрасно понимает, что суть дела не в мелких чинушах, а в «подьячих» в лентах и звездах.
Именно бюрократизм виноват и в том, что к власти лезут люди из «низов», так считает Сумароков. Он обрушивается на выскочек, на плебеев, пробравшихся к власти. И здесь он выступает как дворянский идеолог, блюститель чистоты и «благородства» дворянских привилегий и феодальных традиций, — но и не только как дворянский идеолог; ведь эти плебеи, выбившиеся «в люди», — это именно подхалимы, бюрократы, грабители народа и угнетатели его. Отстаивая свой схематический и нереальный идеал дворянского государства и нападая на подьячих, Сумароков боролся фактически не с народом, а с реальной практикой самодержавия.
Рядом с «подьячими» стоят в сознании и творчестве Сумарокова торгаши-откупщики. Система организованного грабежа казны и народа сразу, оформившегося в практике продажи государственных монополий частным лицам, особенно нагло развилась в последние годы елизаветинского царствования. И именно на эти годы падает целый ряд произведений Сумарокова об откупщиках. Между тем, откупщики были сильными людьми, наиболее крупным из них был сам П. И. Шувалов, едва ли не руководивший всеми правительственными делами в последние годы царствования Елизаветы Петровны. И вот, Сумароков резко нападает на откупщиков, которые готовы взять на откуп «Неву и петербургски все текущие с ней реки» или даже — после своей смерти — вечную муку грешников в аду; как и в отношении к подьячим, Сумароков считает, что «Юпитеру» давно пора «бросати гром» на откупщиков.
Но дело было не только в системе монополий; видя страшные бедствия народа на крепостных фабриках, зная о серьезности «волнений» заводских рабочих, ненавидя спекулянтов, Сумароков не мог подняться над этими эмпирическими наблюденными им фактами; он отрицал вообще пользу промышленности для России; здесь в нем говорил и дворянин-помещик, мечтавший о государстве без торгашей, как и без подьячих. И здесь он расходился с Ломоносовым, глубоко понявшим необходимость технического прогресса страны. Сумароков писал: «В моде ныне суконные заводы; но полезны ли они земледелию? Не только суконные дворянские заводы, но и самые лионские шелковые ткани, по мнению отличных рассмотрителей Франции, меньше земледелия обогащения приносят. А Россия паче всего на земледелие уповати должна, имея пространные поля, а по пространству земли не весьма довольно поселян, хотя в некоторых местах и со излишеством многонародна. Тамо полезны заводы, где мало земли и много крестьян» («О домостроительстве»). Так в сознании Сумарокова преломилось по-своему учение французских физиократов.
Нападая на представителей власти — бюрократов и спекулянтов, — Сумароков вел одновременно борьбу и с «двором», т. е. самим правительством. Так было и при Елизавете и при Екатерине II. С другой стороны, все его враги, — и «двор», и подьячие, и откупщики, и выскочки, и самодуры, — все они сосредоточились в городах, в столицах и сделали жизнь в них адом. Сумароков рвется из столицы в приволье деревни, в дворянское поместье, где «благородный» человек — сам себе хозяин, где он не зависит от властей. «Оставь меня, мой друг, в моем уединеньи, — пишет Сумароков в статье „Письмо о красоте природы“ (1759), — и не привлекай меня видеть великолепие города и пышность богатых». Затем идет
- 365 -
панегирик красотам природы, побеждающим суетную роскошь городов, и прославление спокойной жизни в деревне. «Не препятствуют моему сну тягостные мысли; с удовольствием засыпаю и с удовольствием пробуждаюся. Притворства я здесь не вижу, лукавство здесь неизвестно. Одеваюся я, как мне покойно, говорю и делаю, что я хочу, и в поведении своем кроме себя никому не даю отчета. Что делается на свете, я знать не любопытствую и, удалившися света, в простоте и в моем уединении обретаю время золотого века». Так возникает у Сумарокова идеал своеобразного помещичьего «руссоизма», потом имевший широкое распространение у его преемников и далее в дворянской литературе вплоть до Карамзина.
В своей политической концепции Сумароков использовал и Монтескье, и физиократов, и, конечно, много других социально-политических теоретиков Запада, например немецких либеральных государствоведов, Юсти или барона Бильфельда. В своем философском мировоззрении он так же опирался на достижения западной мысли, как и другие его современники.
«Не должно ли нам, любезные россияне! радоваться, что мы, нашед вкус в чужестранных книгах, открыли себе путь к наукам? Не должно ли нам веселиться, что мы прилежностию и старанием людей разумных довольно уже видим книг и на своем языке?» — пишет журнал кадетского корпуса «Праздное время в пользу употребленное» в программной статье «О беседах и книгах» (1759). Вкус к чужестранным книгам, действительно, был велик, что не дает нам права, конечно, говорить о «подражательности», т. е. о неорганичности, искусственности русской культуры данного периода. В частности, много читали философов и политических писателей. При этом интересы и чтения не ограничивались кругом французской литературы. Если мы рассмотрим статьи Сумарокова, в которых идет речь о философии, то мы увидим, что он разбирается во взглядах, в деятельности Локка, Декарта, Лейбница, Спинозы, Бейля, Эпикура, Вольтера, Руссо, Гоббса. Конечно, Локка Сумароков читал во французском или немецком переводе, но он черпал все же сведения о нем, об английских мыслителях вообще, из первых рук. Немецкая же умственная жизнь была издавна столь же близка и, во всяком случае, столь же известна русским дворянским начетчикам, как и французская. Вообще они могли выбирать, потому что были людьми широко образованными. Языки они знали также хорошо. Немецкий и итальянский, кроме французского, знал и Сумароков. И в чисто поэтической сфере их интересы вовсе не замыкались французской классикой. Сумароков переводит Флеминга, пишет стихотворное послание «Каршин»; Херасков переводит Метастазио, любимца всех писателей XVIII в. в России, подражает Мильтону и Клопштоку и т. д. Может быть, еще интереснее то, что русские поэты и во Франции знают и ценят не только классиков. Херасков переводит сонет Сент-Амана, Сумароков пишет сонет, по теме восходящий к Тристану Л’Эрмит, знает о Франсуа Виллоне.
Без сомнения, наибольший интерес в среде русских дворян-интеллигентов из всего богатства философских идей, разработанных западными мыслителями, привлекали те разделы идеологии, которые имели непосредственно практическое значение: мораль, проблема воспитания, социальная мораль и политика, наконец, проблемы отношения к религии и церкви. Наоборот, когда начала складываться идеология русского разночинца, он заинтересовался общими проблемами наравне с практическими. Его заинтересовала не только практическая этика, но и теория права вообще; его заинтересовали гносеологические проблемы; вопросы религии он поставил иначе, принципиальнее и шире, на общеисторической почве.
К вопросам метафизики и Сумароков чувствовал недоверие. Он усвоил рационалистический метод французских философов-просветителей
- 366 -
XVIII в. и, преломляя его по-своему, он опасается прикоснуться к заветным вопросам, к опасным глубинам. Учеба у просветителей и материалистов привела его, русского дворянского мыслителя, не столько к материализму, сколько к скепсису. Свою маленькую философскую статейку «Письмо к приятелю» (1763) Сумароков начал так: «Поэтам позволено изображать кажущееся истиною, хотя оно и не основательно. Логики дела свои выводят основательными заключениями, физики опытами, математики выкладками; но сколько философов, составивших системы поэтические! Почти вся картезианская философия есть голый роман. Все без изъятия метафизики бредили, не исключая славного и славы достойного Лейбница...» (далее он излагает свои мысли о строении материи, (восходящие именно к Декарту, — оговариваясь, что они тоже недоказательны: «может быть, что и я брежу; но мне, как поэту, отпустительно»). В более поздней статье «Господину Пассеку: вот наш бывший разговор» (1774) Сумароков писал: «Естество разделяется на духи и вещество: что духи, я не знаю; а вещество имеет меру и вес». В этих мыслях слышны отзвуки даже Гельвеция, именно в это время проникавшего уже в Россию. Как и для просветителей типа Гельвеция и, конечно, Вольтера, для Сумарокова гораздо важнее, чем общие вопросы «метафизики», вопросы этики, т. е. вопросы социальные. Это заметно и в поздних работах Сумарокова: «Основание любомудрия» (1772) и «Некоторые статьи о добродетели» (1774), в которых он решительно все время сбивается на вопросы морали и религии, связанные для него между собой. Однако этика Сумарокова скорее приближается к стоическому учению отречения от страстей и благ, ненавистному для Гельвеция и для французских передовых мыслителей XVIII в. вообще.
Что же касается вопросов религии и церкви, то и здесь Сумароков усвоил некоторые достижения передовой европейской культуры, хотя пределы его религиозного либерализма были не широки. Он не стоит на позициях традиционной церковности, он в вопросах релилии «вольнодумец», но он не пошел дальше Вольтера, понятого при этом умеренно. Он — деист и без бога обойтись не может.
Авторитетом — в философских вопросах — для всего круга дворянских интеллигентов середины века был Локк, идеи которого усиленно пропагандировал Вольтер. Сумароков написал целую статью «О разумении человеческом по мнению Локка» (1759). Здесь он излагает сочувственно основную мысль Локка: «Локк отрицает врожденные понятия»; при этом он стоит на сенсуалистической точке зрения: «Все то, что мы ни понимаем, въясняется в разум чувствами. Рассуждение, кроме данных ему чувствами, никаких оснований не имеет», и ниже: «Разум ничего не делает, лишь только сохраняет то, чем его чувства обогащают».
Между тем, Сумароков опасается сделать из этих положений те материалистические выводы, которые сделали из них французские мыслители. В этой же статье он говорит, хотя и между прочим, о «премудрости нашего создателя», которая, по его мнению, не уменьшается высказанными им соображениями.
В отношении к официальной церкви Сумароков — «вольтерианец»; для него церковь как государственная организация включена в систему бюрократической власти, с которой он борется. Он выступает против претензий церкви властвовать, против церковных организаций, имеющих характер мирской силы.
Сумарокова не могли не тревожить, как дворянского либерала, не только отечественные события, — непосредственно политические и идеологические, но и революционизирование западной передовой литературы.
- 367 -
Вольтер и Монтескье были понятны и во многом даже близки Сумарокову; но Жан Жак Руссо был для него решительно неприемлем. В конце жизни он написал статью «О новой философической секте», где напал на «Жака Русо» и его почитателей. Однако и в этой борьбе против Руссо в Сумарокове виден еще — и достаточно ярко — просветитель; он негодует на руссоистов именно за отрицание просвещения; с другой стороны, он признает, что «они при всем худе своем сие имеют достоинство, что они не суеверны». На Руссо Сумароков напал и в статейке «О слове Мораль»; против положения Руссо о том, что человек, исходя из рук природы, добр, направлена, повидимому, статья Сумарокова «К добру или к худу человек рождается?» — «И к добру и к худу», — отвечает он на вопрос, поставленный в заглавии, а в заключении пишет: «Мы рождаемся к худу, и исправляемся моралью и политикою». Замечательно при этом то, что здесь же Сумароков развивает идеи эгоистической психологии и даже этики, сильно напоминающие не только Ларошфуко, но и Гельвеция. «Человек рождается ради себя к добру, а ради другого человека и ради всякого другого животного к худу. Каждое дышущее вредноносно другому дышущему и во своем и в чужом роде... Общая польза не ослабляет сего доказательства; в ней имеет каждый свой собственный прибыток. Во всех сообществах, как у человеков, так и у других тварей согласие от собственного и участного своего прибыточества утверждено, а не от любви к подобной себе твари. Дружимся и любимся мы ради самих себя. Другого любим, любя себя, ненавидим, ненавидя его. Все наши действия происходят от любви к себе и от ненависти к другому». Так сказался до конца старый заквас рационализма и своего рода «вольномыслия» у Сумарокова.
5
И как практик-поэт и как теоретик литературы Сумароков завершил построение стиля классицизма на русской почве.
В Западной Европе классицизм как огромное движение литературы, как стиль, объединивший множество значительных явлений словесного искусства, складывался и развивался в течение двух столетий. При этом в пределах каждой национальной литературы классицизм приобретал особые формы, имел специфический характер. И все же у нас есть основания говорить о единстве всех самых разнообразных литературных движений XVII—XVIII вв., отмеченных печатью общности основ исторического и эстетического мировоззрения. Классицизмов много, — и все же есть единый стиль классицизма. Конечно, классицизм Расина — это не то, что классицизм англичанина Попа или немца Готтшеда, не то, что классицизм даже француза Вольтера, отдаленного от Расина полустолетием. Но всех этих писателей, как ни различны их позиции, политические, философские, даже поэтические, сближает ряд характерных черт общего им стили. Это и позволяет говорить о классицизме вообще, включая и русский классицизм.
Исторически дело сложилось так, что наибольшей ясности, совершенства, полноты стиль классицизма достиг во Франции но второй половине XVII в., при Людовике XIV.
Не нужно думать, однако, будто вся литература, хотя бы даже во Франции в пору Людовика XIV, была подчинена законам и традициям классицизма. Классики завоевывали свое первенствующее положение в отчаянной борьбе и удерживали его с величайшими усилиями. И прежде всего им приходилось бороться с литературой феодалов старинно-аристократического покроя. Это не была литература схоластического типа; это было искусство, настаивавшее на своей отрешенности от быта, от жизни, —
- 368 -
искусство людей, отрешенных от заботы о жизненных нуждах, отрешенных уже и от исторической активности; феодалы «голубой крови» хотели создать вокруг себя ореол приличия и утонченности, недоступных «массе». Им нравилась поэзия исключительной изощренности, исполненная жеманных уловок стиля, формалистически запутанная, поэзия, где о вещах не говорили просто, а лишь остроумными перифразами, где воображаемые герои украшали свои воображаемые и утомительно хитроумные переживания сложным словесным орнаментом.
Это был так называемый «драгоценный» стиль (style précieux), столь убийственно высмеянный Мольером. Разновидности того же стиля мы находим и в других странах — и в манерной поэзии итальянца Марино, так называемый маринизм, и в совершенных хитросплетениях и в напряженной лиричности испанца Гонгоры, и в Англии — в «эвфуистическом» стиле (от названия романа Лилли «Эвфуэс, или анатомия остроумия»), — и в пышней величественной и до предела искусственной поэзии немецких поэтов стиля так называемого барокко.
Классицизм выступил против этих стилей, которые, может быть, наиболее удобно и, пожалуй, точно можно объединить термином стилей барокко, — в качестве стиля централизирующей власти. Это был стиль, выражавший мировоззрение новой социально-идеологической дисциплины, подчинения интересов отдельных личностей разумным интересам государства.
Соотношение долга человека перед государством и индивидуальных влечений личности составляет основную тему, основной интерес литературы классицизма, причем этот конфликт он разрешает принципиально в пользу общественного, государственного долга. Классицизм видит в человеке прежде всего слугу государства; он считает идеологически и эстетически ценным в человеке только то, что подчиняет его норме, закону разума и общества. Все индивидуальное именно поэтому не входит в систему ценностей классицизма. Идеал величественного и бесстрастного сверхчеловеческого закона разума был в нем принципом положительным, принципом гражданского воспитания, без сомнения глубоко прогрессивным.
Искусство классицизма, как оно было воплощено Расином, Ж. Б. Руссо и многими другими во Франции и других странах, как оно было кодифицировано Буало в его знаменитой дидактической поэме «Поэтическое искусство», — антииндивидуалистично, отвлеченно, рационалистично. Для поэта-классика весь мир культуры основан на чистой логичности; мысль, разумное построение логики обеспечивают познание истины, т. е. познание действительности; наоборот, чувство, конкретное чувственное восприятие, подвержено случайностям и ошибкам; оно не дает правильного представления о действительности; так учили классики, руководимые философами-рационалистами. Они хотели быть по-своему реалистами, т. е. они хотели правильно изобразить истинную, подлинную действительность, как они ее понимали; но они полагали, что самая подлинная действительность — не живая жизнь отдельных людей в конкретных условиях социального их существования, а законы разума или же механически понятые и отвлеченно логизированные силы человеческой психики, подчиненные нормам той же антииндивидуальной разумности.
Поэт-классик не изображал конкретного, индивидуального человека; он изображал человека вообще, отвлеченного человека. Он представлял себе человеческую психику не в виде единого и сложного противоречивого потока переживаний, а в виде математической суммы несмешиваемых «способностей» или чувств, каждое из которых может быть рассмотрено в чистом виде. Так, например, Расин хочет показать не конкретные факты
- 369 -
жизни, а общие законы психики, хотя, конечно, эти, по его мнению, общие законы, — не более, чем типические черты психики и даже социального кредо определенной среды в определенных исторических условиях, — в конце концов дворянства, поддерживающего Людовика XIV. Но художественный метод Расина построен на логизированном обобщении. Действие его трагедий происходит чаще всего в неопределенной обстановке, — palais à volonté (дворец какой угодно), как обозначали такую декорацию на театральном языке эпохи. Это был ничего конкретного не обозначающий архитектурный пейзаж: колонны, своды, сгруппированные в геометрический узор, в конце концов пейзаж сферы чистой разумности и идеальной государственности, а не земли. Актеры были одеты в отвлеченно-театральные костюмы, в основном повторяющие придворные костюмы их эпохи. Наоборот, согласно правилу, действие трагедии должно было происходить в очень давние времена, или хотя бы в очень далекой стране, — именно для того, чтобы жизнь, знакомая зрителям, не мешала своими конкретно-близкими чертами созерцать под видом античных героев отвлеченные чувства, «способности души» и законы разума. Молодые дворяне во время спектакля сидели на сцене — и их же рационализированные схемы в величественных позах беседовали отточенными и ясными стихами Расина о их чувствах и мыслях. Потому-то трагедию нужно было обязательно — по непререкаемому правилу — писать в стихах, и именно величественным александрийским стихом; проза считалась в основном языком быта, единичной, случайной жизни. Стихи — язык багов, язык подлинного искусства, язык, непохожий на бытовой и пригодный для воплощения чистой разумности. Отсюда же и пресловутое правило трех единств, обязательное для всей драматургии классической поры; согласно правилу единства места, все действие пьесы должно было происходить в одном месте, — например в одном доме, а лучше всего — В одной комнате или на одной площади. Понятно, поскольку, например, в трагедии речь шла о войнах, заговорах, больших политических событиях и в то же время о любви, — это место действия превращалось в условное отвлеченное место, никакое конкретное место. При этом значительнейшие события по ходу пьесы не могли быть показаны зрителю; о них лишь рассказывали ему в обстоятельных поэтических повествованиях. Это тоже была характерная черта этого типического жанра классической поэзии; классическая трагедия — не драма действия, а драма разговоров; поэта-классика интересует не факт, а анализ, непосредственно формулируемый в слове. Второе единство — единство времени — сводится к тому же. Правило о нем требовало, чтобы все действие пьесы укладывалось не более, чем в сутки, и чем меньше оно превосходит время представления — три часа, тем лучше; в сущности же получилось так, что действие, например, трагедии протекало и вне времени, как оно протекало вне пространства. Наконец, правило единства действия требовало, чтобы в пьесе не было ничего лишнего, никаких эпизодов или действующих лиц, не необходимых для развития основного сюжета; потому что анализ должен был производиться в наиболее отвлеченном виде, а пестрота впечатлений жизни, затуманивающая разумную основу ее, подлежала устранению.
Нет необходимости указывать здесь другие правила, которым должен был подчиняться поэт, взявшийся написать трагедию; этих правил было еще немало; они регламентировали и количество действий пьесы (обязательно 5), и самое построение ее, распределение элементов сюжета по действиям, и входы и выходы действующих лиц и т. п. Существенно здесь именно самое наличие правил, законов творчества. Трагедия в этом отношении не представляла исключения среди других жанров; все они
- 370 -
получили разработанный кодекс законов, вполне обязательных для поэта-классика. Классическая эстетика считала, что произведения искусства не призваны выражать индивидуальное сознание, идеи или переживания своего автора. Индивидуальное вообще не интересует классиков. Классическая эстетика антиисторична. По ее представлению, искусство призвано выражать вечную и незыблемую истину, вечное и общее, свойственное всем людям всех времен и народов. Оно призвано выражать это общее по столь же общим законам разума. Эти законы обязательны для всех поэтов всех времен и народов, как нормы государственности обязательны для личности; они сформулированы в применении к литературе в незыблемых правилах. Поэтическое творчество становится похожим на точную науку.
Основа всех правил классической поэтики — разделение литературы на несмешиваемые жанры. Здесь царил своеобразный закон единства стиля. Каждая тема соответствовала своему жанру, и каждое произведение строилось по закону своего жанра — прямолинейно и целостно. Если закон трагедии — возвышенное страдание, то все в ней будет соответствовать этому закону. Стиль трагедии торжественный, не допускающий не только таких слов, как корова или гусь, но вообще бытовых слов, бытовых разговорных оборотов. Действующие лица трагедии — цари и «герои» и т. д. Получается единство, прилаженность друг к другу всех этих элементов поэтики — «высоких» в одни жанры, «низких» в другие и т. п. Ни одна комическая черта не должна осквернить «высокую» трагедию, и ни одна «возвышенная» черта не должна унизиться появлением в комедии. Вся эта схема жанровой классификации в высшей степени органически выражала мировоззрение абсолютистской государственности, как и вообще вся система правил классического искусства. Это мировоззрение видело в человеке лишь отвлеченную единицу сословной классификации, оно было антииндивидуалистично вообще.
Отвлеченное, антиисторическое, механическое мышление классицизма предполагало, что разум указывает для данной художественно-идеологической задачи лишь одно абсолютно правильное решение, и притом навсегда. Если когда-то великий поэт-мастер создал правильное, разумное прекрасное произведение, то не надо его преемникам в искусстве итти иными путями, а надо, наоборот, подражать этому образцу. Эстетика абсолютистского классицизма авторитарна, она преклоняется перед авторитетами. Рядом с «правилами», вторым устоем всего искусства классицизма были «образцы», теория подражания. При этом примечательно, что ни в теории, ни в практике поэзия классицизма не была только «книжной» поэзией. Фактически классики писали иначе, чем те поэты, которых они избрали своими образцами. Да и в теории они требовали от искусства в первую очередь «подражания природе», естественности; но они природу, жизнь понимали в плане предпочтения общего частному, общественного личному.
Образцовой литературой была объявлена античная литература. Подражать надо было грекам и римлянам. При этом, сооответственно политическим идеалам классицизма, наибольшее внимание привлекала поэзия императорского Рима, поэзия века Августа — Овидий, Вергилий, Гораций. Из греков интересовал не столько Софокл или тем более Эсхил, сколько утонченный Еврипид. Античные жанры, античные образы, античная мифология заполняют литературу, которая не становится от этого более близкой подлинной античной.
Первые воздействия классицизма в России могут быть прослежены еще в XVII в., в поэзии, создававшейся при дворе царя Алексея Михайловича, в творчестве ученого монаха-стихотворца Симеона Полоцкого,
- 371 -
носителя придворного литературного стиля. На смену его школьному украинскому классицизму пришел новый, почерпнутый уже непосредственно в западных источниках Кантемиром и Тредиаковским. Они обращаются и к античным образцам и к французским и немецким классикам. Они дают сами образцы творчества в канонизированных классических жанрах. Самые принципы стиля Кантемира и раннего Тредиаковского с их стремлением к рациональной простоте, ясности, логичности, с их дидактизмом и схематизмом мышления — все это вело к созданию русского классицизма.
Русский классицизм, канонизатором которого явился Сумароков, имея общие с французским и немецким классицизмом идеологические и стилистические очертания, все же отличается от своих западных собратьев. Во-первых, русский классицизм в своих развитых формах в середине XVIII в. оказался литературным проявлением мировоззрения совершенно определенной общественной группы — именно наиболее культурного и либерального дворянства, и черты дворянского мировоззрения в сочетании с своеобразным просветительством придают ему характерный и оригинальный облик. С другой стороны, русский дворянский классицизм рождался поздно, рождался уже с трещиной.
Он просуществовал как единый стиль, как литературное течение, не более трех десятков лет, начиная с эпистол Сумарокова 1747 г., и до первых од Державина, разрушителя этого стиля, до «Россиады» — завершения стиля. Тогда же, в начале 1780-х годов, Фонвизин писал «Недоросля», в котором изнутри классицизма рождался реалистический метод. Ведь и у Сумарокова, наиболее последовательного классика в русской литературе, принцип отрешенности от конкретных фактов действительности, рационалистического обобщения и понятийной отвлеченности не смог овладеть всей совокупностью его творчества. При этом живые и конкретные отклики на реальную жизнь мы находим у Сумарокова не в высоких жанрах, посвященных выявлению его идеала, а именно там, где он нападает на отклонения от идеала, являющиеся для него слишком реальной, печальной и неприемлемой действительностью. То же самое мы видим и у представителей второго поколения русских классицистов, даже у Хераскова, Ржевского и др. Тут же необходимо оговорить, что реалистические элементы мы ни в какой степени не должны усматривать повсюду, где мы встречаемся с «низким» стилем, с речевой грубостью или даже с отдельными упоминаниями бытовых предметов или «бытовизма» вообще. Реализм, — даже если говорить только лишь о формировании элементов его, — вовсе не сводится к разговорам о кабаках или ночных туфлях. Реализм — это мировоззрение, а не слова. Реализм — это определенное отношение к действительности, а не аморфный выбор тематических мотивов. Поэтому и в творчестве Сумарокова следует видеть некоторые, еще слабые, моменты реалистического характера не потому, что он грубовато и смешно балагурит в своих «притчах», а потому, что отрицательные — с его точки зрения — явления общественной жизни он показывает конкретно, как реальные факты действительности, а не отвлеченно-типологически по эстетике Декарта.
И в этом сказались существенные специфические черты русского классицизма XVIII в., по сравнению с его западными прообразами и собратиями. Русский классицизм был поздним цветом; он строился в ту пору, когда он уже рассыпался на Западе. Он строился уже не целостным и с самого начала нес в себе черты собственного распада. Он строился в условиях борьбы за существование русского дворянского либерализма и по мере обострения этой борьбы с крепостнической деспотией он
- 372 -
принужден был делать свое идеологическое оружие все более отточенным, острым. Поражая врагов орудием сатиры, трудно было возноситься в сферу отвлеченных идеалов. В целях яркости, «доказательности» своей пропаганды надо было показать ужасную правду в ее наготе. И вот, именно у наиболее острого и передового политического мыслителя этой традиции, предпринявшего борьбу с рабскими формами крепостничества и с варварскими методами управления деспотии, у Фонвизина, строится по-настоящему реалистическое отношение к действительности и опять в пределах сатирической темы, в меру критики социально-политического уклада страны. Ведь, нападая на рабство и деспотию, Фонвизин делал прогрессивное дело не только в интересах либерального дворянства, но и в интересах свободы страны в целом.
Это же движение намечалось в русском дворянском классицизме уже у Сумарокова. Уже у него мы можем указать, например, и такое существенное отклонение от принципов западного классицизма, как допущение в круг эстетически узаконенных явлений стиля народного творчества, фольклора. Сумароков имитирует фольклорную песню — вещь немыслимая для Расина.
Таким образом, говоря о Сумарокове как канонизаторе и теоретике русского классицизма, мы должны помнить, что сам этот классицизм — это своеобразное и органичное явление русской культуры, хотя и соотносимое с аналогичными явлениями западных национальных культур.
6
Основа конкретной поэтики Сумарокова — требование простоты, естественности, ясности поэтического языка, направленное против ломоносовского «великолепия». Поэзия, построения которой добивается Сумароков, — трезвая, деловитая поэзия, логическая и отвлеченная. Она должна говорить от лица высшего разума, и она чуждается всего фантастического и туманно-эмоционального; она должна быть отчетливой, чтобы соответствовать задаче быть формулой идеологии «разума» страны. Не ослепить пышностью придворного празднества покорных подданных хочет Сумароков, не с монархом хочет он говорить, — он хочет устроить внутренние дела своего класса, он обращается к нему помимо указа власти и хочет говорить с ним прямо и просто, не ослепляя его, а разъясняя ему его права, обязанности и уча его истинному отношению к жизни и ее проявлениям. Он хочет быть «просто» человеком, т. е. идеальным человеком (в его субъективном понимании — образцовым дворянином) в самом строе своей речи. Он хочет вести за собой дворянство и убедить его не патетикой блеска и богатства слов, а внутренней убедительностью логики. Он хочет снять завесу благоговения перед «высшими», создаваемую доклассической поэзией. Он не устает требовать простоты от поэта; он проповедует эту простоту в стихах и в прозе, при всяком удобном и неудобном случае, со всей страстностью своего характера и со всей последовательностью пропагандиста и бойца. Так, в статье «О неестественности» он высмеивает и осуждает поэтов, которые пишут «не имея удобства подражать естества простоте... Что более писатели умствуют, то более притворствуют, а что более притворствуют, то более завираются».
Он бранит поэтов, которые «словами нас дарят, какими никогда нигде не говорят», которые составляют речь «совсем необычайну, надуту пухлостью, пущенну к небесам».
Еще в молодости он, по свидетельству Тредиаковского, порицал
- 373 -
поэтов, нарушающих нормы привычного синтаксиса, переставляя слова в фразе по сравнению с обычным порядком.
Характерно в этом смысле подчеркнутое требование Сумарокова опирать грамматические правила не на образцы старых книг, а на общее употребление, — конечно, в пределах речевой практики дворянской интеллигенции; Тредиаковский же именно поэтому упрекал Сумарокова в недостаточном владении нормами церковно-славянской речи.
Сумароков противопоставлял стихи, которые
...приятностью влекут,
И шествуя в свободе,
В прекрасной простоте...тем, которые «естеству противны», «сияющи в притворной красоте», полны «пустого звука».
Чувствуй точно, мысли ясно.
Пой ты просто и согласно, —наставляет он свою ученицу в поэзии Е. В. Хераскову. «Витийство лишнее природе злейший враг», — пишет он другому своему ученику, В. И. Майкову:
Ум здравый завсегда гнушается мечты.
Коль нет во чьих стихах приличной простоты,
Ни ясности, ни чистоты, —
Так те стихи лишены красоты
И полны пустоты.Здесь особенно характерен первый из приведенных стихов: Сумароков «гнушается мечты»; он — весь на земле, хотя представляет себе эту землю в характерно-рационалистическом аспекте.
«Многие говорили о архиепископе Феофане, что проповеди его не очень хороши, потому что они просты; что похвальняй естественной простоты, искусством очищенной, и что глупея сих людей, которые вне естества хитрости ищут!» — восклицает Сумароков («К несмысленным рифмотворцам»). Он иронически советует писателям «в великолепных упражняться одах; ибо многие читатели, да и сами некоторые лирические стихотворцы рассуждают так, что никак невозможно, чтобы была ода и великолепна и ясна; по моему мнению пропади такое великолепие, в котором нет ясности» (там же); здесь — уже почти неприкрытый выпад против Ломоносова и его поэтики.
На пути прославления безыскусственного выражения Сумароков опять столкнулся с вопросом о народном творчестве. В статье «О стихотворстве камчадалов» он останавливается на проблеме взаимоотношения художнической обработки и стихии непосредственного выражения: «Говоря о стихотворстве, которое чистейшим изображением естества наспаться может, оно всего больше ослеплению искусства подвержено... Останемся лучше в границах правды и разума, и в мысли таковой, что человеку человечества превзойти неудобно. Природное изъяснение из всех есть лучшее».
С Ломоносовым Сумароков боролся по всем линиям его творческой программы. Величественная государственная поэзия Ломоносова, в грандиозных образах воплощающая его мечту о будущем России, была неприемлема для сумароковского рационализма, не вмещавшего в свои узкие рамки стихийного размаха ломоносовского пафоса. В ряде критических выпадов, замаскированных и открытых, Сумароков высказывает свое отношение к ломоносовской поэтике. Он переводит отрывок
- 374 -
из трактата Лонгина «О высоком» (с перевода Буало), выбирая именно то место, в котором осуждаются «надутость», стремление «превзойти великость», «всегда сказать нечто чрезвычайное и сияющее», осуждается «жар не во время», излишняя «фигурность» речи, метафоризм и т. д. — во имя «естественности».
В статье «О разности между пылким и острым разумом» Сумароков в противоположность Ломоносову, называвшему остроумием ценную, по его мнению, способность быстро охватывать воображением целые ряды представлений, вольный полет фантазии, дополненный «рассуждением», утверждает, что «острый разум состоит в проницании», способность же, восхваляемая Ломоносовым, есть только «пылкий разум», при котором и без «острого разума» поэт «набредит» и «бредом своим себе и несмысленным читателям поругание сделает». Этот выпад против «Риторики» Ломоносова тщательно замаскирован. В своей переписке Сумароков был откровеннее; в одном письме он ссылался на «Риторику» как на несомненное доказательство сумасшествия Ломоносова. В статье «Об остроумном слове» Сумароков полемизирует с теорией Ломоносова, видевшего в «изобилии» речи ее достоинство; «многоречие свойственно человеческому скудоумию; все те речи и письма [т. е. сочинения], в которых больше слов, нежели мыслей, показывают человека тупого...» и т. д. Прямо называет Ломоносова Сумароков в примечании к переводу IV олимпической оды Пиндара; теперь он отрицает сходство Ломоносова с Пиндаром, который «порывист, но всегда приятен и плавен; порывы и отрывы его ни странны, ни грубы, ни пухлы... Многие наши одописцы не помнят того, что они поют, и вместо того говорят, рассказывают и надуваются; истребите, о музы, сей несносный вкус и дайте познавать писателям истинное красноречие и наставьте наших пиитов убегати пухлости, многоглаголания, тяжких речений» и т. д.; последнее замечание относится, повидимому, к ученикам Ломоносова, так как перевод Пиндара издан через девять лет после его смерти (1774).
Выступает Сумароков и против грамматических взглядов Ломоносова. В середине XVIII в., когда впервые строилось учение о русском языке, грамматические споры смешивались с поэтическими. И в поэтике и в грамматике ставились вопросы образования литературного языка, вопросы о нормах языка и об оправдании этих норм. Поэты были созидателями языка, а языковеды — критиками и теоретиками поэзии. И те и другие вопросы смыкались в проблематике языковой политики и вызывали сходные споры. И Тредиаковский, и Ломоносов, и Сумароков работали как в области литературоведения, так и в области языковедения. Сумароков постоянно теснейшим образом связывает и переплетает высказывания о языке, как таковом, и о поэзии. Ожесточение, с которым Сумароков нападает на грамматику Ломоносова, понятно при учете всей борьбы его против поэтической и языковой практики его литературного противника.
Неоднократно Сумароков обращался и к непосредственному критическому разбору произведений Ломоносова. В статье, посвященной подробному анализу оды Ломоносова 1747 г., он по преимуществу останавливается на принципах словоупотребления, семантики. Сумароков последовательно осуждает всякое отклонение от привычного — по его мнению единственно допустимого — значения слов, всякую, сколько-нибудь индивидуальную метафору или даже метонимию. Для Сумарокова слово — это как бы научный термин, точно определенный; изменение его единственного значения (у Ломоносова — в интересах выразительности) расценивается Сумароковым как нарушение правильности грамматического характера; совмещение и скрещение смыслов в метафоре с его точки зрения — только
- 375 -
Ф. Г. Волков.
Портрет (масло) работы А. П. Лосенко.порок против логики и языка, ибо и грамматика строилась в логическом плане. Сумароков ополчается и против сравнений, нарушающих принцип логического подобия обоих сравниваемых элементов. В той же статье Сумароков задевает и тематическую композицию разбираемой оды, осуждая перерыв в ведении темы.
Полемика Сумарокова с Ломоносовым, обнаруживая непонимание Сумароковым всей глубины мировоззрения его великого современника, отражала в то же время поступательный ход русской поэзии.
Ломоносов — главный противник Сумарокова в языке и в поэзии. Но Сумароков сражался и с другими. Он вообще был необычайно активен в литературной борьбе. Он пародировал Тредиаковского, смеялся над его устаревшим уже языком. Он напал с злой пародией и на В. Петрова, в котором усмотрел наследника Ломоносова, продолжателя его традиций; он попутно задел Кириака Кондратовича в статье «К несмысленным стихотворцам» — за полонизмы.
Вообще Сумароков настаивал на охранении лексики русского языка от неумеренных вторжений иностранщины. Нельзя сказать, чтобы он был консерватором в словаре; он сам вводил новые слова и словоупотребления; он допускал также иностранные слова для обозначения предметов, не
- 376 -
имевших обозначения на русском языке, например для импортных товаров. Но он возмущался галломанией в языке светских щеголей, пересыпавших свою речь французскими (и иногда немецкими) славами, он видел в этом макароническом жаргоне опасность утери своеобразия русского языка. Кроме того, язык петиметров был языком той придворной верхушки, с которой боролся Сумароков, так же, как он боролся с языком подьячих, с его канцеляризмами, архаикой и своеобразной запуганностью, и это была борьба социальная и политическая, так же как нападки (в «Эпиграмме», изданной в 1774 г.) на комедию-драму Д. Волкова «Воспитание», пропагандирующую точки зрения двора (уже екатерининского), и на поэму «мещанского» писателя М. Чулкова «Плачевное падение стихотворцев».
7
Первым литературным успехом Сумароков был обязан своим песням, не печатавшимся, но распевавшимся и в Петербурге и в провинции. Затем появился «Хорев», и судьба Сумарокова вскоре оказалась связанной с историей русского театра.
Театральная организация, созданная по инициативе Петра I в начале XVIII столетия в Москве, распалась вскоре; но начало было ею положено, и прекратить театральную жизнь не могли уже никакие реакционные силы. Петр I оказался подлинным основателем русского театра. Толчок, данный им, разбудил живые творческие силы народа и в данной области. После распадения официального публичного театра оставались многочисленные полулюбительские, полупрофессиональные театральные коллективы, игравшие и в обеих столицах и в провинции. Это были школьные труппы; это были и труппы разночинцев, дававшие всенародные представления на праздниках, продолжавшие традиции петровского театра и связанные с демократическим зрителем.
С начала 1730-х годов при петербургском дворе прочно обосновывается привозной с Запада театр. В 1731 г. здесь давала спектакли итальянская оперная труппа; с 1733 г. до 1735 г. ее сменила труппа народной итальянской комедии, а с 1735 г. она была в свою очередь заменена оперной и балетной труппой итальянцев. С перерывами итальянская опера существовала в Петербурге до 1760-х годов.
Итальянский театр оказал значительное влияние на формирующееся русское театральное искусство, и это влияние, в особенности в части commedia dell’arte, было благотворно.
В 1740 г. в Петербурге играла немецкая труппа Каролины Нейбер, пропагандировавшая немецкий классицизм школы Готтшеда. Начиная с 1742 г., в течение ряда лет в Петербурге работала французская труппа Сериньи, знакомившая русскую публику с блестящим драматическим и театральным искусством французского классицизма. С 1747 г. в Петербурге играла опять немецкая труппа во главе с замечательным театральным деятелем К. Э. Аккерманом.
В то же время — помимо народных театральных представлений и школьного театра — шла подготовка нового расцвета русского театрального искусства и в кругах дворянской интеллигенции. Огромную роль в этом деле сыграл Шляхетский кадетский корпус. Еще в 1730-х годах кадеты участвовали в исполнении массовых сцен в итальянской опере; их обучал балетному искусству балетмейстер Ланде, основатель школы танца, и поныне существующей в академических театрах в Ленинграде.
В начале 1740-х годов, на ряду с оперой итальянцев, ставятся при дворе и русские оперы. Еще в 1730-х годах при дворе ставились русские
- 377 -
спектакли, в которых играли любители из придворных. Позднее любительские спектакли ставились в кадетском корпусе и на французском языке. Так, в 1748 г. кадеты играли в корпусе «Заиру» Вольтера, и их спектакль был потам дважды повторен во дворце.
В 1747 г. бывший кадет Сумароков издал свою трагедию «Хорев», в следующем году он напечатал «Гамлета». И вот, в конце 1749 г., на святках, кадеты поставили «Хорева» у себя в корпусе; женские роли играли, конечно, юноши. Спектакль, видимо, удался. Он был повторен во дворце в улучшенном виде, причем помогал ставить пьесу сам Сумароков. И здесь театральное искусство кадет было оценено. Кадеты стали часто играть русские пьесы при дворе; образовалось нечто вроде кадетской труппы; в ней играли Мелиссино, Свистунов, Остервальд, Бекетов, Рудановский, Каниц, Гох, Разумовский, гр. Бутурлин, кн. Мещерский; последние двое обладали выдающимся дарованием. Спектакли обставлялись роскошно. Кадеты, участники труппы, настолько были втянуты в театральное дело, что во время ледохода переезжали из корпуса (с Васильевского острова) во дворец, чтобы спектакли не прекращались, — и выбывали на время из учебы. Душою этого корпусного театра был Сумароков.
Между тем, далеко от Петербурга и двора, в провинции, в Ярославле, и вовсе не в дворянской среде, зрела еще одна театральная организация, которой суждено было сыграть огромную роль в деле развития русского театра. Молодой ярославский купец-заводчик Федор Григорьевич Волков, человек многосторонне талантливый, увлекся театром. Он учился одно время в Москве, в Заиконоспасской академии; здесь он без сомнения познакомился с старинным русским школьным театрам. В 1746 г. семнадцатилетний Волков отправился в Петербург для изучения бухгалтерии и новейших приемов коммерции. В Петербурге он смог побывать в итальянской опере, затем в немецком театре. В 1748 г. он должен был вернуться в Ярославль для ведения дел, так как умер его отчим и он стал главою семьи. Но он уже не мог отстать от театральных интересов. Приехав по делам в Петербург, он попал на спектакль корпусной труппы; русские актеры произвели на него огромное впечатление. Вернувшись опять в Ярославль, Волков принялся за устройство своего театра. Школьный театр был известен русской провинции этого времени, как и зрелища вполне светского и даже народного характера. Однако театральная «затея» Волкова по размаху и серьезности превосходила другие провинциальные театральные начинания середины XVIII в. Волков объединил вокруг себя группу разночинной молодежи. Он оборудовал для комедии кожевенный амбар своего промышленного предприятия, и летом 1750 г. начались представления. Н. И. Новиков писал через 22 года: «Волков умел заставить восчувствовать пользу и забавы, происходящие от театра, и самых тех, которые ни знания, ни вкуса во оном не имели. Вскоре маленький театр стал тесен для умножащегося числа зрителей». Средств на новое театральное здание у Волкова не было; тогда он «возымел прибежище к зрителям. Они уже столько к театру им были приучены, что не захотели лишиться сей забавы. Каждый из них согласился дать по некоторому числу денег на построение нового театра, который старанием г. Волкова и построен... При строении сего театра был он сам архитектором, живописцем и машинистом, а когда приведен был оный ко окончании, то сделался он на сем театре и главным директором и первым актером». Репертуар составился из русских пьес досумароковокого времени. Новый театр был открыт в начале 1751 г. Плата за вход в него была невысокая, от копейки до пяти.
В том же году в Ярославль приехал для расследования злоупотреблений по винным откупам сенатский чиновник. Он побывал в театре
- 378 -
Волкова и, вернувшись в Петербург, рассказал о нем. Известие это дошло до Елизаветы Петровны. Тотчас же последовало приказание «ярославских купцов Федора Волкова с братьями, которые в Ярославле содержат театр и играют комедии и кто им для того еще потребен будет, привезти в Санкт-Петербург».
Немедленно за Волковым и его труппой был послан человек. Это было в январе 1752 г. Кадетские спектакли в это время находились под угрозой; кадеты кончали курс и должны были сделаться офицерами. Играть на театре они уже не могли, во всяком случае, — могли не все и не так регулярно. Нужно было новое пополнение русских театральных сил.
В феврале 1752 г. генерал-прокурор Трубецкой доложил Елизавете Петровне, что ярославцы в числе 12 человек прибыли в Петербург. Через полтора месяца, 18 марта, Волков со своей труппой выступил перед императрицей и ее двором; шла пьеса Димитрия Ростовского «О покаянии грешного человека». Затем ярославцы играли на городском театре — для публики. Наконец судьба их решилась. Наиболее одаренных из них оставили в Петербурге, других отправили домой. В сентябре 1752 г. двоих ярославцев, И. А. Дмитревского и А. Попова, отдали в кадетский корпус «для обучения словесности, языка и гимнастики». Другие — братья Волковы и еще несколько человек — в конце 1752 г. выехали с двором в Москву. В 1754 г. братья Волковы, Федор и Григорий, были также определены в корпус. Актеры-разночинцы обучались вместе с дворянами, но жили отдельно и не носили шпаг. Одновременно они упражнялись в театральном искусстве под руководством бывших кадет-актеров и Сумарокова. С 1755 г. они давали спектакли при дворе; в этих спектаклях участвовали и некоторые «спавшие с голоса» придворные певчие, также обучавшиеся с 1752 г. в корпусе.
Наконец, 30 августа 1756 г. был помечен указ Елизаветы Петровны об учреждении постоянного русского театра «для представления трагедий и комедий». Дата этого указа справедливо считается датой основания нового русского театра. С этого времени, началась славная история его; регулярный театр существовал, начиная с этого времени, беспрерывно.
Директором нового театра был назначен Сумароков; первым актером — Ф. Г. Волков. Театр сорганизовался к 1757 г. Актерами в нем были два брата Волковы, Дмитревский, А. Попов, П. Ульянов, Е. Сичкарев, Л. Татищев, Я. Шуйский и др. Актрис сначала не было. В 1757 г. через газету приглашались актрисы. Первыми женщинами, пришедшими в театр, были Аграфена Дмитревская, жена И. А. Дмитревского, Мария Волкова, жена Григория Волкова, Елизавета Билау и Анна Тихонова.
На первых порах Сумарокову и Волкову, организаторам русского театра, пришлось работать много и трудно. Театр был поставлен в тяжелые материальные условия; публика на спектаклях вела себя недисциплинированно; правительственные дельцы мало обращали внимания на театр; репертуара почти не существовало. Все эти затруднения преодолевались только благодаря энергии и талантам первых работников театра, и в частности Федора Волкова. Это был не только замечательный актер, но и блестящий организатор. Волков был в высокой степени культурным человеком. Кроме театра, он успешно занимался живописью и скульптурой, был музыкантом (он играл на многих инструментах) и поэтом; дошедшие до нас две его песни, написанные в народном духе, обнаруживают и его дарование и передовое социально-политическое мировоззрение.
Волков добился настоящей славы и полного признания. Екатерина II,
- 379 -
вступив на престол, дала ему дворянство; еще раньше, в 1759 г., он вместе с Шумским ездил в Москву для устройства там театральных дел (в Москве существовал уже в это время при университете театр под руководством Хераскова).
И. А. Дмитревский.
Литография Кашенцева.Волков умер в 1763 г., в расцвете дарования и сил, простудившись во время подготовки театрализованного шествия-маскарада «Торжествующая Минерва», устроенного в Москве по случаю коронации Екатерины II. В это время Сумароков уже не был директором театра. Рассорившись с придворным начальством театра, в частности с немцем-вельможей Сиверсом, которому были чужды интересы русского искусства, Сумароков был уволен с этого места в 1761 г.
После смерти Волкова главой русских актером сделался Иман Афанасьевич Дмитревский. Дважды он ездил за границу, в 1765—1766 и в 1767—1768 гг., усовершенствовал свое искусство и, по возвращении из второй поездки, стал насаждать на русской сцене новую манеру играть, более эмоциональную и тонкую. Дмитревскому было суждено стать учителем всех выдающихся актеров XVIII столетия, главою школы русского театра; он же подготовил для русского театра ряд молодых дарований уже начала XIX в. В последний раз он выступил сам на театре в 1812 г.
Что же касается Сумарокова, то его отставка от театра в 1761 г.
- 380 -
не убила в нем интереса к театральному искусству. В 1769 г. он переехал в Москву, где и поселился. Немедленно же он принял активное участие в театральных делах в Москве, где в это время театр пришел в упадок. Он выхлопотал для театральных антрепренеров Бельмонти и Чинти привилегию от правительства на устройство театра в Москве на пять лет и усиленно вмешивался в дела нового театра. В 1770 г., когда Бельмонти умер и театр его распался, Сумароков опять принялся за хлопоты о новом театре.
8
До 1755 г. Сумарокову удалось напечатать только свои трагедии, две эпистолы и одно стихотворное переложение псалма. В 1740-х годах в России вовсе не издавалось литературных журналов, и печатать отдельные стихотворения было негде. Начиная с 1755 г. стали выходить при Академии Наук под редакцией академика Г. Ф. Миллера «Ежемесячные сочинения», поставившие своей задачей пропаганду научных и технических знаний в популярной форме и в то же время пропаганду художественной литературы. В это время вокруг Сумарокова уже сформировалась вторая группа учеников во главе с Херасковым; представители первой школы Сумарокова к этому времени в значительной степени отошли от поэзии, продолжая работать лишь в театре. Сразу же по организации академического журнала Сумароков фактически захватил в нем в свои руки отдел поэзии. Штелин сообщает, что «Сумароков поставил даже себе законом, чтоб без присылки его стихотворений не выходила ни одна ежемесячная книжка журнала»; в самом деле, в течение четырех лет Сумароков печатался в «Ежемесячных сочинениях» беспрерывно, кроме периодов его отсутствия из Петербурга. Он опубликовал в академическом издании множество своих стихотворений в различных жанрах. За ним потянулись и младшие представители дворянского классицизма, уже в это время начинавшие отдаляться от своего учителя и формировать новую школу. В «Ежемесячных сочинениях» поместили свои стихотворения Херасков, С. Нарышкин, Нартов, Ржевский и др., Елагин помещал переводы в прозе.
С января 1759 г. Сумароков начал издание собственного журнала «Трудолюбивая пчела». Журнал выходил ежемесячно и печатался в типографии Академии Наук. С Академией у Сумарокова не обошлось без трений и по линии цензурной и по линии материальной.
«Трудолюбивая пчела» была первым журналом в России, издававшимся одним лицом. Начавшее выходить одновременно с нею «Праздное время в пользу употребленное» было также частным изданием, хотя и печаталось при кадетском корпусе, но издавалось оно группой литераторов.
«Трудолюбивая пчела» была также первым журналом в России, целиком посвященным литературе. С точки зрения идеологической, политической и чисто литературной, журнал Сумарокова представлял картину единства направления, также еще неизвестную до него русской молодой журналистике XVIII в. С самого начала издания Сумароков заявил о своей политической ориентации, посвятив «Трудолюбивую пчелу» жене наследника престола Екатерине Алексеевне; дело в том, что Екатерина была в это время в опале, находилась на подозрении у Елизаветы Петровны и вокруг нее собирались все фрондирующие, оппозиционные по отношению к деспотии и даже либеральные интеллигенты из столичных дворян. С первых же номеров журнала Сумарокова выясняются его лицо и программа: острая, смелая борьба против «подьячих», против
- 381 -
придворно-правительственной верхушки, против откупщиков. Сумароков не только поучал «вообще», но бил в определенные цели, нападал на определенных лиц. Его острые, ядовитые и необычайно живые статейки в журнале начинали собою традицию русской сатирической публицистики, достигшей столь славных побед в творчестве Крылова, Пушкина, Щедрина. Сумароков заполнял свой журнал в значительной степени своими собственными произведениями. Он развил огромную энергию и дал своим врагам генеральное сражение. Попутно он разъяснял принципы своих стилистических требований, бранил неугодных ему писателей, поучал своих сторонников, говорил о языке, страстно и резко браня иностранщину, порываясь к неким филологическим исканиям, поучая правильности и чистоте русской речи. И тут же он обучал дворян культурному быту, человеческим нравам, — а там опять выпады политического свойства и т. д.
Обложка журнала А. П. Сумарокова „Трудолюбивая
пчела“.В «Трудолюбивой пчеле» Сумароков выступил не один; он окружен в своем журнале друзьями и даже единомышленниками. Тут и Г. В. Козицкий, филолог, впоследствии статс-секретарь Екатерины II, бывший и посредником между поэтом и императрицей, а в это время литератор и приятель Сумарокова; тут и друг Козицкого и Сумарокова, М. Н. Мотонис; тут и И. А. Дмитревский, литератор из ярославских актеров, связанный с Сумароковым по театру; за ними идут молодые литераторы, перешедшие в «Пчелу» вслед за Сумароковым из «Ежемесячных сочинений»: А. А. Нартов, С. В. Нарышкин, А. А. Ржевский; за ними ряд других: И. Полетика, В. Крамаренков, Е. Сумарокова (дочь А. П. Сумарокова), А. Аблесимов (секретарь Сумарокова), В. Нарышкин, Л. Лобысевич, А. В. Нарышкин, С. Глебов, Ф. Геннингер. Участие каждого из них в журнале было невелико; переводы, одно-два стихотворения; но в совокупности это был целый отряд литераторов, целая группа.
Единственно, что в глазах правительства «Трудолюбивая пчела» была нежелательным явлением; тем более это было так, что в 1759 г. обострились трения Сумарокова с начальством и по театру, и он вынес эту распрю на страницы своего журнала, редко нападая на Сиверса и апеллируя к общественному мнению. К концу года выяснилась невозможность продолжать журнал. Последний, декабрьский номер
- 382 -
«Трудолюбивой пчелы» заключался многозначительным «Расставанием с музами»» подписанным Сумароковым:
Для множества причин
Противно имя мне писателя и чин;
С Парнасса нисхожу, схожу противу воли
Во время пущего я жара моего,
И не взойду по смерть я боле на него;
Судьба моей той доли.
Прощайте, музы, навсегда!
Я более писать не буду никогда.В той же книжке журнала Сумароков демонстративно поместил письмо «К издателю „Трудолюбивой пчелы“», долженствовавшее подчеркнуть, что он, Сумароков, не одинок, что нажим на него вызовет отклик в целой группе дворянства. «Государь мой! — начинается письмо. Благодарность всех любящих словесные науки и особливо российский язык, которого вы силу и красоту в разных Ваших сочинениях к общей пользе и удовольствию открыли, и что еще и ныне новыми Вашими изданиями их удовольствие продолжаете, оставляя способы и правила Вам подражать, заставляет меня к Вам сие писать письмо...» Далее идут похвалы Сумарокову и исчисление его заслуг: «Желательно, чтоб и протчие Ваши нравоучительные сочинения такой же успех имели, а особливо те, где Вы в Ваших периодических изданиях говорите о лихоимстве, вреднейшем зле государства... Я пишу Вам сие от некоторого общества, которых благородные мысли ответствуют знатности их и благорождению: они так ненавидят порок лихоимства, как гонителей оного почитают...» и т. д. Последнее в особенности важно; это письмо является заявлением целого «общества», какого-то кружка, организации. Характер ее обозначен ясно: это люди знатные, благородные и культивирующие «благородство мысли». Значит, это письмо служит прямым доказательством того, что группа, литературным учителем которой был Сумароков, в конце 1759 г. имела нечто вроде организационного оформления. Что это было за «общество» — неизвестно; был ли это литературный кружок при кадетском корпусе, или же группа, начавшая через месяц издавать «Полезное увеселение» и имевшая центр в Москве, или иная какая-нибудь — общий тип ее направления не может вызывать сомнений.
Конечно, Сумароков не мог отказаться от литературы, как он грозил это сделать в «Расставании с музами». Немедленно после прекращения «Трудолюбивой пчелы» он перенес свою полемику, свою пропаганду, правда, в значительно уменьшенном размере, в журнал своих друзей «Праздное время в пользу употребленное». В этом журнале он выступает, конечно, с меньшим количеством произведений, но нисколько не менее резко; Сумароков продолжал борьбу. Он поместил в «Праздном времени» целый цикл басен, эпиграмм, статей, дерзко нападавших на откупщиков, на подьячих, на воров и грабителей; он метил в определенных лиц, не стесняясь метить высоко. Он намекал на необходимость сменить земных богов (басня «Болван»), перебить всех сановных подьячих и т. д. Сумароковская публицистика в прозе и стихах вырастала в серьезную и почти открытую политическую борьбу.
Между тем в том же 1760 г. вернулся в Петербург из Швеции, где он был русским посланником, Никита Иванович Панин, крупный государственный деятель, назначенный в это время воспитателем шестилетнего великого князя Павла Петровича. Панин был дворянским либералом.
- 383 -
Группа либералов получила вождя, уже не только идеолога и вовсе не поэта, а настоящего политического бойца. С самого этого времени всю группу, пытавшуюся фрондировать против азиатского деспотизма, можно считать группой Панина. Младший брат Н. И. Панина, Петр Иванович, почти все время находился на фронте (шла Семилетняя война). Позднее он стал вместе с Никитой во главе сплоченной группы единомышленников, Сумароков, а за ним и все его окружение, оказались сомкнутыми с Паниными. Время наступило беспокойное, для правительства.
С каждым годом, с каждым месяцем здоровье императрицы ухудшалось. Все знали, что она долго не проживет. Вопрос стоял о том, кто станет главой государства после смерти Елизаветы и на каком основании: вернее, какая группа дворянства будет держать в руках будущего главу государства и какую программу она ему предпишет.
Сумароковцы видели в великой княгине Екатерине надежду исполнения своих чаяний. Она увидела в них опору в придворных интригах. Ее игра в интеллектуальные интересы, некоторая начитанность, умение повольнодумничать, — все это создало почву для сближения той и другой стороны. Екатерина потакает фрондерским настроениям: она бьет на популярность среди недовольных фаворитизмом, «подьячими», грабительским режимом Шуваловых. Она поступает осторожно, намекает на свое вольномыслие, на то, что ее предположения идут далеко.
24 декабря 1761 г. Елизавета Петровна умерла. Наступило время борьбы за власть. Полугодовое царствование Петра III не разрешило проблем государственного устройства. Петр III вызвал глубокое недовольство не только в дворянстве, но и в широких слоях населения и в армии своей антинациональной и антигосударственной политикой. 28 июня 1762 г. произошел переворот, возведший на престол Екатерину II.
С начала 1762 г. и Сумароков и писатели его круга активизировались.
Одна за другой стали появляться торжественные оды, имевшие, конечно, характер политических высказываний, стихотворных передовиц. Нужно заметить здесь, что до этого времени поэты сумароковского круга вообще не жаловали торжественной («похвальной») оды; они избегали прямых политических высказываний в официальной плоскости, в связи со своей установкой вольных вождей дворянского общественного мнения, тем более, что ода требовала похвалы, а они находились в оппозиции. Теперь — не то: новое правительство еще не проявило себя достаточно; от него можно было ждать изменения курса по сравнению с прежним царствованием, можно было надеяться. Поэтому сумароковцы спешат высказаться, наставить правительство, подать свой голос, заявить о споем существовании.
Сам Сумароков при Елизавете написал всего четыре похвальных оды, из которых характер развернутого образца данного жанра имеет едва ли не одна только ода на день рождения императрицы 1755 г.; остальные три чисто военные оды: две «О прусской войне», одна, и частности «На франкфуртскую победу», коротенькая ода. Видимо, Сумароков был готов приветствовать победы русского оружия, но вне военной темы по общим вопросам политики он не желал высказываться в хвалебно-одическом духе в течение шести лет, от декабря 1755 до конца 1761 г.
Таким же образом и другие поэты того же круга — Херасков, Ржевский и др. — до 1762 г. почти не писали политических од. И вот теперь, как только умерла Елизавета, Сумароков и его друзья немедленно обращаются к торжественной оде. Сумароков сразу выпускает две оды, Херасков, молодой Богданович, А. Нарышкин, Ржевский также выступают, с одами.
- 384 -
Общий смысл всех этих од сводится к тому, что от Петра поэты сумароковского круга, как и сам Сумароков, ожидают всяческих благополучий, обновления страны, уничтожения пороков, разъедающих ее; они поучают нового императора «быть им отцом», и т. п. Указ о вольности дворянства естественно вызывает их похвалу, хотя ни в оде Ржевского, ни в оде Нарышкина, связанных с появлением этого указа, нет конкретных указаний на то, что они удовлетворены им, нет ни анализа указа, хотя бы поэтического, ни практически осмысленной похвалы ему. Восторги поэтов имеют общий характер; это не совсем восторги единомышленников царя и людей, партия которых победила. Сумароков и Херасков не реагировали на указ литературно.
Известна роль, которую играл в подготовке переворота 1762 г. и в проведении его Никита Панин. Став во главе движения либералов-аристократов, Панин имел в виду воспользоваться недовольством, вызванным действиями Петра III, для реализации политических замыслов своей «партии». Для него и для его единомышленников дело шло вовсе не только о смене императора, главы правительства, а об изменении самой структуры власти. Устраняя непопулярного монарха, они хотели отменить вообще неограниченную монархию. Панин предполагал, что переворот даст возможность его группе захватить полноту власти с тем, чтобы далее легализовать новое положение вещей. Он имел в виду объявить императором восьмилетнего Павла, регентшей его мать — Екатерину и ввести при этом конституцию, которая узаконила бы ограничение единовластия дворянским парламентом или иным аналогичным учреждением.
Между тем проекты Панина не воплотились в жизнь. Быстро и удачно проведенный переворот, с точки зрения Панина, удался далеко не полностью. Екатерина стала не регентшей, а самовластной императрицей. Панин, вместо главы дворянского парламента и руководителя маленького царя, стал только одним из первых советников Екатерины.
Однако он не сдался окончательно, как не сдались его единомышленники, и в первую очередь Сумароков. Н. Панин попытался провести закон о реформе правительства в порядке подготовки конституции дворянского парламентаризма. Из его попытки ничего не вышло, как ничего не вышло из попытки Петра Панина поставить вопрос о реорганизации и ограничении крепостнических отношений. Тем не менее Панины играли еще крупную роль в правительстве в течение 1760-х годов.
С первых же дней царствования Екатерины вслед за Паниными и вместе с ними заявили свои права на продвижение и их единомышленники-литераторы. Глава литературной группы Сумароков, конечно, оказался среди людей, поднятых волной переворота. Он близок ко двору, к императрице. Он — один из друзей Никиты Панина, стоящих рядом с ним. Тотчас после переворота Сумароков получил поддержку, как писатель. С него был списан долг Академии Наук, по его изданиям; Екатерина распорядилась впредь все его сочинения печатать «безденежно» в Академии, за счет правительства.
По всякому хоть сколько-нибудь серьезному поводу Сумароков обращался с письмами к Екатерине, причем письма эти вовсе не имеют характера официальных прошений; они написаны довольно свободно, в тоне частного письма: Сумароков острит, шутит, пишет о деле и просит без унижения.
Сумароков был награжден и официально; в день коронации Екатерины он был произведен в действительные статские советники. Позднее, в 1767 г., он получил аннинскую звезду.
С самого момента переворота Сумароков стал ревностно исполнять
- 385 -
свои обязанности рупора «партии», думавшей, что она побеждает. Одна за другой следовали его торжественные оды, прославляющие переворот.
В своих одах 1762—1764 гг. Сумароков указывает правительству на необходимость введения законности в государстве, на необходимость широких мероприятий; в то же время он указывает на необходимость расширения торговых сношений с Востоком, пропагандирует мысль об освоении пути в Японию.
Для коронации Екатерины II (22 сентября 1762 г.) Сумароков приготовил речь, «слово», как тогда говорили. Политический характер «слова» не прикрыт, как это было в одах, поэтической символикой.
Большую часть своей речи Сумароков уделяет вопросам правосудия. Он смело и сильно говорит о разложении судебного аппарата (а ведь в это время он был одновременно и вообще административным аппаратом), о путанице в законодательстве, которой пользуются судьи. Он заключает: «Невежество есть источник неправды; бездельство полагает основание храма его; безумство созидает оный; непросвещенная сила, а иногда и смесившаяся со пристрастием укрепляет оный. Разруши, государыня, разруши стены храма сего, повергни столпы его и разори основание! Созижди великолепный храм ненарушаемого правосудия; но прежде того повели собирати потребные ко зданию вещи и основати училища готовящимся исправити и наблюдати предпринятые премудростию твоею законы!»
Сумароков требует нового законодательства, предлагает Екатерине план законодательных работ, план осторожный, смягченный, ставящий вопрос лишь о постепенной и исподволь подготовленной смене старых законов и созидании новой законодательной системы.
«Слово» Сумарокова не было напечатано (оно увидело свет лишь после его смерти).
Невозможность напечатать «Слово на коронацию» была, без сомнения, для Сумарокова первым указанием, что императрица не считает себя подчиненной панинской «партии».
Нет никакого сомнения в том, что Сумароков первое время царствования Екатерины энергично вмешивался в политику, и с ним приходилось на первых порах считаться. Еще в 1767 г. ему был дан для прочтения и отзыва «Наказ», что доказывает его роль полуофициального советчика правительства. Заметки Екатерины на мнения Сумарокова о «Наказе» выдают ее раздражение этой ролью ментора, взятой на себя Сумароковым: «Господин Сумароков очень хороший поэт, но слишком скоро думает. Чтоб быть хорошим законодавцем, он связи довольны в мыслях не имеет».
Вскоре после переворота Сумароков жаловался, что его «обошли, а именно, человек с триста...»; видимо, он ставил себя в ряд тех, которые получили «награды» за переворот, т. е. считал себя одним из деятелей переворота, политическим деятелем «партии», давшей власть Екатерине. Далее, он писал: «Я же и кроме поэзии, может быть, некоторые достоинства имею и мог бы пером моим, кроме стихов, много принести пользы, а особливо по рефлексиям на Россию». Это официальное заявление было выражением открытой претензии участвовать в государственной деятельности правительства, в частности, в работах по реформам. Претензии Сумарокова была отвергнута новым «деспотом» — Екатериной II.
В начале 1763 г. в Москве, где в это время находились после коронации двор и правительство, было устроено грандиозное по тем временам народное театрализованное зрелище, имевшее целью агитировать за новую императрицу и иллюстрировать политические установки, прокламируемые ею. Устройство этого народного зрелища в его литературной части было поручено сумароковцам, т. е. литературному штабу панинской партии.
- 386 -
Народное зрелище в Москве в начале 1763 г. называлось большим маскарадом «Торжествующая Минерва». Оно должно было завершить все коронационные празднества и вообще торжества по поводу приезда в Москву новой императрицы.
План театрализованного шествия по улицам города принадлежал Ф. Г. Волкову; он же был и режиссером всего зрелища. Тексты хоров, исполнявшихся участниками театрализации, были написаны Сумароковым. Стихотворное описание-толкование зрелища написал Херасков.
Маскарад должен был представить народу в лицах и образах те общественные пороки, против которых намерено было, — таков был смысл декларации, — вооружиться правительство. Заканчивалось шествие картиной «золотого века», т. е. царствования Екатерины.
В первом же разделе «маскарада» заключались, повидимому, сатирические намеки на Петра III; затем осмеивались пороки; пьянство, прожектерство (опять намек на дельцов прошлых царствований), на откупщиков, на бюрократию, наконец, на весь «превратный свет». К этому разделу шествия Сумароков написал большой и замечательный хор — народным складом. Это было выдающееся произведение, заключавшее либеральное политическое кредо Сумарокова, решившегося изложить публично, всенародно элементы программы своей группы, причем включение хора в маскарад придало бы такому изложению характер правительственной декларации.
«Хор ко превратному свету» не был пропущен ни в печати, ни к исполнению в «Маскараде».
Сумарокова одергивали всякий раз, как только он хотел слишком явно выступить от лица правительства с заявлениями в духе либеральных проектов. Получалось так, что и в литературной пропаганде победа Сумарокова была урезана с самого начала.
В дальнейшем неприятности по этой линии не прекращались у Сумарокова. Он продолжал попытки самостоятельных выступлений и наталкивался на противодействие. В 1764 г. внешнеполитические операции русского правительства, руководимые Никитой Паниным и поощряемые Екатериной, привели к тому, что польским королем был «избран» ставленник русского двора Станислав Понятовский. Сумароков написал по этому поводу «Оду королю польскому Станиславу Августу, новоизбранному Пиясту». Ода была напечатана в количестве 300 экз. и тираж выдан на руки Сумарокову (в сентябре 1764 г.). Вслед за этим ода была «по особливому от двора ее императорского величества повелению уничтожена».
В следующем же 1765 г. у Сумарокова были неприятности из-за басни «Два повара» — памфлета на Я. П. Шаховского; за эту басню Сумароков получил нагоняй по приказу Екатерины, — и самая басня была запрещена.
К концу 1760-х годов уже совершенно очевидным стало, что Сумароков ни в малой степени не является официальным поэтом. Он находился, в сущности, в положении опального; Екатерина начинала расправу со всяческим вольномыслием, в том числе дворянским. В 1769 г. Сумароков покинул резиденцию императрицы и переехал в Москву. В 1770 г. произошло его столкновение с московским главнокомандующим Салтыковым, приведшее к открытой демонстрации опалы поэта.
Сумароков отстаивал свои права автора, первый в России заявляя о них. Приехав в Москву, он заключил официальный контракт с хозяином театра Бельмонти о том, что его пьесы не будут ставиться на сцене без его согласия. В 1770 г. должен был итти «Синав и Трувор», но актеры не успели разучить трагедию, а пьяная и распутная актриса Иванова,
- 387 -
игравшая главную роль, была столь нетрезва, что не могла приехать на генеральную репетицию. Сумароков забунтовал. Тогда Салтыков, к которому он пришел, накричал на него: «Для чего ты вплетаешься в представление драм?» — кричал бурбон-генерал.
Премьера была отложена. Салтыков, виня в этом Сумарокова, публично, в театре, накричал на него: «Я на зло тебе велю играть Синава послезавтра!» Генерал так расходился, — он был пьян, — что выскочил на сцену во время представления вместе с Ивановой (шла какая-то комедия), чем не мало увеселил публику. Протесты Сумарокова не помогли, так же как ссылки на контракт. Сумарокову принесли афишу на представление «Синава» — на завтра, 31 января. Сумарокова поддержали актеры; даже Иванова заявляла, что играть пьесу нельзя. Из протестов ничего не вышло. 31 января премьера состоялась. Сумароков даже заболел с горя и не был в театре. В конце января он отправил с оказией письмо Екатерине II с жалобой. Не дождавшись ответа, он написал ей еще одно письмо 1 февраля и при нем элегию. И письмо и стихотворение были полны отчаяния. Екатерине письма Сумарокова передавал друг Сумарокова, секретарь царицы, Козицкий. На записке Козицкого, сопровождавшей элегию, она написала: «Сумароков без ума есть и будет». Элегию Екатерина печатать не разрешила. Сумарокову же она написала ядовитое письмо, в котором говорилось: «Первое ваше письмо от 26 января мне удивило, а второе от 1 февраля еще больше; оба, понимаю, содержат мольбу на Бельмонта, которой однако следовал приказаниям графа П. С. Салтыкова. Фельдмаршал желал видеть трагедию вашу, сие вам делает честь. Пристойно было в том удовольствовать первого на Москве начальника... Советую вам вперед не входить в подобные споры, через что сохраните спокойство духа для сочинения, и мне всегда приятнее будет видеть представление страстей в ваши драмы, нежели читать их в письмах...»
Копию с этого письма Екатерина послала Салтыкову, а тот распустил списки с него по Москве. Напрасно Сумароков старался уверять, что письмо Екатерины — не выговор, а милость. Над ним издевалось все московское дворянство — «общество»; он был публично ошельмован; его опала стала явной. Сумароков добивался нового письма от Екатерины, но она отказалась писать ему. Между тем Сумароков, опальный, осмеянный, потерявший надежду на политический успех, впадающий в отчаяние, продолжал очень много писать и нисколько не смирился. Он убедился в том, что деспотия, тирания со всеми ее проявлениями, возобладала и при Екатерине; и он ответил на ее торжество своими смелыми тираноборческими трагедиями, разоблачающими и самого тирана — Димитрия Самозванца и вельможу-интригана — Бурновея («Мстислав»). И все же — лирика Сумарокова последних лет характеризуется тонами пессимизма, мрачности, отчаяния.
9
Современники Сумарокова видели в его драматическом творчестве, в частности, в его трагедиях наиболее ценную часть его деятельности. Восхищаясь его «притчами» (баснями), распевая его песни, они все же считали, что бессмертную славу он заслужил прежде всего именно трагедиями. Его великие заслуги перед русской драматургией не отрицались даже его врагами. «Семира», «Димитрий Самозванец» и другие трагедии Сумарокова держались в репертуаре и входили в число любимых пьес русского зрителя не только до самого конца XVIII столетия, но и в начале XIX. Новиков писал о Сумарокове: «Хотя первый он из россиян начал писать
- 388 -
трагедии по всем правилам театрального искусства, но столько преуспел в оных, что заслужил название северного Расина». Автор некролога о Сумарокове (1777) писал в свою очередь: «Основатель российского театра, услужил он тем России больше, нежели Корнелий Франции, толико от своих сограждан почитаемый; ибо Корнелий исправил и возвысил своими прекрасными произведениями французские позорища, а г. Сумароков создал, и не имея предшественников, дал вдруг восчувствовать сие наиблистательнейшее и трудное творение разума человеческого».
Еще Плавильщиков, актер-драматург и теоретик драмы, один из пропагандистов раннего буржуазного реализма в русской драматургии, считал трагедии Сумарокова образцами трагического творчества («О театре», 1792), так же как Радищев считал возможным поставить Сумарокова наравне с Расином и Шекспиром («О человеке»). Еще в 1828 г. автор статьи «Мысли о Сумарокове и других писателях» («Отечественные записки»), архаистический классик, доказывал необыкновенные достоинства трагедии Сумарокова по сравнению с драматургией Озерова: «трагедии Сумарокова вообще едва ли по сие время не сохраняют преимущества своего над всеми другими русскими трагедиями». Сам Сумароков также заявлял: «Расинов я театр явил, о россы, вам», считая, что это — лучшее из его творческих достижений. При этом, помимо убеждения и самого Сумарокова и его современников в том, что трагедии «северного Расина» преисполнены величайших художественных достоинств, играли роль еще два обстоятельства, связанные в свою очередь друг с другом. Трагедия, как литературный жанр, вообще считалась в XVIII столетии ценнейшим видом творчества, — на ряду с героической эпопеей, — наиболее трудным, ответственным и социально значимым. Даже враг Сумарокова — Ф. А. Эмин, был принужден призвать его преимущество перед Ломоносовым, лириком, автором од, — прежде всего именно вследствие большей ценности основного жанра его творчества, трагедии. Рассказывая в очерке, помещенном в его журнале «Адская почта» (1769), о споре сторонника лирика-Ломоносова со сторонником трагика-Сумарокова, он, устами благоразумного М., заявлял: «Не хочу я подтверждать написанного г. Вольтером, что гораздо славнее быть хорошим трагиком, нежели лириком, чтобы своим таким размышлением не причинить противной стороне досад... Одист на своей лире говорит обыкновенно с одними героями, а трагик со всеми человеками. Один наполняет свое сочинение вымыслами, а другой истинными рассуждениями... и ежели теперь больше в свете людей, нежели героев, то смею сказать, что трагедия полезнее оды... Еще скажу, что ежели ученый хотя посредственную напишет оду, склеив оную из разных кусков мифологии, то она будет годиться... но трагедия посредственности не терпит. Добродетель, нравоучение, страсть и все, что в ней ни есть, должно быть в виде совершенства... Г. С[умароков] в сем своем пути странствовал счастливо, и если находятся в его трагедии пороки, то такие, каких и в Корнелие и Расине есть довольно». Без сомнения, и сам Сумароков не считал оды Ломоносова произведениями, заслуживающими сравнения с его драматургией. Может быть, именно поэтому он с такой озлобленностью напал на поэму Ломоносова «Петр Великий»; это была героическая эпопея, жанр, который мог успешно конкурировать с трагедией, и в этом жанре Ломоносов казался ему опасным (трагедии Ломоносова, написанные по заказу, ценились современниками невысоко, — именно как трагедии, несмотря на признанные достоинства стиля и стиха в них).
То значение, которое придавалось трагедии, как жанру, литературой классицизма, определило отчасти и огромное впечатление,
- 389 -
произведенное первыми трагедиями Сумарокова. Пока русский классицизм не имел трагедии, он не мог считаться победившим, не мог равняться с западными литературами. Стихотворения, печатавшиеся отдельными брошюрками или не печатавшиеся вовсе, имевшие в обоих случаях крайне ограниченный круг читателей, не могли сыграть той роли в движении литературы классицизма, в завоевании ею общественного внимания, как театральное представление. Искусство русского дворянского классицизма до трагедии Сумарокова было делом кабинетным, делом специалистов и меценатов по преимуществу; театра, могучего орудия пропаганды в более обширной аудитории, у этого искусства не было. Традиция школьной драмы, преобладавшая в разрозненных театральных мероприятиях этого времени, никак не могла удовлетворить идеологические потребности дворянского зрителя. Спектакли иностранных трупп, доступные лишь очень малому числу лиц, также не могли заменить русского театра класссического стиля. Поэтому смелый творческий шаг Сумарокова, решившегося создать русский трагический репертуар по правилам и образцам классической драматургии, был большим событием в истории русской литературы середины XVIII столетия. В этом же смысле мы должны признать «Хорев» (1747), первую трагедию Сумарокова, первую «правильную», как говорили в XVIII в., русскую драматическую пьесу вообще, наконец, первое русское драматическое произведение, самостоятельное и имеющее определенного автора, незаурядным явлением русской культуры и в то же время одной из самых больших творческих побед Сумарокова. Впрочем, следует заметить, что «Хорев» был скорее первым опытоМ, чем вершинным достижением Сумарокова-трагика. В этой первой его трагедии были только намечены те идеологические и эстетические линии, которые получили развитие в последующих; самое построение «Хорева» лишено еще чистоты, ясности, законченной конструктивности лучших трагедий Сумарокова; «Хорев» не чужд элементов внешней сюжетности, пришедших в него, может быть, из авантюрной повести, — через драму школьного типа; иначе говоря, «Хорев» имеет еще следы доклассической русской драматургии, являясь как бы переходным произведением от традиции петровского театра к новому искусству. Это обстоятельство лишний раз и на примере ответственнейшего жанра трагедии доказывает глубокие связи новаторских реформ Сумарокова с традициями русской литературы, органический характер русского классицизма, и в драматургии выросшего на родной почве и не бывшего лишь «наносным», искусственным явлением.
Это же положение еще более полноценно доказывается тем, что самый характер, самое идейное наполнение сумароковской трагедии, так же, как ее стиль и построение, вовсе не повторяет, не копирует образцов французской трагедии классицизма, а образует оригинальный русский тип драматургии, также построенный на канонах классицизма, но не имеющий точного соответствия в западной литературе. Сам Сумароков, рассказывая в 1759 г. о своем творческом пути, говорил: «Я будто сквозь дремучий лес, сокрывающий от очей моих жилище муз, без проводника проходил. И хотя я много должен Расину, но его увидел я уже тогда, как вышел из сего леса, и когда уже Парнасская гора предъявилася взору моему» («К несмысленным рифмотворцам»). Следовательно, мы должны признать, что он начинал свою драматургическую деятельность, еще не будучи знаком с драматургией Расина, давшего как бы абсолютный канон классицизма в области трагедии для всей французской литературы XVII—XVIII столетий. Наоборот, он знал еще в корпусе комедии Мольера в подлиннике. Конечно, ему были известны уже в 1740-х годах вообще какие-то французские трагедии, — из репертуара театра Сериньи в
- 390 -
Петербурге, как ему была известна и теория французского классицизма хотя бы по Буало. Но нужно учесть при этом, что представления о западном театре складывались у Сумарокова, как и у зрителей его трагедий, вовсе не только на основе драматургии французского классицизма. Из французских драматургов Сумароков высоко ценил автора опер Кино, совершенно осужденного Буало. Свое восхищение произведениями Кино Сумароков выразил в письме к Вольтеру 1769 г. Это видно из ответа Вольтера, опубликованного Сумароковым; само письмо Сумарокова до нас не дошло. Оперы Сумарокова «Цефал и Прокрис» (1755) и «Альцеста» (1759) написаны под явным влиянием Кино. Лирическая патетика Кино отразилась и в бьющем через край лиризме трагедий Сумарокова.
Исключительной популярностью в среде петербургского дворянства пользовались и лирические, героические, à grand spectacle, придворные трагедии Метастазио, шедшие в России, начиная с 1730-х годов. Влияние итальянского театра на драматургию Сумарокова также не может вызывать сомнений. Наконец, Сумароков воспринял, — и видимо раньше, чем он стал изучать Расина, — уроки немецкой трагедии классицизма; в статье «Ответ на критику» (1751) он цитирует в порядке ссылки на авторитет трагедию И. Шлегеля «Германн», трагедию из отечественной истории, — не называя автора, видимо, считая пьесу общеизвестной. Все это не снимает вопроса о зависимости внешней схемы и отчасти содержания трагедий Сумарокова от французского классицизма. Сумароков-трагик строит свои пьесы во многом по рецептам французов-классиков; но воздействие и Вольтера и Расина осложняется рядом других воздействий, иногда противоречивых, и преломляется в своеобразной системе уже чисто русского, собственно сумароковского классицизма. Сам Сумароков еще в «Письме о стихотворстве» изложил основы своих взглядов на задачи и формы трагедии, опирающиеся на теории западного классицизма. Он писал:
Не представляй двух действ к смешению мне дум;
Смотритель к одному свой устремляет ум,
Ругается, смотря, единого он страстью
И беспокойствует единого напастью.1
...............
Не тщись глаза я слух различием прельстить
И бытие трех лет мне в три часа вместить;
Старайся мне в игре часы часами мерить,
Чтоб я забывшися возмог тебе поверить,
Что будто не игра то действие твое,
Но самое тогда случившись бытие.2
...............
Не сделай трудности и местом мне своим,
Чтоб мне, театр твой зря имеючи за Рим,
Не полететь в Москву, а из Москвы к Пекину;
Всмотряся в Рим, я Рим так скоро не покину.3
Явлениями множь желание творец,
Познать, как действию положишь ты конец.И в своей творческой практике Сумароков следовал всем внешним правилам классицизма. Более того, метод отвлеченно-схематического показа идей или, вернее, идей чувств и «способностей» усвоен им в необычайно
- 391 -
чистом, прозрачном виде. Его трагедии — это драматические поэмы, чуждые черт конкретной живой действительности и ткани своих образов. Они в высшей степени статичны; в них почти ничего не происходит на протяжении одного, двух, грех действий. Эта упрощенность композиции, предельная даже по сравнению с Расином, характерна именно для Сумарокова.
Нужно сказать, что Сумароков, перенося в Россию правила французского классицизма, вовсе не считал даже величайших трагиков Франции XVII—XVIII столетий непогрешимыми образцами, т. е. не видел необходимости следовать им во всем. В своей статье «Мнение во сновидении о французских трагедиях», написанной в форме письма к Вольтеру, он, на ряду с похвалами Корнелю, Расину и самому Вольтеру, позволяет себе довольно свободно наводить критику на их драматургическую технику и даже на их драматургические принципы. Необходимо помнить при этом, что Сумароков писал свои трагедии тогда, когда на Западе уже развивалась и крепла новая буржуазная драма, когда пьесы Дидро, Седена, Лессинга, Лилло, «Евгения» Бомарше и др. совершали победное шествие по театрам Европы, когда классическая комедия и трагедия принуждены были потесниться и уступить ряд позиций предреалистической бытовой драме, «мещанской» трагедии или «слезной» комедии. Сумароков, воспитанный на классических догмах, решительно отрицал закономерность этого драматургического течения. Успех на московском театре «Евгении» привел его в ярость. Его сознанию претила буржуазность всего мировоззрения новой драмы. А тут еще переводчиком «Евгении» оказался, как писал Сумароков, «какой то подьячий» — Н. Пушников. Сумароков озлобленно напал на «Евгению» и ее переводчика в предисловии к «Димитрию Самозванцу» (1771); он писал здесь о том, что «явился новый и пакостный род слезных комедий», объявлял, что он написал письмо к Вольтеру о «слезных комедиях», и приводил текст ответа Вольтера, который с готовностью согласился осудить новый жанр (что, впрочем, не помешало ему еще в 1749 г. написать «Нанину», комедию, весьма и весьма близкую по своему характеру к этому новому трогательному жанру). Но дело в том, что и сам Сумароков, как ни яростен он был в своих нападках на буржуазную драматургию, испытал ее воздействие на своем творчестве. Смелая борьба буржуазной драмы против тирании всякого рода и против развращения нравов «высшего» дворянского общества, подчеркнутый морализм и учительность этой драмы, остро-политический характер ее моральной пропаганды, — все это произвело впечатление на Сумарокова, оказалось полезным ему в его борьбе с бюрократической деспотией русских императриц, с кучкой придворных дельцов во имя дворянского просвещения, дворянской общественности и морали. Идейные акценты изменились у Сумарокова по сравнению с буржуазными драматургами, но существенные черты воздействия на него боевой драматургии школы Дидро и Лессинга, воздействия, может быть, бессознательного для самого Сумарокова, все же явственно проступают в его трагедиях. Таков, например, прямолинейный морально-политический дидактизм трагедий Сумарокова, с одной стороны, восходящий к схоластической «школьной» традиции русской драмы, с другой — ведущий нас именно к чувствительным драмам западных литератур. Бесстрастный, якобы, анализ отвлеченно-изученных страстей и способностей в классической системе Расина заменен у Сумарокова подчеркнутой моралистической оценкой своих героев, также, впрочем, нарисованных рационалистически-отвлеченно, причем эта оценка не исчерпывается и политическим тезированием пьесы, приемы которого
- 392 -
Сумароков мог почерпнуть у Вольтера. У Сумарокова действующие лица делятся нередко на добродетельных и порочных, причем свет и тени распределены достаточно ярко. Затем элементы «резонерства» в трагедии Сумарокова также ведут нас к буржуазной драме; у Сумарокова герои очень часто начинают проповедовать мысли автора со сцены, как бы превращая сцену в кафедру и обращаясь к публике; эти сентенции и целые рассуждения о политике и морали, которые Сумароков вкладывает в уста не только главных действующих лиц, но иной раз даже в уста наперсников, являются как бы фрагментами роли «резонера», возникавшей как характерная черта стиля именно в учительной буржуазной драме на Западе и впоследствии перешедшей оттуда в русскую комедию — и у Лукина и у Фонвизина.
Существенной и специфической чертой трагедий Сумарокова является преобладание в них счастливых развязок, придающих им нередко характер как бы героических комедий и связанных с моралистической тенденцией их. Только самая первая трагедия Сумарокова «Хорев» и третья по счету «Синав и Трувор» оканчиваются смертью героев. Все остальные оканчиваются свадьбой счастливых и в высшей степени добродетельных влюбленных. В этом отношении трагедии Сумарокова отличаются и от трагедий французов XVII в. — Корнеля и Расина — и от французов-классиков XVIII в. — Кребильона, Вольтера и др. Дело в том, что ему осталось чуждо учение об очищении страстей, о катарсисе картинами трагической гибели героев, действенное для Расина. Чуждо Сумарокову и стремление вольтеровской трагедии доказывать гибельность фанатизма или «предрассудков» вообще гибелью героев, жертв этих предрассудков. Сумароков, со своей концепцией чести в трагедии, хотел показать идеальных героев этой чести на сцене и хотел во что бы то ни стало увенчать их добродетель счастливой развязкой. Апеллируя к «чувствительности», сумароковская трагедия была движима пафосом утверждения, положительных идеалов. За гибель героев «Хорева» Сумарокова сильно выбранил Тредиаковский: «Дабы добродетель сделать любезною, а злость ненавистною и мерзкою, надобно всегда отдавать преимущество добрым делам, а злодеянию, сколько б оно ни имело каких успехов, всегда б наконец быть в попрании»; далее Тредиаковский объявлял, что «я все те французские трагедии ни к чему годными называю, в которых добродетель погибает, а злость имеет конечный успех»; тем самым Тредиаковский зачеркивал значительное большинство трагедий французского классицизма. В этом вопросе Сумароков явно принял упрек своего критика и противника и присоединился к его точке зрения, так как он разделял, конечно, тезис Тредиаковского: «как исправностям французских трагиков подражать не худо, так следовать их порокам не должно». Наконец, самая «чувствительность» в разработке темы любовной печали в трагедиях Сумарокова скорее походит на несколько нервозную слезливость буржуазной драмы, чем на тончайший анализ чувства, всегда сдержанного и по-своему сложного у Расина. В этом Сумароков близок к Вольтеру в его «Заире», трагедии, близкой по своему характеру к сентиментальной драматургии от Лашоссе до Мерсье.
С 1747 по 1774 г., т. е. за 28 лет Сумароков написал девять трагедий: «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1750), «Артистона» (1750), «Семира» (1751), «Ярополк и Димиза» (1758), «Вышеслав» (1768), «Димитрий Самозванец» (1771), «Мстислав» (1774). Как видим по датам их, Сумароков пережил как бы две полосы трагедийного творчества: первая группа трагедий относится ко времени подготовки и организации петербургского регулярного театра; затем наступает
- 393 -
перерыв: Сумароков, до глубины души уязвленный своим устранением от руководства театром, поклялся больше никогда не писать драматических произведений и выдержал зарок в течение нескольких лет. Затем, может быть, в связи с участием Сумарокова в организации московского театра, появляется последняя группа трагедий, с 1768 по 1774 г.
Все трагедии Сумарокова более или менее сходны друг с другом по общим своим идейным установкам и по стилю; однако некоторые различия в них все же есть. Вообще говоря, Сумароков откликался своими трагедиями на животрепещущие политические темы современности, и это придавало специфический колорит их содержанию. Наименее отчетливой в идеологическом отношении приходится признать трагедию «Хорев». В этой первой своей трагедии Сумароков поставил перед собой по преимуществу чисто литературные задачи создания нового типа классической драмы; затем, уже овладев мастерством нового стиля, он смог воплотить в формах этого стиля ведущие для него идеи, причем во второй, более поздней серии трагедий, он достиг еще большей четкости, идейной проясненности и остроты постановки проблем, чем в первой, — независимо от того, что именно к первому периоду относятся трагедии, признававшиеся современниками шедеврами его искусства, — «Синав и Трувор», «Семира»; впрочем, и «Димитрий Самозванец» имел большой и длительный успех.
По содержанию и композиции трагедии Сумарокова могут быть разбиты на две группы: трагедии по преимуществу непосредственно политические и трагедии морально-психологические, причем моральные вопросы для Сумарокова также, конечно, имеют политическое значение. Действующими лицами в трагедиях Сумарокова обязательно являются цари, князья, вельможи. В этом отношении Сумароков следовал традиции классицизма, но у него данное правило приобретало особый смысл. Нужно отметить, что у Сумарокова нет ни одной пьесы, в которой действие происходит в республике, не в монархии. В отличие от западных классиков, в трагедиях которых, например, римская республика была излюбленной темой, Сумарокова не интересовала республика.
Социально-моральное мировоззрение Сумарокова составляет основу таких трагедий Сумарокова, как «Синав и Трувор», «Семира», «Вышеслав». Непосредственно политический характер имеет, например, «Димитрий Самозванец». Общая установка в проповеди социально-морального устройства дворянства и его правителей у Сумарокова опирается на его понимание учения о страстях и о разуме, чести. Разум и его отношение к страстям — «la raison» и «les passions» — были основами моральных, а отсюда и социальных учений русской дворянской литературы и вообще дворянской интеллигенции XVIII в., в частности, основами морального мировоззрения Сумарокова.
Разум, как организующая сила, положительный фактор, противополагался страстям, как неорганизованным, стихийным слепым силам низшего порядка. Разум понимался не как эмпирическая психологическая данность, свойство человеческой психофизической конституции, а как абсолютная схема истины, доступная человеку лишь в меру преодоления его индивидуальной ограниченности, преодоления его личных человеческих влечений, его эгоизма, его страстей. На этой рационалистической основе строил Сумароков целую систему взглядов и оценок. Разум превозносился всемерно, в стихах, и в прозе; страсти подлежали умерщвлению и предавались осуждению. Разуму приписывалась роль творца и правителя всего человеческого общества. При этом человечество само по себе делилось на тех людей, которые руководятся в жизни страстями,
- 394 -
и тех, которые приобщились разуму. Первые руководятся элементарным стремлением к личному преуспеянию и счастию; вторые руководятся моральной нормой, не имеющей ничего общего с их личным благополучием и часто противоречащей ему, но обоснованной разумом, т. е. в данном применении, абсолютным законом должного. Эта норма называется «честью». Конечно, следовать правилам чести трудно, так как для этого нужно отказаться от свой личности, от эгоизма, от страстей, стать воплощением разума. Наоборот, руководиться страстями легко и просто. Но если бы все люди руководились страстями, то скоро состояние анархии опустошило бы землю. Строить общество должен разум, а люди, водимые страстями, т. е. индивидуальной эмпирией, чужды разуму и чести, как норм истинного и должного. Только следование разуму и чести, только преодоление страстей дает право человеку управлять людьми и, более того, обязывает к этому.
Герои сумароковских трагедий нередко излагают эту концепцию чести, разума, долга в своих сентенциях. Так, царь Дарий говорит в «Аристоне»:
Мой разум мне искать величество велит.
(Д. III, сц. 7.)
И в другом месте:
Я горести твоей соделаю конец,
И первый покажу сим делом образец,
Как, страсти победив, намерен я владети.(Д. V, сц. 6.)
А другой герой отвечает ему:
Ты, страсти покорив, весь ум мой покорил.
(Д. V, сц. 8.)
Или вот диалог царя Вышеслава с Зенидой:
Зенида
У всех ли разумы господствуют сердцами?
Не часто ль наших дел пристрастия творцами?Вышеслав
Что разум мой велит, я только то творю.
Зенида
Необходимо то бессмертным и царю,
И тем, которы им во мнениях подобны;
А протчи люди все неправедны и злобны.(«Вышеслав», д. II, сц. 6.)
В той же трагедии княжна Зенида говорит:
А я хотела быть царицею такою,
Чтоб истину держать крепчайшею рукою,
И чтобы ясно всем явити, Станобой,
Как жить на свете сем, пример сама собой,
И преимущество имети пред народом
Одним достоинством, не саном и не родом.
Что может тот монарх на троне повелеть,
Кто в страсти сам себя не может одолеть?
И льзя ли взыскивать, чтоб люди были правы,
Когда пренебрежит он сам свои уставы?(Д. IV, сц. 2.)
- 395 -
В последнем действии царь опять заявляет:
Превысь, душа моя, себя в сии минуты!
Противу ты страстей всей силою ударь;
Яви теперь, каков быть должен государь,
Как он волнения душевны попирает,
И кроме славы все на свете презирает;
А слава наша та, чтоб истина цвела.(Д. V, сц. 1.)
Или вот сентенции, произносимые героями «Мстислава»:
Такой правления достоин не бывает,
Кого какая страсть совсем одолевает.
................
Мне честь моя велит покорствовать судьбе,
Но сердце одному покорствует себе.
О честь, единственный источник нашей славы,
На коей истины основаны уставы,
Геройска действия и общей пользы мать!
Сильна едина ты сан царский воздымать.
Коль нет тебя с царем, он божий гнев народу,
И скиптр его есть меч, возъятый на свободу.(Д. IV, сц. 1.)
Князь Мстислав говорит о том, что князьям труднее жить, чем беднякам, потому что:
Убогий человек, покорствуя судьбе,
Печется об одном во бедности себе;
А обстоятельства его хотя и люты,
К отдохновению имеет он минуты.
Лишь мы спокойствию прийти к себе претим.(Д. V, сц. 1.)
На этой морально-политической основе строится в большей или меньшей степени сюжет всех трагедий Сумарокова. Типическое сюжетное положение их — это коллизия между любовью-страстью, стихийным эгоистическим влечением и государственным долгом, вообще принципом чести. Герой или героиня, или оба они любят страстно, но любовь эта незаконна, нежелательна, осуждена «разумом», законом чести и долга. Герой трагедии — правитель людей, руководитель их; он обязан подчинить свое чувство долгу; если он не умеет управлять своими страстями, самим собою, он не имеет права управлять другими; если он допустит страстям овладеть его поступками, он будет тираном, деспотом, угнетателем. Такой дворянин недостоин быть дворянином; такой монарх — бич своей страны. В конце своего творчества, в «Димитрии Самозванце», Сумароков потребовал насильственного устранения такого монарха-деспота.
Исходя из этой концепции морали, Сумароков разделяет действующих лиц своих трагедий на положительных и отрицательных, добродетельных и злодеев, руководствующихся честью и других, снедаемых страстями. В последнем периоде трагедийного творчества он вводит новый, осложненный мотив: сила страсти увлекает героя, но в конце концов он побеждает себя и из злодея становится добродетельным; Сумароков, который в этот период своими образами правителей, уклонившихся с пути
- 396 -
чести, хотел разоблачить правительство Екатерины II, предлагал им, заблудшим и погрязшим в страстях, путь исправления; неисправимые же должны были погибнуть: Димитрий в «Димитрии Самозванце» и честолюбец-интриган Бурновей в «Мстиславе».
В наиболее «чистом» виде тип социально-моральной трагедии Сумарокова мы можем наблюдать в «Синаве и Труворе» и в «Вышеславе». В первой из этих пьес князь Синав, монарх, давший благополучие снедаемому раздорами Новгороду, любит Ильмену; соперником Синава является его брат Трувор, юный герой. Ильмена отвечает взаимностью Трувору. Синав безумствует в яростной ревности; он забывает о своем долге управлять подданными ради их блага и становится тираном по отношению к Ильмене и Трувору, тогда как именно он, монарх, должен больше всех уметь подавлять свои страсти. Наоборот, Ильмена — образец чести; отец ее, Гостомысл, считает своим государственным долгом отдать Ильмену за Синава, и она готова принести свое счастье и даже свою жизнь своему долгу по отношению к отцу-вельможе. Синав изгоняет из Новгорода Трувора и женится на Ильмене; и Трувор и Ильмена кончают жизнь самоубийством. Синав в отчаянии; так трагически заканчивается дело, когда честь и разум уступают страсти.
Иную картину в аналогичной ситуации мы видим в «Вышеславе». Монарх Вышеслав любит княжну Зекиду; соперником его является князь Любочест. Зенида же любит Вышеслава. Но Вышеслав обещал Зениду Любочесту, и она сама дала слово выйти за него замуж. И вот на протяжении всей трагедии мы видим, как в мучительной борьбе со своей страстью и Вышеслав и Зенида неизменно оказываются победителями. Вышеслав готов исполнить свое обещание, несмотря на то, что Любочест поднимает против него бунт; Вышеслав знает, что он, монарх, должен быть рабом чести и добродетели; если же он отберет невесту у Любочеста, он станет эгоистом-тираном. Зенида в свою очередь готова покинуть любимого и трон и итти в изгнание и в тюрьму за ненавистным ей Любочестом, ибо она никогда не изменят своему слову. Любочест же настолько увлечен страстью, что собирается злоупотребить словом Зениды и Вышеслава. Но в конце концов невероятная добродетель Вышеслава и Зениды производит на него впечатление; он отказывается от Зениды, отдает ее Вышеславу, обращается к добродетели. Так, добродетель монарха и князей делает их счастливыми.
В целом ряде трагедий Сумарокова одним из ведущих сюжетных мотивов является удавшийся или неудавшийся государственный переворот. Этот мотив мы встречаем в «Гамлете», в «Семире», в «Вышеславе», в «Димитрии Самозванце», в «Мстиславе». Наиболее полно этот мотив выражен в «Гамлете», в «Семире» и в «Димитрии Самозванце», где он служит основой всего построения трагедии. При этом у Сумарокова резко различены два типа переворотов: с одной стороны он изображает династические споры, приводящие к гражданской войне; прежние владетели и их дети стремятся вернуть себе трон, и преданные им воины сражаются за них. Эти заговоры у Сумарокова всегда неудачны, несмотря на благородство и мужество их предводителя (см., например, «Семиру»): Сумароков не верит в принцип династического легитимизма; он считает, что тот царь законен, который хорошо Делает свое царское дело; в «Димитрии Самозванце» он прямо говорит устами благоразумного Пармена о Самозванце:
Когда владети нет достоинства его,
Во случае таком порода — ничего.
- 397 -
Пускай Отрепьев он, но и среди обмана,
Коль он достойный царь, — достоин царска сана;
Но пользует ли нам высокий сан един?
Пускай Димитрий сей монарха росска сын;
Да если качества в нем оного не видим,
Так мы монаршу кровь достойно ненавидим,
Не находя в себе к отцу любови чад.(Д. III, сц. 1.)
«Восстание», поднятое благородным и мужественным князем во имя династической идеи, для Сумарокова бессмысленно, и потому оно разбито в его трагедиях добродетельным монархом; но сам предводитель такого восстания не подлежит жестокой каре: он действовал во имя чести. Так, в «Семире» Аскольд умирает от раны, полученной на поле брани, умирает, оплакиваемый своим противником, а его сестра и единомышленница Семира выйдет замуж за возлюбленного князя Ростислава; в «Вышеславе» восстающий Любочест, князь Искореста, покоренного Вышеславом, прощен победителем и т. д. Совершенно иной характер имеют другие перевороты в трагедиях Сумарокова, — восстания народа против угнетающего его деспота; конечно, у Сумарокова и здесь руководителями народа являются князья и вельможи, и народ хватается за оружие против тирана, в значительной мере защищая своих любимых руководителей; но тем не менее общая мысль этого мотива у Сумарокова — кара, неизбежно падающая на голову тирана, угнетателя государства вообще. В «Гамлете» довольно подробно описывается, как поднялось восстание против злобного тирана, который в начале трагедии сам говорит:
Рабы не чувствуют любви ко мне; лишь страх
Еще содержит их в тиранских сих руках.(Д. II, сц. 1.)
Но особое значение данная тема приобретает в «Димитрии Самозванце»; эта трагедия целиком посвящена проблеме восстания против тирана. Димитрий — изверг и злодей: он убивает людей без зазрения совести, он ненавидит русский народ и готов отдать его во владение полякам, он хочет ввести в России власть папы и католического изуверства. И вот против него поднимается народный гнев; зритель узнает о том, что трон Димитрия колеблется, уже в первом действии; в пятом — восстание свергает тирана, который закалывается и «издыхает». При этом восстание это не стихийно; им руководит Шуйский, притворяющийся першим слугой Димитрия. Аналогична роль наперсника Димитрия Пармена. Эту интригу Сумароков всячески одобряет, ибо считает, что в данном случае цель оправдывает средства; цель же, свержение деспота, он считает весьма достойной похвалы. Таким образом, отказываясь от легитимистского ригоризма, Сумароков как бы признавал и узаконивал дворцовые перевороты его времени. Но, с другой стороны, он давал суровый урок российским монархам; он говорил им и дворянской аудитории, что власть царя вовсе не безгранична; он угрожал царю свержением за тираническое правление; он указывал «народу» на его право устранять неугодного монарха; он заявлял; что царь — это слуга народа, обязанный править во имя народа и согласно законам добродетели и чести. Эти смелые по тому времени мысли подкреплялись сентенциями о власти царя, и частности, о злых царях, произносимыми героями трагедий Сумарокова. Так, например, поучает Артистона Дария:
- 398 -
На то ли скиптр тебе вручило божество,
Чтоб под рукой твоей стенало естество?
Хотя и славится народов повелитель,
Но славнее еще отечества любитель.
Где к обществу любовь с венцом сопряжена,
О коль тогда, о коль блаженна та страна!(Д. III, сц. 6.)
Зенида в «Вышеславе» мечтает о том, как будет княжить ее любимый:
И если до меня дойдут о князе слухи,
Что он в величестве не позабыл меня,
Но помнит царский долг, умеренно стеня,
И что он царствует народа ко блаженству,
И пользу общую ведя ко совершенству;
Не плачет сирота под скипетром его,
Не устрашается невинный никого;
Хранит размеры царь и в казни и в награде,
Соцарствует ему спокойствие во граде;
Не преклоняется к стопам вельможей льстец;
Царь — равный всем судья и равный всем отеци т. д. (Д. III, сц. 6.)
Вышеслав говорит о себе:
Коль я черту вины малейшей сотворю,
Черта мне тяжкий грех та будет, как царю.
Наместник божества на троне превысоком,
Воззрю ли я на мир простонародным оком?
................
Я, царствуя, хочу быть больше человека.
Законодавец я, народу я отец,
Хранитель чад моих, блаженства их творец.(Д. V, сц. 2.)
Наоборот, Димитрий Самозванец все время говорит о своем презрении к народу и своих тиранически-деспотических принципах власти:
Не истина царь, — я; закон — монарша власть,
А предписание закона — царска страсть.(Д. I, сц. 1.)
А Георгий и Ксения так обсуждают положение:
Ксения
Блажен на свете тот порфироносный муж,
Который не теснит свободы наших душ,
Кто пользой общества себя превозвышает
И снисхождением сан царский украшает,
Даруя подданным благополучны дни:
Страшатся коего злодеи лишь одни.Георгий
О ты, печальный Кремль! стал ныне ты свидетель,
Что здесь низвержена с престола добродетель
..................
- 399 -
Ксения
О небо!
...............
Дай нам увидети монарха на престоле
Подвластна истине, не беззаконной воле!
Увяла правда вся; тирану весь закон —
Едино только то, чего желает он;
А праведных царей, для их бессмертной славы,
На счастье подданных основаны уставы,
Наместник божества быть должен государь.
Рази, губи меня, немилосердный царь!..
Народ, сорви венец с главы творца злых мук,
Спеши, исторгни скипетр из варваровых рук;
Избавь от ярости себя непобедимой,
И мужа украси достойна диядимой!(Д. II. сц. 1.)
В той же трагедии Пармен говорит:
Коль нет от скипетра во обществе отрад,
Когда невинные в отчаянии стонут,
Вдовы и сироты во горьком плаче тонут;
Коль вместо истины вокруг престола лесть,
Когда в опасности именье, жизнь и честь,
Коль истину сребром и златом покупают,
Не с просьбой ко суду, с дарами приступают;
Коль добродетели отличной чести нет,
Грабитель и злодей без трепета живет,
И человечество во всех делах теснится, —
Монарху слава вся мечтается и снится.
Пустая похвала возникнет и падет;
Без пользы общества на троне славы нет.(Д. III, сц. 1.)
И последние слова последней трагедии Сумарокова таковы:
Хотя состроятся тиранам олтари,
Они презренные и гнусные цари;
А праведный монарх, сидящий на престоле,
Всего любезнее, всего на свете боле.Трагедии Сумарокова были школой дворянской морали и дворянского общественного сознания, рассчитанной ближайшим образом на людей своего класса. Но воспитательная роль их была без сомнения шире. Они пропагандировали высокие идеи гражданского долга, героического служения обществу; они воспитывали в среде молодежи, ранее не знавшей никакого закона, кроме деспотического произвола, общественную культуру, чувство собственного достоинства; они учили и тому, как надо чувствовать и изъясняться. Пламенные любовные монологи героем Сумарокова также были предметным уроком для его современников. Чувство любви, преданности любимому, мысль о облагораживающем влиянии подлинного глубокого чувства на человека, прославление верности и любви до гроба, чувства дружбы, прославление человечности, высокой личной морали и т. д. — целый мир душевного благородства открывал Сумароков своему читателю и зрителю. Сам он, Сумароков, без сомнения считал это
- 400 -
благородство преимущественной привилегией «корпуса благородных», т. е. дворян, но и самое понятие о благородном в его творчестве начинало терять свой узко-сословный характер. Фактически дело шло о пропаганде высоких моральных и общественных идеалов в нуждавшейся в них среде.
Сумароков понимал глубокую связь содержания своих трагедий с потребностями живой русской современности. Именно поэтому он переносил действие их в Россию, черпал имена своих героев из русской истории, — не в пример западным трагикам-классикам. Из девяти трагедий Сумарокова действие только двух происходит не в России: «Гамлет» — в Дании и «Артистона» — в Персии. Сумароков писал для русских и о России; примеры из русской истории должны были оказаться действеннее, чем другие. В «Димитрии Самозванце» он позволил себе еще большее нарушение традиций классицизма Запада: он изобразил в трагедии исторические события не только своей страны, но и близкие по времени, случившиеся лишь за полтораста лет до него. Тем самым как бы нарушилось бесстрастие и отвлеченность, предписавшие правило и традицию изображения отдаленнейших, хронологически или географически, событий в западной драматургии. Значение культа отечественной тематики, возникавшего в трагедии Сумарокова, конечно, было очень велико и положительно.
Будучи школой общественной морали, трагедии Сумарокова должны были играть также роль школы нового художественного вкуса, пропагандируемого со сцены, так же как роль школы благородных нравов. Самый язык их, ровный, чистый, чуждый напряженной напыщенности и в то же время далекий от «грубой» разговорности, внушал зрителю и читателю представление о благородстве форм мысли и речи; самый стих трагедий Сумарокова, плавный александрийский стих, сковывавший страсти единообразными схемами условно-поэтического синтаксиса и красивой риторической логикой, учил подчинять душевные движения нормам высшей культуры. Без сомнения, воздействие стихотворного диалога сумароковских трагедий на речевую практику русской интеллигенции XVIII столетия было значительно и благородно. Сумароковская простота, ясность и эмоциональность диалогического языка дисциплинировали и воспитывали язык почитателей его трагедийного творчества, не имевших до него образцов благородного, умного и свободного разговора о делах чувства и о делах мировоззрения.
Культура эмоционального лирического диалога и монолога в стихах стояла высоко и в изящных операх Сумарокова (в XVIII в. пелся при исполнении не весь текст оперы, а только лишь арии). Сумароков написал две оперы: «Альцеста» и «Цефал и Прокрис». Музыку к первой из них написал Раупах, ко второй — знаменитый в те времена Арайя. Обе оперы Сумарокова — это своего рода мифологические феерии, требовавшие при постановке великолепного, сложного и разнообразного декоративного оформления, театральных эффектов и т. п.
10
Современники ставили комедии Сумарокова гораздо ниже его трагедий. Можно сказать, что комедии не прибавили славы своему прославленному другими жанрами автору. Они не составили существенного этапа в развитии русской драматургии, хотя они и обладали рядом достоинств, заставляющих историка литературы присмотреться к ним, и прежде всего потому, что Сумароков все-таки первый начал писать в
- 401 -
России комедии, если не считать интермедий полуфольклорного типа и переводных пьес.
Всего Сумароков написал двенадцать комедий. Хронологически они разбиваются на три группы: сначала идут три пьесы — «Тресотиниус», «Пустая ссора» и «Чудовищи», написанные в 1750 г. Затем наступает перерыв не менее, чем в четырнадцать лет; с 1764 по 1768 г. написано еще шесть комедий: «Приданое обманом» (около 1764 г.), «Опекун» (1765), «Лихоимец», «Три брата совместники», «Ядовитый», «Нарцисс» (все четыре в 1768). Затем последние три комедии 1772 г. — «Рогоносец по воображению», «Мать совместница дочери», «Вздорщица». Как видим, Сумароков писал свои комедии порывами, хватаясь за этот жанр, в общем не очень близкий ему, как за сильное полемическое или сатирическое оружие, в периоды обострения своего гнева на окружающих его. Он и не работал над своими комедиями долго и тщательно; это видно и по их тексту, и по их датам, и по собственным его пометам; так, при тексте «Тресотиниуса» он сделал пометку: «Зачата 12 генваря 1750, окончена генваря 13, 1750. С. Петербург». При тексте «Чудовищей» — помета: «Сия комедия сочинена в июне месяце 1750 года на Приморском дворе».
Новизна созданных Сумароковым первых комедий воспринималась и ценилась современниками гораздо меньше, чем новизна «Хорева». В этом отношении современники Сумарокова были не совсем неправы. Трагедии его создали тип русской классической трагедии, сохранивший свое влияние на пол столетия. Первые комедии Сумарокова были написаны в манере, от которой сам Сумароков принужден был отходить уже в конце своего творческого пути под влиянием других русских комедиографов, и они были еще крепко связаны с теми традициями драматургии, которые существовали до Сумарокова в России, и в русском и в итальянском театре. Отчасти в этом была сила комедий Сумарокова, поскольку через интермедию и commedia dell’arte он соприкоснулся в них с традициями демократического театрального искусства.
В эпистоле о стихотворстве, изданной за два года до написания первой комедии, Сумароков писал:
Каков в трагедии Расин был и Вольтер,
Таков в комедиях искусный Молиер.
Как славят например тех Федра и Меропа,
Не меньше и творец прославлен Мизантропа.
Мольеров Лицемер [т. е. Тартюф], я чаю, не падет,
В трех первых действиях, доколь пребудет свет.
Женатый философ, Тщеславный воссияли,
И честь Детушеву в бессмертие вписали.
Для знающих людей ты игрищ не пиши;
Смешить без разума — дар подлыя души.Указанные здесь образцы — Мольер и Детуш — имеют весьма малое отношение к первым комедиям Сумарокова, да и ко всем, последовавшим за ними. Наоборот, Сумароков, хотя и не смешил без разума, но писал пьесы, очень похожие на те самые «игрища», которые он осудил в теории. Нет сомнения в том, что, когда он писал свою эпистолу, у него не было еще отчетливого представления о том, как надо писать русскую комедию, и он повторил, не вникая, ходячие формулы и общепризнанные имена.
Комедии Сумарокова имеют минимальное касательство к традициям и нормам французского классицизма на всем протяжении его творчества, а в особенности в первой своей группе; это не значит, разумеется, что они стоят за пределами русского классицизма.
- 402 -
Прежде всего даже внешне: Сумароков в эпистоле называет четыре комедии, все в пяти действиях и в стихах. Это и считалось правильной, «настоящей» комедией во Франции — от корнелевского «Лгуна» до Реньяра, Грессе, Детуша, Пирона и даже Нивеля де ла Шоссе. Конечно, и Мольер, и после него многие, даже такие прославленные, как, например, Данкур, Легран, Мариво, писали комедии в прозе, но ведь эти комедии считались с точки зрения классической догмы, так сказать, сортом ниже, и мольеровский Дон-Жуан шел на сцене лишь в стихотворной обработке Тома Корнеля. Иное дело Сумароков, канонизатор русского классицизма; все его комедии написаны прозой. Ни одна из них не имеет полноценного объема и «правильного» расположения композиции классической комедии Запада в пяти действиях; восемь комедий Сумарокова имеют всего по одному действию и четыре — по три. В основном — это маленькие пьески, почти сценки, почти интермедии. Сумароков лишь условно выдерживает даже единства. Время и место действия у него укладываются в норму, но единства действия, особенно в первых пьесках, нет никакого. Наконец, благородства тона французской классической комедии нет и в помине в грубоватых, полуфарсовых пьесках Сумарокова.
В первых комедиях Сумарокова, собственно, нет даже никакого настоящего связующего сюжета. Мы найдем в них, конечно, рудимент сюжета в виде влюбленной пары, в конце сочетающейся браком, но этот рудимент любовной темы нимало не оказывает влияния на ход действия; вернее, никакого действия, собственно, в комедии нет. Комедия представляет собой ряд более или менее механически связанных сцен; одна за другой на театр выходят комические маски, действующие лица, представляющие осмеиваемые пороки, и в диалоге, не двигающем действие, показывают публике каждая свой порок. Когда каталог пороков и комических диалогов исчерпан, пьеса заканчивается. Борьба за руку героини не объединяет даже малой доли этих диалогов. Такое построение пьесы близко подходит к построению народных «площадных» игрищ — интермедий или вертепных сатирических сценок, и в особенности петрушечной комедии. Характерно, что в противоположность трагедиям Сумарокова, в его первых комедиях, несмотря на малый их объем, очень много действующих лиц; так, в «Тресотиниусе», комедии в одном действии, их десять, в «Чудовищах» — одиннадцать.
Если на сцене ранних комедий Сумарокова не происходит единого действия, то нет в них и подлинного быта, жизни. Подобно условной сцене интермедий, сценическая площадка «Тресотиниуса», или «Чудовищей», или «Пустой ссоры» представляет условное отвлеченное место, в котором никто не живет, а только появляются персонажи для демонстрации своих условно изображенных недостатков. Вся манера Сумарокова в этих пьесах условно-гротескна. В «Чудовищах» на сцене происходит комическое судебное заседание, причем судьи одеты, как иностранные судьи — в больших париках, а вообще они вовсе и не судьи, и самое судбище происходит в частном доме, и все это — сплошной фарс, причем за смехотворностью сцены нельзя разобрать, как же понять ее всерьез. Сумароков любит фарсовый комизм — драки на сцене, смешные пикировки действующих лиц. Вся эта гротескная условная смехотворность у него в значительной мере зависит от традиции итальянской народной комедии; поздние образцы commedia dell’arte он хорошо знал, так как именно в то зремя, когда он был кадетом, в Петербурге играла труппа итальянских комедиантов и ставила десятки импровизированных комедий. До нас дошло множество либретто их пьес, переведенных на русский язык Тредиаковским.
- 403 -
Самый состав комических персонажей первых сумароковских комедий определен в основном составом устойчивых масок итальянской commedia dell’arte. Это — традиционные маски, многовековая традиция которых восходит чаще всего к римской комедии. Так, перед нами проходят: педант-ученый; в «Тресотиниусе» их три — сам Тресотиниус, Ксаксоксимениус, Бобембиус; в «Чудовищах» — Критициондиус; это — «доктор» итальянской комедии. За ним идет хвастливый воин, болтун, врущий о своих неслыханных подвигах, а на самом деле трус (в «Тресотиниусе» Брамарбас); это — «капитан» итальянской комедии, восходящий к «хвастливому солдату» Пиргополинику Плавта. Далее — ловкие слуги — Кимар в «Тресотиниусе» и «Пустой ссоре», Арлекин в «Чудовищах»; это — Арлекин commedia dell’arte; наконец — идеальные любовники — Клариса и Дорант в «Тресотиниусе», Инфимена и Валер в «Чудовищах». Характерны для условно-гротескной манеры Сумарокова самые имена героев его первых комедий, не русские, а условно-театральные.
Кроме традиции итальянской комедии, Сумароков использовал в своих ранних комедиях и драматургию Гольберга, которую он знал в немецком переводе (так, у Гольберга взят его Брамарбас вместе со своим именем); нужно отметить, что сам Гольберг зависел от традиций той же итальянской комедии. Кое-что берет Сумароков и у французов, — но не метод, а отдельные мотивы, видоизмененные у него до неузнаваемости. Так, у Мольера («Ученые женщины») он взял имя Тресотиниуса (Тресотен Мольера), а у Расина — сцену суда в «Чудовищах» (из «Сутяг»).
Как ни условна была комическая манера первых комедий Сумарокова, в ней были черты российской злободневности, оживлявшие и осмыслявшие ее. Так, введение Сумароковым комических масок подьячего и петиметра тесно связано с его политической и культурной проповедью. Его подьячие — в «Тресотиниусе» (только намеченные образы), в «Чудовищах» (ябедник Хабзей и судьи Додон и Финист) — включены в общую линию борьбы с бюрократией; его петиметры, французоманы, светские щеголи, — Дюлиж в «Чудовищах» и Дюлиж в «Пустой ссоре», — включены в линию его борьбы против придворной «знати», против галломании, за русскую культуру, за родной язык. Комедии Сумарокова, — даже первые три из них, — пересыпаны литературно-полемическими выпадами, намеками на самого Сумарокова и его неприятелей. Это в особенности относится к «Тресотиниусу», главное действующее лицо которого, давшее название комедии, — памфлет против Тредиаковского, необычайно карикатурный, но недвусмысленный. Это характерно для всей комической манеры Сумарокова данного периода; его комические маски, как они ни условны, не поднимаются до широкой социальной типологии. Это можно сказать даже о роли Фатюя, деревенского помещика («Пустая ссора»), наиболее русской и в бытовом отношении полновесной настолько, что в ней можно угадать некоторые черты будущего Митрофана Простакова. Наконец, оживляет ранние комедии Сумарокова и язык, живой, острый, развязный в своей неприкрашенности.
Шесть комедий Сумарокова 1764—1768 гг. заметно отличаются от первых трех, хотя многое в них — прежнее; прежним в основном остается метод условного изображения, отсутствие жизни на сцене, даже чаще всего условные имена — Сострата, Ниса, Пасквин, Палемон, Дорант, Леандр, Герострат, Демифон, Менедем, Оронт и др.; лишь в одной комедии появляются Тигровы, отец, мать и дочь их Ольга, и три брата Радугины, Ярослав, Святослав и Изяслав («Три брата совместники»). Между тем самое построение пьес изменилось. Сумароков переходит к типу так
- 404 -
называемой комедии характеров. В каждой пьесе в центре его внимания — один образ, и все остальное нужно либо для оттенения центрального образа, либо для фикции сюжета, по прежнему мало существенного. Так, «Опекун» — пьеса о дворянине-ростовщике, жулике и ханже, Чужехвате. Этот же образ — единственный в «Лихоимце» — под именем Кащея, и он же в «Приданом обманом» под именем Салидара. «Ядовитый» — комедия о клеветнике Герострате. «Нарцисс» — комедия о самовлюбленном щеголе; его так и зовут Нарцисс. Несколько особняком в комедийном творчестве Сумарокова стоит пьеска «Три брата совместники», к тому же наименее удачная из всех его пьес. Кроме указанных центральных образов, а их всего три, — никаких характеров во всех комедиях Сумарокова 1764—1768 гг. нет; все остальные действующие лица — пустые фикции; они — положительные герои, едва оживленные прописи. Наоборот, центральные характеры вырисованы тщательно, особенно тройной образ Чужехвата-Кащея-Салидара. Они обставлены рядом бытовых деталей достаточно реального типа; они связаны с злобой дня не только замыслом, но и отдельными намеками. Сатирическая направленность их принципиальна для Сумарокова; так, характер ростовщика соотносится с его ненавистью к торгашам, спекулянтам, грабителям-откупщикам и вместе с тем к сутягам-подьячим. Кроме того, его ростовщики — реакционеры, они необразованы, они — враги культуры Сумарокова. И в то же время сатирические и бытовые черточки, строящие характер Кащея, Чужехвата и др., эмпиричны и не обобщены, не образуют единства типа. Эти роли сложены из отдельных частиц и не имеют органического характера; герои не меняются на протяжении пьесы, не живут на сцене, хотя они обладают немалой силой острой карикатуры. Дело в том, что Сумароков и в этот период чаще всего — памфлетист, каким он был в «Тресотиниусе». Его комедии имеют персональный адрес: это — сатиры «на лицо». Кащей в «Лихоимце» — свойственник Сумарокова, Бутурлин, и ряд деталей быта Кащея обусловлен не логикой его характера, а портретным сходством с Бутурлиным. Видимо, и Салидар и Чужехват — то же лицо. Герострат в «Ядовитом» — литературный и личный враг Сумарокова, Ф. А. Эмин. Вероятно, и Нарцисс — определенное лицо. Следовательно, метод отвлеченно-обобщенного типажа французских классических комедий характеров не был усвоен Сумароковым; он остается в пределах остро сатирической карикатуры на индивидуальное явление или лицо; это лишает его комедии «общезначимости», типичности, но это же делает их более конкретным, более живым документом эпохи, это же позволяет Сумарокову ввести в них обрывки подлинной жизни, пусть не типизованной, пусть кусочками, а все же не прикрашенной в своем гротескном безобразии. От интермедий и commedia dell’arte Сумароков двигался в комедии не к французским классицистам XVIII в., а к Фонвизину.
Между тем самое движение Сумарокова к комедии характеров в середине 1760-х годов было обусловлено не столько его личной эволюцией, сколько воздействием, которое он испытывал со стороны зародившегося русского комедийного репертуара 1750-х — 1760-х годов. Первые три комедии Сумарокова открыли дорогу. Когда в 1756 г. был организован постоянный театр, ему потребовался репертуар, и в частности комедийный. Директор театра, Сумароков, не писал в это время комедий; за него принялись работать его ученики, — и опять прежде всего И. П. Елагин. За ним пошла молодежь, второе поколение школы, опять все воспитанники Шляхетского кадетского корпуса — А. Волков, В. Бибиков, И. Кропотов, А. Нартов, Ив. Чаадаев и др. Они больше всего переводят комедии.
- 405 -
В это время переводится много комедий Мольера — главным образом Кропотовым, но и другими («Скупой», «Тартюф», «Скапиновы обманы», «Школа мужей», «Жорж Данден», «Мещанин во дворянстве», «Амфитрион»), переводится Гольберг А. Нартовым («Генрих и Пернилла», «Превращенный мужик», «Плутус»); переводятся или «перелагаются на русские нравы» комедии Реньяра («Задумчивый»), Детуша (его почти полностью перевел Елагин), Леграна, Лафона, Кампистрона и др. К молодежи присоединились и сумароковцы и бывшие кадеты старшего поколения — П. С. Свистунов (переводы Мольера, Вольтера — «Нескромный», Сент-Фуа — «Оракул»). Ведущей фигурой группы молодых драматургов-переводчиков был Елагин, в 1760-х годах сделавшийся одной из ведущих фигур в русском театре, тем более, что он был его начальником с 1766 до 1769 г. Эта группа именно в комедии меньше всего зависела от примера Сумарокова, своего патрона, который, наоборот, оказался в зависимости от ее работы. Гастроли французской комедии в Петербурге в 1760-х годах дали ей новое театральное воспитание. Переводы и переделки комедий, вышедшие из рук сумароковцев, в весьма малой степени отличаются остротой сатиры и грубоватой живостью речи пьес Сумарокова. Они, наоборот, ставили своей задачей разработку «благородного» разговорного языка.
Первой оригинальной русской комедией после сумароковских была пьеса М. М. Хераскова, также ученика Сумарокова и воспитанника кадетского корпуса, — «Безбожник»; это — маленькая пьеса в стихах, стоящая в стороне от театрального и драматического оживления вокруг петербургского театра (Херасков с 1755 г. жил в Москве), продолжающая линию даже не столько интермедийной, сколько наставительной школьной драматургии. В начале 1760-х годов были написаны две оригинальные комедии А. А. Волкова «Неудачное упрямство» и «Чадолюбие». Это — условные пьесы интриги, не имеющие ничего общего с русской жизнью, да и ни с какой реальной жизнью. К этому же времени, к первой половине 1760-х годов, относится попытка Елагина предложить средство приблизить западный комедийный репертуар к русской жизни, — а именно «склонять на наши нравы» заимствуемые пьесы, т. е. переводить их, переделывая на русский лад, заменяя иностранные имена русскими и т. д. Так, сам Елагин переделал из Гольберга комедию «Француз-русской», а служивший при нем юноша Фонвизин переделал из пьесы Гроссе «Sidney» своего «Кориона», комедию в стихах. При Елагине служил и В. И. Лукин, выступивший в 1765 г. с четырьмя пьесами (еще раньше он перевел две комедии — Реньяра и Кампистрона), из которых одна, «Мот, любовию исправленный», была оригинальной, а три других были переделками с французского. Лукин выступил против отвлеченной комедии Волкова за драматургию, близкую русскому обществу по темам и по направлению.
Именно все это оживление на фронте русской комедии и, в частности, воздействие больших французских комедий характеров (например, Детуша) обусловили направление работы Сумарокова как комедиографа в 1764—1768 гг.
В 1766 г. в истории русской комедии произошло большое событие; в столичных кругах стал известен фонвизинский «Бригадир» — еще раньше, может быть, в литературной среде был известен блестящий опыт Фонвизина, его неоконченный «Недоросль» (еще не похожий, правда, на более позднюю знаменитую комедию того же названия). В 1772 г. появились первые комедии Екатерины II. К этому же году относятся последние три комедии Сумарокова. На них самым решительным образом
- 406 -
отразилось влияние открытия, сделанного Фонвизиным уже в «Бригадире», — нового показа быта на сцене, и именно русского провинциального помещичьего быта в первую очередь, и нового показа человека, с более сложной психологической характеристикой и в более проясненных конкретных социальных условиях. Все три последние комедии Сумарокова более компактны по сюжету; наименее нова из них по методу «Вздорщица», комедия о строптивой самодурке, отчасти повторяющая характер Ги и ы из «Чудовищ», и мотив переодевания из «Приданого обманом»; но и в этой комедии бытовая обстановка дворянского дома чувствуется уже довольно ясно, и единство темы делает пьесу более сложной, чем ранние комедии Сумарокова. Совсем оригинальна в ней роль «дурака», т. е. шута в помещичьем доме, видимо, взятая прямо из жизни. Комедия «Мать совместница дочери» дает попытку разрешения сложной психологической проблемы; героиня, Олимпия, ревнующая к своей матери, переживает душевный конфликт, явно выпадающий из прямолинейной сатирической манеры характеристики человека одной карикатурной чертой у раннего Сумарокова. Здесь несомненно влияние на него не только русской драматургии Лукина, зависевшего от ранней буржуазной психологической драмы Запада, но и самой этой драмы — комедий Детуша, а скорей всего Мариво.
Сумароков, проповедовавший ненависть к «драме», сам не смог и в комедии отказаться от использования достижений этого передового искусства.
Несомненным шедевром всего комедийного творчества Сумарокова является его «Рогоносец по воображению», комедия, как бы стоящая на пути Фонвизина от «Бригадира» до «Недоросля», несмотря на меньшее комедийное дарование Сумарокова. Тема этой пьесы была не нова, но оформлена она была не так, как это делалось во французской комедии; см., например, несколько сходный в общих очертаниях сюжет комедии в стихах в пяти действиях Кампистрона «Le jaloux désabusé», 1709 Это — светская, салонная, изысканно построенная и изящная пьеса, совсем далекая от прямолинейного бытовизма и социального замысла сумароковской комедии (русская переделка пьесы Кампистрона была издана в 1764 г. С комедией Мольера «Сганарель, или мнимый рогоносец» пьеса Сумарокова не имеет ничего общего). Сумароков вводит зрителя в быт захудалого захолустного, небогатого и некультурного помещичьего дома; перед нами два пожилых человека, муж и жена, Викул и Хавронья. Они глуповаты, невежественны; это — отсталые, дикие люди, и комедия должна высмеять их захолустное варварство. Но в то же время они трогательны в своей смешной привязанности друг к другу, они — немножко старосветские помещики. У них в доме живет бедная девушка-дворянка Флориза, образованная и добродетельная, но бесприданница. К ним приезжает в гости по дороге с охоты знатный и богатый сосед, граф Касандр. Старик Викул приревновал блистательного графа к своей Хавронье; он уверен, что Хавронья приставила ему рога. В конце концов он узнает, что граф и Флориза полюбили друг друга, что граф женится на Флоризе; тем самым рассеивается его ревность.
Комедия построена прежде всего на показе двух персонажей — Викула и Хавроньи; остальные лица традиционны и отвлеченны, хотя в роли бесприданницы Флоризы есть психологический рисунок, весьма своеобразный. Но Викул и в особенности Хавронья — бытовые фигуры, немаловажные в истории русской комедии. Правда, в обеих этих ролях, в особенности в роли Хавроньи сильно заметно влияние героев «Бригадира», и прежде всего образа Бригадирши. Но Сумароков сумел так усвоить
- 407 -
уроки своего молодого соперника, что он смог дать затем кое-что и ему для его будущей великой комедии.
В «Рогоносце по воображению» звучат ноты «Недоросля». Прежде всего, самый круг изображаемого — это тот же быт бедной и дикой помещичьей провинции; это тот же грубый и красочный язык помещиков нестоличного пошиба. Флориза находится в семье Викула и Хавроньи, как Софья у Простаковых (см., например, д. II, явл. 4), хотя Флоризу не обижают; вообще эти две роли соотнесены. Сходен с известной сценой выхода после драки Простаковой с ее братцем выход только что подравшихся Викула с женой (д. II, явл. 6). В имени Хавроньи звучит каламбурность фамилии Скотининых. Да и манера бытовой рисовки и самая тема местами сближаются в обеих комедиях. Граф спрашивает дворецкого Викула: «Заживны ли крестьяна ваши?»
Дворецкий. Почти все по миру ходят, — не здесь то и не вам то сказано.
Граф. Отчего?
Дворецкий. Барыня наша праздности не жалует и ежечасно крестьян ко труду принуждать изволит. Щегольство и картежная игра умножилися, и ежели крестьяне меньше работать будут, так чем нашим помещикам и пробавляться; а мои господа, хотя ни щегольства, ни картежной игры и не жалуют, однако, собирая деньги, белую денежку на черный день берегут.
Граф. Хорошо, братец.
Дворецкий. Не прогневайся, сиятельный! Боярыня в это время изволит свиней кормить, так и мне там присутствовать надлежит.
Граф (один). Домостроительство похвально, однако свиней кормить, кажется, дело не господское...
Как видим, Сумароков поставил тему, развитую в «Недоросле», — о реакционной и варварской социальной практике темной реакционной помещичьей «массы» (и тут же — скотининские свиньи). Против этой «массы» он борется.
Сочными красками рисует Сумароков быт Викула и Хавроньи. Его победой приходится считать такие сцены, как, например, заказ парадного обеда Хавроньей, или неуклюжие «светские» разговоры, которыми Хавронья старается занять графа. В этих сценах, как и и диалогах супругов, Сумароков достигает высшей точки в своем стремлении к передаче бытовой речи, яркой, живой, вполне разговорной, местами близкой к складу народной сказки, пересыпанной пословицами и поговорками. Он передает эту речь натуралистически, без кристаллизации ее форм; он считает ее некультурной речью, служащей характеристике его помещиков как варваров; но все же подлинная, реальная речь звучит в его пьесе; она звучала и в прежних его комедиях, но именно «Рогоносец по воображению» и в этом отношении является лучшей его прозаическои пьесой. Вот, например, разговор о ревности.
Хавронья. Фу, батька! как ты бога не боишься? Какие тебе на старости пришли мысли? Как это сказать людям, так они нахохочутся! Кстати ли ты это вздумал?
Викул. Как того не опасаться, что с другими бывает людьми.
Хавронья. Я уже баба не молодая; так чего тебе опасаться!
Викул. Да есть пословица, что гром-ат гремит не всегда из небесной тучи, да иногда и из навозной кучи.
Хавронья. Типун бы тебе на язык; какая у тебя я куча?
Флориза. Что это, сударыня, такое?
Викул. Жена, держи это про себя.
Хавронья. Чаво про себя? ето стыд да сором.
- 408 -
Викул. Не болтай же, мое сокровище, алмазный мой камышек.
Хавронья. Да ето нехорошо, вишневая моя ягодка.
Викул. Жена, перестань же.
Хавронья. Поцелуй же меня, сильный могучий богатырь.
Викул. Поцелуемся, подсолнечная моя звездочка.
Хавронья. Будь же повеселее, и так светел, как новый месяц, да не ревнуй же.
Викул. Жена, кто говорит о ревности?
Хавронья. Что ето меня прорвало? Да полно, конь о четырех ногах, да и тот спотыкается, а я баба безграмотная, так как не промолвиться...
Или вот дворецкий утешает мнимого рогоносца; речь идет о Хавронье:
Дворецкий. Да и кроме красоты, ваше здоровье, какая у нее память! Бову, Еруслана вдоль и поперек знает, а жать такая мастерица, как ты сам ведаешь, да и в домашнем-то быту: и капусту солит сама, и кур щупает, и свиней кормит.
Викул. Да что во всем ее искусстве, когда неверна мужу?
Дворецкий. Чашка меду, да ложка дегтю.
Викул. Да деготь-ат етот густенек...
.....................
Дворецкий. Что кому на роду написано, тому так и быть... Да вы же графа-то и не перетягаете; по пословице, с сильный не борись, а с богатым не тяжись. А с таким и богатым и знатным человеком, где нам перетягаться?
Викул. Да диво не так ли, друг мой: дороже кожуха вошка станет.
11
Поэтическое творчество Сумарокова поражает своим разнообразием, богатством жанров, тем, форм. Считая себя создателем русской литературы, Сумароков стремился показать своим современникам и оставить потомкам образцы всех видов литературы, допущенных в теории классицизма в том ее объеме, который он сам, Сумароков, принял за основу своей творческой работы. С лихорадочной поспешностью он переходил от одного жанра к другому, от месяца к месяцу открывая все новые стороны своего необычайно разнообразного дарования. Он писал вообще исключительно много и, повидимому, быстро. За один год он написал 75 стихотворений, свободно перелагающих библейские псалмы, из которых многие принадлежат к шедеврам поэзии середины XVIII столетия.
Сумароков писал песни, элегии, идиллии, эклоги, притчи (басни), сатиры, эпистолы, сонеты, стансы, эпиграммы, мадригалы, оды торжественные, оды философические, «оды разные», — не говоря о трагедиях, комедиях, операх, статьях и речах в прозе и др. Он использовал все широчайшие возможности русского стиха. Из всех жанровых форм классицизма XVIII в. Сумароков не использовал лишь несколько, в первую очередь различные виды эпоса, поэмы; правда, он начал писать эпическую поэму «Дмитрияда» (1769), о Димитрии Донском, но до нас дошла только первая страница ее; вероятно, больше Сумароков и не написал.
В самых общих чертах все поэтическое наследие Сумарокова может быть разделено на две большие группы: на лирику в собственном смысле слова, и на сатирическую поэзию, включая и притчи (басни). Пожалуй, именно притчи занимают центральное место в этом втором отделе. Сумароков писал басни в течение почти всей своей творческой жизни. Первые басни его были опубликованы в 1755 г.; в 1762 г. вышли две книги «Притчи Александра Сумарокова», в 1769 г. — третья; после его смерти были опубликованы еще две книги басен и еще несколько, не вошедших
- 409 -
в эти две книги. Всего Сумароков написал 374 притчи. Современники не находили слов для прославления их. Автор «Nachricht von einigen russischen Schriftstellern» (1768) говорит о Сумарокове: «Общего одобрения удостоился автор в отечестве своем за басни». Новиков писал о Сумарокове (1772): «Притчи его почитаются сокровищем российского Парнаса, и в сем роде стихотворения далеко превосходит он Федра и де ла Фонтена, славнейших в сем роде». Многочисленные ученики Сумарокова — В. Майков, Херасков, Ржевский, Богданович и другие — усердно подражали ему в басенном творчестве.
В самом деле, басни Сумарокова принадлежат к лучшим завоеваниям русской поэзии XVIII столетия. Именно Сумароков «открыл» жанр басни для русской литературы в том ее виде, в каком она жила и живет в ней с тех пор более полутора века. Он сделал для русской басни то, что Лафонтен для французской и европейской вообще. Он многое и позаимствовал у Лафонтена (немало басен он перевел из него — впрочем, вольно). Однако было бы совершенно неправильно считать Сумарокова просто подражателем Лафонтена. Басни Сумарокова и по содержанию и по стилю характерно отличаются от произведений великого французского баснописца.
Жанр басен был известен русской литературе и до Сумарокова. Прозаический перевод Эзопа издавался еще при Петре I, и затем неоднократно. В 1752 г. Тредиаковский напечатал «Несколько Эзоповых басенок», переведенных равностопными хореями и ямбами. В «Риторике» Ломоносова в 1748 г. были помещены две басни (перевод из Лафонтена). Но все эти стихотворения были лишены того строя живого сатирического рассказа, как и того размера, вольного разностопного ямба, которые стали неотъемлемой особенностью русской басни, начиная от Сумарокова. Сам Сумароков некоторые из самых ранних своих басен также написал еще равностопным 6-стопным ямбом (александрийским стихом), в манере суховатого повествования, продолжавшей прежнюю традицию. Можно думать, что чтение Лафонтеновых басен натолкнуло Сумарокова на создание новой манеры басенного стиха и изложения. Потом Сумароков познакомился с баснями Геллерта и других французских и немецких баснописцев, мотивы которых он использовал в свежих притчах, наравне с мотивами Эзопа и Федра. Однако многие из басен Сумарокова не имеют никаких иностранных сюжетных мотивов; некоторые построены на русском анекдотическом фольклоре; сюжет одной, например, заимствован из анекдота, рассказанного в проповеди Феофаном Прокоповичем («Кисельник»).
Притчи Сумарокова, как и другие его сатирические произведения, часто злободневны, направлены на осмеяние конкретных неустройств русской общественной жизни его времени. Тематический охват их очень велик, как и количество сатирических образов, созданных в них Сумароковым. Далеко не все басни Сумарокова иносказательны, т. е. далеко не во всех из них действующими лицами являются животные или предметы. Недаром сам Сумароков называл свои басни притчами. Очень часто притча Сумарокова — это маленький очерк или фельетон и стихах, остроумная и злая сатирическая сценка, иногда совсем маленький по объему. При этом действуют в таких притчах люди, типические сатирические маски, обобщающие пороки определенных социальных групп времени Сумарокова. Все русское общество проходит перед нами в беглых зарисовках сумароковских притчей. Его львы — цари, как впоследствии у Крылова, или же великие люди, при этом о царях Сумароков умеет говорить достаточно свободно. Он дает озлобленные враждебные характеристики русских
- 410 -
бюрократов, вельмож, подьячих, взяточников, зазнавшихся и грабящих население страны. Неустройства аппарата монархии вызывают у него целый ряд ядовитых выпадов. Затем Сумароков нападает на откупщиков, разбогатевших торгашей, на которых Юпитеру «давно пора бросати гром», на выскочек, пролезших в чины и кичащихся неправо полученным положением в обществе. Нередко он говорит в притчах о крестьянах, которые выглядят у него довольно безобидными, но совершенно дикими существами, нуждающимися в присмотре, в руководстве, в управлении ими. Наконец, важнейшая тема басен Сумарокова — российское дворянство. За дворянство, за его судьбу и историческую миссию болеет душой Сумароков, и на его пороки он поэтому нападает ожесточенно. Он не находит достаточно энергичных слов, чтобы заклеймить некультурных помещиков, жестоко обращающихся со своими крепостными и выжимающих из них последние соки:
Они работают, а вы их труд ядите.
Этот стих из притчи Сумарокова сделал многозначительным эпиграфом к своему боевому журналу «Трутень» Новиков; а ко второму изданию «Трутня» (1769) — также характерную цитату из притчи Сумарокова:
Опасно наставленье строго,
Где зверства и безумства много.В журнале Екатерины II «Всякая всячина» Сумароков демонстративно помещает коротенькую притчу о быке и оси, притчу, содержащую выпад против крепостнических порядков.
Вообще Сумароков в своих притчах достаточно смело излагает свои взгляды; он прямолинеен в своих нападках на своих врагов, он изъясняется независимо, свободно, даже резко. Но он не ограничивается в них социальной сатирой остро-политического характера; он дает множество зарисовок быта, схватывая типические смешные детали, возмущаясь отталкивающими чертами бескультурья дворянства, «подьяческой» среды, российского купечества. И здесь его главная установка двойственна. Он хочет уничтожить, искоренить враждебные ему социальные типы, что же касается своих собратьев по классу, то он хочет исправлять их, искоренять, конечно, не их самих, а их пороки. Он скорбит и злится, видя, что российское дворянство очень далеко от того идеала, который он рисует в своих мечтах, и он старается воспитать его насмешкой. Перед читателем проходит ряд живых сценок, в которых уродливости быта осмеяны быстрыми, острыми чертами. То это жена, изводящая мужа упрямой сварливостью и спорами против очевидности («Спорщица»), то трусливый муж, дрожащий перед свирепой женой («Боярин и Боярыня»), то это дикий обычай кулачного боя, возмущающий Сумарокова («Кулашный бой»), то ханжество и скупость купеческой вдовы («Безногий солдат»), то спесь «скота», который гордится пышной шубой («Соболья шуба»), и т. д.
Сумароков не уклоняется в своих притчах и от автобиографических мотивов и от ядовитых нападок на определенных людей. У него есть басня, в которой он грубо напал на Ломоносова («Обезьяна-стихотворец»; ср. также «Осел во львиной коже»), есть и басенка о Тредиаковском — сове, которая расхвасталась тем, что «Я перва изо птиц в сей роще песни пела», подобно тому, как автор «Телемахиды» гордился тем, «что первый в городе на рифмах он забредил» («Сова и рифмач»). Есть у него и басня-пародия на поэму Чулкова «Плачевное падение стихотворцев» («Парисов
- 411 -
суд»). Без сомнения, немало притчей Сумарокова имело живых адресатов и оригиналов, но мы утеряли ключ к большинству из таких басен.
Наконец, целый ряд притчей Сумароков посвятил разрешению не только общеморальных и даже общекультурных, но в частности литературных проблем; он поучал своими баснями писателей, своих учеников, хвалил В. И. Майкова или поэтессу Е. В. Хераскову, требовал очищении русского языка ог ненужной иностранщины, указывал на пользу сатиры и т. д. Необыкновенная живость басен Сумарокова, пестрота их содержания, то именно, что они переполнены бьющими через край современными интересами, — все это делало их по особенному интересными для современных читателей и в то же время это делает их для потомства ярким документом времени, во всей его сложности и пестроте, в кричащих противоречиях старозаветной дикости и новой европейской цивилизации. При этом Сумароков, желчный и озлобленный сатирик, метавший громы и молнии, вопиявший требования кар и казней злодеям («враг пороков» — это была привычная в поэзии XVIII в. рифма к его имени), в то же время обладал в высшей степени дарованием комическим: он умел смешить, и самый жанр басни-притчи он истолковывал как жанр комический; однако смех в его понимании и творческой интерпретации — вовсе не безобидный смех «развлекательного» типа, а острое оружие борьбы с социально-враждебными ему явлениями.
Злободневность, агитационность, сатирическая острота басен Сумарокова предполагают определенное отношение его, как баснописца, к проблеме конкретной реальной действительности. Конечно, было бы опрометчиво говорить, — хотя бы ограничительно, — о реализме сумароковских притчей. Но все же обилие заключенных в них черточек подлинной жизни позволяет поставить вопрос об элементах наблюдения социальной реальности, отразившейся в них. Дело в том, что сатирические жанры, — даже в системе эстетического мировоззрения Сумарокова, и именно в этой системе, — открывали доступ конкретным фактам жизни, недоступным дли высоких жанров классицизма. Русский классицизм считал realiora, общие идеи, понятия более ценной реальностью, чем конкретный единичным факт. Индивидуальное в действительности он считал отрицательным именно в силу своеобразия его, отличающего его от понятийного бытия. Идеи государства или человека-дворянина прекрасна, — так полагал Сумароков; реальное же государство, Россия его времени, или же реальные дворяне — очень плохи. Трагедия, рисующая идеальное, может создавать отвлеченно-понятийные образы; сатирические жанры, в том числе басня, обязаны рисовать дурное, т. е. отклонения от норм идеала, от понятийного бытия; эти отклонения, увы, конкретны, реальны и индивидуальны. Таким образом, подлинная социальная действительность включается в сатирические жанры в качестве отрицательного бытия, не нарушая принципов сумароковского классицизма. Таким образом, подготовка реализма зреет в недрах русского классицизма именно в его сатирическом течении.
Фактически же дело обстояло так, что практика социальной борьбы заставляла Сумарокова спускаться с высот отвлечениостеи классического Парнаса, заставляла его учиться демонстрировать настоящую жизнь; ведь ему нужно было живьем показать язвы современного ему дворянства; иначе бы ему не поверили; призывая к реформам, он во что бы то ни стало должен был доказать нетерпимость настоящего положения дел; а этого выкладками дедукции сделать было нельзя; надо было показать настоящее и тем самым доказать его непригодность.
Эта тенденция к разоблачению действительности приводила Сумарокова к той резкости стиля, к той грубости нападок и самих картин,
- 412 -
изображенных в его баснях, к той прямолинейности поэтической брани, которые характерно отличают его поэтическую манеру от западного и в частности французского классицизма, благородно-сдержанного, олимпийски-спокойного и чуждого «низкой» прозе жизни в образах и в языке.
С другой стороны, признание порочности изображаемой действительности, уже вследствие ее реальности, ставило существенную преграду реалистическим возможностям Сумарокова-баснописца и сатирика вообще. Сумароков не хочет и не может подняться над эмпирическим наблюдением отдельных штрихов.
Одной из сильных сторон сумароковских басен является их язык, живой, яркий, чрезвычайно близкий к просторечию его времени. Сумароков пересыпает свой басенный язык поговорками, разговорными оборотами. Он умело использует с той же целью приближения своего басенного языка к речи произносимой и обыденной открытый им для русской поэзии вольный разностопный ямб. Он широко вводит в свою поэтическую речь «вульгаризмы» живого языка. Однако и здесь в той огромной работе по освобождению стихотворной речи от условности «высоких» жанров, которую проделал Сумароков-баснописец, он остается классицистом.
Слову в поэтике русского классицизма присваивалось не только точно установленное значение, но и точно установленная характеристика по линии его лексического колорита. Место слова в общем замысле речи диктовалось не столько индивидуальным замыслом и истолкованием этого слова автором, сколько как бы прирожденным достоинством этого слова. Были слова высокие не по своему значению, а «сами по себе», высокие независимо от того, как ни употребить такое слово; были слова низкие и средние. Отмеченное определением своей высоты, слово оказывалось как бы фокусом того жанра, с которым оно было связано. Слово само по себе оказывалось поэтому определенным уже не только семантически и лексически, но и в смысле всех эмоциональных эстетических возможностей, которые оно призвано было осуществить в жанровом контексте.
Рядом со словами оды и эпопеи должны были существовать и слова басни, эпиграммы, слова комических жанров, и характеристика таких слов заключалась прежде всего в их комизме. Так, в баснях Сумарокова мы все время встречаемся с поисками смешного и сатирического в особом подборе смехотворных слов и выражений, которые должны были воздействовать в этом направлении самой своей грубостью, необычайностью, выисканностью. Эти слова и выражения походили на кривляние шутов или на палочные побоища в итальянских фарсах и ранних сумароковских комедиях. Взобрался — это слово казалось нейтральным; встюрился — могло звучать специфически комично и в то же время своей грубостью характеризовало «низменность» изображаемой отрицательной действительности. Столь же отрицательно должны были характеризовать ее в баснях Сумарокова и разговорные выражения, поговорки и т. д.
Был некакой старик, и очень был богат,
Боярам был набитой брат.
.............
В богатстве он до самой глотки...(«Старой муж и молодая жена».)
И мыши карачун дала.
(«Мышь и слон».)
Шершни на патоку напали
И патоку поколупали.(«Шершни».)
- 413 -
Вор, высунув язык, бежит...
(«Пустынник».)
Я мышлю так и сяк
(«Старик со своим сыном я осел».)
Не знает он аза
В глаза.(«Одноколка».).
Примеров таких разговорных выражений можно было бы привести множество, так же как «комических слов» — загаркали, глотка, хвостишком верть, взрючено (навалено), дюже, вопит и т.д.
К басням Сумарокова и в тематическом и в стилистическом отношении близки его сатиры; собственно, они отличаются от басен главным образом размером (александрийским стихом), да и то не все, так как превосходная сатира «Наставление сыну» написана вольным ямбом. Сатиры, конечно, не имеют сюжета; они представляют свободную живую стихотворную речь, злую инвективу, поучение, изложенное столь же резко, как и бесконечные «отступления» в баснях Сумарокова. Интонация произносимой речи в особенности явна в сатире «Пиит и друг его», построенной как диалог.
К этой же группе жанров относятся и эпиграммы Сумарокова; подобно французским эпиграммам XVII—XVIII столетий традиции Маро и потом Ж. Б. Руссо, большинство эпиграмм Сумарокова не направлены против определенного лица, а представляют собою коротенькие новеллы в четырех строчках, или зарифмованные анекдоты, или же просто остроумное рассуждение поэта на жизненные темы. Эпиграммы Сумарокова — это забавные карикатуры на быт, все тот же дворянский быт, и на социальные беды дворянства, которые Сумароков клеймил и в сатирах и баснях.
12
Современники Сумарокова, превозносившие до небес его басни, считавшие его трагедии одним из величайших достижений европейской литературы, почти ничего не говорят о его личной, интимной и прежде всего любовной лирике, о его песнях, элегиях, «разных одах» и, наконец, о том обширном разделе его поэзии, который он называл «духовными» стихотворениями. Между тем, именно лирика Сумарокова, не его официальная лирика похвальных од, а именно лирика чувства и настроения, едва ли не является той частью его творчества, которая более других эстетически жива и действенна до сих пор.
Конечно, и в своей лирике Сумароков остается классиком; он не изображает в стихах чувствующую и переживающую личность в данных конкретных бытовых условиях; он стремится дать в лирике обобщенный анализ как бы человека вообще. В этом отношении характерна его любовная лирика. Она дает изображение любви «в чистом виде», без примеси «случайных» обстоятельств. Сумароков говорит в своих песнях или элегиях только о любви, о самой любви, несчастной или счастливой. Никакие другие чувства и настроения не допускаются в стихотворение о любви, и таким образом создаются своеобразные искусственные условия для лирического анализа одного единственного чувства. При этом в соответственных стихах мы не найдем также черт индивидуальной характеристики любящего и любимой, или любящей и любимого. Перед нами — человек вообще и детальное «разумное» рассмотрение его чувства. В лирическое
- 414 -
стихотворение Сумарокова ие имеют доступа также факты, события подлинной жизни. Так, мы не узнаем из любовного стихотворения, посвященного теме разлуки с любимой, ни того, почему уехала возлюбленная, ни куда она уехала, ни где происходит действие, ни кто такие герои стихотворения; никакие детали быта не проникают в него. Мы не узнаем, к одной и той же женщине написаны десятки любовных обращений Сумарокова или к различным, так как героиня этих десятков стихотворений — не определенная женщина, а женщина вообще. Таким же образом и тот человек, от лица которого написано стихотворение, — вовсе не сам Сумароков, а отвлеченно-построяемый образ идеального влюбленного. Сумароков писал песни от лица мужчины и от лица женщины совершенно одинаковым методом, не различая разницы тех и других, потому что его герой-мужчина столь же мало выражает его самого, сколь и его героиня-женщина. Самый текст любовной песни или элегии Сумарокова состоит из повторяющихся формул, не индивидуальных и лишенных специфики выражения характера; это — формулы анализа, как бы математически ясного и потому всегда себе равного.
Тем не менее психологическая содержательность любовной лирики Сумарокова была для его времени чрезвычайно велика, как и историческое значение ее. Досумароковская книжная лирика была беспомощна и примитивна. Она поставила новую и важную тему, тему любви не как физического влечения, а как высокого чувства, но не могла найти новых форм для воплощения этой темы. Это сделал именно Сумароков. Впервые он создал язык любви, язык чувства вообще, — пусть суженного отвлеченностью классицизма, но все же искреннего, тонко анализированного и подлинно художественно изображенного. Его задача заключалась именно в том, чтобы, не выдумывая чувства, уловить в словах его правду, — как он понимал это, его общую общечеловеческую сущность. В «Эпистоле о стихотворстве» он так учит писать песни, явно отметая практику петровского песенного барокко:
Слог песен должен быть приятен, прост и ясен;
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен;
Чтоб ум в нем был сокрыт, а говорила страсть;
Не он над ним большой, имеет сердце власть.
Не делай из богинь красавице примера,
И в страсти не вспевай: «Прости, моя Венера,
Хоть всех собрать богинь, тебя прекрасней нет».
Скажи, прощался: Прости теперь, мой свет!
Не будет дня, чтоб я, не зря очей любезных,
Не источал из глаз своих потоков слезных;
Места, свидетели минувших сладких дней,
Их станут вображать на памяти моей.
Уж начали меня терзати мысли люты,
И окончалися приятные минуты;
Прости в последний раз, и помни, как любил.
Кудряво в горести никто не говорил;
Когда с возлюбленной любовник расстается,
Тогда Венера в мысль ему не попадется.Об элегии Сумароков писал здесь же так:
Плачевной музы глас быстряе проницает,
Когда она в любви власы свои терзает;
Но весь ее восторг свой нежный украсит
Единым только тем, что сердце говорит.
- 415 -
Но хладен будет стих, и весь твой плач притворство,
Когда то говорит едино стихотворство:
Не жалок будет склад, оставь и не трудись;
Коль хочешь то писать, так прежде ты влюбись.В измененном виде последние четыре стиха Сумарокова сделал эпиграфом к выпущенной им в 1774 г. книжечке его «Елегий любовных» (эти стихи Сумарокова повторяют Буало, который писал в «Поэтическом искусстве» об элегии:
Mais, pour bien exprimer ces caprices heureux,
C’est peu d’être poète, il faut être amoureux....ll faut que le coeur seul parle dans l’Elégie,
т. е. «но для того, чтобы хорошо выразить эти счастливые капризы, мало быть поэтом, надо быть влюбленным... Само сердце должно говорить в элегии»).
Может быть именно самая тема любовной лирики Сумарокова, чувства человека, уменьшала в глазах его современников, верных принципам классицизма, ее ценность. Однако мы можем утверждать, что такое отношение к ней было только в теории, признававшей песни жанром второстепенным, как бы бытовым, поскольку песни были рассчитаны на живое музыкальнее исполнение, а не на чтение. Характерно, что Сумароков, написавший около ста тридцати песен, сам не печатал их почти совсем; за всю свою жизнь он напечатал только десять песен, и то из них две не любовные, а сатирические, и еще шесть (в «Трудолюбивой пчеле»), вынужденный опубликованием их без разрешения в сборнике песен «Дело от безделья» с нотами Г. Н. Теплова. Между тем несомненно, что песни Сумарокова имели большой успех, начиная с 1740-х годов; Сумароков, повидимому, и прославился прежде всего именно своими песнями. Они пелись всеми, и в среде дворянской молодежи, и среди разночинцев, студентов, поповичей, купеческой молодежи; они становились городским фольклором, неудержимо врываясь в жизнь, в быт; они распространялись и прямо «с голоса», и в списках. Они раскрывали невиданные горизонты выражения простых человеческих переживаний; мало того, они учили глубоко чувствовать, учили возвышенно думать о чувстве и тонко, нежно, просто говорить о нем.
Без сомнения, в этой учительной функции заключалось для самого Сумарокова оправдание его любовной лирики. Он не только и не столько описывал и анализировал те чувства, которые есть, которые были бытовым явлением его времени; он показывал, как надо любить. Животному влечению, в старинном понимании — греховного характера, и столь же животному разврату нового времени, еле прикрытому салонными формами модного флирта, Сумароков противопоставил скромное, глубокое чувство; его героини стыдливы и невинны; его герои верны и возвышенны и своей любви. В ряде его песен, как и в его идиллиях, появляются пасторальные мотивы; идеальные пастушки́ его пасторальной лирики также не похожи на эротических селадонов светских гостиных и придворных балетов на французский лад; их чувства свободны от предрассудков и условностей, но они невинны и чисты. Пастушеская Аркадия Сумарокова — не декорация для изысканного распутства, а мечта о незапятнанной чистоте человеческих отношений, не испорченных денежными интересами, ложью и неправдой современного Сумарокову общества.
В этом именно заключается основной смысл и сумароковских эклог, лирических стихотворений, воспевавших любовь идеальных пастушков.
- 416 -
Эклоги эти изобилуют, казалось бы, эротическими сценами достаточно игривого свойства. Но задача их была не в эротическом воздействии; наоборот, Сумароков хотел облагородить эротическую тему, слишком неблагородно бытовавшую в жизни его круга. Он посвятил сборник своих эклог (он написал 64 эклоги и еще одну перевел из Фонтенеля) «Прекрасному российского народа женскому полу»; в посвящении он писал: «Я вам, прекрасные, сей мой труд посвящаю; а если кому из вас подумается, что мои эклоги наполнены излишно любовию, так должно знати, что недостаточная любовь не была бы материю поэзии; сверх того должно и то вообразити, что во дни золотого века не было ни бракосочетания, ни обрядов к оному принадлежащих; едина нежность только, препровождаема жаром и верностью, была основанием любовного блаженства. Говорят о варварстве, о убийстве, о грабеже и ябедничестве беззазорно во всяких беседах; неужели такие разговоры благороднее речей любовных? А особливо когда не о скотской и не о непостоянной говорится любви. В эклогах моих возвещается нежность и верность, а не злопристойное сластолюбие» и т. д.
Если влияние любовной лирики Сумарокова на русскую литературу вообще было велико и плодотворно, то, пожалуй, еще большее значение она имела для развития русского стиха. Стиховая реформа Тредиаковского была половинчата и ограничена. Ломоносовская поэзия узаконила в русском стихотворстве ямб, 4-стопный для оды и 6-стопный для эпических и дидактических жанров. Но все широчайшие возможности тонического стиха в условиях русского языка открыл и разработал именно Сумароков в своей лирике. Его песни были подлинной лабораторией русского стиха. В отличие от элегий и эклог, написанных 6-стопным ямбом, песни Сумарокова дают всевозможные ритмические комбинации. В этом отношении необходимость для поэта приспосабливать ритм стиха к музыкальному ритму, определенному композитором, сыграла положительную роль. Сумароков пишет песни строфами ямба и хорея разного измерения, в разных сочетаниях; он использует и трехсложные размеры; он решается дать в песнях и так называемые дольники; он строит строфы из стихов различных размеров и из сочетаний стихов свободного тонического ритма, закономерно повторяющих рисунок ритма в каждой строфе. В результате его песни являют образцы исключительного богатства и разнообразия ритмики, музыкального напева стиха. В этом напеве, в этой стиховой музыке заключалась струя сильного эмоционального воздействия, выходящего за пределы логического, «разумного» анализа страсти и «разумной» суховатой семантики, свойственных стилю Сумарокова. Иррациональная мелодия речи разбивала рамки рационалистического построения, открывала дорогу лирической настроенности стихотворения уже не классического характера. Это же следует сказать и о фольклорных исканиях Сумарокова, наблюдаемых в его песенном творчестве. В нескольких песнях Сумароков стилизует народное лирическое творчество, используя его темы, образы, его словарь и даже ритмику. Такие песни, как «В роще девки гуляли,» «Калина ли моя, малина ли моя», «О ты крепкой, крепкой Бендер-град» (не любовная по содержанию, а военная) — начинают традицию сближения индивидуальной лирики с фольклором, продолженную в XVIII в. Поповым, Нелединским-Мелецким, Н. Львовым и др. и в конце концов расцветшую в творчестве Пушкина, Лермонтова и Кольцова. Замечательны в этом отношении и песня Сумарокова о молодой жене за нелюбимым мужем («Не грусти, мой свет, мне грустно и самой»), и солдатская песня — прощание с возлюбленной («Прости, моя любезная, мой свет, прости»), и песня о народном гаданье («Где ни гуляю, ни хожу»).
- 417 -
К песням Сумарокова примыкает по своему характеру и значению и нелюбовная личная лирика Сумарокова. Она открывает в русской поэзия новую страницу; она стремится воплотить чувства и настроения, иногда мимолетные, благородного человека, как его понимает Сумароков. Тема ее, чаще всего, — печаль или отчаяние, вследствие разлада героя лирики со средой, вызывающей его негодование. Множество лирических стихотворений написано Сумароковым как бы вне жанровой классификации классицизма; они и называются то одами («разными» одами), то духовными стихотворениями, то совсем не могут быть определены в жанровом отношении. Значительный раздел лирики Сумарокова составляют его переложения псалмов (Сумароков переложил вольно всю Псалтырь — 153 стихотворения). Псалмы перелагали до него и Симеон Полоцкий, и Тредиаковский, и Ломоносов. Но если для первых двух псалмы — это жанр по преимуществу религиозный, если Ломоносов в своих псалмах дает поэзию природы, величия ее и человека, то Сумароков дал новое направление и этому жанру. Его псалмы — это лирические песни о человеке, изнемогающем под бременем жизни и ненавидящем порок. Политические темы проникают в псалом в лирической оболочке. О своей борьбе с злодеями и тиранами, о своей верности идеям правды и добра, о славе добродетели повествует Сумароков в отвлеченных и эмоционально насыщенных образах псалмов. Об этой же борьбе и о глубоком негодовании своем говорит Сумароков в других своих лирических стихотворениях. То это будет «Сонет на отчаяние», то маленький шедевр о суетности всех внешних благ в жизни («Часы»), в котором дан уже образ боя часов — предвестия о смерти, потом прошедший через Державина к Тютчеву, то лирические стихи «Противу злодеев». И все это воплощено в языке, необычайно простом, в страстном монологе истосковавшегося по свету поэта, не желающего подниматься на ходули, а говорящего от души; и все это поддержано единственным в своем роде разнообразием стихотворных ритмов. Здесь и античные строфы, и всевозможные строфические сочетания размеров тонического стиха, и стихи без рифм, и стихи вольнотонического ритма без размера.
Не только в отношении техники стиха творчество Сумарокова было школой русской литературы. Неутомимая работа Сумарокова над языком, над стилем, над построением всех жанров, над темой, его страстная любовь к литературе и уменье пропагандировать литературу, его страстное желание распространять культуру — все это делало его одним из величайших учителей русских писателей XVIII в. Его многолетняя деятельность по уточнению и очищению русского языка, введению его в нормы ясного синтаксиса, его работа по созиданию простой, естественной русской речи оказали также чрезвычайно благотворное влияние на все развитие русского литературного языка до Пушкина. Недаром умный Новиков писал о Сумарокове: «Различных родов стихотворными и прозаическими сочинениями приобрел он себе великую и бессмертную славу не только от россиян, но и от чужестранных академий и славнейших европейских писателей».
13
1750-е годы — время обостренной борьбы Ломоносова и Сумарокова за гегемонию в русской литературе. К концу этого десятилетия ученики Сумарокова второго призыва образовали целую группу, вскоре отделившуюся от своего учителя и начавшую следующий этап развития дворянского классицизма в России. Во главе этой группы стоял М. М. Херасков; вокруг него сплотился целый круг писателей: А. А. Ржевский,
- 418 -
А. В. Нарышкин, С. В. Нарышкин, А. А. Нартов, В. И. Майков, молодой И. Ф. Богданович и многие другие. Центром их общественно-литературной работы оказался Московский университет.
Именно Московскому университету суждено было стать штабом новой группы. Основанный в 1755 г. по инициативе и по проектам Ломоносова и Шувалова, он должен был обслуживать, с одной стороны, государство, выковывая кадры специалистов, а с другой стороны, и в еще большей степени, дворянскую массу средних и даже мелкопоместных дворян.
При университете были открыты и две гимназии: одна для дворян, другая для «разночинцев». Однако все руководство университетом было в руках дворян, связанных с кружком кадетского корпуса, с молодой культурой русских интеллигентов из родовой знати. Университет сделался рассадником пропаганды дворянской интеллигенции в широких кругах дворянства и даже в среде поповичей его «разночинской» половины.
Литература на первых же порах стала одним из основных звеньев как учебно-образовательной, так и общественной деятельности университета. Литературный курс, празднества с обязательными выступлениями поэтов и прозаиков, усиленные занятия студентов упражнениями в словесности, типография, на ряду с газетой и расписаниями лекций печатающая поэмы и трагедии университетских работников (и не только их), вскоре и театр, организованный при университете, наконец, целая серия журналов, издававшихся при нем, — все это определяло обилие литературных интересов, скопившихся именно здесь. Чиновниками университета состояли Херасков, Веревкин, Поповский, потом Богданович — целый ряд писателей. Херасков же заведывал и театром, и типографией, и библиотекой университета. Университетское образование само по себе имело отчетливо-выраженный гуманитарный уклон. И здесь, несмотря на наличие «разночинской» гимназии при университете, несмотря на наличие в числе студентов множества поповичей, несмотря на внутреннюю оппозицию, несомненно бывшую в среде профессоров, преобладающий тон университетской интеллектуальной жизни давали дворяне.
В 1760 г. начал выходить в Москве при университете под руководством Хераскова журнал «Полезное увеселение»; это был журнал народившейся группы Хераскова. Он выходил до середины 1762 г. В 1763 г. его сменили «Свободные часы», фактически — продолжение первого журнала. В том же году группа учеников университета и Хераскова издавала еще один журнал — «Доброе намерение»; в 1764 г. Богданович, под руководством кн. Дашковой, организовал журнал «Невинное упражнение». В «Полезном увеселении» помещались только такие произведения, которые могли быть отнесены к изящной словесности. Кроме стихов, печатались беллетристические размышления на моральные темы, «разговоры в царстве мертвых», философические анекдоты и т. п. В противоположность «Ежемесячным сочинениям» весь этот материал осмыслялся здесь в ряду художественной литературы, в зависимости от окружающего его материала, от общей установки журнала, наконец, от стилистической обработки самих статей.
Если в середине XVIII в. поэзия, стихотворство считались литературой по преимуществу, то «Полезное увеселение» в этом смысле было первым литературным журналом эпохи; стихи в нем преобладают над прозой. Нередко целый номер журнала (он выходил до конца 1761 г. еженедельно, а в 1762 г. — помесячно) состоял сплошь из стихов. Этим «Полезное увеселение» характерно отличается от всех журналов XVIII в.
«Полезное увеселение» первый русский журнал, объединивший большую группу писателей единым направлением, объединивший весь
- 419 -
материал, помещаемый в нем, на осознанной идеологической платформе вне правительства и его инициативы. Правда, он издавался при Московском университете, редактор его, Херасков, был служащим университета, а целый ряд сотрудников был связан с университетом: одни учились в нем, другие служили. Тем не менее «Полезное увеселение» не может считаться только университетским журналом; в числе активнейших сотрудников его были люди, к университету не причастные, да и в содержании его было бы трудно усмотреть какую-либо связь с деятельностью университета (за вычетом нескольких «рассуждений» в характере школьных упражнений).
Группа сотрудников «Полезного увеселения» и «Свободных часов» доходила до 30 человек. Из этой группы вышел целый ряд видных деятелей русской литературы XVIII в.; кроме Хераскова, Ржевского, Нарышкина, Нартова, начавших печататься до 1760 г., следует указать, например, Д. Фонвизина, Богдановича, Майкова, Рубана, Золотницкого, Е. В. Хераскову, В. Санковского, П. Фонвизина и ряд других, впервые выступивших в печати именно в журналах Хераскова 1760—1763 гг.
Херасков и его друзья, поэты «Полезного увеселения», создавали не придворное и не официальное искусство. Они обращались не к властям, а непосредственно к своим собратьям по классу и культуре. Они настаивали на своей свободе от подчинения правительственной бюрократии и заявляли о своем презрении и к ней, и к торгашескому, деляческому и в то же время полицейскому направлению деятельности придворной верхушки их класса. Они были дворянскими либералами, порицавшими произвол и тиранию.
Херасков и поэты его группы нападают на подьячих и на своих противников внутри своего класса. Но они против социальных переворотов. Они готовы уничтожить подьячих и кое-кого из правительственных дельцов (многие из них были близки к кругам, совершившим дворцовый переворот, который отдал трон Екатерине), но они против резких нападок на дворянство. Они видели свою миссию в воспитании дворянства и хотели больше пропагандировать свой идеал культуры, добродетели, свободы, чем громить пороки. Именно о моральном зле говорит Ржевский: «Истребляти зло изо света способ один: не смотреть на других и не делать зла самому. Если всяк будет исправлять себя одного, то исправятся и все; да то беда, что у нас в обычай вошло исправляти других, а не себя». Такой консервативной формулой ограничивается либерализм идеологии Хераскова и его друзей. Недоброжелательное отношение к городу с его бюрократией, торгашеством, мучительной борьбой за существование и за власть связано у них с своеобразным помещичьим руссоизмом, прославлением тишины, «свободы», привольной жизни среди поселян-подданных на лоне природы. В то же время призыв к добродетели и «просвещению» является выражением политических претензий этой группы дворянстаа, бывшей в сущности наиболее культурной прослойкой и стране.
В области поэтики Херасков и поэты его круга несколько видоизменили стилистическую манеру Сумарокова. Как и Сумароков, они, в основном, — классики. Они работают в пределах признанных классической теорией жанров. Это — торжественная политическая «похвальная» ода, эпистола (своего рода философская, нравоучительная или эстетическая статья в стихах), любовная элегия, пастушеская идиллия и т. д. Но наибольшее значение для Хераскова и его группы и 60-е годы имела нравоучительная, «философическая» лирика. Соединение прямой моральной проповеди с лирическим эмоциональным выражением темы характерно для этой литературной школы. В чисто лирические жанры, например, в элегию, повествовавшую до тех пор о любовных страданиях, проникают
- 420 -
поучения на темы о серьезном отношении к браку, о свободе чувства и т. п. В свою очередь нравоучительная ода, жанр, наиболее ответственный в творчестве молодого Хераскова, строится как лирическое размышление, а не как сухой урок морали.
Изящество отделки, легкость стиха, свободная интонация салонного разговора становятся законами стиля поэтов круга «Полезного увеселения». У Ржевского, тонкого мастера стиха, наблюдается даже тяга к особой изысканности поэтической техники, к игре своим стихотворным мастерством; он любит хитроумные словесные построения, смысловые и стиховые трюки; он играет антитезами и параллелизмами, создает своеобразные кунстштюки поэзии: стихотворение, составленное сплошь из односложных слов, сонет, который можно читать трояко, — целиком, по одним первым полустишиям и по одним вторым полустишиям и каждый раз получается законченный смысл; он изыскивает совершенно созвучные рифмы и т. д.
Тем не менее литературная программа Хераскова и его группы в области поэтики была близка к сумароковской. А. А. Ржевский писал в «Свободных часах»: «Незнающим невообразимый труд, чтоб украсить стихи приличным к материи расположением, чистым и правильным языком ... плавным стопосложением... Сего требует чистота стихотворства; но важность живого изображения, точного чувствования, ясного рассуждения, правильного заключения, приятного изображения, естественныя простоты, что всего прекраснее во стихотворстве...» И ниже он нападает на «надутые мысли, худой смысл и неестественное изображение в стихах», т. е. на то, что порицал и Сумароков («Письмо к наборщикам третье»). В другом месте Ржевский смеется над оратором, который «тягостен мне темнотой надутого и плодовитостью пустых слов слога», и вслед за тем дает пародийную «Речь», уже непосредственно ведущую нас к Ломоносову, как к объекту сатиры. Также и Херасков повторяет мотивы антиломоносовских «Вздорных од» Сумарокова в статье «Путешествие Разума», где Разум видит олицетворенную оду, «которая движением всех своих членов доказывала, что она великую работу имеет». Разум полюбопытствовал и спросил у нее, что она делает. «Не мешай мне, — вскричала ода, — мне и так недосужно; ты видишь, в какой я претяжкой работе, а еще и более трудиться надобно; теперь я полечу в эфир, после побываю на луне, оттуда мне должно спуститься в преисподнюю, испугать Цербера, смутить фурий, после уйти, подняться к облакам, зажечь молнию, ударить громом, потрясти Олимп, оттуда стремглав слететь и не ушибиться». «Кто к этому принуждает тебя?» — спросил Эскулапий. «Разум», — вдруг она ответствовала. «Разум принуждает быть без разума? — говорит он, — о вы, музы, и ты, Аполлон, чего вы ждете, что сию безумную тварь до конца не истребите, — а себя и меня так бесчестить дозволяете?»
Впрочем, для Хераскова и поэтов его круга борьба Ломоносова и Сумарокова — уже пройденный этап. Усвоив некоторые принципы Сумарокова, они видели в нем уже классика, чуть ли не историческую фигуру, — так же они воспринимали и Ломоносова.