264
Ломоносов
С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим — так определил роль Ломоносова в истории русской литературы В. Г. Белинский в статье «Литературные мечтания».
И действительно, своей работой по созиданию национального русского литературного языка, своим поэтическим творчеством Ломоносов открыл новую страницу в истории русской литературы.
С него же начинается новый этап в развитии русской культуры в целом. В своей деятельности он стремился к освобождению русской культуры от связи с церковью, от сословной ограниченности и построению общенациональнюй культуры.
В образе мыслей и деятельности предшественников Ломоносова — Феофана Прокоповича, Кантемира, Тредиаковского, отчасти Посошкова отразилось многое из того, что составляло дух Петровской эпохи. Но ни один из них не смог придать своим идеям тот размах и тот всеобъемлющий характер, ту зрелость и классическую ясность, ту последовательность, которые присущи идеям Ломоносова. Только в деятельности Ломоносова прогрессивные стороны Петровской эпохи нашли свое наиболее полное идеологическое выражение. Недаром Пушкин видит в Ломоносове «великого сподвижника великого Петра».
Если суммировать все устремления Ломоносова, то они сходятся к одной великой цели — построения своей русской культуры, которая явилась бы выражением самых передовых идей своего времени и вместе с тем носила бы национальный характер. Отстаивая со всей присущей ему последовательностью идею своей национальной культуры, Ломоносов указывал также пути для ее развития.
Кровная связь с народом, прекрасное знание народного языка и любовь к нему, знание прошлого русского народа, его устной поэзии и книжной культуры открыли перед ним один из важных источников, который может питать национальную культуру. Этот источник — те культурные ценности, которые были накоплены на протяжении всей предшествующей истории русского народа. Другим источником должна была стать, по Ломоносову, культура передовых европейских стран. Эти взгляды Ломоносова стали достоянием последующих поколений писателей и публицистов, боровшихся за подлинно народную культуру.
Ломоносов открыл огромные богатства живого русского языка и показал, что культура народа может развиваться только при том условии, если орудием ее будет свой национальный язык. Работая в области языка, он стремился к тому, чтобы русский язык стал языком философии, науки и литературы. Он становится великим реформатором русского языка. И Радищев и Пушкин величайшую заслугу Ломоносова видели в том, что
265
он явился «насадителем российского слова» (Радищев). «Слово твое, — пишет Радищев, — живущее присно и во веки в творениях твоих, слово Российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных необозримый горизонт столетий» («Путешествие из Петербурга в Москву»).
Значение Ломоносова в деле создания русского литературного языка не ограничивается его собственной работой в этой области. Не менее важно было и то, что он указал последующим поколениям писателей, в каком направлении должен развиваться русский язык. Это понял Пушкин, который ценил в Ломоносове теоретика и поэта, открывшего «истинные источники нашего поэтического языка». Ломоносов, по мнению Пушкина, спас русский язык от чуждых ему влияний и указал единственно правильный путь для его развития — путь сближения литературного языка с языком народным. «В царствовании Петра I, — пишет Пушкин, — начал он [русский язык] приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей... к счастью явился Ломоносов... Слог его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным».
Ломоносов был первым русским поэтом, произведения которого и по своему языку и по своему идейному содержанию явились выражением национального самосознания. Многие идеи Ломоносова продолжали жить в русской литературе последующих десятилетий. Он первый выразил в полной мере те качества, которые в дальнейшем стали неотъемлемыми для нее. Это прежде всего гражданственность и оптимизм, интерес к историческому прошлому России и ее дальнейшим судьбам. Названные свойства стали основными для русской литературы в прогрессивной линии ее развития.
Весь психологический облик Ломоносова, его страсть к науке, его смелость в разрушении старого и отжившего, его созидательные устремления, его патриотизм и вера в народ, его стремление в мечтах опережать десятилетия — все это делает Ломоносова особенно близким нашей эпохе.
1
Михаила Васильевич Ломоносов родился 8 ноября 1711 г. в деревне Денисовке, на Курострове Северной Двины, возле города Холмогор, недалеко от Архангельска, крупнейшего в то время русского порта.
Здесь он провел первые девятнадцать лет своей жизни (до декабря 1730 г.).
Эти годы, проведенные на далеком Севере, не только не пропали даром для умственного развития Ломоносова, но в существенных чертах положили основание его мировоззрению, дали ему жизненные наблюдения и сказывались во всей последующей его энциклопедически-разносторонней деятельности.
Здесь определились основные черты его социально-психологического облика, здесь же он накопил много наблюдений, относящихся к сфере социальных отношений, быту, нравам. Целый ряд естественнонаучных вопросов, которыми он занимался впоследствии, возник перед ним, конечно, еще в очень неоформленном виде, именно здесь. Но что самое для нас существенное — он вынес отсюда знание русского народного разговорного языка и языка книжного церковно-славянского.
266
Многое из того, что он наблюдал в области явлений природы и в языке, он впоследствии использовал в своих научных трудах. Так, в «Кратком описании путешествий по северным морям и показании возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию» (1763) он чрезвычайно точно и детально описывает характер ветров, дующих в определенное время года на Севере, состояние льда и вообще условия северного мореплавания, причем все сведения, которые он дает, основаны на его отроческих наблюдениях: «Ветры в поморских Двинских местах, — пишет Ломоносов, — тянут с весны до половины мая по большей части от полудня, и выгоняют льды на океан из Белого моря, после того господствуют там ветры больше от Севера, что мне искусством пять раз изведать случилось, ибо от города Архангельского до становища Кекурского всего пути едва ли семьсот верст, скорее около оного времени не поспевал как в четыре недели, а один раз в шесть недель на оную езду положено за противными ветрами от Норд-Оста. Около Иванова дни и Петрова дни по большей части случаются ветры от полудни и им подобные, и простираются до половины июля, а иногда и до Ильина дня, а после того две, три, а иногда и четыре недели дуют полуночные ветры от восточной стороны, на конец лета западные и северозападные. Сие приметил я и по всему берегу Нормандского моря, от Святого носу до Килдина острова».
С такими же описаниями, основанными на юношеских наблюдениях, мы встречаемся и в других его научных трудах — в «Слове о явлениях воздушных» (1753), в «Первых основаниях металлургии» (1761—1763) и др. Природа русского Севера находит свое отражение и в его поэтических произведениях — в одах и в поэме «Петр Великий» (1760). Прекрасное знание быта крестьян, духовенства обнаружил Ломоносов в своем письме-рассуждении к И. И. Шувалову «О размножении и сохранении российского народа» (1761) и в заметке «Об обязанностях духовенства» (тогда же). В филологических своих изысканиях он также использовал те свои знания в языке, которые приобрел еще, живя на Севере.
Обстановка Беломорского края, какой она сложилась к концу XVII и к началу XVIII в., была сравнительно благоприятной для умственного развития Ломоносова. Этот край совсем не знал крепостного права, что способствовало развитию личной инициативы и предприимчивости у населения. Кроме того, Архангельск в то время был единственным морским портом в России, через него осуществлялась связь России с Западом — с Англией и Голландией, и жители этого края привыкли к общению с иностранцами, являясь торговыми посредниками между центром России и странами Запада.
Край этот населяли крестьяне, поморы, занимавшиеся рыбным промыслом, торговлей, перевозкой грузов, промышленники, строившие верфи и предприятия, связанные с судостроением. Население это пользовалось относительной свободой, было сравнительно культурным и зажиточным. Архангельск и Холмогоры в начале XVIII в. были крупными производственными центрами. Там было множество верфей, из которых самой большой была так называемая Вавчужская верфь братьев Бажениных. Судостроение требовало развития тут же на месте подсобных производств. И действительно, вокруг Вавчужской верфи, да и других верфей, развиваются промышленные предприятия, обслуживающие судостроение, торговое и даже военное. Здесь были построены лесопильни, мельницы, канатные и парусные мастерские. Вокруг Вавчужской верфи расположились мастерские, — литейные, слесарные, токарные и т. п., — которыми руководили русские и иностранные мастера. По берегу Белого моря были разбросаны многочисленные солеварни.
267
Такая интенсивная для того времени производственная деятельность развивала и повышала культурный уровень жителей Беломорского края. На ряду с этим на состояние культуры края влияло и то обстоятельство, что издавна здесь селились старообрядцы, среди которых грамотность была более распространена, нежели среди остального русского населения. К началу XVIII в. книга на Севере не была редкостью и, что особенно важно, здесь имелись уже собиратели книг, которые смотрели на книгу, как на большую ценность. Так, известно, что в те годы, когда здесь рос Ломоносов, домашние библиотеки имелись в некоторых местных семьях — у Дудиных, Шубных, Бажениных и других. В этих домах собирались не только церковные книги, но и светские. Как известно, в семье Х. П. Дудина Ломоносову удалось получить такие значительные в то время учебные пособия, как «Арифметику» Магницкого (1703), представлявшую собой в сущности энциклопедию знаний, и «Грамматику» Смотрицкого (первое изд. 1618 г.). Там же Ломоносов получил «Рифмованную Псалтырь» Симеона Полоцкого. Распространению книги способствовало также открытие в 1723 г. в Холмогорах славяно-латинской школы, но роль ее в этом отношении не могла быть особенно значительной, так как туда принимались только дети духовных лиц.
Отец Ломоносова — Василий Дорофеевич — принадлежал к числу энергичных, предприимчивых, способных поморов, занимавшихся не только ловлей и продажей рыбы, но и перевозкой грузов на своих .судах, посредничеством между внутренними рынками России и иностранными купцами. Впоследствии Ломоносов хотя и говорил о своем отце, как о человеке, «в крайнем невежестве воспитанном», однако отзывался о нем с большим уважением, указывая на то, что все свое «довольство» он «кровавым потом нажил». Василий Дорофеевич Ломоносов владел несколькими судами, одно из которых под названием «Чайка» представляло собой судно европейского типа. На своих судах он имел возможность уходить далеко в океан и даже доплывать до портов Швеции и Норвегии, доставляя туда и оттуда грузы. В первой биографии Ломоносова, составленной по материалам Я. Штелина и приложенной к собранию его сочинений, изданных Академией Наук в 1784 г., говорится о том, что его отец «первый из жителей сего края состроил и по-европейски оснастил на реке Двине под своим селением галиот и прозвал его Чайкою, ходил по нем по сей реке, Белому морю и по Северному океану для рыбных промыслов и из найму возил разные запасы, казенных и частных людей города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Самояди и на реку Мезень...» И все же, несмотря на то, что Василию Дорофеевичу приходилась, конечно, вступать в сношения с иностранцами и вести крупные дела, он не знал грамоты.
Мать Ломоносова, первая жена Василия Дорофеевича, Елена Ивановна (урожд. Сивкова), была дочерью дьякона с Николаевских Матигор. Она умерла, когда Ломоносову было не больше 8—9 лет. Лет десяти Ломоносов стал выезжать с отцом в море, и тогда, повидимому, началась его сознательная жизнь. Во время этих поездок юный Ломоносов проявлял интерес не только к морю, волнам, льдам, ветру, северному сиянию, но и к людям, населявшим берега Белого моря и Северного океана. О том, что люди и условия их жизни его интересовали еще тогда, говорит та замечательная по количеству точных данных характеристика, которую он дает лопарям в примечаниях к «Истории Петра Великого» Вольтера (1760—1761). У себя на родине, повидимому, Ломоносов знакомился с народным поэтическим творчеством, верованиями и обрядами, знаний которых он впоследствии обнаружил во многих своих научных
268
трудах и черновых заметках. Так, например, в экземпляре «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» Тредиаковского, принадлежащем Ломоносову и изучавшемся им примерно в 1736—1737 гг., к поэтическим формулам «тугой лук», «бел шатер», приведенным автором трактата, добавлены Ломоносовым другие формулы: «каленая стрела», «зеленая дубрава». При чтении параграфа трактата, где у Тредиаковского говорится о тоническом характере русского стиха и о том, что его натолкнула на эту мысль «поэзия простого народа», Ломоносов приписывает:
По загуменью игуменья идиот,
За собою мать черна быка ведиот.
В примерах, используемых им в его «Риторике» (1746—1747) и его «Грамматике» (1757), имеется много народных пословиц и поговорок. Целый ряд его черновых заметок также говорит о знании им фольклора.
В некоторых заметках перечисляются народные поэтические формулы и отдельные слова, идущие из былин и песен: «звончаты гусли», «посад понизовный», «светлица», «воскручинился», «не думал, не гадал». Встречаются такие отрывки из песен:
Наш народ у Дуная живал
И реку за бога почитал.
Дунай, Здунайко, Здунай, Здунанай.
Поговорки:
Хот бай, не бай,
А деньги дай
Либо полон двор.
Либо корень вон.
Очевидно, с родины он принес знание русской мифологии. В одной из своих черновых заметок он высказывает сожаление, что целостной мифологической системы у русских нет, что большого количества мифов русские не создали: «Мы бы имели много басней, как греки, — пишет Ломоносов, — еслиб науки в идолопоклонстве у Россиян были». Он дает целую таблицу соответствий между римскими богами и русскими: «Юпитер — Нептун, Юнона — Коляда, Нептун — царь морской, Тритон — чуды морские; Венера — Лада, Купидон — Лель, Церера — Полудница, Плутон — чорт; Прозерпина — чертовка; Центавр и Марс — Полкан; нимфы — русалки; фавны — лешие; пенаты — домовые» и др.
В своей работе над синонимами русской речи он широко пользуется русской мифологией и народными поверьями. В одной из относящихся сюда заметок он дает до 20 синонимов злого духа и тут же предлагает «воспамятовать» все их действия вроде того, что «у леших левая пола наверху, тени нет», что «в омутах, водоворотах и пустых домах живут черти» и т. п. Знание всех этих тонкостей народных поверий Ломоносов мог почерпнуть, только живя среди народа, в тесном общении с ним. Благодаря тому же обстоятельству, он прекрасно знал русский народный разговорный язык. Это «природное знание» живых его форм чувствуется в его письмах, стиль которых значительно отличается от стиля его теоретических трактатов и поэтических произведений. Письма его к И. И. Шувалову и особенно письмо его к сестре Марии Васильевне от 2 марта 1765 г. свидетельствуют о том, что он не только не отвык от народной фразеологии, но прекрасно владел ею до последних дней своей жизни. Элементы чисто народной речи сохранились и в поэтических произведениях Ломоносова, в частности, в сатирических, лексика и ритмика которых отчасти подсказана народной песенностью;
269
Что за дым
По глухим
Деревням курится?
Там раскол,
Дно крамол
В грубости крутится.
У себя на родине Ломоносов основательно изучил «славенский» язык, т. е. язык в то время книжный, литературный. Сохранились сведения о том, что Ломоносов выучился грамоте, когда ему было примерно лет десять. В качестве его первых учителей называют крестьянина Ивана Афанасьевича Шубного, отца скульптора Ф. И. Шубина, и дьячка приходской церкви С. Н. Сабельникова. Учиться ему приходилось в очень тяжелых условиях. Вот как он сам об этом рассказывает: «В...оставивших в своем счастии учение людях весьма ясно видеть можно, что они только одно почти знают, что в малолетстве из-под лозы выучились, а будучи в своей власти, почти никакого знания больше не присовокупили. Я напротив того... имеючи отца хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах и терпеть стужу и голод, пока я ушел в Спасские школы». Ломоносов, повидимому, очень быстро овладел грамотой, так как из двух источников — «Путешествия» Лепехина и биографии, составленной Штелиным на основании рассказов самого Ломоносова, — мы узнаем, что чуть ли не с 12 лет Ломоносов «охоч был читать в церкви псалмы и каноны и по здешнему обычаю жития святых, напечатанные в прологах». «Через два года, — говорится в биографии, — учинился, ко удивлению всех, лучшим чтецом в приходской своей церкви. Охота его до чтения на клиросе и за амвоном была так велика, что нередко биван был не от сверстников по летам, но от сверстников по учению за то, что стыдил их превосходством своим пред ними произносить читаемое к месту расстановочно, внятно, а притом с особой приятностью и ломкостью голоса». По словам самого Ломоносова, он изучил церковно-славянский язык «еще с малолетства». Знание языка народного и языка «славенского», которое он приобрел почти одновременно, сыграло очень большую роль в его будущих воззрениях на истоки и судьбы русской культуры и на русский литературный язык. Оно позволило ему, с одной стороны, четко разграничить эти два языка, с другой — найти пути для их сближения.
Церковно-славянский язык и церковная книга были, на ряду с устным народным творчеством, первым источником, который приобщил Ломоносова к поэтическому слову. Известно, что в юности он увлекался чтением псалмов, и эту любовь к их поэзии Ломоносов сохранил на протяжении всей своей жизни.
Вся его поэтическая деятельность показывает, насколько глубоко он впитал в себя поэтические мотивы Библии, в особенности псалмов, которые широко вошли в народный быт.
Значительным явлением в культурной жизни Севера были монастыри. Эти последние тоже сыграли известную роль в формировании взглядов Ломоносова на русскую образованность. Соловецкий монастырь, Антониево-Сийский монастырь хранили следы очень старой, идущей еще из Византии культуры. Сами по себе они были памятниками древней архитектуры, на их стенах сохранилась старинная живопись. Недаром впоследствии
270
Ломоносов предложил послать хорошего живописца в старинные русские города для того, чтобы снять точные копии с церковных росписей, «дабы от съедающего времени отнять лики и память владетелей и сохранить для позднейших потомков, чтобы показать и в других государствах российские древности и тщание предков наших».
Все эти юношеские впечатления подготовляли почву для будущих его мыслей о преемственности, об органическом развитии русской культуры, о местных национальных корнях ее.
Среди различных источников, питавших любознательность молодого Ломоносова, несомненно, были также рассказы архангельских старожилов о прошлом России и Северного края, в частности. Приходилось ему слышать, вероятно, от них же о пребывании Петра I в Архангельске, в Соловецком монастыре. Ведь не случайно одним из центральных эпизодов его поэмы о Петре I является посещение им Соловецкого монастыря.
В декабре 1730 г. Ломоносов отправился в Москву. Этот важный в его жизни шаг был им обдуман и подготовлен. Видно это из того, что он совершенно законным образом оформил свой уход, взяв паспорт и разрешение отлучиться на год. В волостной книге для записи поручителей в платеже податей за отлучившихся имеется следующая запись: «1730 года, декабря 7-го дня отпущен Михаил Васильевич Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев расписался». Вплоть до 1747 г. Ломоносов числился «в бегах», а платеж подушных денег за него был возложен на местных жителей. Ломоносов ушел из дома без разрешения отца, последний лишь потом узнал, где находится его сын и настаивал на его возвращении домой. Очевидно, к замыслу Ломоносова оставить дом многие из его земляков отнеслись сочувственно, так как не только способствовали ему в получении паспорта, но и поручились за него (Банев — сосед Ломоносовых), снабдили тремя рублями денег и «китаечным полукафтаньем» (Ф. И. Шубной). В Москве он также разыскал земляков, которые разрешили ему поселиться у них и помогли ему устроиться в Московской славяно-греко-латинской академии. О том, как Ломоносов поступил в Славяно-греко-латинскую академию, имеются сведения, сообщенные им самим, в связи с учиненным ему допросом по поводу его происхождения. Поступая в академию Ломоносов скрыл свое крестьянское происхождение Второй раз он это сделал, когда хотел отправиться в Оренбургскую экспедицию И. К. Кириллова, чтобы занять там место священника. О том, что он скрыл свое крестьянское происхождение, узнало начальство и подвергло его допросу. На допросе Ломоносов дал следующие показания: «Рождением де он Михайло Архангелогородской губернии, Двинского уезду, дворцовой Куростровской деревни, Василия Дорофеева сын, и тот де ево отец и по ныне в той деревне обретается с протчими крестьяны и положен в подушной оклад. А в прошлом 1730 году декабря в 9-м числе с позволения оново отца ево отбыл он, Ломоносов, в Москву, о чем дан был ему и пашпорт (которой утратил он своим небрежением) ис Холмогорской воеводской канцелярии за рукою бывшаго тогда воеводы Григорья Воробьева; и с тем де пашпортом пришел он в Москву и жил Сыскного приказу у подьячего Ивана Дутикова генваря до последних чисел 731-го году, а до которого именно числа — не упомнит. И в тех де числех подал он прошение Заиконоспасского монастыря архимандриту (что ныне преосвященный архиепископ Архангелогородской и Холмогорской) Герману, дабы принят он был Ломоносов в школу. По которому ево прошению он архимандрит ево Михаила приняв приказал допросить и допрашивай; а тем допросом в Академии показал, что он Ломоносов города Холмогор дворянской сын.
271
И по тому допросу он, архимандрит, определил его Михаила в школы и дошел до риторики. А в экспедиции с статским советником Иваном Кирилловым пожелал он Михайло ехать самоохотно. А что он в ставленическом столе сказался поповичем, и то учинил с простоты своей, не надеясь в том быть притчины и препятствия к произведению во священство; а никто ево Ломоносова, чтобы сказаться поповичем, не научал. А ныне он желает по прежнему учиться во оной же Академии. И в сем допросе сказал он сущую правду без всякия лжи и утайки; а ежели что утаил, и за что учинено б было ему Ломоносову, что Московская Синодального правления канцелярия определит». (Подп. «К сему допросу Михайло Ломоносов руку приложил».)
В стенах Славяно-греко-латинской академии Ломоносов пробыл без малого 5 лет (с января 1731 по ноябрь 1735 г.). За эти 5 лет он дошел до класса философии, т. е. в течение 4—5 лет прошел курс, на который обычно затрачивалось 7—8 лет. Как и о предшествующем периоде его жизни, об этих годах также имеется сравнительно мало сведений. Все же мы знаем, что Ломоносов очень много работал, будучи учеником Славяно-греко-латинской академии, причем работа эта шла одновременно в разных направлениях. По тем сведениям, которые дает Я. Штелин, Ломоносов, после того как изучил латинский язык настолько, что мог уже на нем сочинять небольшие стихи, стал учиться по-гречески. Он не довольствовался тем, что получал в классах, и много времени проводил в монастырской библиотеке.
Эта библиотека к тому времени была уже довольно богата, так что Ломоносов мог в ней ознакомиться с русскими летописями, сочинениями отцов церкви и даже с философскими, физическими и математическими книгами. Чтение летописей и сочинений отцов церкви дало ему возможность углубить свои знания в церковном языке и изучить древнерусский язык, который он считал впоследствии языком, хотя и близким «славенскому», но существенно отличным от него. По его собственным словам, «достигши совершенного возраста, с прилежанием прочел почти все, древним славено-моравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги». Хотя в Московской славяно-греко-латинской академии господствовала латинская образованность и греческому языку там не обучали, однако Ломоносов стал изучать и этот язык. Сделать это было нетрудно, так как в некоторой связи с академией находилась греческая школа, во главе которой стоял тогда Алексей Барсов, который не только преподавал греческий язык, но неоднократно переводил с него. Если латинский язык был необходим тогда для изучения философии, физики, математики, то греческий давал возможность ознакомиться с культурой Византии и с культурой древней Эллады. Через одновременное изучение русских летописей, церковно-славянского языка и языка греческого Ломоносову раскрывались историко-культурные связи, определявшие становление русской национальной культуры. Через язык ему открывались отдельные пласты культуры России, их хронологическая последовательность.
Трудно в точности указать круг чтения Ломоносова за время его пребывания в Москве. Однако, по свидетельству Я. Штелина, «сверх богословских книг, попалось в руки его малое число философских, физических и математических книг». Дважды Я. Штелин подчеркивает особый интерес Ломоносова к древним летописям. Изучением их, по свидетельству Штелина, он занимался не только в Москве, но и в Киеве (1734). По словам Того же Штелина, Ломоносов просил послать его в Киев для пополнения знаний в области естественных наук. Однако едва ли Ломоносов мог ждать от Киева в этом отношении большего, чем он получил в Москве, так как
272
занятия в Киевской духовной академии носили еще более средневековый схоластический характер, нежели в Москве. Гораздо вероятнее предположить, что стремился он в Киев для того, чтобы познакомиться с хранившимися там русскими летописями, с памятниками византийской образованности, так как в Киеве можно было найти греческие тексты и хорошие переводы этих текстов на славянский язык. «В Киеве, — пишет тот же Штелин о Ломоносове, — против чаяния своего, нашел пустые только словопрения аристотелевой философии; не имея же случаев успеть в физике и математике, пробыл там меньше года, упражняясь больше в чтении древних летописей и других книг, писанных на славенском, греческом и латинском языках».
По всему видно, что Ломоносов многому учился вне стен академии, используя книжные богатства тогдашних книгохранилищ. Самым крупным из них в Москве была так называемая «типографская библиотека». Эта библиотека была связана с Славяно-греко-латинской академией, и Ломоносов, как ученик ее, имел возможность посещать эту библиотеку и знакомиться с ее книжными богатствами. Связь между академией и типографской библиотекой была настолько тесной, что студенты академии работали в ней в качестве переписчиков и копировщиков рукописей. В этой библиотеке собирались книги, издававшиеся на греческом, латинском, польском, славянском языках, на немецком языке и других.
В течение 5 лет, проведенных Ломоносовым в Москве, он усиленно занимался, используя все, что могла дать ему Москва с ее книгохранилищами. Академия в свою очередь влияла в том отношении, что вырабатывала у студентов определенную систему мышления. Так, риторика дисциплинировала сознание и приучала к необходимости строгого обоснования своих мыслей. Занятия риторикой в стенах академии оказали на Ломоносова гораздо большее влияние, нежели занятия «пиитикой», так как в риторике было больше моментов, развивающих мышление, чем в насквозь формальной, не опирающейся на живые факты пиитике. О его интересе к вопросам риторики говорит дошедшая до нас, написанная его рукой риторика на латинском языке (1734). Занятия же пиитикой не оставили в нем каких-либо ощутительных следов. Очевидно, «пиитики» с их теорией силлабического стихосложения и педантичным классифицированием нежизненных поэтических видов не привлекали Ломоносова. Все содержание его «Письма о правилах российского стихотворства», так же как внешняя форма, говорит о его полной свободе от влияния «пиитик». Если в «Новом и кратком способе сложения российских стихов» Тредиаковского сказалась схематика тех «пиитик», по которым происходило обучение в киевской и московской академиях, то Ломоносов оказался более самостоятельным в своем первом теоретико-литературном труде.
Кроме риторики, которая ему пригодилась впоследствии, он изучал здесь труды Василия Великого, Иоанна Златоуста и др. В дальнейшем он нередко прикрывался их именами в своей борьбе с невежеством, поощряемым и охраняемым официальной религией и церковью.
В Славяно-греко-латинской академии Ломоносов получил первые сведения и в области новой философии. Хотя в основу курса, изучавшегося в академии, была положена система Аристотеля, однако сюда просачивались и некоторые идеи современных философов — особенно Декарта. Интересно, что в учебном пособии по философии, составленном Феофилактом Лопатинским еще в 1704 г., хотя и отдается предпочтение Аристотелю, однако имеются указания и на Декарта. У Лопатинского эти философы противопоставлены один другому: Аристотель представляет собой догматическое начало в философии, Декарт — свободное движение
273
человечества к постижению истины. «Хотя мы, — говорит Ф. Лопатинский, — уважаем всех философов и преимущественно Аристотеля, однако, не утверждаясь на древних мнениях, но желая узнать чистую истину, не полагаемся ни на чьи слава; философу свойственно доверять более разуму, чем авторитету... Ум был не у одного Платона или Аристотеля. В заключение приведу слова из Анастасия Синаита; учившие прежде нас не суть властелины наши, но только вожди. Истина открыта для всех и еще не исчерпана; многое осталось от нее и для будущих поколений».
Интересно отметить, что именно эта сторона декартовской философии — критическое отношение к авторитетам — была воспринята Ломоносовым впоследствии наиболее полно и последовательно.
Курс философии Ф. Лопатинского, который послужил основанием для всех последующих курсов философии в академии, в частности, того, который изучал Ломоносов, в сущности представлял собой своеобразную энциклопедию знаний; он содержал в себе логику, диалектику, метафизику, физику, метеорологию и арифметику, и хотя все эти разделы носили на себе печать схоластики, однако курс содержал и некоторые сведения о явлениях природы (особенно в разделе метеорологии) и о человеке (в разделе психологии, где давались некоторые сведения по физиологии). Таким образом академия, хотя и очень ограниченно, могла все же дать Ломоносову кое-какие положительные знания.
Живым свидетельствам того, как напряженно и в каких тяжелых условиях учился Ломоносов в Москве, служит его письмо к И. И. Шувалову от 10 мая 1753 г. «Обучаясь в Спасских школах, — пишет Ломоносов, — имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я будучи один, его оставил, оставил все довольство... С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как за денежку хлеба, и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил».
Пребывание Ломоносова в Москве оказало некоторое влияние и на поэтическую деятельность его. Из многочисленных отрывков, помещенных им в «Письме о правилах российского стихотворства», видно, что Ломоносов был знаком с поэзией, которой занимались в Москве вне стен академии. Первые его поэтические опыты — это лирические стихи-песенки любовного характера, с несколько условной образностью и лексикой. До нас дошло только одно шуточное стихотворение, написанное им в Москве, — «Услышали мухи медовые духи», которое сохранил его земляк Кочнев и которое впервые было напечатано в ч. IV «Путешествия» академика Лепехина. Это стихотворение обнаруживает в Ломоносове живое ощущение русского языка. Несмотря на соблюдение силлабического принципа стихосложения, мы в нем не чувствуем никакого насилия над русской речью.
Эти силлабические стихи построены по тому же принципу, что и шуточные стихи Феофана Прокоповича и некоторые стихи Симеона Полоцкого. Совершенно очевидно, что в этих стихах основным ритмически организующим началом является не равносложность стиховых строчек (здесь по 6 слогов в стихе), a количество ударений а стихе, т. е. чисто тонический принцип (2 ударения на стих), который лежит и в основе народного говорного стиха типа раешника или присказки:
Услышали мухи
Медовые духи,
274
Прилетевши сели
В радости запели,
Егда стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги,
Ах, плачут убоги,
Меду полизали,
А сами пропали.
Некоторые двустишия дают даже симметричное расположение ударений, что в еще большей мере создает впечатление тонического строя стиха.
Шуточные стихи Ломоносова направлены против невежд, бестолковых людей, которые завязли «в меду», т. е. в науках. Ни хвалебных виршей, ни лирических Ломоносов в эти годы, повидимому, не писал. Между тем интерес к поэзии у него, несомненно, был. Об этом говорит тот факт, что, приехав в Петербург (в начале 1736 г.), он сразу же обзавелся трактатом Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». Возможно, что в то время Ломоносов не писал стихов потому, что чувствовал несоответствие между характером русского языка и силлабическим принципом стихосложения. Живое чувство языка, знание народной поэзии не давали ему возможности оставаться в пределах силлабики. Он выступает как поэт лишь после того, как Тредиаковский, а вслед за Тредиаковским и он сам разработали тоническую систему стихосложения.
Ломоносов пробыл в Москве до конца 1735 г. 2 января 1736 г. он в числе 12 студентов Славяно-греко-латинской академии, которые, по словам архимандрита Спасского монастыря, были «остроумия... не последнего», прибыл в Петербург. Ломоносов был прислан из класса «философии», и класса «богословия» он, таким образом, в московской академии не прошел. В Петербурге он пробыл меньше полугода, но, очевидно, успел за это время обнаружить свои способности к наукам, потому что попал в число трех студентов, которых направляли в Фрейберг для изучения горного дела. Сведений о его занятиях в Петербурге почти нет.
В августе 1736 г. была подписана инструкция, в которой очень подробно было указано, что́ должны изучать студенты за границей, как вести себя, в какой форме отчитываться перед Академией Наук и т. п. Согласно этой инструкции, студенты должны были стать разносторонне образованными людьми. Им предписано было изучать не только химию, физику, геометрию, тригонометрию, механику, гидравлику и гидротехнику, но и языки: русский, немецкий, французский и латинский. Первоначально студентов собирались отправить непосредственно в Фрейберг к доктору Генкелю для изучения горного дела, но отчасти из-за отсутствия денежных сумм, которые потребовал Генкель за занятия со студентами, отчасти из-за того, что общего образования они у доктора Генкеля получить не могли, их предварительно направили в Марбург в распоряжение профессора Христиана Вольфа.
При составлении инструкции, точно так же как и в самом решении послать студентов в Марбург, большое значение имели два письма горного советника Рейзера, отца одного из трех студентов, отправляемых за границу. В одном из писем Рейзер пишет: «Я весьма одобряю предположение отправить молодых людей предварительно в Марбург. Ведь так как они должны сделаться не простыми лишь пробирерами и рудокопами, а учеными химиками и металлургами, то почти необходимо, чтобы они сначала несколько освоились с философскими, математическими и
275
словесными науками... Не говорю уж о том, что для молодых людей теперь, именно, самое удобное время более и более практиковаться и совершенствоваться в начатых ими языках и упражнениях... При том же Марбург место, которое прославлено Вольфом, и нет никакого сомнения, что там, по его распоряжению, кроме давно поселившихся эмигрантов, есть способные лица по всем полезным наукам».
И действительно, Марбург, благодаря пребыванию там Вольфа, был в то время одним из центров европейского просвещения. Длительное и непосредственное общение с Христианом Вольфом сыграло очень большую роль в формировании Ломоносова как ученого, философа и общественного деятеля. За эти годы Ломоносов становится зрелым ученым, ученым натуралистом, филологом, теоретиком литературы и поэтом.
Годы, проведенные Ломоносовым за границей, нельзя считать годами одного только «ученичества». И в Марбурге и в Фрейберге Ломоносов действительно учился, но он не был «учеником» в обычном смысле этого слова. Он учился, как учится ученый, сознательно отбирающий нужные ему сведения.
Занятия Ломоносова в Марбурге сразу приобрели широкий размах. Он изучал языки — немецкий, французский, итальянский; изучал различные естественные науки: физику, химию, математику, механику, гидравлику и др. Кроме того, он изучал философию. Широта охвата Ломоносовым различных отраслей знания зависела не столько от Вольфа, сколько от него самого и от того еще, что нужно было тогда России.
Россия в эти годы еще жила теми жизненными импульсами, которые были даны ей Петровской эпохой. Европейское просвещение не только не было отрезано от России, но крупнейшие представители его были связаны с Россией, с развивающейся русской культурой. Много крупных ученых перебывало к тому времени в России, многие поддерживали письменную связь с Академией Наук.
В первые годы существования Академии Наук мы видим в ней имена крупнейших европейских ученых — Эйлера, братьев Бернулли, Крафта, Гольдбаха, Миллера и др. Вольф, хотя и отказался ехать в Россию, но участвовал в подборе ученых для русской Академии и являлся ее почетным членом. По словам Ломоносова, Петр I предсказал, что «в пространном сем государстве высокие науки изберут себе жилище, и в Российском народе получат к себе любовь и усердие». И Россия, даже после смерти Петра, влекла к себе многих передовых ученых. Но продолжалось это недолго. Вскоре ученые стали покидать Россию. С истинной горечью и болью Ломоносов впоследствии говорит о том, что из-за происков «недоброхотов» — Шумахера, Тауберта — «многие профессоры выехали в отечество, Крафт, Генсиус, Вильде, Крузиус, Делиль, Гмелин...», что «не можно без досады и сожаления представить самых первых профессоров Германа, Бернуллиев и других, во всей Европе славных, кои только великим именем Петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но Шумахером вытеснены, отъехали, утирая слезы». «Оскудение» Академии Наук в последующие годы заставляет его написать поистине блестящее, полное негодования послание к Г. Н. Теплову, адъюнкту академической канцелярии, которого он пытается оторвать от влияния Тауберта, бывшего в то время советником Академии. Каждое слово этого замечательного послания пронизано беспредельной преданностью России и русскому просвещению: «Я пишу ныне к Вам в последний раз, и только в той надежде, что иногда приметил в Вас и добрые о пользе российских наук мнения. Еще уповаю, что вы не будете больше одобрять недоброхотов российским ученым. Бог совести моей свидетель, что я сим ничего
276
иного не ищу, как только чтобы закоренелое несчастье Академии пресеклось... За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю и так ныне изберите любое. Или одобряйте явных недоброхотов, не токмо учащемуся российскому юношеству, но и тем сынам отечества, кои уже имеют знатные в науках и всему свету известные заслуги. Одобряйте, чтобы Академии чрез их противоборство никогда не бывать в цветущем состоянии, и за то ожидайте от всех честных людей роптания и презрения; или внимайте единственно действительно пользе Академии, откиньте льщение опасных противоборников наук Российских, не употребляйте божьего дела для своих пристрастий, дайте возростать свободно насаждению Петра Великого».
Но в то время, когда Ломоносов, вместе с другими двумя студентами, отправился в Марбург, Академия еще не утратила просветительские устремления Петровской эпохи. Христиан Вольф, который был связан с петербургской Академией Наук, отнесся с чувством большой ответственности к порученному ему делу подготовки молодых русских ученых. Он очень скоро увидел умственное превосходство Ломоносова над другими двумя студентами и неоднократно подчеркивал это в своих отзывах о них. В письме к президенту Академии Наук Корфу от 17 августа 1738 г. он пишет: «У г. Ломоносова, повидимому, самая светлая голова между ними; при хорошем прилежании он мог бы научиться многому, выказывая большую охоту и желание учиться». Со своей стороны Вольф старался дать Ломоносову как можно больше знаний. Недаром впоследствии Ломоносов с такой глубокой симпатией и признательностью вспоминает о Вольфе, и даже тогда, когда он сознает свое научное превосходство над своим учителем, он задумывается над тем, опубликовать ли работу, в которой выступает против его теорий. Ломоносов пишет Эйлеру: «Я боюсь опечалить горестью духа старость мужу, благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть».
Вольф порой трогательно заботился о трех студентах, а в особенности о Ломоносове. Когда в Академию Наук дошли сведения о том, что студенты вышли из-под влияния Вольфа и что они начали себя вести в Марбурге так, как обычно вели себя немецкие «бурши», Вольф спешит сообщить, что ему удалось устроить кое-как их денежные дела и что если они будут продолжать учиться в университете, то их никак нельзя будет лишить той свободы, которую предоставляет Марбургский университет; а в конце письма добавляет: «более всего я еще полагаюсь на успехи г. Ломоносова: он, повидимому, и раскаивается в сделанных долгах».
Вольф очень внимательно относился к занятиям Ломоносова и даже улавливал особенности его научного мышления.
В свидетельстве, выданном Ломоносову перед его отъездом в Фрейберг, Христиан Вольф предсказывает ему большое будущее: «Молодой человек, — пишет Вольф, — с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов, со времени своего прибытия в Марбург, прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики, и с особенною любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу государству, чего от души желаю».
Как видно из отчетов Ломоносова, отзывов Вольфа, а главное из списков приобретенных им в Марбурге книг, Ломоносов уже тогда стремился к тому, чтобы стать ученым-энциклопедистом. Самые различные отрасли знания привлекают его внимание. Среди купленных им в
277
Германии книг мы находим книги по философии, физике, химии, анатомии, медицине, гидравлике, геологии, географии, теории искусств, филологии, классической и современной литературе. Читал же он, конечно, гораздо больше, чем предоставляла ему его собственная библиотека. Как ни широко был задуман план образования студентов Корфом и Рейзером, однако Ломоносов вышел далеко за пределы не только инструкции Академии Наук, но и того, что предполагал дать студентам Вольф. Так, например, инструкция не предусматривала занятий по философии. Ломоносов, как это видно из свидетельства Вольфа, прослушал у него курс философии. В инструкции указывалось на необходимость изучения курса практической химии. Ломоносов же сначала под руководством проф. Дуйзинга, а потом сам изучает теоретическую химию. Занятия филологией совсем не предусматривались инструкцией, однако Ломоносов занимался и филологией. Он привез из Германии риторику Nicolai Caussini, грамматику (Nouvelle Grammaire Royale; Berlin, 1736) и др., а главное — написал там свой первый научный труд в этой области — «Письмо о правилах российского стихотворства» (1739).
У Вольфа Ломоносов прослушал теоретическую физику, экспериментальную физику, логику, метафизику, механику, гидравлику, аэрометрию, гидростатику, математику и философию. Под непосредственным наблюдением Вольфа Ломоносов изучал также немецкий язык, французский и рисование, которое ему пригодилось и в его научной деятельности и, главным образом, в пору его занятий мозаичным искусством. И хотя Вольф давал Ломоносову полную возможность получить широкое образование, однако сам он, как это видно по одному из его писем в Академию Наук, не предполагал придавать занятиям студентов философско-энциклопедический характер. «В своих письмах, — пишет Вольф, — я сообщал, что означенные молодые люди, обучившись арифметике, геометрии и тригонометрии, в настоящее время слушают у меня механику. При этом я главным образом обращаю их внимание на то, что необходимо для понимания машин, так как, по моему мнению, цель их занятий должна заключаться не столько в изучении замысловатых теорий, на которые у них вряд ли и достанет времени, сколько в усвоении того, что им впредь будет полезно для правильного понимания рудокопных машин».
Но Ломоносов не оставался в сфере чисто практического изучения отдельных наук. Он двигался к созданию целостной системы мышления на почве естественно-научных знаний. При этом особое значение он придавал своим занятиям химией.
Серьезный интерес к теоретической химии в первой трети XVIII в. означал стремление выйти за пределы чисто механистических представлений о природе, которые господствовали в науке до конца XVIII в. Химия была той областью знания, которая должна была привести к крутому повороту в философских воззрениях на природу; осознание ее значения в общей системе наук как раз и являлось очень важной вехой в развитии философских идей. Энгельс, характеризуя состояние философской и научной мысли конца XVII и начала XVIII в., указывает, что в это время «первое место заняла элементарнейшая отрасль естествознания — механика земных и небесных тел, а на ряду с ней, на службе у нее, открытие и усовершенствование математических методов».1 В другом месте он называет XVIII в., с господствующим в нем учением «об абсолютной неизменности природы» — дохимическим. Появление химии, так же как и геологии (а вместе с ней и палеонтологии), пробило
278
первую брешь в метафизическом, механистическом мышлении. Именно поэтому тяга Ломоносова к химии, к химии теоретической приобретает исключительное значение. Химия как наука чисто практическая не удовлетворяет его уже и тогда. В одной из своих черновых заметок, относящихся к 1756 г., он указывает, что еще 18 лет тому назад, т. е. в 1738 г., под влиянием трудов Роберта Бойля, им «овладело страстное желание исследовать мельчайшие частицы тел», «проникнуть в тайники природы». Несколько позже, т. е. в 1740 г., в своем отзыве о докторе Генкеле он стремится развить и разъяснить ту мысль, что химия (как, впрочем, и физика) не должна ограничиваться одной только практически опытной стороной исследования, что она является наукой философской. Он очень четко сформулировал в этом отзыве свой взгляд на сущность химической науки: «он [Генкель] всю разумную философию презирал, и когда я однажды, по его приказанию, зачал причину химических явлений объяснять (но не по его перипатетическому концепту, а на началах механики и гидростатики), то он тотчас же мне замолчать приказал...»
Этаг взгляд на химию, как на науку, открывающую причину явлений, Ломоносов впоследствии развил, углубил, но не изменил.
На ряду с естественными науками Ломоносов, будучи в Марбурге, занимался также изучением филологии. Как указывалось выше, он привез с собой из Марбурга ряд теоретических пособий по филологии, преимущественно французских.
В курсе философии Вольфа филология занимала значительное место, так как на материале, который дает язык, он уяснял основные философские проблемы — о соотношении мышления и бытия, слова и мысли и т. п.
Теория языка входила как составная часть в основной философский труд Лейбница — «Новые опыты о человеческом разуме». Но кроме общих вопросов филологии, упиравшихся в вопросы философии, Ломоносов усиленно занимался в Германии разработкой теории русского языка и стиха. В Германии Ломоносов знакомился с современной ему немецкой поэзией, выделяя среди других поэтов Гюнтера, с поэзией древнегреческой, с теорией поэзии и риторикой.
В 1739 г. Ломоносов закончил свои занятия у Вольфа и переехал в Фрейберг, где он должен был изучать металлургию под руководством берграта Генкеля. Ломоносов далеко не одинаково относился к двум своим учителям — Вольфу и Генкелю. Ему были близки просветительские устремления Вольфа, который был одновременно и ученым и учителем. Совсем иным типом ученого оказался Генкель. Это был узкий специалист, лишенный полета мысли, эмпирически исследовавший свойства минералов. И характер научного мышления Генкеля и весь психологический склад его — его педантичность, мелочность, отсутствие размаха не внушали Ломоносову никаких симпатий. Между Ломоносовым и Генкелем очень скоро начались недоразумения, и потому, не закончив курса металлургии, Ломоносов вернулся в Марбург (1740), где он стал добиваться разрешения вернуться в Россию. В своем письме к И. Д. Шумахеру (1740) он рассказывает о всех злоключениях, которые он претерпел, стремясь поскорей вернуться на родину. Добиваясь встречи с русским посланником бар. Кайзерлингом, пытаясь найти помощь у гр. Головкина, жившего в Гааге, он кочевал из города в город: из Фрейберга в Лейпциг, из Лейпцига в Марбург, отсюда в Роттердам, Гаагу, Амстердам, потом опять в Марбург. Но и в это «бурное» время своей жизни он не оставлял своих занятий. Он пишет, что, живя инкогнито в Марбурге, упражняется «в алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике приложить». Он сообщает также, что ему «удалось в знаменитых городах побывать, поговорить с
279
некоторыми искусными химиками, осмотреть их лаборатории, взглянуть на рудники Гессена и Зигена». Каковы были впечатления Ломоносова о немецкой действительности — неизвестно. Единственное, что он отмечает в общественной жизни Германии, — это сравнительно высокую степень образованности и доступность просвещения для всех сословий.
В Россию Ломоносов вернулся вполне зрелым, сложившимся ученым, мыслителем, поэтом, который в своей дальнейшей деятельности продолжал двигаться в направлении, определившемся уже в Марбурге. Никаких резких поворотов и отклонений в его философском, научном и поэтическом мышлении последующих годов его жизни не произошло.
В Петербург Ломоносов приехал 8 июня 1741 г., и с этого времени, несмотря на множество препятствий, которые ему чинили деятели тогдашней Академии Наук, поощряемые правительством Елизаветы, он становится во главе русского просвещения, хотя официальных полномочий на это он никогда не получал.
Деятельность Ломоносова в Петербурге протекала в очень тяжелых условиях. Все его идеи и устремления входили в резкое противоречие с тем, что он застал в России. Россия переживала пору феодально-дворянской реакции. Дворцовые перевороты, ничего не изменявший в стране, засилие иноземцев, паразитически обжившихся в России и безучастно относившихся к судьбе ее, усиление церкви, произвол в управлении страной, хищническое отношение к богатствам страны, обособление высших слоев дворянства от социальных низов — все это живо ощущал Ломоносов на себе и осознал гибельность такого положения вещей для России. Не всегда точно понимая, что является источником зла, Ломоносов вместе с тем постоянно чувствовал действие каких-то враждебных ему сил, но относил все это за счет отдельных лиц, преимущественно возглавлявших Академию Наук и не имевших ничего общего с наукой. Что бы он ни замышлял, всегда были готовы препятствия: он длительно, из года в год, доказывал необходимость открытия химической лаборатории и только через пять лет он этого добился (1747). В течение многих лет он хлопотал о сооружении завода цветных стекол, и только в 1754 г. этот завод был сооружен. Ни доводы, ни очевидная польза для страны тех или иных его проектов не убеждали правительство Елизаветы Петровны в необходимости проведения их в жизнь. Ломоносов вынужден был обращаться с многочисленными просьбами к И. И. Шувалову, человеку близко стоявшему к Елизавете, не имевшему ровно никаких заслуг перед страной и получившему большую силу в государстве только по прихоти Елизаветы. В своих письмах к И. И. Шувалову он просил о содействии в деле сооружения завода, реорганизации Академии Наук, он просил его помочь преодолеть сопротивление «гонителей» и «притеснителей» наук, добиться у Елизаветы подписания привилегий университета (этого он так и не добился) и о многом другом. В его письмах к Шувалову неоднократно повторяется просьба о повышении его в чине, но эти просьбы его выходят за пределы личного плана, так как он считает, что унизительное и бедственное состояние ученого в стране унизительно для самой страны. Она требует, чтоб люди науки заняли в стране то место, которое занимают в ней люди «высокородные». (Впоследствии в своих проектах реорганизации Академии Наук он настаивает на повышении ученых в чинах и званиях, как мере «ободрения» «к прилежному учению», при этом он ссылается на пример Западной Европы. Сохранился реестр ученых, произведенных в чины, составленный Ломоносовым.)
Шувалову же Ломоносов направляет свои проекты преобразования страны (письмо «О сохранении и размножении российского народа»), не
280
имея возможности обнародовать их другим способом. Ни гениальность Ломоносова, ни его «благородная упрямка» не избавили его от унизительных просьб, обращенных к одному из елизаветинских вельмож. На всех его письмах лежит печать вынужденности, и сквюзь их подчас приниженную форму вырисовывается образ человека, обладающего большим чувством собственного достоинства и не питающего никакого особого почтения к «высоким патронам». Это отметил еще Пушкин, когда писал, что Ломоносов «не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, предстателю муз, высокому своему патрону, который вздумал было над ним пошутить: „Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у господа моего бога дураком быть не хочу“».
Письмо Ломоносова к Шувалову — это живое свидетельство того, как бессилен был человек в условиях феодально-помещичьего произвола претворить в жизнь все, что так необходимо было стране.
И все же деятельность Ломоносова в Петербурге поражает своей широтой и разнообразием, что объясняется только огромным напряжением его творческой воли.
Вскоре по приезде в Петербург (1742) Ломоносов получает звание адъюнкта по физическому классу, а в 1745 г. — звание профессора химии, т. е. академика. Но этими областями знания его научная деятельность не ограничивается. Одновременно он работает по астрономии, геологии, минералогии, метеорологии, географии, экономике, истории, филологии, теории литературы. Несмотря на разнообразие этих «аук, он ни в одной из них не выступал как дилетант. Его знали и ценили европейские ученые. Крупнейший математик того времени Л. Эйлер восторженно отзывается о Ломоносове: «Все записки г. Ломоносова, — пишет Эйлер, — по части физики и химии не только хороши, но превосходны, ибо он с такой осторожностью излагает любопытнейшие, совершенно неизвестные и необъяснимые для величайших гениев предметы, что я вполне убежден в истине его объяснения. По сему случаю я должен отдавать справедливость г. Ломоносову что он обладает счастливейшим гением для открытия феноменов физики и химии, и желательно было бы, чтобы все прочие академики были в состоянии производить открытия, подобные тем, которые совершил г. Ломоносов».
В лице Ломоносова мы имеем не только гениального ученого в разных областях знания, но и первого великого русского просветителя. Он первый в России (1746) начал читать публичные лекции по физике на русском языке. Много времени и внимания он уделял своей педагогической работе, считая ее не менее важной, чем работу ученого. В 1757 г. он приступил к чтению курса лекций по физической химии. В тоже самое время (1757) он читал «приватные лекции студентам в российском стихотворстве, а особливо Поповскому».
Но просветительная деятельность Ломоносова не ограничивалась чтением лекций и обучением студентов. Он ставил себе гораздо более широкие цели. Он стремился к тому, чтобы Россия стала страной с обширной сетью школ, университетов, куда бы имели доступ представители всех сословий. Он строил грандиозные планы преобразования страны и понимал, что для этого нужны «просвещенные» люди. Идея общенационального экономического прогресса и просвещения всех сословий — таково основное содержание политической программы Ломоносова. В своих черновых заметках к «Слову благодарственному» Елизавете (1760), которое он собирался произнести в случае, если состоится торжественное открытие университета
281
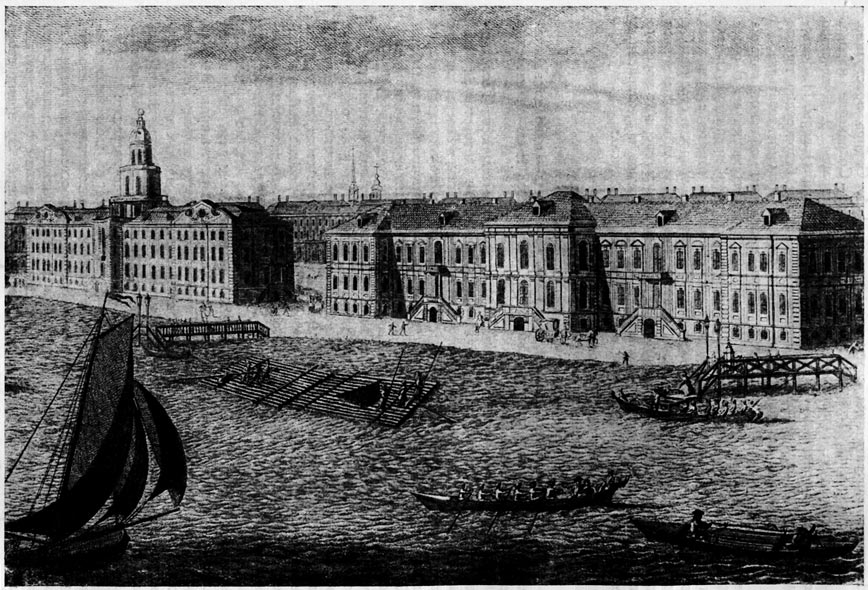
Академия Наук в С.-Петербурге в XVIII в. Здание Кунсткамеры (налево, с башней).
Гравюра с рисунка М. Махаева.
282
(оно так и не состоялось), он начертал широкий план развития России: Некоторые говорят: куда с учеными людьми.1 1. Сибирь пространна. 2. Горные дела. 3. Фабрики. 4. Ход севером. 5. Сохранение народа. 6. Архитектура. 7. Правосудие. 8. Исправление нравов. 9. Купечество и сообщение с ориентом. 10. Единство чистые (дружбы) веры. 11. Земледельство, предзнание погод. 12. Военное дело. И так безрассудно тщетно от некоторых речи произносились: куда с умными людьми деваться».
В представлении Ломоносова наука теснейшим образом связана с жизнью страны и должна служить насущным потребностям ее. В своей собственной научной деятельности Ломоносов, стремясь проникнуть в тайны природы, в «скрытую» природу вещей, всегда вместе с тем имел в виду те или иные экономические и хозяйственные запросы страны. Он занимался вопросами металлургии, так как этого требовала развивающаяся металлургическая промышленность России, изысканием северного морского пути, посвятив этому вопросу целый ряд научных трудов и вдохновенных поэтических строк. Так, в поэме «Петр Великий» он писал:
Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток
И наша досягнет в Америку держава.
Эта идея о проложении северного морского пути — одно из замечательнейших дерзаний проницательного ума Ломоносова и ею он опередил жизнь больше, чем на 150 лет.
Очень большое внимание уделял Ломоносов деятельности Географического департамента Академии Наук, начальником которого он был назначен в 1758 г. До него, по его собственным словам, в Географическом департаменте в течение ряда лет «производились только копирования ландкарт оригинальных из архива, и деланы карты почтовые, планы баталий и другие сим подобные, а о главном деле, то есть о издании российского атласа с поправлением ниже какого начала не положено». В Географическом департаменте Ломоносов занят был подготовкой материалов для составления «Нового российского атласа». Для этой цели он составил опросные листы с 30 вопросами, которые касались «величины города, числа каменных и деревянных домов, на какой реке или озере стоит, когда в нем бывают ярмарки, какие имеются промысла и ремесла, какие фабрики и заводы, мельницы, угодья» и т. д. Кроме того, из Камер-коллегии были затребованы им сведения о количестве жителей в каждой деревне, включая и самые маленькие, а Синод должен был представить данные о церквах и монастырях. Таким образом новые карты должны были дать сведения не только о природе России, но и об экономическом ее состоянии. В своей совокупности они должны были дать истинную картину жизни России и «показать в других государствах, что наше отечество не так пусто и безнародно, как на атласе нашем представлено». Опросные листы были разосланы на места, но ответы на них поступали очень медленно и обработать их Ломоносову не удалось. После его смерти это дело заглохло.
Для Ломоносова географическая наука тесным образом была связана с вопросами повышения экономического благосостояния страны. Научная разработка вопросов сельского хозяйства, торговля, внутренняя и внешняя, — все это должен был охватить Географический департамент. По мысли Ломоносова, он должен был служить научным центром, ведающим хозяйственной и экономической жизнью страны. За время своей работы в Географическом департаменте Ломоносов задумал еще одно огромное дело, которое ему тоже не удалось осуществить: он предложил
283
создать «экономический лексикон российских продуктов с показанием внутренних и внешних оных сообщения». Кроме перечня всех производившихся в России товаров, лексикон должен был содержать сведения о тех местах, где данные продукты добываются или производятся, куда и каким образом вывозятся и т. п.
Работа Ломоносова в Географическом департаменте протекала в очень тяжелых условиях. Те же лица, которые препятствовали его работе вообще, мешали ему и здесь, и, наконец, в 1762 г., в то время, когда Ломоносов из-за болезни не имел возможности являться в Академию Наук, Екатерина II поручила составление новых карт Тауберту и Миллеру и таким образом отстранила Ломоносова от дел Географического департамента. Затем Ломоносову предписали передать ведение Географическим департаментом Г. Миллеру. Ломоносов был этим глубоко взволнован и рассержен и отказался выполнить предписание. Он продолжал возглавлять департамент до конца своей жизни.
Доказывая необходимость развития промышленности, Ломоносов сам становится промышленником и строит в 1754 г. ценой очень больших усилий завод цветных стекол в деревне Усть-Рудицах. Это было замечательное предприятие. С одной стороны, оно имело коммерческий характер, а с другой — преследовало научные цели. Завод был построен по проекту самого Ломоносова, обнаружившего при этом свои незаурядные технические знания и большую изобретательность. Завод должен был служить также целям развития мозаичного искусства в России, которым Ломоносов очень увлекался и которое он мечтал довести в России до того же высокого уровня, которого оно достигло в Италии. Увлечение Ломоносова мозаикой объясняется его тяготением к монументальным формам искусства и стремлением сохранить памятник искусства для потомства.
В изготовлении цветных стекол Ломоносов проявляет исключительное упорство ученого-экспериментатора и художника. Он производил иногда свыше 2000 проб различных смесей для того, чтобы добиться нужных ему цветов и оттенков. В его мастерской под его руководством и при его непосредственном участии было изготовлено несколько портретов Петра I и монументальная картина «Полтавская баталия», которая находится ныне в Академии Наук. Как «промышленник» Ломоносов терпел большие убытки, но мозаичного дела не оставлял. Правительство Елизаветы не поддержало в достаточной степени и это его начинание, и после смерти Ломоносова оно заглохло. Ко всей этой разнообразной и нужной для государства деятельности прибавлялась еще необходимость составлять проекты иллюминаций и надписи к ним по заказу двора.
Делом всей жизни Ломоносова была борьба за распространение просвещения в России, и к концу своей жизни, подводя итог своей деятельности, он в письме к Г. Н. Теплову (1761) пишет: «Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук Российских бороться, как уже борюсь двадцать лет; стоял я за них с молода, на старость не покину».1
Все крупнейшие начинания в области русского просвещения, относящиеся к середине XVIII в., связаны с именем Ломоносова. Ломоносов был непосредственным организатором первого в России университета, открывшегося в Москве в 1755 г. На необходимость открытия университета по типу западноевропейских Ломоносов неоднократно указывал И. И. Шувалову, пока, наконец, составил очень подробное «мнение о учреждении Московского университета» (1754).
284
Ломоносов не ограничился составлением одного только предварительного плана университета. Есть все основания полагать, что именно Ломоносову принадлежит подробно разработанный проект, который был подан И. И. Шуваловым для утверждения в Сенат. 12 января 1755 г. Московский университет был открыт, и хотя Ломоносов не принимал прямого участия в организации университета, однако именно Ломоносова надо считать его истинным основателем.
В то же самое время, когда Ломоносов был занят мыслью об устройстве университета, он создавал проект реорганизации Академии Наук, которая должна была привести к ослаблению влияния в ней «гонителей наук». Проекты его не были проведены в жизнь; но его назначили (1757) советником академической канцелярии и потому все мероприятия Академии Наук должны были утверждаться им.
В стенах Академии Ломоносов непрерывно боролся с теми, кого он называл «наглыми притеснителями наук». Тут он был непримирим. Но зато какую заботу он умел проявлять по отношению к тем людям, которые, как он сам, были самоотверженно преданы науке. Подлинной человечностью веет от письма его к Шувалову, написанному по поводу смерти Рихмана, погибшего на своем посту ученого. В данном случае ему было безразлично, кем был по национальности Рихман, ибо он видел в нем человека, работавшего на пользу науки и России. Он умоляет Шувалова оказать помощь семье человека, который, по его словам, «умер... прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность». Забыв о том, что он сам избег смерти только благодаря случайности (он ушел от «громовой машины» потому, что жена поторопила обедать, сказаз, что «шти простынут»), он думает только о вдове Рихмана, о «маленьком Рихмане», которого мать должна иметь возможность воспитать так, «чтобы он такой же был наук любитель, как его отец». Кончается это трогательное письмо следующими словами: «Милостивый государь, исходайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние ... я буду больше почитать нежели за свое».
За время своего пребывания в Академии Наук Ломоносов особое внимание уделял университету и гимназии, находившимся в непосредственном ведении Академии Наук. Но еще до того, как он стал возглавлять академические гимназию и университет, он заботился об увеличении числа учеников в гимназии и студентов в университете. «Всенижайшее мнение о исправлении Санкт-Петербургской Академии Наук» (1755) главным образом посвящено делам учебных учреждений Академии, которые должны были готовить будущих ученых для Академии Наук из «природных россиян».
Тому же главным образом посвящен проект реорганизации Академии Наук, составленный Ломоносовым вскоре после «Всенижайшего мнения». Ломоносов отчетливо представлял себе, что расчистить путь в Академию Наук «россиянам» можно будет только в том случае, если университет будет воспитывать для нее ученых. Вот почему главное внимание он обратил на университет и гимназию. Ломоносов показал, что люди, возглавлявшие Академию Наук, не только не были заинтересованы в укреплении гимназии и университета, но что они сознательно противодействовали всяким полезным для них мероприятиям. Ломоносов пишет: «Шумахеру было опасно происхождение в науках и произвождение в профессоры природных россиян, от которых он уменьшения своей силы больше опасался. Того ради учение и содержание российских студентов было в таком небрежении, по которому ясно оказывалось, что не было у него намерения их допустить к совершенству учения. Яснее сие понять можно,
285
что Шумахер неоднократно так отзывался, я де великую прошибку в политике своей сделал, что допустил Ломоносова в профессоры. И недавно зять его, и мнения и дел и чуть не Академии наследник, отозвался в разговоре о произведении российских студентов: разве де нам десять Ломоносовых надобно. И один де нам в тягость».

Титульный лист собрания сочинений
Ломоносова, изд. 1751 г. (СПб.).
В 1759 г. Ломоносов составляет новый регламент для гимназии и университета, но и здесь находятся люди, препятствующие проведению его в жизнь.
В 1760 г. Ломоносову официально было поручено «единственное смотрение» за гимназией и университетом. Даже президент Академии Наук К. Разумовский не мог не отметить, что «Ломоносов... по сочиненному от него регламенту гимназии... привел своим старанием гимназию во много лучшее состояние перед прежним», в результате чего поручил «учреждение и весь распорядок университета и гимназии единственно оному господину советнику Ломоносову по сочиненным им регламентам, полагаясь на его знание усердие...»
Ломоносов много энергии затратил на приведение в порядок гимназии и университета. В течение ряда лет (до 1764 г.) он добивался для гимназии лучшего помещения; он с трогательной заботливостью и теплотой относился и к учащимся и к учителям, говорил о том, что у него иногда дело «до слез доходило, ибо, видя бедных гимназистов босых, не мог выпросить у Тауберта денег». В одном из своих рапортов в канцелярию Академии Наук (сент. 1764 г.) он рисует жуткие условия, в каких приходилось учителям учить, а ученикам учиться: «Со вступления моего, — пишет Ломоносов, — в гимназию инспектором подавал я каждый год в канцелярию А[кадемии] Н[аук] рапорты о починке дому, в котором гимназия, всегда заблаговременно; но починка зачиналась очень поздно и никогда не приходила к окончанию... Часто учители ради нестерпимой стужи не окончив лекций выходить принуждены и учеников распускать... А хотя иногда учители, по своему ревностному прилежанию, преодолевая помянутые беспокойства в холодное время, и не оставляют своих лекций, но другие происходят от того не меньшие неспособности и препятствия учащимся... ученики, не снабженные теплым платьем, не имея свободы встать с своих мест, дрогнут; от чего делается по всему телу обструкция, и потом рождается короста и скорбут, которых ради болезней принуждены оставить хождение в классы. Чего ради не дивно, ежели успехи ученические не соответствуют приложенному старанию учителей». В конце
286
1764 г. Ломоносову удалось получить новое помещение для гимназии. Что касается университета, то тут он поставил своей целью добиться для него привилегий наподобие тех, которые имелись у западноевропейских университетов, но, как уже говорилось выше, это ему не удалось.
В «Истории академической канцелярии», написанной Ломоносовым в 1764 г., незадолго до его смерти, он подводит итог всей своей деятельности в Академии и больше всего ставит себе в заслугу «приведение в доброе состояние» гимназии и университета. «Не смотря на оные [препятствия] старанием Ломоносова, — пишет сам Ломоносов, — начались в гимназии экзамены и произвождение из класса в класс и в студенты, и в университете лекции, и в четыре года произошли уже двадцать человек, а в одно управление Шумахерово в тридцать лет не произошло ни единого человека». Ломоносов вникал решительно во все стороны жизни гимназии и университета. Он составлял для них регламенты и уставы, подбирал преподавателей и т. п. Гимназией и университетом Ломоносов ведал до самой своей смерти. Рычагом, двигавшим всю эту работу, было стремление, чтобы во главе русской науки стали «природные россияне». «Честь российского народа, — пишет Ломоносов, — требует, чтобы показать способность и остроту его в науках и что наше отечество может пользоваться собственными своими сынами, не токмо в военной храбрости, и в других важных делах, но в рассуждении высоких знаний».
Отстаивая «честь российского народа», Ломоносов становился в противоречие со всем строем тогдашней русской жизни, и его усилия разбивались о препятствия, чинимые помещичьей государственностью. Ломоносов обладал исключительной настойчивостью и целеустремленностью, но и он подчас терял веру в возможность осуществления своих проектов и начинаний.
В письмах к И. И. Шувалову, в официальных документах он с горечью каждый раз давал слово, что в последний раз пытается что-то сделать для русской науки, для ее процветания в России. Добиваясь утверждения университетской привилегии, он пишет И. И. Шувалову (20 апреля 1760): «Сие будет конец моего попечения о успехах в науках сынов Российских». В своем проекте о реорганизации Академии Наук он пишет о том же: «Ныне в рассуждении Академии предпринял я подать отечеству последнюю должность: ибо ежели сим ничего не успею, твердо уверен буду, что нет божья благоволения, дабы по мере желания и щедролюбия... дабы ученые люди размножались и науки распространялись и процветали в отечестве». Несколько раз он повторяет ту мысль, что только доступ к знаниям представителей всех сословий, населявших Россию, даст ей возможность стать в культурном отношении на один уровень с другими европейскими странами, и всякий раз, когда он об этом пишет, в его словах звучат боль и раздражение. В приготовленном им, но не обсуждавшемся «Всенижайшем мнении о исправлении Санкт-Петербургской Академии Наук» он пишет: «во всех европейских государствах позволено в академиях обучаться на своем коште, а иногда и на жалованьи всякого звания людям, не выключая посадских и крестьянских детей, хотя там уже и великое множество ученых людей, а у нас в России при самом наук начинании уже сей источник регламентом по 24 пункту заперт, где положенных в подушной оклад в университет принимать запрещается. Будто бы сорок алтын толь великая и казне тяжелая была сумма, которую жаль потерять на приобретение ученого природного Россиянина». А в самом проекте преобразования Академии, написанном примерно в то же время, он добавляет: «да, пускай хотя бы и сорока алтын жаль было, а не жалеть бы 1800 рублев, чтобы иноземцев выписать».
287
Будучи выходцем из народа и никогда не забывая об этом, Ломоносов смотрел на свой жизненный путь, как на символ, воплощающий в себе будущее русской культуры. Те препятствия, которые ему приходилось преодолевать на протяжении всей своей жизни, приобрели для него социальный смысл, ибо в них он видел тормоз для развития России, для развития русской культуры. В одном из своих писем Шувалову (1760) Ломоносов пишет: «Едва принимаю смелость послать Вам сии строки и нонче бы не послал, если б меня общая польза отечества к тому не побуждала. Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение гимназию и университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы; и для того ваше высокопревосходительство всеуниженно прошу постараться, чтобы из Конференции, при дворе учрежденной, дан был формуляр привелегии... По окончании сего только хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне нискою моею породой попрекают, видя меня как бельмо на глазе; но данным мне от бога талантом, трудолюбием, терпением крайней бедности добровольно для учения» (предложение не закончено).
С большим чувством собственного достоинства, с полным сознанием своих заслуг перед отечеством он добивается только одного, чтобы в России могли «произойти многочисленные Ломоносовы».
Ломоносов весь был поглощен идеями преобразования страны и в наиболее концентрированном виде это нашло свое отражение в знаменитом его рассуждении «О размножении и сохранении российского народа» (1761), которое было полностью опубликовано только в 1871 г. Это «письмо» охватывало собой лишь небольшую часть тех проектов и предложений правительству, которые задумал Ломоносов в целях преобразования России. Судя по отдельным пунктам этого «рассуждения», он замышлял коренную ломку многих жизненных устоев страны, ее экономического состояния, быта, морали.
Обращаясь к И. И. Шувалову, он отмечает, что все его «по разным временам замеченные порознь мысли, подведены быть могут... под следующие главы:
1) О размножении и сохранении российского народа.
2) О истреблении праздности.
3) О исправлении нравов и о большем народа просвещении.
4) О исправлении земледелия.
5) О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.
6) О лучших пользах купечества.
7) О лучшей государственной экономии.
8) О сохранении военного искусства во время долговременного мира».
Однако в развернутом виде до нас дошло только его рассуждение «О размножении и сохранении российского народа». Этот документ поражает широтой своих мыслей и умением видеть и обобщать казалось бы совсем незначительные факты. Как неоднократно указывалось в научной литературе, это «письмо» Ломоносова по своему характеру (а не по содержанию) напоминает труд Посошкова, с которым Ломоносов был знаком.
Ломоносовское рассуждение проводит ту идею, что не существует таких устоев, вплоть до узаконенных церковью «на вечные времена», которые бы не могли быть сломлены во имя человеческого разума. Ломоносов рисует картину нищеты, невежества, бесправия, в атмосфере которых живет русский народ и русская женщина, в частности. Он предлагает меры обеспечения «незаконнорожденных» детей, этих «неповинных младенцев»,
288
для которых «надобно бы, — говорит Ломоносов, — учредить нарочные богадельные домы для невозобранного зазорных детей приема». Здесь же он пишет о необходимости врачебной помощи в деревне, об улучшении питания, о сокращении постов и о перенесении их на другое время года, о разумном труде и об отдыхе и т. п. Он резко, саркастически пишет о «блюстителях нравственности» — папах и монахах, существование которых ложится тяжелым бременем на народ.
Это письмо несколько хаотично, целый ряд мыслей Ломоносова выходит из рамок намеченной им темы. Но оно является блестящей иллюстрацией всеобъемлющей широты его замыслов, которые ему так и не удалось осуществить.
Ломоносов был целиком проникнут идеями Петровской эпохи, направленными к экономическому и культурному прогрессу страны. Он не расчленял понятия «государства», не мыслил категориями «сословий», его не интересовали взаимоотношения помещиков, купцов и крепостного крестьянства, хотя самое разделение общества на сословия в нем вызывает внутренний протест. Для него существовали «нация», «отечество», которые объединяли весь народ, вне зависимости от сословий. И самый прогресс и культуру он рассматривал, как общенациональное движение, а не как узко-сословное. Все это шло вразрез с тем, что происходило в то время в стране, когда резко обозначилось расслоение общества, когда укреплялся сословный строй, когда интересы страны на каждом шагу приносились в жертву интересам дельцов-помещиков (П. И. Шувалов, М. Л. Воронцов и мн. др.). Неудивительно поэтому, что Ломоносов, подобно большинству лучших людей прошлого, переживал трагедию идейного одиночества. В черновых заметках, относящихся к 1764 г. (т. е. написанных им незадолго до смерти), чувствуется усталость от непрерывной борьбы, оттого, что самые заветные его идеи не претворяются в жизнь. «Да все, — пишет Ломоносов, — и места нет. Нет места и в чужих краях... За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтоб показали свое довольство». А кончает он свои заметки так: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют. Ежели не пресечете, великая буря восстанет».
Но ничто не могло сломить его веру в Россию. Его «Слово благодарственное» Елизавете Петровне, которое он только набросал, но которое ему не удалось произнести, показывает, как далеко вперед он умел заглянуть, как обгоняла его мечта русскую действительность той эпохи. Он пишет: «(4) Желание 1. И российское бы слово от природы богатое, сильное, здоровое, прекрасное, ныне еще в младенчестве своего возраста... растущее и укрепляющееся, превзошло бы достоинством всех других языков. 2. Желание, чтобы в России науки распространились... 3. Желание, чтобы от блещущего е. в. оружия воссиял мир наук питатель... (5) Предсказание. 1. Подвигается Европа, ученые, возвращаясь в отечество, станут сказывать: мы были во граде Петрове... При дворе как любят ученых... 3. Описать, как родители детей своих в училища отпускать и как принимать станут. 4. Будет время, когда Сибирь, наполненная разными народами, на разных языках будет приносить похвалы дому Петрову и как из Греции, так из России...»
Ломоносов умер 4 апреля 1765 г. и был похоронен «при огромном стечении народа», как должен был признать даже враг его Тауберт в своем письме к историку Миллеру (1765).
Современники Ломоносова — Я. Штелин, А. П. Шувалов, Леклерк — сохранили сведения о последних днях его жизни. Они же первые
289
попытались оценить значение разносторонней и на редкость напряженной деятельности Ломоносова для России. Среди современников Ломоносова у него были почитатели, но не могло быть настоящих последователей и учеников. И только в конце XVIII в. появился первый истинный последователь Ломоносова — Радищев.
2
Исключительная сила Ломоносова, как ученого и философа, состоит в том, что он понимал связь между философией и наукой. Это лишало его философию умозрительности, а науку — эмпиризма. Энгельс в «Диалектике природы» пишет: «Освобожденная от мистицизма диалектика становится абсолютной необходимостью для естествознания, покинувшего ту область, где достаточны были неизменные категории, эта своего рода низшая математика логики. Философия мстит за себя задним числом естествознанию за то, что последнее покинуло ее. Естествоиспытатели могли бы уже убедиться на примере естественно-научных успехов философии, что во всей этой философии имеется нечто такое, что превосходит их даже в их собственной области».1 И как на пример такого счастливого сочетания в одном лице ученого естествоиспытателя и философа, Энгельс указывает на Лейбница. Если искать для Ломоносова аналогии среди представителей западноевропейской культуры, западноевропейского просвещения, то в первую очередь нужно указать именно на Лейбница, хотя по характеру своих философских воззрений Ломоносов идет дальше Лейбница, с одной стороны, развивая его идеи, с другой — преодолевая их.
И к Лейбницу и к Ломоносову применима характеристика, которую дает Энгельс людям той исторической эпохи, которая начинается со второй половины XV в. и кончается периодом подготовки французской буржуазной революции. Характеризуя эту эпоху и людей, рожденных ею, Энгельс пишет: «Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными... Люди того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, калечащее действие которого мы так часто наблюдаем на их преемниках. Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются, кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда та полнота и сила характера, которая делает из них цельных людей».2 Все эти человеческие качества, отмеченные Энгельсом, в полной мере относятся к Ломоносову.
У Ломоносова отсутствуют специально философские труды, но его работы в области физики, астрономии, геологии, филологии несут в себе целый комплекс философских идей. Каждая конкретная область знания в соответствии с тем, к каким сторонам явлений действительности она обращена, разрешает вопрос о соотношении мира «чувствительных вещей» и «идей», о причине явлений, о пути познания природы, о соотношении науки и религии и т. п. И именно философская сущность его научных трудов делает их насквозь публицистичными, направленными против
290
невежественных гонителей истинного просвещения. В этих своих трудах Ломоносов выступает как просветитель, разрушающий церковные представления человека о природе, воспитывающий сознание его в духе нового понимания природы, а потому и нового к ней отношения.
Такие идеи Ломоносова, как признание материальности мира, признание естественности происходящих в мире процессов, возможность через опыт и разум проникнуть во внутреннюю сущность явлений, идея развития природы и постепенного движения человеческого познания — все эти идеи организуют его деятельность и как ученого, и как публициста, и как поэта и находят свое выражение в равной мере и в его работе по астрономии и филологии, и по химии, и во всех других областях. В любой науке он выступает и как ученый и как философ-публицист. Отсюда наличие в его научных трудах посвящений, предисловий, прибавлений, послесловий; иногда он в свои научные статьи вставляет сатирические стихи, обличающие невежд. Отсюда же стремление выработать такой язык, который мог бы нести научные идеи в возможно более широкие круги читателей и слушателей. Ломоносов один из первых стал писать свои научные и философские труды на своем национальном языке, хотя многие из его трудов были написаны на языке латинском.
Философские идеи Ломоносова особенно отчетливо выражены им в трудах по филологии, физике и химии.
В своих работах по языку Ломоносов выдвигает такие общефилософские вопросы, как вопрос о том, в каком отношении находится между собой видимый мир и человеческая мысль, человеческая мысль и слово. В разделе «Грамматики» «О знаменательных частях человеческого слова» Ломоносов с исключительной настойчивостью и последовательностью проводит мысль о том, что человеческие понятия, идеи являются понятиями и идеями о «вещах» и их «действиях», которые в своей совокупности составляют «видимый сей свет». Все категории человеческих слов — имена, глаголы, дальнейшие подразделения имен на имена существительные, прилагательные и т. д., отношения между словами, выражаемые падежами, — все они рассматриваются Ломоносовым, как отражение отношений между «вещами». «Все сии, — пишет Ломоносов, — свойства имен суть общи всем языкам, затем, что в самой натуре свое основание имеют». Что касается химии, то, начиная с своего первого труда в этой области, присланного им еще из Германии (1741), он подчеркивает ее органическую связь с философией. В 1741 г. он пишет, что химик «должен уметь доказывать познанное, т. е. давать ему объяснения, что предполагает философское познание», что «истинный химик... должен быть всегда философом». Около 1751 г. в предисловии к курсу лекций по химии он пишет о том, что «будет стараться проложить путь к ясной, здравой философии бесчисленных явлений, нуждающихся в объяснении». Хотя химия во времена Ломоносова еще только возникала, но он правильно усмотрел в ней ту науку, которая открывает перед человеком совершенно новые горизонты в смысле познания законов природы. Химия ставит своей целью «сыскать причины видимых свойств в телах, на поверхности происходящих от внутреннего их сложения» и поэтому химия является наукой философской. Еще в бытность свою в Марбурге Ломоносов понял, что та задача, которую он ставил перед собой — «исследовать мельчайшие частицы тел» — и которая должна была привести его к созданию «корпускулярной философии», могла быть разрешена только химией. Ломоносов неоднократно выступает в своих научных трудах и во многих черновых заметках против тех ученых, которые не понимают истинной философской сущности химической науки. В одной
291
из своих заметок он пишет: «Изучение химии может иметь двоякую цель: одною является усовершенствование естественных наук, другою — умножение благ жизни. Последняя цель, преследовавшаяся во все прошедшие времена, особенно же в настоящем и истекшем предыдущем веках, с большими денежными затратами и с огромным трудом, достигла хороших успехов; первая же, едва намеченная себе несколькими любознательными людьми, почти что не привела к обогащению философского познания природы. Почему же все это так произошло, напомню здесь в немногих словах. Уход за телом большинством слепых смертных ставится выше развития души: поэтому неудивительно, что безмерным трудом химиков открыто было почти бесчисленное количество продуктов, служащих для сохранения здоровья, для пробуждения жадности, для украшения тела, для всякого рода роскоши и блеска, наконец, к возбуждению страстей и к причинению насильственной смерти. Ясное же познание всего этого — самый верный путь к дальнейшему развитию и усовершенствованию того самого, к чему они так энергично стремятся — химики оставили в пренебрежении, как на первый взгляд менее плодотворное».
Ломоносов неоднократно старается развить и разъяснить ту мысль, что химия не должна ограничиваться только одной практически опытной стороной исследования, что она должна открыть «потаенные действия и свойств причины», проникнуть «во внутренности тел», открыть «завесу внутреннейшего... святилища натуры». Давая определение физической химии, он называет ее «химической философией, но в совершенно другом смысле, чем та мистическая философия, где не только не дают объяснений, но даже самые операции производят тайным образом». В своем отчете о работе за 1753 г. он отмечает, что «по окончании лекций делал новые химико-физические опыты, дабы привести химию сколько можно к философскому познанию». В опубликованном на французском языке «Рассуждении о должности журналистов» (1754) точно так же, как в «Слове о происхождении света» (1756), он выступает против господствовавшего в химии эмпиризма, против тех ученых, которые обрекают химика лишь на то, чтобы «вечно держать в одной руке щипчики, а в другой плавильный горшок, и ни на минуту не отвлекаться от угля и пепла», против тех химиков, которые «обращаясь с похвалою в одной химической практике, выше угля и пеплу головы своей поднять не смеют».
Таким образом, проявляя большой интерес к химии как к науке, проникающей в самую природу явлений, понимая ее значение в развитии философских представлений о мире, Ломоносов поднимается над тем уровнем философских идей, которые предопределялись господством в естественных науках механики земных и небесных тел и математики.
Значение изучения Ломоносовым химии заключается не только в том, что он в этой науке стоял на самых передовых позициях (так, например, он отказался от господствовавшей в то время флогистонной теории, согласно которой источником горения являлась особая очень тонкая материя, находившаяся в телах и носившая название «флогистон»), а в понимании им ее значения для общих воззрений на мир. Все его труды в области химии «философичны», они доказывают, что нет таких явлений в природе, которые человек не мог бы познать, что он может «проникнуть в тайники природы», что все в природе происходит естественно, что процессы, которые можно наблюдать в явлениях, обусловливаются их собственной сущностью.
Мир по представлению Ломоносова — это «великое пространство, хитросплетение и красота всея твари». В своей неопубликованной диссертации о «Нечувствительных частичках» (примерно 1744 г.) Ломоносов
292
с большой настойчивостью доказывает материальность мира. «Материя, — говорит Ломоносов в этой работе, — то, из чего состоит тело и от чего зависит его сущность... Все что есть и происходит в телах обусловливается сущностью и природой их». Те же мысли о материальности мира и естественных закономерностях, господствующих в нем, о закономерности, вытекающей именно из его материальной сущности, мы находим в диссертации «Попытка теории упругой силы воздуха» (1749). «Мы считаем излишним, — пишет Ломоносов, — призывать на помощь для отыскания причины упругости воздуха ту своеобразную блуждающую жидкость, которую очень многие по обычаю века, изобилующего тонкими материями, применяют обыкновенно для объяснения природных явлений. Мы довольствуемся тонкостью и подвижностью самого воздуха и ищем причину упругости в самой материи его». И дальше: «Все это [шероховатость тел] в высшей степени согласно с природою вещей... Воздушные атомы, хотя и не имеют никакого физического сложения, тою же природою, искусной в своей простоте, снабжены ничтожнейшими, но крепчайшими возвышеньицами».
Материалистические взгляды Ломоносова на природу явились результатом его естественно-научных занятий. Вольф, у которого Ломоносов учился, не мог быть в этом отношении его учителем. И действительно, Ломоносов не считал Вольфа своим руководителем в области философии. Показательно, что в тех случаях, когда Ломоносов ссылается на философские авторитеты, он никогда не упоминает Вольфа. Однако одна из идей Вольфа глубоко вошла в его сознание: это идея о «свободном философствовании» (в предисловии к переводу «Вольфианской экспериментальной физики» 1746 г. он показывает, что ее источником является философия Декарта).
Ломоносов доказывает необходимость «свободного философствования» не только в тех случаях, когда выступает против догматов церкви, но и тогда, когда он говорит о пройденных этапах в развитии человеческой мысли. Им постоянно руководила идея, что «может еще усовершенствоваться ... то, что почитается превосходнейшим». Показав (в предисловии к «Вольфианской экспериментальной физике»), что величие Декарта заключается в том, что он «открыл дорогу вольному философствованию», он тут же отмечает, что это обязывает ученых и философов относиться с декартовским критицизмом и к самой философии Декарта, так как и последняя является лишь ступенью в развитии человеческих представлений о мире. С большим тактом сформулировал он эту свою мысль в только что упомянутом предисловии, которое в сущности является его философской Декларацией: «Мы, кроме других его [Декарта] заслуг, — пишет Ломоносов, — особливо за то благодарны, что тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и прочих философов в правде спорить, и тем самым открыл дорогу к вольному философствованию и к вящшему наук приращению». Для Ломоносова не существует такой философской системы, которую бы он целиком воспринял и которой бы целиком следовал. По Ломоносову такой завершенной системы вообще не может быть, так как наличие ее означало бы прекращение дальнейшего развития научного знания. Поэтому он умеет выделить у своих учителей отдельные мысли, открывающие путь для дальнейшего «приращения наук». Ломоносов знал многих философов и многих ученых. Некоторых из них он очень высоко оценивает. Сюда относятся такие философы и ученые, как Локк, Декарт, Лейбниц, Коперник, Галилей, Кеплер, Бойль, Ньютон, Линней (при упоминании в черновых заметках работы последнего он отмечает «весьма хороша»), Л. Эйлер, Бернулли и мн. др.
293
Чрезвычайно интересно проследить традиции, подготовившие философское мировоззрение Ломоносова.
Так, из всей совокупности философских идей Декарта наибольшее воздействие на него оказала мысль о «вольном философствовании». Идеализм Декарта, дуалистичность его воззрений, чисто рационалистический метод мышления, — все это осталось вне сознания Ломоносова. Недаром в том же предисловии к переводу физики Вольфа, указывая на значение Декарта в развитии человеческого познания, он тут же подчеркивает роль опыта в процессе познания природы и устанавливает его соотношение с «рассуждением». Без опытного познания, без накопления и проверки массы наблюдений он не мыслит науки. Сам он проделывает множество опытов, прежде чем прийти к тем или иным теоретическим выводам. Ломоносов выступает против рационализма, когда говорит, что «ученые люди, а особливо испытатели натуральных вещей мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве... Мысленные рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторяемых опытов».
Но Ломоносов не уклоняется в сторону эмпиризма. С первых шагов своей научной деятельности он показывает необходимость теории, рассуждения, научного предвидения во всех областях знания. Характерно, что Ломоносов занимался исследованием свойств «нечувствительных частиц», т. е. отысканием причин, вызывающих явления, познание которых требовало одновременно и опыта и «разумной философии». Он никогда не отдает исключительного преимущества опыту и никогда его не отрывает от теории. Вне теории для него нет истинного знания. Именно эту черту его научного мышления подчеркнул Эйлер в своем отзыве о Ломоносове, который мы привели выше. Ломоносов дал классическую, по своей четкости, формулировку, раскрывающую соотношение опыта и теории: «Из наблюдений установлять теорию, через теорию исправлять наблюдения — есть лучшей всех способ к изысканию правды». Но тогда, когда Ломоносову нужно было показать, что принесло с собой мышление нового времени, он, разумеется, подчеркивал роль опыта, ибо признание опыта, как необходимого пути постижения природы, является одновременно признанием материальности мира. Слова Ломоносова о значении опыта и наблюдения в деле познания мира направлены не только против рассудочности и схематизма средневековой схоластики, но и против самого Декарта. Так происходит философское самоопределение Ломоносова. Он противостоит идеализму и рационализму Декарта, но не примыкает к Локку, хотя в его эмпиризме он правильно усматривает элементы материализма. В преодолении и того и другого он мог бы пойти за Лейбницем, но он не приемлет идеализма Лейбница.
Наибольшее значение для умственного развития Ломоносова имела, конечно, философия Лейбница. Но он скорее воспринял дух этой философии, а не ее систему. Философия Лейбница открыла перед ним возможность не только научного проникновения в мир, но и эмоционального его восприятия, так как она оживляла и «одухотворяла» мир. Это была первая (после греческой философии) система, которая пыталась представить мир, как единство, включающее в себя бесконечное разнообразие явлений. Поэтому она давала одновременно возможность логического и чувственного восприятия мира и именно этим она отличалась от тех философских систем, которые рассматривали мир как совокупность механически действующих сил, лишенных «индивидуальности», лишенных «формы». Философия Лейбница была попыткой преодоления механистической сущности философии Декарта. Она открывала перед человеческим сознанием мир
294
разнообразнейших явлений, каждое из которых, находясь в идеальных связях с другими, жило своей индивидуальной жизнью. И хотя этот мир явлений рассматривался Лейбницем как результат действия нематериальных сил, «монад», однако он все же был открыт и предстал перед человеческим сознанием как живая и деятельная реальность. Природа, открытая Лейбницем, могла стать источником красоты. В философских воззрениях Ломоносова исчезла «монада» Лейбница, но остались «неисчислимые образы свойств, перемен и явлений». Исчезла «предустановленная гармония», но осталась «гармония», «красота» мироздания. Ломоносовские «Размышления», так же как «Ода, выбранная из Иова», т. е. как раз наиболее яркие и своеобразные поэтические произведения Ломоносова, произведения, являющиеся новым словом в развитии искусства, воплощают в себе это новое восприятие природы. Самое название, которое дал Ломоносов своим произведениям, «Размышления», тоже сближает его с Лейбницем, озаглавившим один из своих философских трудов «Meditationes de cognitione, veritate et ideis» («Размышления о познании, истине и идеях», 1684). Философия Лейбница открывала иные, по сравнению с философией Декарта, перспективы для искусства. Она давала возможность искусству выйти за пределы классицизма, воспринимающего явления действительности в их рассудочной абстрактной всеобщности, так как натравляла сознание поэта к природе, к чувственно воспринимаемым явлениям. В. И. Ленин, изучая труд Фейербаха, посвященный Лейбницу, вносит в свой конспект те мысли Фейербаха, которые он считает правильными. Попутно он делает целый ряд замечаний, относящихся непосредственно к Лейбницу. В его конспекте мы находим следующие цитаты из Фейербаха с соответствующими ремарками к ним. Цитата: «Мир Спинозы — бесцветное стекло божества, среда, через которую мы не видим ничего, кроме ничем не окрашенного небесного цвета единой субстанции; мир Лейбница — многогранный кристалл, бриллиант, который благодаря своей своеобразной сущности превращает простой свет субстанции в бесконечно разнообразное богатство красок и вместе с тем затемняет его». Ремарка Ленина: «(Sic!)». Цитата, следующая непосредственно за только что приведенной: «Следовательно, телесная субстанция для Лейбница уже не только протяженная, мертвая, извне приводимая в движение масса, как у Декарта, а в качестве субстанции имеет в себе деятельную силу, не знающий покоя принцип деятельности». Ремарка Ленина: «За это верно и ценил Маркс Лейбница, несмотря на его, Лейбница, „лассалевские“ черты и примирительные стремления в политике и религии. Монада — принцип философии Лейбница. Индивидуальность, движение, душа (особого рода). Не мертвые атомы, а живые, подвижные, весь мир отражающие в себе, обладающие (смутной) способностью представления (души своего рода), монады, вот „последние элементы“».1
Именно эта сторона лейбницевской философии, «одухотворение» природы, восприятие мира в богатстве и разнообразии его явлений, которое открывало возможность эмоционального отношения к нему и научного постижения его, вошло в миросозерцание Ломоносова и непосредственно в его эстетику.
Еще одна сторона лейбницевского мироотношения вошла в сознание Ломоносова, это — оптимизм Лейбница. Лейбниц не растерялся перед грандиозностью и сложностью открытого им мира. Его философия глубоко оптимистична, ибо мир в ней представлен не как хаос непонятных, необъяснимых, непостижимых явлений, не как результат действия
295
каких-то неведомых «иррациональных» сил, а как проявление разумных, естественных закономерностей, которые могут и должны быть познаны человеком. Ломоносов не мог быть знаком с основным трудом Лейбница, «Новыми опытами о человеческом разуме», опубликованными через 50 лет после смерти автора, но мы видим поразительное совпадение мыслей того и другого. «Различие между тем, что естественно и объяснимо, — пишет Лейбниц, — и тем, что необъяснимо и чудесно, устраняет все затруднения. Отвергнув его, мы стали бы защищать нечто худшее, чем скрытые качества, и мы отказались бы в этом вопросе от философии разума, открыв убежище невежеству и лености мысли, благодаря темной системе, допускающей не только существование качеств, которых не мог бы понять и величайший дух, если бы бог дал ему полноту разумения, т. е. качеств, которые были бы или чудесными или нелепыми и бессмысленными. Впрочем нелепым и бессмысленным было бы также, чтоб бог повседневно творил чудеса». И дальше: «Ведь давно уж известно, что те, которые желали уничтожить естественную религию и свести все к религии откровения, — как будто разум тут ничему не может научить, — считались, и не всегда без основания, людьми подозрительными... В противном случае, если не признать разумной философии, я не вижу, как можно уберечься, чтоб не стать жертвой либо фантастической философии, какова, например, моисеева философия Флэдда, спасающая все явления так, что приписывает их непосредственно богу при помощи чуда».1
Высказанные здесь Лейбницем мысли чрезвычайно близки тому, о чем пишет Ломоносов во «Втором прибавлении к Металлургии»: «напрасно многие думают, что все как видим, сначала творцом создано;... Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно, и натуральному знанию шара земного..., хотя оным умникам и легко быть философами, выучась наизусть три слова: бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин». Но больше всего идеи Лейбница вошли в сознание Ломоносова-поэта. Мир, яркий расцвеченный мир, мир воспринимаемый эстетически и научно, стал объектом поэтического воплощения у Ломоносова. В поэзии Ломоносов так же, как в его научных статьях, заговорило «естество», постигаемое человеческим разумом. И тут и там глубоко эмоциональное, волнующее отношение к «натуре» — и строки из «Второго прибавления к Металлургии» или из «Программы» к курсу лекций по физике звучат отнюдь не менее эмоционально, нежели соответствующие строки из «Размышлений». С патетикой, приближающейся к радищевской, показывает Ломоносов, ученый и поэт, в «Программе при начале публичного чтения на российском языке изъяснения физики» (1746), чем для него является природа; он хочет «смотреть на роскошь преизобилующея натуры, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и сады нежною зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в источниках и реках ясные воды с тихим журчаньем к морям достигают и когда обремененную семенами землю, то любезное солнце согревает, то прохлаждает дождя и росы благорастворенна влажность, слушать тонкий шум трепещущих листов и внимать сладкое пение птиц, есть чудное и дух восхищающее увеселение. Ожидать плодородия от полей и садов, в поте лица посеянных и насажденных, взирать на зыблющиеся желтые класы и на плоды, обременившие ветви и руку господина своего уже к себе привлекающие, сладчайшая и труд понесенных в забвенье приводящая надежда. Собирать полные
296
рукоятия благословленные жатвы и зрелые плоды неповинною рукою, и тем наполнять гумна и житницы свои, вожделенное и безопасностью огражденное есть удовольствие... Кто знает свойства и смешения малейших частиц, составляющие чувствительные тела, исследовал расположение органов и движения законы, натуру видит как некоторую художницу, упражняющуюся перед ним без закрытия в своем искусстве... Но кто при том взирает просвещенным и проницающим оком в сокровенные внутренности многообразных тварей, видит взаимным союзом соединенные и стройным чином расположенные их части, таинства иным несведомые, в которых непостижимая зиждителева премудрость тем великолепнее является, чем тончае есть оных строение». В этой программе мы чувствуем полное слияние Ломоносова — ученого и поэта.
Воспринимая самый дух лейбницевской философии, Ломоносов без всяких компромиссов преодолевает учение Лейбница о монадах. Ломоносов пользуется этим термином (правда, в начале своей научной деятельности), но вкладывает в него совершенно материалистическое содержание. Для него монады — это мельчайшие «нечувствительные частицы» материи (атомы).
Но не только монадология Лейбница не была воспринята Ломоносовым; мимо Ломоносова прошла также идея Лейбница о «предустановленной гармонии». В этом отношении исключительный интерес представляют те программы, которые Ломоносов подготовил для замышлявшейся им «Натурфилософии», которая должна была охватить все области знания, и для «корпускулярной философии», в целом тоже не осуществленной им. В этих программах мы сталкиваемся с частичным использованием лейбницевской терминологии, которая вытекает из деистических воззрений последнего. В ломоносовских программах часто употребляется слово «гармония»: «Гармония и согласие природы», «согласный всюду голос природы», «гармония есть самый постоянный закон природы», и т. п. И ни одного раза Ломоносов не пользуется термином «предустановленная гармония». Между тем в лекциях Вольфа он слышал именно о «предустановленной гармонии». Ломоносов — деист. Для него существуют «бог», «зиждитель», «премудрые естественные дела божия», «премудрое божественное строение вещей натуральных». Но, признавая божественное происхождение естественных законов, он меньше всего занят доказательством «бытия божия». Для него существенно другое: ему важно доказать естественность происходящих в природе явлений, возможность объяснения этих явлений их собственной сущностью. Поэтому понятия «бог», «зиждитель», «премудрость» зачастую превращаются у него в метафоры, реальный смысл которых раскрывается в понятиях «естество», «природа», «натура» и т. п.
Ломоносов был одним из первых мыслителей и ученых, выдвинувших идею развития в применении к природе. Энгельс, характеризуя в «Диалектике природы» состояние философской и научной мысли эпохи, современной Ломоносову, говорит о том, что в это время «за природой отрицали всякое изменение, всякое развитие».1 Представление о неизменяемости природы и общественного уклада было характерным свойством механистического мировоззрения.
Ломоносов почти одновременно с Кантом, всего через 5 лет после опубликования (1755) «Всеобщей естественной истории и теории неба» Канта и совершенно независимо от него, дает свою теорию развития земли.
297
Страницы из «Второго прибавления к Металлургии» (1760), посвященные изложению совершенно новой для того времени теории, написаны Ломоносовым блестяще. Он прекрасно осознал, какое значение для общих воззрений на мир имеет идея развития, как эта идея разрушает основные религиозные догмы, какое революционизирующее значение для человеческого сознания она имеет. Ломоносов, излагая эту теорию, выступает как просветитель, он рушит старые, отжившие представления о мире, выступает против «поповщины», за торжество человеческого разума. Он понимает, что это не частная узкая научная теория в какой-то отдельной конкретной области знания, а что эта идея имеет огромное значение для общих представлений о мире. Именно поэтому он так оттачивает каждую мысль в этой работе и придает ей острую публицистическую форму. «Твердо помнить должно, — пишет Ломоносов, — что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала создания, как ныне находим, но великие происходили в нем перемены, что показывает история и древняя география, с нынешнею снесенная, и случающиеся в наши века перемены земной поверхности. Когда и главные величайшие тела мира, планеты и самые не подвижные звезды изменяются, теряются в небе, показываются вновь, то в рассуждении оных малого нашего шара земного малейшие частицы, то есть горы (ужасные в наших глазах громады), могут ли от перемен быть свободны. И так напрасно многие думают, что все, как видим, с начала творцом создано». На следующих страницах своего труда он резко, а иногда с насмешкой выступает против библейской и церковной хронологии, говоря, что «кому противна долгота времени и множество веков, требуемых на обращение дел и произведение вещей в натуре, больше нежели как принятое у нас церковное исчисление, тут возми в рассуждение: 1) что оно не догмат веры, ниже узаконение, утверждениое Соборами». Вслед за этим он показывает полную путаницу в церковной христианской хронологии, которая совершенно игнорирует сведения о халдеях, египтянах, персах, китайцах и самые памятники древности, например египетские пирамиды, «коих самые старинные авторы почитают за великую древность». «Естьли же кто сим недоволен, — продолжает Ломоносов, — тот пусть отнесет вышеописанные натуры деяния в оное время, когда земля была невидима и неустроена, то есть прежде шестидневного произведения тварей: там не будет никакого спору и сомнения о времени не описанном и не определенном чрез течение светил небесных».
Говоря о том, как исчисляется хронология в летописях церковных, он просит разрешения «поискать того же в своем летописце... по оному всех старшему летописцу древность света больше выходит, нежели по оным трудным выкладкам».
Разумеется, весь этот отрывок к вопросам металлургии отношения не имеет. Ломоносов пользуется всяким случаем, чтобы показать, что подлинные научные знания разрушают привычные религиозные представления о мире. И в других своих работах он выступает против «ревнителей к православию, кое святое дело само собою похвально, естьли бы иногда не препятствовало излишеством высоких наук прирощению». Но нигде он не достигает такой последовательности, как в упомянутой работе. Ломоносов понял, что сильнейшим ударом по «поповщине» является идея развития природы. Поэтому научный трактат, посвященный вопросам металлургии, превращается в блестящий документ борьбы просветительских идей с религией и церковью. Резче, чем в других работах, он обличает здесь невежество, охраняемое и поощряемое церковью и властью. Он показывает, что церковь и «монаршая власть» — одинаковое препятствие для познания природы, что действия их согласны и направлены против
298
человеческого разума и прогресса: «Кто в... размышления углубляться не хочет или не может, — пишет Ломоносов, — и не в состоянии вникнуть в премудрые естественные дела божие, тот довольствуйся чтением священного писания и других книг душеполезных, управляй житие свое по их учению. Зато получит от бога благословение, от монаршей власти милость, от общества любление. Протчих оставляй он также в покое услаждаться притом и премудрым божеским строением вещей натуральных, для такой же пользы, какую он получает, и получить уповает».
Если церковные представления могли найти свое оправдание в то время, когда человеческие знания о мире были еще очень бедны, то всякая попытка сохранить эти представления, сделать их незыблемыми является, по Ломоносову, сознательным противодействием истинному познанию «натуры». Представления «блаженного» Августина о том, что жизнь имеется только на одном полушарии, были разбиты самой жизнью — открытием Америки. Поэтому нельзя «освящать», т. е. превращать в религию, обыкновенное «незнание». То, что было неизвестно людям прошлого, стало известным людям настоящего; то, чего не знают люди настоящего, станет известным людям будущего. Такие мысли высказывает он в «Письме о пользе стекла» и в других своих поэтических произведениях.
Возмите сей пример, Клеанты, ясно вняв,
Коль много Августин в сем мнении неправ;
Он слово божие употреблял напрасно.
................
Уже Колумбу вслед, уже за Магелланом
Круг света ходим мы великим Океаном;
И видим множество божественных там дел,
Земель и островов, людей, градов и сел,
Незнаемых пред тем и странных нам животных,
Зверей и птиц и рыб, плодов и трав несчетных.
(«Письмо о пользе стекла».)
В борьбе с церковным мировоззрением Ломоносов опирается на «натуральное знание», которое дают Коперник, Кеплер, Ньютон и Фонтенелль, и даже использует образ Прометея. Он дал блестящее истолкование греческого мифа о Прометее, образ которого олицетворяет собой человеческие «дерзания», безграничное стремление узнавать и творить.
Больший, чем у Лейбница и Вольфа, радикализм Ломоносова в борьбе с религиозно-церковным учением объясняется в значительной мере усилением роли церкви в России в царствование «богомольной» Елизаветы. Ломоносову еще только приходилось завоевывать право на естественно-научное знание, и это являлось причиной его ожесточенной борьбы с духовенством.
На протяжении многих лет шла борьба между Ломоносовым и духовенством. Иногда эта борьба у Ломоносова принимала такую острую форму, какой она достигала лишь у французских просветителей. С духовенством он боролся не только в своих научных трактатах, которые по условиям того времени имели совсем ограниченное распространение, но и стихами.
Кроме «Письма о пользе стекла», он написал целый ряд сатирических произведений — «Гимн бороде», «О страх, о ужас...», «Ода Тресотину», «Зубницкому», «Пахомий говорит...», «Суд бородам», которые не могли быть напечатаны при его жизни, но которые распространялись среди читателей во множестве списков. Большинство этих произведений написано живым народным языком и обнаруживает в Ломоносове
299
незаурядный талант поэта-сатирика. Острым и метким словом он обличает попов за их невежество и социальный паразитизм:
О коль в свете ты блаженна
Борода — глазам замена!
Люди обще говорят
И по правде то твердят:
Дураки, врали, пролазы
Были бы без ней безглазы.
Им в глаза плевал бы всяк:
Ею цел и здрав их зрак.
Духовенство видело в Ломоносове опасного врага. После появления «Гимна бороде» члены Синода призвали Ломоносова на «суд», грозили ему проклятием и писали на него доносы Елизавете. Ломоносов отвечал на это новыми сатирическими стихами. В одном из стихотворений попы сравниваются с козлами, причем предпочтение отдается козлам, так как
Козлята малые родятся с бородами,
Как много почтены они перед попами.
Церковники в свою очередь, кроме официальных донесений о Ломоносове, писали злые пасквили на него («Переодетая борода или гимн пьяной голове» и «подметные» письма за подписью «Зубницкий». Ломоносов, не догадываясь, кто скрывается за этой подписью, заподозрил в авторстве этих писем Тредиаковского, за что обрушился на последнего злой эпиграммой).
Весь облик Ломоносова, человека, стремящегося все исследовать и преобразовать, был глубоко ненавистен церкви, так же как ненавистна была Ломоносову церковь, которая являлась идейной опорой консерватизма как в мышлении, так и в общественной жизни.
Ломоносов, в соответствии с тем уровнем научных знаний, который характеризовал его эпоху, больше всего занимался естественными науками, и притом обращенными к «мертвой» природе. Философские взгляды Ломоносова основывались главным образом на данных этих наук. Но большое место в его занятиях занимали также история и филология. И та и другая науки привлекали его внимание в связи с его убеждением в необходимости развивать национальную русскую культуру. Россию он представлял, как страну с многовековой историей, со своей культурой, великим прошлым, дающим право на национальную гордость. Ломоносов подходил к раскрытию сущности исторической науки, как политический деятель, вполне осознавший ее значение для страны. «Велико есть дело, — пишет Ломоносов, — смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу, и пренося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила».
Приступив к работе над историей в самом начале 1750-х годов, он только в 1760 г. выпускает «Краткий российский летописец», а его «Древняя российская история», доведенная только до 1054 г., выходит уже после его смерти (1766).
Основная идея его исторического труда сформулирована им самим: «Не мало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели. Инако рассуждать принуждены будут, снесши своих и наших предков, и сличив происхождение, поступки, обычаи и склонности народов между собой». Ломоносов показал, что Россия в прошлом не стояла ниже других стран.
300
У Ломоносова был сложившийся взгляд на исторические судьбы России: он развивает его в своем рассуждении «О пользе книг церковных в российском языке» (1757). Намечая перспективы развития русского литературного языка, показывая историческую их правомерность, Ломоносов попутно вскрывает корни русской культуры. Он доказывает, что Россия через древнеславянский язык, впитавший в себя элементы греческого языка, приобщилась к культуре древней Греции и стала непосредственной наследницей ее культурных ценностей. И в этом ее преимущество перед странами Запада, которые питались этой же культурой, не имея с ней общего языка. Культурно-историческое значение крещения Руси как раз и заключается по Ломоносову в том, что благодаря ему Россия приблизилась к величайшему очагу человеческой культуры и сделала своим достоянием «Гомеров, Пиндаров и Демосфенов». Эта вскользь брошенная Ломоносовым мысль показывает, как велика была его способность проникать в смысл историко-культурных явлений. Ломоносов, сравнительно мало работавший в области истории, вместе с тем дает ключ к пониманию очень важных моментов в истории России.
3
Ломоносов, так же как и В. К. Тредиаковский, начинает разработку теоретико-литературных вопросов с вопроса о стиховых особенностях русского языка, так как и тому и другому было ясно, что нельзя создать национальную русскую поэзию, не раскрыв поэтических возможностей русского языка.
Работа в области стиха явилась одной из сторон их работы по созданию русского литературного языка в целом Первой работой Ломоносова в области теории литературы было «Письмо о правилах российского стихотворства» (1739), в котором он выступает как последователь В. К. Тредиаковского. Позднейшая личная неприязнь этих двух поэтов и ученых и целый ряд мелких расхождений теоретического характера затемнили тот факт, что между ними была известная близость во взглядах на язык и поэзию. Даже литературные симпатии того и другого в иных случаях совпадали. Так, например, Ломоносов очень высоко ставит Фенелона, считая его единственным новым писателем, заслуживающим уважения. Так же относится к нему и Тредиаковский. И тот и другой дают переводы его произведений; и тот и другой видят в «Телемаке» произведение, достойное стать рядом с античным эпосом. Совпадают их взгляды и на «Аргениду» Барклая.
Интересно отметить, что первый биограф Ломоносова, Я. Штелин, хорошо знавший подробности жизни Ломоносова и доброжелательно к нему относившийся, несколько раз говорит о вражде между Ломоносовым и Сумароковым: «Есть много анекдотов, — пишет Я. Штелин, — о непримиримой ненависти ученого Ломоносова к необразованному сопернику своему в стихотворстве Сумарокову, который при каждом случае старался оскорблять его». Между тем, когда Штелин характеризует отношения Ломоносова и Тредиаковского, он пишет: «Преследует бедного Тредиаковского единственно за его дурной русский слог».
Ломоносов, прежде чем написать свое «Письмо», адресованное «Российскому собранию», организованному в Академии Наук Тредиаковским (1735), очень внимательно изучил трактат последнего — «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». Работа Тредиаковского привлекла его внимание не столько теми конкретными формами ритмической организации речи, которые предлагал в своем труде Тредиаковский,
301
сколько общей ее идеей. Тредиаковский исходит из того положения, что принципы стихосложения должны вытекать из особенностей данного языка. «Способ сложения стихов весьма есть различен по различию языков», — пишет он в «Новом и кратком способе сложения российских стихов»; и тут же Тредиаковский устанавливает, что характер русского языка обусловливает необходимость «тонического стиха», т. е. стиха, основывающегося на чередовании слогов, несущих на себе «ударение голоса» и слогов, не имеющих ударения. Эта идея Тредиаковского легла в основу и «Письма» Ломоносова, но получила у последнего гораздо более ясное выражение. Ломоносов пишет: «Первое и главнейшее, мне кажется, быть сие: российские стихи надлежит сочинять по природному нашему языку свойству; а того что ему весьма не свойственно, из других языков не вносить». И вслед за Тредиаковским же он приходит к выводу, что долготе слогов в греческом и латинском языках соответствует ударность слогов в русском языке. Мимо Ломоносова не проходит также замечание Тредиаковского о том, что на мысль о тонизме русского стиха его навела народная поэзия. Ломоносов, как уже указывалось выше, к параграфу, в котором идет об этом речь, приписывает отрывок из народной песни, причем приведенные им две песенные строчки («По загуменью игуменья идет, за собою мать черна быка ведет») дают в чтении хореическую стопу, на введение которой в русскую поэзию настаивал Тредиаковский. Ломоносов, очевидно, понял, что ссылки Тредиаковского на народный стих имеют реальное основание и что предпочтение, которое отдает Тредиаковский хореической стопе, вытекает опять-таки из свойств русского народного стиха. Но этим ограничивается воздействие Тредиаковского на Ломоносова, так как конкретные формы русского стиха, которые нашел Ломоносов, не находятся в связи с тем, что дает в этом отношении Тредиаковский. Наоборот, эта сторона работы Ломоносова направлена против Тредиаковского, так как он видит половинчатость, непоследовательность его, неуменье развить до конца им же самим выдвинутый принцип. Ломоносов своим «Письмом» показал, что те ограничения, которые вводит в русский стих Тредиаковский — использование только хореической стопы и женской рифмы, — никак не вытекают из особенностей русского языка. Хорошо зная свойства русского языка, Ломоносов находит и другие формы русского стиха. В своем «Письме» Ломоносов подвергает критике теорию стиха, разработанную М. Смотрицким, силлабическую систему стихосложения и те элементы тонической системы Тредиаковского, которые, по мнению Ломоносова, не имеют для себя основания в русском языке. Все свои возражения против указанных теорий Ломоносов мотивирует несоответствием их характеру русского языка. Так, например, выступая против Смотрицкого, он указывает, что распределение гласных звуков на краткие и долгие не свойственно русскому языку. Вслед за этим Ломоносов целым рядом примеров опровергает мнение Тредиаковского, будто все односложные слова в русском языке являются «долгими». В качестве примера он берет живые формы русского языка — «за сто лет», «под мост упал», «ревет как лев», «что ты знаешь» — и приходит к выводу, что «самые имена, местоимения и наречия, стоя при других словах, свою силу теряют».
Говоря о возможности употребления в русском стихе «двоесложных» и «троесложных» стоп, точно так же как рифм мужских, женских и «три литеры гласные в себе имеющих», он исходит из реального богатства русского языка. «Во всех российских правильных стихах, — пишет Ломоносов, — долгих и коротких, надлежит нашему языку свойственные стопы, определенным числом и порядком учрежденные, употреблять. Оные
302
каковы быть должны, свойство в нашем языке находящихся слов оному учит. Доброхотная природа, как во всем, так и в оных, довольное России дала изобилие. В сокровищнице нашего языка имеем мы долгих и кратких речений неисчерпаемое богатство; так, что в наши стихи без всякия нужды двоесложные и троесложные стопы внести, и в том грекам, римлянам, немцам и другим народам, в версификации правильно поступающим, последовать можем». Таким образом Ломоносов, а не Тредиаковский, указал на истинные возможности русского языка в отношении ритмического строя речи. Однако следует сказать, что сам он в своем собственном поэтическом творчестве не дал того ритмического разнообразия форм, которые теоретически считал возможными для русского стиха.
В русском стихе, по Ломоносову, могут иметь место ямбы, хореи, анапесты, дактили и, на ряду с ними, более гибкие формы — анапесто-ямбический стих, дактило-хореический, которые действительно широко привились в русской поэзии. Он допускает в ямбическом и хореическом стихе пиррихий, но считает при этом, что без пиррихия стих звучит лучше. Ломоносов, в противовес Тредиаковскому, показал, что тонический принцип стихосложения распространяется на все стихи, вне зависимости от количества слогов в стиховой строчке, т. е. охватывает собой гексаметры, пентаметры, тетраметры, триметры и диметры. Все те формы русского стиха, на возможность употребления которых указал Ломоносов, сохранились в русской поэзии по сей день. Таким образом, именно он явился истинным создателем классической системы русского стихосложения.
Обычно указывается, что Ломоносов является сторонником ямбической стопы в русском стихе. Между тем в этой своей работе Ломоносов не отдает явного предпочтения ямбу. Так, он говорит о том, что «протчие роды стихов (кроме ямба и дактило-хореического стиха), рассуждая состояние о важности материи, также очень пристойно употреблять можно, о чем подробно упоминать для краткости времени оставлю». Следовательно, он допускает и другие стопы, но попутно бросает мысль о соотнесенности стопы, а вместе с тем и количества стоп (последнее он делает, конечно, интуитивно) с темой и жанром поэтического произведения. Когда он говорит о необходимости в оде ямбической стопы, он имеет в виду не всякий ямб, а 4-стопный, а когда дает пример дактило-хореического стиха, то, кроме того, что он видит его «способность к изображению крепких и слабых аффектов скорых и тихих действий», он приводит при этом прекрасный гексаметр (а не 3- и 4-стопный стих):
Бревна катайте на верх, каменья и горы валите,
Лес бросайте, живучей выжав дух задавите.
И в другом случае, когда он дает пример чистого дактиля, этот дактиль оказывается 6-стопным:
Вьется кругами змия по траве обновившись в расселине.
Даже в пору своего «состязания» с Тредиаковоким и Сумароковым (1743) Ломоносов не отвергает возможности пользоваться и другими стопами, кроме ямбической. Тредиаковский в предисловии к трем переложениям псалма 143-го подробно излагает точку зрения всех трех участников поэтического «состязания». Как видно из слов Тредиаковского, Ломоносов и в это время считал нужным пользоваться той или иной стопой в зависимости от характера произведения. Если не придавать этому положению абсолютного значения, то в истории поэзии можно все же заметить некоторую связь между ритмической и смысловой сторонами стиха.
303
Своим собственным творчеством Ломоносов утвердил ямб, причем ямб 4-стопный. Именно этот размер, а не просто ямбическая стопа, оказался наиболее свойственным речевому строю русского языка. Это подтверждается всей последующей историей русской поэзии, в которой преобладающим размером, главным образом благодаря Пушкину, стал 4-стопный ямб.
«Письмом о правилах российского стихотворства» Ломоносов показал силу своего перспективного мышления. Еще не было выработанного русского литературного языка, еще не было поэзии в настоящем смысле этого слова, а Ломоносов уже называл русский язык «сокровищницей», говорил о его «неисчерпаемом богатстве» и «изобилии». Надо было уметь очень далеко заглянуть в будущее, чтобы сказать о русском языке то, что сказал Ломоносов: «Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык... бодростию и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает».
Это письмо замечательно не только по новизне и широте мыслей, не только по поэтическому материалу, который в нем дается, но и по языку. Впервые в России теоретический трактат был написан живым русским языком, почти освобожденным от славянизмов. Он явился как бы иллюстрацией к тем положениям о языке, которые высказал в нем Ломоносов.
У Ломоносова вопросы поэзии теснейшим образом связаны с вопросами языка. Как истинный просветитель, он понимал, что нельзя говорить ни о науке, ни о литературе, если не будет выработан национальный литературный язык. Это основная предпосылка и основной фактор культурного развития страны и поэтому только наука о языке, т. е. грамматика, которая «хотя... от общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению», открывает возможность поэтического, научного и философского творчества. «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики», — пишет Ломоносов. Поэтому наука о языке занимала очень большое место в разносторонней, научной деятельности Ломоносова.
В работах по языку просветительские тенденции Ломоносова выявляются с особой отчетливостью. Он показывает, какую пользу человечеству приносит язык, и соответственно с этим, какое значение имеет наука о нем. Как и в других областях знания, Ломоносов и в науке о языке развивает свои общие философские воззрения. Наука о языке становится проводником его материалистических идей. Элемент публицистичности, присутствующий почти во всех работах Ломоносова, нашел себе место и в «Грамматике» (1757) и в «Риторике» (1748). В «Посвящении», предпосланном «Риторике», Ломоносов блестяще показывает огромную роль слова в человеческом общежитии, в политической жизни, в самоутверждении народа: «Блаженство рода человеческого, — пишет Ломоносов, — коль много от слова зависит, всяк довольно усмотреть может. Собраться рассеянным народам в общежитии, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятелей и другие нужные, союзных сил требующие дела производить, как бы возможно было, естьли бы они способа не имели сообщать свои мысли друг другу... Остроумные люди уже в древние времена приметили, что оное [слова дарование] искусством увеличено и тем с вящшею пользою употреблено быть может: и для того многое старание и неусыпные труды полагали, чтобы слово свое учением возвысить и украсить, в чем они великие успехи имели и в обществе показывали знатные услуги. В нынешние веки хотя нет толь важного употребления украшенного слова, а особливо в судебных делах, каково было у древних и греков и римлян; однако в предложении божия
304
слова, в исправлении нравов человеческих, в описании славных дел великих героев и во многих политических поведениях коль оное полезно, ясно показывает состояние тех народов, в которых словесные науки процветают».
И в «Риторике» и в «Грамматике» Ломоносов выясняет, что́ такое слово, в каком отношении оно находится к человеческой мысли, к миру реальных вещей. Учение о слове является философской подосновой его грамматики русского языка и риторики. «Общая грамматика есть философское понятие всего человеческого слова, а особливая, какова российская грамматика, есть знание, как говорить и писать чисто российским языком по лутчему рассудительному его употреблению», — говорит Ломоносов.
В своих взглядах на язык Ломоносов выступает как последователь Локка и отчасти Вольфа. Некоторое влияние на Ломоносова в постановке общих вопросов языка оказали французские грамматисты, составители пособия «Nouvelle Grammaire Royale» (Берлин, 1736), которое Ломоносов приобрел еще в бытность свою в Германии. Впрочем, все эти источники сливаются в один, поскольку Вольф в своем учении о языке использовал и Локка и французских грамматистов.
По Ломоносову, «слово дано для того человеку, чтобы свои понятия сообщить другому». Чем больше человек знает, тем больше у него представлений или идей, тем богаче его язык. «Как все вещи от начала в малом количестве начинаются и потом присовокуплениями возрастают, так и слово человеческое, по мере известных человеку понятий, в начале было тесно ограничено, и одними простыми речениями довольствовалось...» Говоря о «славенском народе», находившемся еще на низком уровне культурного развития и не знавшем «многих вещей и действий, многим народам известных», он отмечает, что «язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне читаем». Таким образом, развитие языка связано с развитием человеческого общества, с развитием человеческих знаний. Но язык — это не только результат уже приобретенных человеком идей и представлений. Он является одновременно источником обогащения человеческих представлений. И поэтому развитие языка является со своей стороны необходимым условием развития культуры в целом. Народ не может развиваться, не может двигать свою культуру вперед, если его язык не будет развит настолько, чтобы выражать новые представления и новые идеи. Ломоносов указывает несколько источников обогащения языка. Потребность в выражении новых представлений и идей ведет к образованию новых слов из прежде существовавших путем «произвождения» и «сложения». Кроме того, источником новых слов, а вместе с ними и новых представлений, является использование одним языком более высокой языковой культуры другого народа. Этот последний источник обогащения языка имеет, по Ломоносову, огромное значение в деле духовного и общекультурного развития народа. Однако, утверждая это, Ломоносов делает очень важную оговорку: не всякий более богатый язык может служить для целей обогащения другого языка. Лишь соприкосновение народов в ходе исторического развития, лишь самый исторический и историко-культурный процесс дает основание для языковых заимствований и определяет дальнейшие перспективы языкового развития данного народа. При раскрытии этих перспектив следует исходить из исторически сложившихся обстоятельств, и если культура одного народа оказалась генетически связанной с культурой другого народа, то этим создаются реальные основания для языкового и культурного заимствования. Именно этим культурно-историческим взглядом на явления развития языка определяется отношение Ломоносова к церковно-славянскому языку
305
и языку греческому, как к одному из образующих начал русского литературного языка.

Фронтиспис „Российской грамматики“ Ломоносова,
изд. 1755—1757 г. (СПб.).
Как указывалось выше, Ломоносов видел связь русской культуры и русской образованности с культурой древней Греции. Он убедился, что такой историко-культурный факт, как принятие христианства славянами непосредственно из Византии, сделал их преемниками не только византийской культуры, во через нее и культуры древнегреческой. Историко-культурные связи сложились так, что южные славяне, а затем и восточные, вошли в соприкосновение с Византией. Византийская культура, как культура более высокая, стала питательной почвой для развития культуры славянских народов. Однако русский народ питался книжной византийской жультурой не из первоисточников, а через «славенский язык», хотя и отличавшийся от древнерусского, но более близкий ему, чем язык греческий. «Славенский язык», на который переводились церковные книги с греческого языка, впитал в себя множество слов и оборотов греческого языка и донес их вместе с элементами эллинской культуры до русского народа. Связь славянских народов с Грецией сыграла очень большую роль в развитии их собственных культур и предопределила их последующее развитие. То, что вначале было чужим, то постепенно в процессе исторического развития ассимилировалось и превращалось в источник развития национальной культуры.
Все эти мысли нашли свое выражение в рассуждении «О пользе книг церковных в российском языке» (1757). «Богатство славенского языка больше всего приобретено, — пишет Ломоносов, — купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский». Язык греческий — это язык «отменной красоты», в котором имеется «изобилие, важность и сила». Это язык «Гомеров, Пиндаров и Демосфенов», являющийся неиссякаемым источником обогащения «славенского», а через него и русского языка. «Ясно еще видеть можно, — пишет Ломоносов, — вникнувши в книги церковные на славенском языке, коль много мы от переводов Ветхого и Нового завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцов канонов видели в славенском языке греческого изобилия, и оттуда умножаем довольство
306
российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к принятию греческих красот посредством славенского сродно. Правда, что многие места оных переводов не довольно вразумительны: однако польза наша весьма велика». Если вначале эти элементы греческого языка были для «славенского языка» странны, то «чрез долготу времени слуху славенскому перестали быть противны, но вошли в обычай. Итак, что предкам нашим казалось невразумительным, то нам ныне стало приятно и полезно». О том, что греческие слова проникали в русский язык, и об их постепенной ассимиляции он пишет и в своих черновых заметках к «Грамматике» и в составленном им плане будущих «филологических исследований», которые были задуманы им очень широко, но целиком не были осуществлены. «С греческого языка, — пишет Ломоносов в „Плане“, — имеем мы великое множество слов русских и славенских, которые для переводу книг сперва за нужду были приняты, а после в такое пришли обыкновение, что будто бы они сперьва в российском языке родилися. Также многие Redensarten». Если Ломоносов считал возможным обогащение русского языка за счет греческого, учитывая скрещение их исторических путей, то тем более он мог видеть значение церковно-славянского языка для дальнейшего формирования русского национального литературного языка. С одной стороны, церковно-славянский язык был как бы связующим звеном между русским и греческим языками. С другой стороны, церковно-славянский язык сам по себе был богат, имел длительные литературные традиции. Это был сложившийся уже литературный язык, и так как он исконно был близок русскому языку, а в ходе историко-культурного развития получил широкое распространение в русском народе, то это давало основание для того, чтобы церковно-славянский язык стал источником образования русского литературного языка.
Вопрос о роли церковно-славянского языка в образовании русского литературного языка занимал внимание Ломоносова еще тогда, когда он писал свое «Письмо о правилах российского стихотворства». Уже в этом «Письме» он разделяет язык «природный» или «нынешний» (разговорный) и «славенский» («древней оной язык»); но, разделяя их, он все же указывает, что «славенский язык с нынешним нашим немного разнится». Здесь он рассматривает эти два языка как два этапа в развитии одного языка. «Славенский» язык воспринимается им как язык древний, архаический, а разговорный русский язык как язык «современный». Точка зрения его на церковно-славянский язык совпадает с точкой зрения В. К. Тредиаковского, высказанной им в предисловии «К читателю», предпосланном «Езде в остров Любви» (1730). Очень возможно, что Ломоносов, будучи еще в Петербурге, читал эту заметку Тредиаковского. В дальнейшем уточняется его взгляд на церковно-славянский язык. Он начинает понимать, что этот язык отделяется от «природного» русского языка не только хронологически, но что «славенский» язык и русский язык — языки разные. В «Плане филологических исследований», намечая ряд вопросов, которые должны раскрыть соотношение этих двух языков, он пишет: «писать о разности славенского языка с российским». Однако, как мы видели выше, Ломоносов учитывает, что оба эти языка в ходе истории пришли в соприкосновение и что «славенский» язык в ряде своих элементов вошел в разговорный язык. В соответствии с этим, одним из разделов в предполагавшейся им будущей работе по языку должен был бы находиться раздел «О славенском языке и о нашем, как и когда он переменился и что нам должно из него брать и в письме употреблять». Развитием этого пункта являются его рассуждение «О пользе книг церковных в российском языке» и отдельные мысли из «Риторики» 1744 г. И
307
тут и там Ломоносов говорит о мере использования церковно-славянизмов в русском литературном языке, причем мера эта определяется тем, насколько жизнеспособны и насколько «вразумительны» те или иные элементы церковно-славянокого языка для «россиян». Русский литературный язык должен освободиться от «старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но при том не оставлять оных, которые хотя в простых разговорах не употребительны, однако знаменование их народу известно». Те же мысли развиваются им и в рассуждении «О пользе книг церковных». Ломоносовское учение о трех «штилях», которое он дает в этом рассуждении, хотя внешне выглядит очень традиционно, однако по своему содержанию представляет собой нечто совсем новое. В основе этого рассуждения лежит мысль о том, что литературный язык — это язык русский, в который в большей или меньшей степени, в зависимости от характера поэтических произведений, должны входить элементы церковно-славянского языка.
Своим общеизвестным учением о трех «штилях» Ломоносов стремится к созданию единого литературного языка на основе синтеза живых форм русского языка и языка церковно-славянского в тех его элементах, которые либо ассимилировались русским языком, либо не утратили своей понятности, смысловой и поэтической выразительности. И потому он не столько противопоставляет один «штиль» другому, сколько, наоборот, намечает постепенный переход одного «штиля» в другой.
Обращение к церковно-славянокому языку должно было, кроме всего прочего, укрепить национальную основу русского языка и уберечь его от воздействия тех языков, которые ему чужды. «Старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка, — пишет Ломоносов, — купно с российским, отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков... Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пересечется и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится». Это не значит, однако, что Ломоносов совершенно не считает возможным заимствование из западноевропейских языков. Он допускает и эти заимствования, но они должны быть единичны и ни в коей мере не должны определять собой направление в развитии языка, так как развитие это должно быть органическим. Ломоносов прекрасно понимал, что, создавая научную терминологию, нельзя обойтись без заимствований из западноевропейских языков, но вместе с тем он старается найти соответствующие обозначения для научных терминов в самом русском языке, т. е. по возможности переводить их на русский язык. Именно так он поступает при переводе «Вольфианской экспериментальной физики», ставя перед собой задачу создания русской научной терминологии.
Создание литературного языка как необходимого условия для культурного развития страны было для Ломоносова важнейшей задачей его научной, общественной и просветительской деятельности. Два труда, посвященные вопросам языка — «Риторика» и «Грамматика» — вводят русский язык в определенные нормы, не навязываемые ему извне, а вытекающие из самого его существа. Эпиграфом к этим трудам могут быть поставлены Слова Ломоносова из § 131 «Грамматики»: «Хотя природное знание языка много может, однако грамматика показывает путь доброй натуре». Казалось бы, что «Грамматика» должна была хронологически предшествовать «Риторике», но она была закончена Ломоносовым значительно позднее. Создание грамматики требовало большого языкового материала, так
308
как Ломоносов мыслил ее как науку о живом, чрезвычайно разнообразном языке. И действительно, все выводы Ломоносова, к которым он приходит в своей «Грамматике», основаны на большом фактическом материале, и те нормы и законы, которые он устанавливает на основе этого материала, лишь регулируют языковое «употребление», лишь вводят его в определенное русло, унифицируют его. «Грамматика» Ломоносова показала, что русский литературный язык, т. е. язык общенациональный, — это урегулированный, приведенный к некоторому единообразию «природный» русский язык, на котором разговаривает русское население, разбросанное на огромной территории, говорящее на различных диалектах, но вместе с тем понимающее друг друга. В этом отношении он противопоставляет русский язык немецкому, характерной особенностью которого является раздробленность, доходящая до того, что жители одной части страны не понимают языка населения другой части. Ломоносов учитывает наличие в русском языке разных диалектов, указывает на его сложность и пестроту, принимает во внимание не только территориальные различия языка, но и особенности в речи отдельных социальных групп, и все это он стремится охватить в своей «Грамматике», не делая при этом насилий над живой русской речью.
Насколько он отдавал себе отчет в сложности состава русского языка, говорит та характеристика его, которую он дает, правда позже (в 1764 г.), в своем отзыве о работах Шлецера. Знать русский язык — это значит, по Ломоносову, знать «общей российский и славенский язык», «все провинциальные диалекты здешней империи, также слова, употребляемые при дворе, между духовенством и между простым народом».
Такое знание языка было у него в период работы над «Грамматикой». Живая речь, во всем ее разнообразии, входила в научный кругозор Ломоносова. Обращает на себя внимание его интерес к фонетической стороне речи, т. е. опять-таки к живому ее звучанию.
На ряду с живой русской речью, с языком церковно-славянским, на почве которых должен был вырасти литературный русский язык, Ломоносов учитывает еще литературные традиции в самом русском, или, как его называет Ломоносов, «великороссийском» языке. Ломоносов не отождествлял церковно-славянский язык и древнерусский литературный язык, не связанный непосредственно с церковью и являющийся по преимуществу языком светской письменности — летописей, законов и т. п. В своих возражениях Тредиаковскому относительно окончаний множественного числа имен прилагательных он пишет: «на е множественное окончание во всех родах употребительнее нежели на я. Что явствует во всех печатных и рукописных гражданских книгах, от велижороссиян сочиненных, каковы суть уложения, «указные книги и другие печатные и письменные права и указы». В § 119 «Грамматики» он снова возражает Тредиаковскому и снова мотивирует свой взгляд на окончание множественного числа имен прилагательных тем, что «употребление буквы е и я в прилагательных множественного числа всех родов в великороссийском языке от начала исторических и других писателей московских, особливо от времени великого государя царя Иоанна Васильевича, и до нынешнего времени непрерывно было... и ныне от знающих писателей содержится».
Совершенно четко разделяет Ломоносов древнерусский литературный язык и язык древнеславянокий в уже упоминавшемся отзыве о Шлецере: «Он [Шлецер] поистинне не знает, — пишет Ломоносов, — сколько речи, в российских летописях находящиеся, рознятся от древнего моравского языка... ибо тогда российский диалект был другой, как видно из древних речений в Несторе, каковы находятся в договорах первых российских
309

Титульный лист собрания сочинений Ломоносова, изд. 1757 г. (Москва).
310
князей с царями греческими. Тому же подобны законы Ярославовы, „Правда русская“ называемые».
У Ломоносова отсутствует умозрительность, догматизм в разрешении языковых проблем. Формулируя те или иные нормы или законы языкового «употребления», он всегда мотивирует их исторически сложившимися традициями. Термин «употребление» означает для него те только практику живой разговорной речи, ибо в ней мажет быть много случайного, преходящего, а то, что в языке является устойчивым, закономерным, исторически оправданным. Именно, исходя из сложившихся в языке традиций, он оспаривает взгляд Тредиаковокого на окончание имен прилагательных во множественном числе.
Теория языка, таким образом, раскрывает закономерности, существующие в языке. Она ничего не навязывает языку, а является обобщением и суммированием тех явлений, которые складываются в нем в процессе исторического развития. Если теоретические доводы оторваны от действительности, не вытекают из самого языкового «употребления», то они не окажут никакого воздействия на язык. «К постановлению окончаний прилагательных множественных имен, — пишет Ломоносов, — никакие теоретические доводы не довольны; но как во всей грамматике, так и в сем случае, одному употреблению повиноваться должно».
«Грамматика» Ломоносова была первой грамматикой живого русского языка. Ее научность вытекла, с одной стороны, из обилия используемого им материала, с другой стороны — из его умения обобщать этот материал и гениально предвидеть пути дальнейшего языкового развития. «Грамматика» Ломоносова сыграла очень большую роль в развитии русского языка. Популярность ее вне сомнения; она выдержала 14 изданий.
Если «Грамматика» ставит своей целью показать «как говорить и писать чисто российским языком, по лутчему рассудительному его употреблению», то целью «Риторики» является приведение русского языка, который «имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает... в такое совершенство, каковому в других удивляемся», т. е. иначе говоря, целью ее является раскрытие больших лексических богатств русского языка, синтаксической его гибкости, яркой образности, пригодности его для деловой речи, для поэзии, для ораторского искусства в самых разнообразных его формах, для философских рассуждений и для науки. И действительно, «Риторика» — это, с одной стороны, учебник стилистики, который научает «употреблению украшенного слова» — в этом плане Ломоносов довольно широко пользовался трудами своих предшественников — «Риториками», напечатанными на латинском языке Коссэном (1580—1651), Помеем (1619—1673) и работой Готтшеда «Ausführliche Redekunst», — с другой стороны, — это живая демонстрация богатства русского языка. Тут и обилие переводов с других языков — греческого, латинского, немецкого, французского, тут и образцы собственного творчества, причем в самых разнообразных жанрах — описание, рассуждение, поэтические произведения. Обилие переводного материала в «Риторике» — это не результат творческой пассивности Ломоносова; переводы даны им, конечно, совершенно намеренно. Именно в переводах обнаруживается, что самые высокие образцы словесного искусства могут найти адэкватное выражение в русском языке. Попутно «Риторика» преследует еще одну цель: она содержит в себе большой материал, имеющий философско-просветительский, а иногда и прямо политический характер. Приведем некоторые примеры. В § 71 приводится отрывок из речи Демосфена для того, чтобы показать значение распространенных сравнений. Этот же отрывок приведен у Готтшеда, но Ломоносов обрывает его как раз в
311
том месте, где кончается часть, достигающая наибольшей силы в политическом смысле: «Что заключаю я из сего? Сие, что великое дружество и поверенность с тиранами вольному народу отнюдь бесполезны». Слова «свободные республиканцы» переведены словами «вольный народ». В §122 приводится следующий отрывок из Цицерона, которого нет ни у Коссэна, ни у Готтшеда: «Били розгами среди Мессинской площади гражданина римского. Между тем никакого стенания, никакого крику от бедного сего человека не было услышано, кроме сего: я римский гражданин. Он чаял, что воспоминанием сего гражданства отвратит все удары... О сладчайшее имя вольности! О преизящнейшее право нашего града!». В § 212 мы находим ряд изречений: «Кто лютостью подданных угнетает, тот боящихся боится, и страх на самого обращается». «Кто породой хвалится, тот чужим хвастает» и пр. В § 238 приведен отрывок из Цицерона, которого нет ни у Помея, ни у Коссэна, ни у Готтшеда, причем дается он в качестве примера «восклицания»: «Какие публичные игры или дни были веселее оных, когда в каждом стихе народ римский с великим восклицанием воспоминал Брута. Отсутствовал сам избавитель, но присутствовала память вольности, которая образ Брутов представляла... О коликое позорище, не токмо людям, но волнам и берегам плачевное. Отходит избавитель из отечества, остаются в нем разорители». В § 241, в качестве примера для иллюстрации «вопрошения», приводится очень выразительный отрывок из Демосфена (этот же отрывок дан и у Коссэна): «Не без довольной причины тогда греки так свою вольность защищать охотились, как ныне терпеть порабощение. Было тогда нечто, было, афиняне, в сердцах народа, чего нет ныне, что персидские сокровища побеждало, что греческую вольность утвердило, что в морских и сухопутных сражениях не ослабевало». В § 247 для иллюстрации соединения «обращения», «восклицания», «повторения», «воспрошения» и «напряжения» дан отрывок из Цицерона, которого нет ни у одного из авторов «Риторик», которых использовал Ломоносов в своем труде: «О вы бессмертные боги! Какое вы окончание нам показываете? Какую надежду даете республике? Кто найдется таким мужеством одаренный, который бы хотел в правде за республику заступиться, который бы показывал услуги добрым людям...» Исключительный интерес представляет собой § 271, в котором в образной форме излагаются философские воззрения на мир, даются сведения об анатомическом строении человеческого тела и т. п. В § 273 помещено переложение 145-го псалма, а перед ним в качестве примера «разделительного силлогизма» даны следующие слова из него: «Или уповать на бога или на князей человеческих, но уповать на них не надежно, следовательно, лутче уповать на бога». Таким образом, в «Риторике» мы находим целый ряд таких литературных образцов, которые интересны не только со стороны тех или иных «риторических» приемов, но и со стороны их идейно-политического содержания. Греческие и римские авторы дают Ломоносову возможность, хоть и не от своего лица, упоминать о тиранах, республике, свободе, борьбе народов за вольность. Недаром Радищев говорит о том, что знание греческого и латинского языков делало Ломоносова «согражданином Афин и Рима».
В своей «Риторике» Ломоносов черпал материал из многочисленных авторов — риторов, историков и поэтов. В той или иной степени им использован Гомер, Геродот, Демосфен, Анакреон, Виант, Аристид, Лукиан, Елиан, Филострат, Вас. Селевкийский, Феофилакт, Иоанн Златоуст, Цицерон, Вергилий, Гораций, Овидий, Марциал, Теренций, Персии, Ювенал, Тацит, Плиний, Курций, Сенека, Клавдиан, Тертулиан, Локтанций, Эразм Роттердамский, Камоэнс и ряд других. Многие из цитат
312
Ломоносов заимствовал у Помея, Коссэна, Готтшеда, многие он приводил сам. Следует отметить, что язык ломоносовских переводов из Гомера, которого Ломоносов считал первым поэтом («Старшего всех стихотворцев считаю Гомера»), Анакреона, Вергилия, Овидия, Горация очень прост и выразителен. Этими переводами Ломоносов, повидимому, старался доказать что русский язык не уступает ни греческому, ни латинскому. Что касается его собственных произведений, то в выборе отрывков из них он был чрезвычайно строг и приводил в «Риторике» лишь самые лучшие образцы своего поэтического творчества. Поэтому «Риторику» можно считать собранием образцовых поэтических произведений, которые должны были доказать, что русский язык не только «ни единому европейскому языку не уступает», но сочетает в себе «великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка». Когда Ломоносов писал свое «Письмо о правилах российского стихотворства», он, заглядывая вперед, говорил, что русский язык не уступает ни греческому, ни латинскому, ни немецкому. После же выхода его «Риторики» об этом можно было говорить с полным правом. Интересно, что в «Риторике» Ломоносова совершенно не даны образцы произведений современных ему французских и немецких поэтов. Только один раз дается прозаический перевод оды «На взятие Намюра» Буало. Ломоносов использовал только образцы классической литературы, делая их достоянием русских читателей. Никого из русских поэтов, кроме самого Ломоносова, мы в «Риторике» не находим. Вероятно, он не считал их достойными стоять рядом с классиками.
«Риторика» Ломоносова пользовалась большим успехом как у современников, так и у последующих поколений. Это была первая «Риторика» на русаком языке. Она быстро разошлась, и в 1756 г. Ломоносов обратился в академическую канцелярию с просьбой переиздать ее, о чем сохранилась запись в журнале академической канцелярии. Однако переиздали ее только в 1764 г.
«Риторика» Ломоносова (1748) или «Краткое руководство к красноречию» — это тот труд, который с наибольшей полнотой раскрывает теоретико-литературные взгляды Ломоносова (первая редакция этого труда — «Краткое руководство к риторике» 1744 г. — осталась в рукописи). В § 10 своего «Краткого руководства» Ломоносов указывает, что труд этот должен состоять из трех частей: из «Риторики», в которой будет изложено «Учение о красноречии вообще, поколику оно до прозы и до стихов касается», из «Оратории», в которой будет дано «наставление к сочинению речей в прозе» и из «Поэзии», т. е. «учения о стихотворстве». Но Ломоносов не выполнил своего плана и ограничился лишь тем, что написал первую часть задуманного им труда. Впоследствии, в своих годовых отчетах о работе за 1751 и за 1752 гг. он упоминает об «Оратории» и о «Поэзии». В отчете за 1751 г. он пишет: «Диктовал студентам сочиненное мною начало третьей книги красноречия о стихотворстве вообще»; в отчете за 1751 г. говорится: «Оратории второй части красноречия сочинил 10 листов». Очевидно, «Оратории» Ломоносов не закончил, а теорию поэзии почти не начинал. Надо думать, что Ломоносов не закончил этих трудов не из-за отсутствия времени. Все, что представляло для него интерес, все, что ему казалось нужным и полезным для развития национальной культуры, — все это заканчивалось и оформлялось. Если работа почему-либо не заканчивалась, то от нее, во всяком случае, сохранялись планы, заметки и т. д. Между тем, от этих работ не осталось никаких следов. Очевидно, интерес к этим работам у Ломоносова был невелик. Вернее
313
всего, что предполагаемые им две части, «Оратория» и «Поэзия», были только данью традиции, идущей еще из духовных академий, требовавшей, чтобы общая наука о красноречии состояла из двух частей: «риторики» и «пиитики». Ломоносов не случайно не разработал «Учения о стихотворстве». Взгляды Ломоносова на сущность поэзии, на соотношение ее с деловой прозаической речью делали совершенно лишним создание традиционного, в большей или меньшей мере, курса по теории поэзии. Его понимание поэзии лишало его возможности создать курс «пиитики» по типу учебных пособий, которые ему самому пришлось изучать в московской академии. По этой же причине он не мог создать и отдельную «науку о поэзии», подобную той, которую создали Буало, Готтшед или Сумароков.
Несмотря на то, что у Ломоносова нет специальных трудов, посвященных разработке вопросов теории поэзии, у него все же имеется более или менее продуманная система взглядов на поэтическое искусство, которая изложена в «Риторике». Следует отметить уже и сейчас, что не все особенности его собственного творчества, порой даже очень существенные, находят свое отражение в его теоретико-литературной системе. Многое в его собственном творчестве не стало предметом его обобщения, не превратилось в эстетический кодекс.
Первое принципиальное положение, характеризующее взгляд Ломоносова на поэзию, состоит в том, что поэзия, как искусство, ничем существенным не отличается от прозаической деловой или ораторской речи, поскольку средством выражения как той, так и другой является слово. «Слово, — пишет Ломоносов, — двояко изображено быть может, прозою или поемою». Раз человеческое слово является обозначением «идей, подлинные вещи или действия изображающих», то поэзия и проза, представляющие собой лишь разные способы организации речи, обе дают некоторую сумму идей или представлений об окружающих человека явлениях. Одни и те же явления могут быть объектом описания и в поэзии и в прозе, или, как говорит Ломоносов, «об одной вещи можно писать прозою и стихами». Поэзия перестает быть какой-то обособленной, замкнутой в самой себе сферой человеческого творчества. К ней могут быть предъявлены те же требования, что и к прозе, она должна выполнять ту же функцию, что и проза, и если ценность прозы в первую очередь определяется обилием в ней идей, то и поэзия будет тем значительнее, чем больше она даст представлений о «чувствительных вещах». «Через силу соображения из одной простой идеи расплодиться могут многие, а чем оных больше, тем и в сочинении слова больше будет изобилия», — пишет Ломоносов.
Взгляд Ломоносова на искусство выводит его за пределы классицизма, ибо обращает искусство к миру вещей, без указания на необходимость подчинения этого мира нормам, предписанным человеческим разумом. Та же мысль выражена им еще более отчетливо в § 7 его «Риторики»: «Материя риторическая, — пишет Ломоносов, — есть все, о чем говорить можно, т. е. все известные вещи на свете». Для искусства не существует таких явлений, которые не могли бы в них быть воссозданы.
Ломоносов не ограничивается только этим общим определением, а уточняет и поясняет его. «Все известные вещи на свете» — это не только явления природы, но и явления человеческой жизни, в их прошлом и настоящем. «Ежели кто имеет большое познание настоящих и прошедших вещей, т. е. чем искуснее в науках, у того больше есть изобилия материй к красноречию. И так, учащиеся оному великое будут иметь в своем искусстве вспоможение, ежели они обучены по последней мере истории и нравоучению». В своем значительно более позднем труде, во «Втором
314
прибавлении к Металлургии» он пишет, что «науки наукам много весьма взаимно способствуют, как физика химии, физике математика, нравоучительная наука и история — стихотворству». Таким образом, в основе поэтического творчества лежит знание подлинных вещей, и чем больше представлений поэзия вносит в сознание читателя, тем она значительнее. Ломоносов не дошел, конечно, в раскрытии этой формулы, как и в собственном своем творчестве, до осознания необходимости изображения в искусстве человека, реальных человеческих отношений. Тем не менее, это суждение Ломоносова говорило о необходимости расширения круга тем в поэзии. Поскольку Ломоносов видит назначение поэзии (как и прозы) в том, чтобы она «собирала» «слова», которые «не без разбору принимаются, но от идей подлинные вещи или действия изображающих происходят», постольку основным вопросом для него является вопрос «содержания». Этому вопросу посвящен весь первый раздел «Риторики», который носит название «Изобретение». Ломоносов показывает в нем, как поэт или оратор может расширять тему своего произведения введением «первых», «вторичных» и «третичных» идей. Понятие, входящее в тему («термины»), вызывает по ассоциации целый ряд представлений; эти представления, в свою очередь, могут вызывать новые представления, «вторичные идеи» и т. д. Ломоносов показывает, какое огромное количество представлений может вызвать, например, тема — «неусыпный труд препятства преодолевает». При перечислении первых и вторичных идей Ломоносов движется чисто рассудочным путем, но интересно отметить, что больше всего представлений взято им из области природы. Термин — «неусыпность» вызывает следующие первые идеи — «богатство», «утро», «вечер», «река», «леность», «гульба». Эти первые идеи, в свою очередь, вызывают новые представления — вторичные представления — «темнота», «холод», «роса», «звери из нор выходящие», «веселие», «весна», «ясные дни», «сады», «луга», «игры», «свидания» и т. п. «Первые» и «вторичные идеи» являются для Ломоносова средством обогащения содержания произведения, средством выхода за пределы узкой темы. Обилие представлений — вот что должно давать поэтическое произведение. Как мы увидим впоследствии, свои собственные оды он строит, исходя из этих своих эстетических принципов, и этим самым значительно обогащает их содержание. Ода с ее ограниченной темой, благодаря ассоциациям, превращается в многотемное произведение. Указывая пути для накопления представлений, Ломоносов, однако, боится излишнего загромождения произведения такими представлениями, которые не находятся в логической связи с темой его и которые являются результатом насильственного рассудочного введения представлений. В § 46 он пишет: «...При сопряжении простых идей не должно себя излишне принуждать, чтобы они токмо по предложенным (§ 27) (ради одного почти примеру) правилам сопряжены были; но последуя здравому рассуждению (которое одно только в сем случае действительно) надлежит стараться, чтобы из соединения оных происходили натуральные и с разумом согласные мысли, а не принужденные, или ложные и вздорные. Сего убежать тот весьма не может, кто не имеет довольного природного рассуждения, логикою подкрепленного, которое после грамматики есть первая предводительница ко всем наукам».
Ломоносов в своей «Риторике» как будто предвидит, какие стороны его собственного творчества будут вызывать особенно резкие нападки, и тут же раскрывает подлинный их смысл. Мы уже видели, что он предостерегает поэтов и риторов от излишней загроможденности произведений представлениями, не связанными с темой. В § 51 он осуждает авторов за «надутость» и «растянутость» слова, за тавтологичность, не дающую
315
развития темы, т. е. как раз за то, за что его высмеивают Сумароков и Елагин: «Умножительное распространение пополняет слово, а не надувает; или растягивает. В сем погрешают многие из новых сочинителей, когда отложив меру принуждают себя, чтоб распространить слово. Никакого погрешения больше нет в красноречии, как непристойное и детское, пустым шумом, а не делом, наполненное, многословие». Ломоносов видит опасность для авторов в том, что в их произведениях будет «больше играния в речениях, нежели силы». В тесной связи с этими мыслями Ломоносова находятся мысли, изложенные им в разделе о «Витиеватых речах». Самое понятие «витиеватые речи» он отождествляет с понятием «острая мысль», т. е. опять-таки указывает на смысловую сторону этого приема. Считая возможным использование «витиеватых речей», хотя «великие начальники красноречия, Гомер, Демосфен и Цицерон» их мало употребляли, Ломоносов тут же, как и тогда, когда речь шла «об изобретении идей», предостерегает авторов от чрезмерного употребления этих «речей» в своих произведениях. Двигаясь в этом отношении за Готтшедом, Ломоносов резко отзывается об итальянцах, с их пристрастием к «витиеватым речам» (речь идет о последователях Марино). Чувство меры — вот то, что, по мнению Ломоносова, совершенно необходимо автору. А приобрести его можно только чтением хороших образцов, т. е. воспитанмем вкуса. Ломоносов осуждает тех авторов, у которых «витийство», «орнамент» выступают на первый план, у которых они имеют надуманный характер: «Не токмо сие требуется, — пишет Ломоносов, — чтобы замыслы были нечаянны и приятны, но сверхь того весьма остерегаться должно, чтобы за ними излишно гоняючись не завраться, которой погрешности часто себя подвергают нынешние писатели: для того, что они меньше стараются о важных и зрелых предложениях, о увеличении слова чрез распространения, или о движении сильных страстей, нежели о витийстве». Примеры «витиеватого рода слова» он находит в «славенских церковных книгах и в описаниях отеческих с греческого языка переведенных, а особливо прекрасных стихах и канонах преподобного Иоанна Дамаскина». Говоря «о нынешних писателях», Ломоносов, вероятно, не столько думает о поэтах, сколько о церковных проповедниках.
Ставя вопрос о тропах, он хотя и указывает, что использованием их достигается «великолепие», но и в этом случае опять отмечает необходимость чувства меры. Мысль, основная тема всегда должна быть в произведении обнажена, ничто не должно ее затемнять, ничто не должно уводить от нее.
Очень мало внимания уделяет Ломоносов вопросу о поэтических жанрах, т. е. одному из основных вопросов поэтики классицизма. Он перечисляет возможные поэтические жанры, но делает это очень хаотично, в разных параграфах своего труда, называет те жанры, которые являлись традиционными в классицизме и в тех «пиитиках», по которым обучались в духовных академиях. Резко осуждаются им «скаски» и «романы» (§ 151), которые «никакого учения нравов и политики не содержат и почти ничем не увеселяют». Традиционная классификация литературных жанров дается им и в рассуждении «О пользе книг церковных в российском языке». Ломоносова интересуют те вопросы искусства, которые относятся в равной мере ко всем жанрам.
Очень любопытны те параграфы «Риторики», в которых даются указания относительно звуковой стороны поэтической речи (§§ 170, 173). Ломоносов удивительно целостно воспринимает язык и не только в смысловой стороне слова, но и в его звуковой оболочке усматривает элементы выразительности. Высказывая свои взгляды относительно эвфонии, он вместе с тем чрезвычайно осторожен. Он опасается навязывать риторам и
316
поэтам свои суждения о тех или иных звуках в русском языке, и поэтому смысл этих параграфов заключается лишь в том, чтобы обратить их внимание на звуковую сторону слова. Как и во всех других вопросах, он и здесь совершенно лишен догматизма; кроме того, он высказывает опасение, чтобы интерес к звуковой стороне речи не вытеснял интереса к «идеям», к «содержанию». После того как он охарактеризовал выразительность отдельных звуков, он пишет следующее: «Однако все подробну разбирать, как будто так и не весьма нужно. Всяк, кто слухом выговор разбирать умеет, может их употреблять по своему рассуждению; а особливо, что сих правил строго держаться не должно, но лутче последовать своим идеям и стараться оные изображать ясно».
Несмотря на то, что ни в одном из своих трудов, посвященных теории поэзии, Ломоносов прямо не высказывается о преимуществах того или иного жанра, однако и в «Риторике» и в других его работах чувствуется стремление к монументальным гражданственным жанрам в искусстве. Истинное искусство для Ломоносова — искусство героическое, питающееся великими делами прошлого и настоящего, прославляющее силу отечества и доблесть его героев. Дух Петровской эпохи с ее размахом, с ее широкими перспективами, с грандиозностью происшедших в стране перемен, общенациональный характер проводившихся Петрам реформ, — все это послужило причиной, побуждавшей к созданию монументального эпического искусства, которое говорило бы о том, чего достигла Россия и что ее ждет впереди. И Феофан Прокопович, и Тредиаковский и Ломоносов мечтают об эпосе, который должен занять подобающее ему место в русской литературе. Ломоносов, как и Феофан Прокопович, уверен в том, что и до Петра Россия была богата героическими делами, которые искусство обязано запечатлеть. Именно поэтому Ломоносов выбирает из русской истории те эпизоды, которые могут дать сюжеты для исторических картин. Среди этих эпизодов он дает «Победу Александра Невского над немцами ливонскими, на Чудском озере апреля 5-го дня», «Покорение новгородцев под самодержавство», «Козьму Минина и Пожарского», «Избавление Киева от осады печенежской смелым переплытием россиянина через Днепр» и др.
Всякий раз, когда Ломоносов говорит о необходимости искусства для народа, он подчеркивает, что искусство является хранителем преданий о героическом прошлом народа, о значительнейших вехах в его истории. В «Рассуждении о пользе книг церковных», в «Посвящении», предпосланном «Риторике» в «Слове благодарственном е. и. в. на освящении Академии художеств», в «Разговоре с Анакреоном» и даже в «Слове о происхождении света» — всюду говорится о том, что высокое назначение словесных наук (как и скульптуры и живописи) состоит в «описании славных дел великих героев». Воспевая героев, искусство создает славу своему народу. Заканчивая свое рассуждение «О пользе книг церковных», Ломоносов пишет: «Сие краткое напоминание довольно к движению ревности в тех, которые к прославлению отечества природным языком усердствуют, ведая, что с падением оного без искусных в нем писателей немало затмится слава всего народа. Где древний язык ишпанский, галльский, британский и другие с делами оных народов... бывали и там герои, бывали отменные дела в обществах... но все в глубоком неведении погрузились... счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами. Ибо хотя их владения разрушались и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев».
317
Не только в своих рассуждениях, но и в поэтических произведениях Ломоносов утверждает необходимость создания гражданственного, нужного народу искусства. Декларацией подобного искусства является его известнейшее стихотворение — ответ на первую оду Анакреона из «Разговора с Анакреоном»:
Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежний
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам,
И сладкими славами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен;
Героев славой вечной
Я больше восхищен.
Искусство для Ломоносова — одна из (важнейших форм человеческой деятельности; в нем, так же как в науках, воплощается жизненная сила народа, раскрывается его творческая мощь. Уважение к народу является результатом не только его военной доблести, но, главным образом, процветания в нем наук и искусств. В своей незаконченной статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России» (написано примерно в 1753 г.) он пишет: «Коль полезно человеческому обществу в словесных науках упражнение, о том свидетельствуют древние и нынешние просвещенные народы. Умолчав о толь многих известных примерах, представим одну Францию, о которой по справедливости сомневаться можно, могуществом ли больше привлекало к своему почитанию другие государства, или науками, особливо словестными, очистив и украсив свой язык трудолюбием искусных писателей».
Придавая такое большое значение языку и поэзии, Ломоносов своим «Письмом о правилах российского стихотворства», «Грамматикой», «Риторикой», рассуждением «О пользе книг церковных в российском языке» сыграл огромную роль в деле создания русского литературного языка, поэзии и прозы.
4
Исследователи часто приводят фразу Ломоносова «Стихотворство моя утеха, физика — мои упражнения» в доказательство того, что литературная деятельность не являлась для него чем-то органическим, внутренне необходимым, что он «слагал» свои оды больше по принуждению, чем по вдохновению, и т. п.
Между тем, самый характер произведений Ломоносова, в которых очень сильно звучат лирические мотивы, его тщательная работа над ними, создание новых жанров, не «узаконенных» поэтикой классицизма, — все это говорит о серьезном отношении его к своему поэтическому творчеству.
Среди произведений Ломоносова всегда легко отличить те, которые не представляли для него интереса и которые носят сугубо официальный
318
характер, от тех, в которых он раскрывает свое авторское «я». Так, например, печать принуждения лежит на всех его «надписях» (за исключением тех, которые относятся к Петру). Они бедны по своему содержанию, тяжеловесны по языку и удивительно однообразны. Две оды 1741 г., ода 1764 г. в честь Екатерины II, многие строфы в других его одах тоже лишены полета мысли и поэтического воображения. Но, на ряду с такими произведениями, у Ломоносова были и другие, в которых мы находим прекрасный, звучный, отточенный язык, движение творческой мысли, богатое содержание. Этими качествами отличаются не только «Переложения» псалмов, «Размышления» и «Послания» к И. И. Шувалову, но и целый ряд его «торжественных» од.
Ломоносов обладал своим литературным стилем, от которого он не отступал на протяжении всей своей жизни. Он создавал свои поэтические произведения в соответствии со своими взглядами на поэзию, а порой в своем поэтическом творчестве поднимался выше своих теоретических воззрений на нее. Вместе с тем, Ломоносов не всегда достигал в своем творчестве уровня своих философских идей. В философии он преодолевал рационализм; он исходил из признания «чувственного мира», рассматривал мир в многообразии его явлений и видел связь между ними. В его научных трудах мир красочен и богат, и в них он зачастую выступает как поэт, прославляющий красоту и «гармонию» мироздания.
Большое значение для Ломоносова, как уже говорилось выше, имела философия Лейбница. Она открывала новые просторы для искусства. Правда, она не приводила еще вплотную к изображению человеческого общества и человека как такового, но она приобщала к эстетическому восприятию природы, она допускала включение философоко-лирической темы в поэзию, помогала освобождаться от абстрактности и рассудочности, так как обращала сознание поэта к отдельным единичным явлениям, «чувствительным вещам». Некоторые стороны в творчестве Ломоносова связаны именно с этим новым миропониманием, но этого нельзя сказать о поэзии Ломоносова в целом, ибо в ней еще сохранились характерные для классицизма черты — абстрактность, рассудочность, статичность.
Поэтическая деятельность Ломоносова началась во время его пребывания в Германии. Часть из того, что им было написано в это время, приведена в качестве примеров в «Письме о правилах российского стихотворства» и позже в «Риториках». Перед нами отрывки из произведений, в большинстве случаев лирических. Это или «идиллическая» лирика или элегическая.
Сюда относятся такие, например, строфы:
Нимфы окол нас кругами
Танцовали поючи,
Всплескиваючи руками
Нашей искренней любви.
Веселяся прибегали,
И цветами нас венчали.
Или:
Весна тепла ведёт,
Приятный Запад веет.
В моем лишь сердце лёд
Грусть прочь забавы бьёт.
В тексте «Письма» Ломоносов приводил не только целые строфы, но и отдельные стиховые строчки, написанные различными размерами, — анапестом, дактилем, смешанными стопами. Два замечания его в
319
«Письме» говорят о том, что кроме произведений, из которых он привел отрывки, у него были и другие. Некоторые из них, очевидно, вошли в «Риторику». Обращает на себя внимание тот факт, что уже тогда Ломоносов писал в разных поэтических жанрах.
Отрывки, приведенные Ломоносовым в «Письме о правилах российского стихотворства», показывают, что лирические темы любовного характера у него преобладали в то время. Интерес к любовно-сентиментальной лирике проявляется у Ломоносова и позже. Так, в своих «Риториках» (1744—1748) он приводит две фольклоризованные песни такого именно характера. Одна из них:
Уже солнышко спустилось
И скрылось за горой.
(Риторика, 1748, § 62.)
Другая песня:
Чем ты дале прочь отходишь,
Грудь мою жжет большой зной.
Тем прохладу мне наводишь,
Естьли ближе пламень твой.
(Риторика, 1744, § 76; Риторика, 1748, § 135.)
В отношении первой из них делалось предположение, что она принадлежит самому Ломоносову. Но это мало вероятно. А. Будилович («Ломоносов, как натуралист и филолог»), указывая на то, что Ломоносов в конце отрывка пишет «и прочая», приходит к выводу, что это не его произведение, а распространенная тогда песня (кстати, она впоследствии была включена в сборник песен Чулкова). Второй отрывок, повидимому, тоже взят из песни.
Хотя в «Письме» даются только отрывки, но и по ним можно судить о том, что в это время Ломоносов писал простым, живым языком, несколько фольклоризованным:
Белеет будто снег лицом,
Мне моя не снилась доля.
Возможно, что к этому же времени относится отрывок, приведенный Ломоносовым в § 66 «Риторики» 1748 г. Как правильно замечает Будилович, он очень напоминает ранние поэтические опыты Ломоносова:
Уже несносный хлад
С полей не гонит стад;
Но трав зеленый цвет
К себе пастись зовет.
По твердым вод хребтам
Не бьется вихрем снег,
Но тщится судна бег
Успеть во след волнам.
Простота языка и синтаксиса этого отрывка наводит на мысль о том, что перед нами перевод. Как празило, именно в переводах Ломоносову удавалось добиться максимальной отточенности языка. Таков именно язык перевода из Анакреона («Ночною темнотою покрылись небеса»), который Ломоносов сделал, очевидно, еще во время пребывания в Германии, и др.
Мотивы личной лирики сохраняются в творчестве Ломоносова и в дальнейшем, хотя отодвигаются на задний план, уступая место гражданственным мотивам и жанрам.
320
Ломоносов вошел в историю русской литературы, главным образом, как писатель, создавший и утвердивший оду. Этот литературный жанр был господствующим в течение всего XVIII в. и в некоторых своих элементах продолжал свое существование и в XIX в. Внутренняя противоречивость и сложность этого литературного жанра привели к тому, что в своем историческом движении он обнаружил много реакционных, тормозивших литературное развитие свойств. Это часто мешало правильно разглядеть его подлинную сущность, раскрыть те прогрессивные начала, которые в нем имелись и которые перестали ощущаться благодаря измельчанию этого жанра в творчестве многочисленных одописцев второй половины XVIII в. В истории русской литературы ода сыграла бо́льшую роль, чем где-либо на Западе. И именно в России с особой ясностью сказались сильные и слабые стороны этого литературного жанра. Ода приобрела большое значение в русской литературе в значительной степени благодаря Ломоносову. Дело, конечно, не в самом литературном жанре, а в той сумме идей, которые несло с собой Ломоносовское творчество, в степени их жизненности и перспективности, в принципах их поэтического воплощения.
Все же большого влечения к сочинению «торжественных» од у Ломоносова, повидимому, не было. Об этом говорит тот факт, что он писал их только в связи с торжественными датами, с официальными празднествами, по случаю, как говорил сам Ломоносов, «торжественного изъявления радости», тогда, когда их от него ждали или когда ему поручала составление их Академия Наук. Он сочинял не больше двух од в год (только в 1741 и 1742 гг. он сочинил по три оды), а в некоторые годы и совсем их не писал (1751, 1753, 1755, 1756, 1758, 1760 гг.). Большинство од Ломоносова связано с именем Елизаветы Петровны. Он писал их по случаю дня ее восшествия на престол, рождения, тезоименитства и т. п. Всего он посвятил ей 10 од. Несколько од он посвятил Петру Федоровичу, одну Павлу Петровичу, две Екатерине II, две годовалому «императору» Иоанну Антоновичу, свергнутому Елизаветой в 1741 г.
В России до Ломоносова (во второй половине XVII в., в первой трети XVIII в.) были широко распространены приветственные стихи панегирического характера, которые в дни «торжественных» дат преподносились царям от имени духовных лиц или духовных учебных заведений. Позже такие приветственные стихи писались и от имени Академии Наук (Штелином, Юнкером и другими поэтами Академии). Подобные произведения в большинстве случаев не преследовали литературных целей, а являлись данью установленному ритуалу. Содержание их укладывалось в рамки тех поводов, по которым они писались. Поэты прославляли царей, не давая никакого развития темы, не внося никаких моментов конкретизации ее. Только в тех случаях, когда один царь приходил на смену другому через насильственное его свержение (как это было с Елизаветой Петровной, свергнувшей Иоанна Антоновича), поэты «бурно» провозглашали «новые времена» и яростно «обличали» только что правивших, а ныне свергнутых правителей.
Как показывают оды Ломоносова, он не только владел техникой составления подобных приветствий «на случай», но и теми поэтическими приемами, которые стали традиционными в европейской оде, благодаря Малербу, Буало и Гюнтеру. Сохраняя панегиризм своих предшественников-одописцев, условную восторженность, гиперболичность и абстрактность стиля, перенося в свои оды те поэтические формулы, которые стали устойчивыми в европейской одической традиции, Ломоносов вместе с тем
321
созздает новый тип оды. Сочиняя оду по тому или иному поводу, он всегда выходил за пределы повода, превращая оду в содержательное многотемное произведение. Как правило, в его оде образ прославляемого монарха отступает на задний план, а его место заступает Россия, как таковая. Он расширяет тематику этого жанра, внося в свои оды такие проблемы, которых ода до него не знала. Он пишет о том, что создает благополучие страны и ее славу; он прославляет разум, науку, прогресс, человека, подчиняющего себе природу, описывает природные богатства страны, прославляет труд, разрешает государственные проблемы, намечает перспективы развития страны, дает оценку политических событий и стремится своими произведениями воздействовать на политику царей. Обогащение содержания оды, приближение ее к жизни способствовали тому, что она становилась конкретнее, менее условной и традиционной, менее абстрактной по своей форме. Но при всем том Ломоносов все же оставался в границах этого жанра. Обязательный в оде панегиризм уводил его от живой конкретной противоречивой действительности и тем самым суживал ее познавательную значимость, толкая на путь абстрактного, схематического и условного воспроизведения описываемых явлений. Ломоносов так же, как и другие поэты-одописцы, абстрагируясь от реальных жизненных явлений, заключал жизнь в устойчивые поэтические формулы, автоматически переносимые из одной страны в другую, от одного поэта к другому, из одной оды в другую. Именно поэтому сквозь словесную ткань Ломоносовских од не всегда легко уловить, о каких конкретных явлениях идет речь. Интересно отметить, что абстрактный характер оды подчас делает убедительным самый панегиризм ее, так как поэт говорит о самых общих вещах, взятых вне времени и пространства (о мире вообще, о благополучии вообще, о процветании вообще и т. п.).
Ломоносову, так же как другим поэтам-одописцам, неоднократно приходилось сочинять оды по самым ничтожным случаям, что делало эти произведения совершенно беспредметными, лишенными содержания (например ода 1741 г. в честь годовалого Иоанна Антоновича), и так же, как им, ему приходилось приветствовать сменяющих друг друга монархов и выражать «негодование» по адресу тех из них, которые оказывались свергнутыми и которых он совсем недавно еще прославлял (Анна Ивановна, Иоанн Антонович, Петр III).
В отличие от очень многих писателей, у Ломоносова нельзя наметить отдельных этапов в развитии его творчества. Уже в самом начале своей поэтической деятельности Ломоносов выявляет те черты своей художественной системы, которые сохраняются на протяжении всего его творческого пути. То, что наметилось в оде 1739 г., сохранилось в его творчестве до последних его дней.
В то время, когда Ломоносов написал свою первую оду (1739), в странах Запада этот жанр или ушел уже в прошлое, как это было во Франции, или постепенно отмирал, как это было в Германии. Живя в Германии, Ломоносов, конечно, не мог не знать, что в литературе появились новые жанры, новые темы, что ода перестала быть господствующим жанром. Знал и читал он, вероятно, не только Бессера, Кенига, Пича, но и Броккеса, Гагедорна и Галлера. По неоднократным свидетельствам Штелина, Ломоносов «от обхождения с тамошними студентами, и слушая их песни, возлюбил немецкое стихотворство. Лутчей для него писатель был Гюнтер. Многих знаменитейших стихотворцев вытвердил наизусть». Между тем, Ломоносов, отдавая предпочтение перед всеми поэтами Гюнтеру, , избирает для себя жанр, который для Гюнтера не был характерен. Очевидно, в выборе жанра Ломоносов руководствовался не тем, что он мог
322
извлечь из знакомства с литературной жизнью Германии, а тем, что, по его мнению, требовалось тогда России. Известную роль в этом отношении сыграл Тредиаковский со своей одой «На сдачу города Гданска» и «Рассуждением об оде вообще» (1734).
Первая ода Ломоносова «На взятие Хотина» (1739) была написана им по живым следам только что происшедших событий и прислана в Петербург вместе с «Письмом о правилах российского стихотворства».
Жизнь за границей не мешала Ломоносову следить за событиями в России, и первое значительное событие — победа русских над турками и взятие крепости Хотина — дает ему тему для сочинения оды. (Кстати, у Ломоносова имеются только две оды, написанные в честь только что одержанных побед, — ода «На взятие Хотина» и ода 1741 г.; в этом отношении образцами для него могли служить Буало, Гюнтер и Тредиаковский.) Очень многие черты этой оды напоминают оду Гюнтера 1718 г. («Eugen ist fort. Ihr, Musen, nach»), хотя в целом ряде моментов ода Ломоносова имеет совершенно оригинальный характер. Зависимость от оды Гюнтера сказывается в введении дополнительных мотивов к основной теме, в характере этих мотивов, в характере изобразительных средств, в конструкции строф. Следуя за Гюнтером, Ломоносов создает монументальное стихотворное произведение политического содержания. Общим моментом в одах обоих поэтов является двойственность поэтического стиля: на ряду с обилием риторических фигур, отстоявшихся в одическом жанре поэтических формул, абстрактной гиперболичностью, в их одах можно найти строфы, написанные совсем простым языком, достигающим большой выразительной силы. Это относится к строфам, в которых описываются картины битвы, бегство врагов и т. п. Эта стилистическая двойственность еще больше ощутима у Ломоносова, нежели у Гюнтера. Ломоносов прекрасно воспроизводит смятение врага, картину его бегства. Для изображения этих картин он находит целый ряд конкретизирующих описание деталей, точные эпитеты и выразительные сравнения. Две эти стилевые тенденции становятся очевидными при сопоставлении отдельных строф этой оды. С одной стороны:
Крутит река татарску кровь,
Что протекала между ними;
Не смея в бой пуститься вновь,
Местами враг бежит пустыми,
Забыв и меч и стан и стыд,
И представляет страшный вид
В крови другов своих лежащих:
Уже тряхнувшись легкий лист
Страшит его как ярый свист
Быстро сквозь воздух ядр летящих.
Он рыщет как пронзенный зверь,
И чает, что уже теперь
В последний раз заносит ногу
И что земля его носить
Не хочет, что не мог покрыть.
Смущает мрак и страх дорогу.
Пастух стада гоняет в луг,
И лесом без боязни ходит,
Пришед, овец пасет где друг,
С ним песню новую заводит.
Солдатску храбрость хвалит в ней,
323
И жизни часть блажит своей,
И вечно тишины желает
Местам, где толь спокойно спит;
И ту, что от врагов хранит,
Простым усердьем прославляет.
С другой стороны:
За холмы, где паляща хлябь
Дым, пепел, пламень, смерть рыгает,
За Тигр, Стамбул, своих заграбь,
Что камни с берегов сдирает;
Не вся твоя тут, Порта, казнь,
Не так тебя смирять достойно,
Но большу нанести боязнь,
Что жить нам не дала спокойно.
Еще высоких мыслей страсть
Претит тебе пред Анной пасть?
Где можешь ты от ней укрыться?
Дамаск, Каир, Алепп сгорит:
Обставят росским флотом Крит;
Евфрат в твоей крови смутится.
В строфах, подобных только что приведенным, Ломоносов автоматически воспроизводит на русском языке то, что имелось у Буало и Гюнтера. Он как будто играет уже сложившимися поэтическими формулами, не изобретая ничего нового. Так он пишет, когда речь идет об Анне Ивановне.
В оде «На взятие Хотина» уже сказывается одна из характерных особенностей более поздних од Ломоносова: «события» являются для него лишь поводом, а самый смысл оды — в прославлении России, в начертании путей ее будущего развития. «Единичное» событие интересует его лишь как иллюстрация могущества России. За отдельными событиями Ломоносов заставляет видеть Россию, и поэтому в любой оде, обращенной как будто к событиям сегодняшнего дня, присутствует Россия в ее прошлом и будущем. Наибольшей идейной насыщенности эта ода, как и большинство последующих од, достигает в тех строках, в которых говорится о русском народе и о Петре I
Крепит отечества любовь
Сынов российских дух и руку.
Где в труд избранный наш народ
Среди врагов, среди болот
Чрез быстрый ток на огнь дерзает.
Для характеристики народа он не пользуется никакими условными образами и абстрактными гиперболами. Он здесь лаконичен и прост. Начиная с этой оды в творчество Ломоносова входит образ Петра I, единственного в его сознании героя русской истории. Лучшие строфы всех его од посвящены Петру I. Это же относится и к Хотинской оде.
Над войском облак вдруг развился,
Блеснул горящим вдруг лицом,
324
Умытым кровию мечом
Гоня врагов, герой открылся.
Не сей ли при донских струях
Рассыпал вредны россам стены?
И персы в жаждущих степях
Не сим ли пали пораженны?
Он так к своим взирал врагам,
Как к готфским приплывал брегам,
Так сильну возносил десницу;
Так быстрой конь его скакал,
Когда он те поля топтал,
Где зрим всходящу к нам денницу.
Это наиболее выразительные строфы в оде, и недаром они заставляют вспомнить некоторые строки Пушкинских стихов. В этой оде исчезает образ Анны, с именем которой связывается событие, и на первый план выступает Петр I. То же мы увидим и в других одах Ломоносова.
Усложненность стиля отдельных строф, загромождение его риторическими фигурами, мифологическими образами являются результатом тематической их бедности. Ломоносову нечего сказать об Анне, и потому появляются «Дамаски», «Кайры», «Этны» и т. п.
Ода «На взятие Хотина» типична для Ломоносова и в том отношении, что в ней большое место занимают картины природы. Поэзия классицизма почти не знала описаний природы. Только в идиллии попадал пейзаж, но он давался чисто условно. Космических сил природы, природы действующей, живой и богатой в поэзии классицизма не было. Между тем, Ломоносов научается воспринимать природу не только философски и научно, но и эстетически. Он с радостью воссоздает природу и вносит в сознание читателя множество представлений, логически не связанных с основной темой произведения. Если возможность эстетического восприятия природы дала ему философия Лейбница, то поэтически ее воспроизводить он учился на библейской образности. Библия в значительной мере утрачивает для Ломоносова свой религиозный характер, для него она преимущественно источник поэтических образов, школа поэтического искусства. В Библии он находил описание изначально действующих в природе сил, величественной картины мироздания. Такая именно природа была особенно близка философско-эстетическим воззрениям Ломоносова. Горы, моря, вихри, стремнины, молнии, бури, звери — все это взято из того арсенала поэтических средств, которыми богата Библия. Библейские образы настолько прочно вошли в его сознание, что он, спустя много лет после того, как читал Библию, свободно черпал из запаса своей памяти нужные ему образы.
Очень важно отметить, что образы, которые Ломоносов черпает из Библии, сходны с образностью фольклорной. Птицы, рыбы, звери, населяющие воды и леса, небо, звезды, солнце — все это дается и в фольклоре. И в фольклоре и в Библии явления природы используются для сравнений, а затем перерастают в самостоятельные картины, природа начинает жить в них самостоятельной жизнью.
В описаниях природы Ломоносов достигает большой поэтической выразительности. Тут мы находим такие превосходные эпитеты и метафоры, как «жаждущие степи», «пронзенный зверь», «седая пена», «глухие степи», «пустыня воет», «громады вод», «надменна бездна» и др.
Обращаясь к природе, Ломоносов иногда забывает о том, что использует ее для сравнений. Зачастую только синтаксическая форма говорит
325
об этой функции описания, внутренней же логической связи между сравниваемыми явлениями нет. Такова, например, следующая строфа:
Как в клуб змия себя крутит,
Шипит, под камень жало кроет,
Орел когда шумя летит,
И там парит, где ветр не воет;
Превыше молний, бурь, снегов,
Зверей он видит, рыб, гадов.
Пред росской так дрожит орлицей.
«Ода на взятие Хотина» показывает, что Ломоносов — поет с очень сложной и разнообразной системой поэтических средств выражения. На ряду с поэтическими формулами, закрепленными практикой французской и немецкой оды, формулами, широко включающими в себя мифологические образы, экзотику географических названий, риторические приемы, являющиеся признаком «пиндаризирования», «парения», в оде Ломоносова имеются живые образные выражения, близкие к библейским и фольклорным. Если первые являются общепринятыми, так сказать, «международными», то вторые вместе с церковно-славянизмами придают произведению национально-русский колорит. Библейские образы и библейские выражения рядом с «Кастальской росой», с «Пиндом», с «чревом Этны», «Фебом», «пермесским жаром» ощущаются как свои, как национально-русские. Совсем по-разному звучат следующие отрывки:
Не Пинд ли под ногами зрю?
Я слышу чистых сестр музыку!
Пермесским жаром я горю.
И затем:
В пещеру скрыл свирепство зверь;
Небесная отверзлась дверь.
Или:
Седая пена вдруг шумит,
В пучине след его горит.
В последней строфе — те образы, с которыми сознание русского человека, так же как и сознание самого Ломоносова, свыклось с ранних лет. Это уже не перевод, а привычные свои представления, свои образные выражения, своя поэтическая традиция.
Библейская образность и библейские выражения вносили с собой целый ряд представлений, расширяющих и обогащающих содержание оды («вторичные» и «третичные» идеи). Они придавали оде характер грандиозности и создавали впечатление свободного полета поэтической фантазии. В «Оде на взятие Хотина» эта струя поэтической системы Ломоносова только наметилась. Впоследствии она расширилась и приобрела в позиции Ломоносова большое значение. Так, например, широко использованы библейские образы в картинах природы в одах 1742, 1743,1746,1757 гг. В оде 1746 г. целые две строфы посвящены описанию разбушевавшихся стихий природы. Они приобретают самостоятельное значение и перестают играть служебную роль. Логическое их назначение в том, чтобы показать картину тех «смутных» времен, которые предшествовали царствованию Елизаветы. На самом же деле они из этой логической связи выпадают.
Нам в одном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
326
С пределами небес сражалось,
Земля стенала от зыбей.
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами спирались,
И устремлялся гром на гром,
И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады
Сравнять хребты гор с влажным дном.
Я духом зрю минувше время,
Там грозный злится исполин
Рассыпать земнородных племя,
И разрушить натуры чин!
Он ревом бездну возмущает,
Лесисты с мест бугры хватает,
И в твердь сквозь облака разит.
То же в оде 1742 г. Какая-то радость движения поэтической фантазии звучит в тех строфах, в которых он, забывая о «поводе», освобождаясь от него, погружается в созерцание величественной картины мироздания:
Претящим оком Вседержитель,
Воззрев на полк вечерний, рек:
О дерзкий мира нарушитель,
Ты меч против меня извлек;
Я правлю солнце, землю, море,
Кто может стать со мною в споре?
Моя десница мещет гром,
Я в пропаст» вверг за грех Содом,
Я небо мраком покрываю,
Я сам Россию защищаю.
Или:
Взойди на брег крутой высоко,
Где кончится землею Понт;
Простри свое чрез воды око,
Коль много обнял горизонт;
Внимай, как юг пучину давит,
С песком мутит, зыбь на зыбь ставит,
Касается морскому дну,
На сушу гонит глубину,
И с морем дождь и град мешает;
Так росс противных низлагает.
Библия была для Ломоносова преимущественно явлением эстетическим. Ни один религиозный мотив Библии не нашел своего отражения в его творчестве. Этическая сторона ее, все мироощущение Библии было враждебно сознанию Ломоносова. Культ веры, пассивно-созерцательное отношение к бытию, признание зависимости судьбы человеческого рода от какой-то вне его стоящей силы, признание бессилия человека перед непонятными ему силами природы — все это не только не могло быть воспринято Ломоносовым, но должно было быть отвергнуто им. И действительно, никаких следов библейских идей мы не найдем в заимствованиях Ломоносова. Над ним никогда не тяготел источник, из которого он черпал свои темы, ибо он умел подчинить их собственному сознанию, своим собствеными воззрениям.
Первая ода Ломоносова не сразу была напечатана. Впервые она
327
появилась в печати только в «Собрании сочинений» Ломоносова в 1751 г. Сам Ломоносов причислял ее, повидимому, к лучшим своим произведениям, так как некоторые отрывки из нее он дал в своей «Риторике» 1748 г.
Ломоносов отдавал себе отчет в вынужденной тематической бедности одического жанра. Он сознавал, что ода — это жанр, которому недостает «истины».
В оде 1742 г. («На прибытие Елизаветы Петровны...») Ломоносов высказывает сожаление о тех писателях, которые вынуждены говорить о «ложных баснях» из-за отсутствия истинных дел, достойных прославления:
Еще плененна мысль мутится!
Я слышу стихотворцев шум,
Которых жар не погасится,
И будет чтущих двигать ум;
Завистно на меня взирая
И с жалостию воздыхая,
Ко мне возносят скорбный глас:
О коль ты счастливее нас!
Наш слог исполнен басней лживых,
Твой сложен из похвал правдивых.
..............
На что бы вымышлять нам ложно
Без вещи имена одне,
Когда бы было нам возможно
Рожденным в Росской быть стране.
Многие строфы его од свидетельствуют о том, что Ломоносов находился в таком же точно положении, как и его «завистники», что и он вынужден был воспевать «без вещи имена одне».
Эти строки дают прекрасную характеристику наиболее распространенных од того времени. Сам Ломоносов стремится избежать «ложных басней», но это ему не всегда удается, потому что не было тех дел, которые достойны были «правдивых похвал». Он понимает, что только подлинные дела и их воспроизведение могут вдохнуть жизнь в искусство; поэтому всякий раз, когда он эти «дела» находил, он с большой готовностью берется их описывать. Так, составляя проект пьедестала для конной статуи Петра I, он замечает: «Надписи хотя мною давно сделаны, однако за много лет напечатанные кажется не годятся. Можно сделать новые. Материя к тому так богата, как необъятны дела сего героя». «Богатство материи» обусловливается «необъятностью дел». О том же говорит Ломоносов в обращении к И. И. Шувалову, предпосланном поэме «Петр Великий» (1760).
Не вымышленных петь намерен я богов,
Но истинны дела, великий труд Петров!
Достойную хвалу воздать сему герою
Труднее, нежели как в десять лет взять Трою.
Эти «истинные дела» он всегда искал и находил в деятельности Петра I. О ком бы Ломоносов ни писал, по какому бы поводу он ни сочинял оду, он всегда вводил в произведение петровскую тему. От этого частично менялся самый характер произведения. Исчезали имена греческих и римских богов и героев, исчезала часто риторическая патетика. Слова становились осмысленными, простыми и ясными, появлялись меткие и лаконические характеристики. Можно сказать, что Петр I —
328
собственно единственный настоящий герой в творчестве Ломоносова. Ломоносов не просто преклонялся перед гением Петра I, но, раскрывая смысл и значение деятельности Петра, он сам себе уяснял сущность исторического процесса вообще и исторические судьбы России, в частности. Проникновение в смысл Петровской эпохи позволяло ему одновременно строить прогнозы относительно будущего России.
Почти во всех без исключения одах Ломоносова, не говоря уже о поэме «Петр Великий», выступает Петр как подлинный герой русской истории. Обращаясь к образу Петра I, Ломоносов ставит себе целью не только прославить великое прошлое страны, но и воплотить в нем свою мечту о настоящем и будущем России. Величие прошлого и неудовлетворенность настоящим рождают мечту о будущем. В своих одах Ломоносов мало говорит о настоящем. В его прославлении прошлого и будущего, несмотря на все «громкие» одические слова, скрывается признание неполноценности настоящего, и вместо того, чтобы говорить о нем, он говорит о «чаемом». Иногда он это маскирует, иногда же совершенно открыто признается в своей мечте — чтобы:
Произошли б земны владыки,
Родились бы Петры Велики,
Чтоб просветить весь смертных род.
(Ода 1757 г.)
В своей оде 1746 г., написанной на день восшествия на престол Елизаветы, т. е. после пяти лет ее царствования, Ломоносов, прославляя ее, все же больше говорит о будущем, нежели о настоящем:
Хотя от смертных сокровенно
Грядущих бытие вещей;
Однако сердце просвещенно
Величеством богини сей.
На будущие дни взирает
И больше счастье предвещает,
Конец увидим оных дел,
Что ради нашего блаженства,
На верьх поставить совершенства
Сходящий в небо Петр велел.
Какую бы из од Ломоносова мы ни взяли — о Елизавете ли или о Петре III, — мы в ней найдем не столько прославление, сколько «повеление» быть «владыками» такими, каким был Петр I. Этот мотив широко входит потом в русскую поэзию XVIII в. и доживает до «Стансов» Пушкина. Ломоносов пользуется любым случаем, любым поводом, чтобы в назидание настоящим и будущим царям представить образ Петра. Елизавета — это «дщерь Петра», поэтому она должна итти по стопам его. Петр III — это внук «великого деда», кроме того, он носит его имя, поэтому он должен быть таким, как его дед. Даже в оде 1742 г. («На прибытие Елизаветы Петровны...»), в которой сравнительно много места уделено прославлению Елизаветы в связи с победой, одержанной русскими над шведами, Ломоносов вызывает «дух» Петра, для того чтобы он начертал дальнейший путь России.
На Запад смотрит грозным оком,
Сквозь дверь небесну дух Петров,
Во гневе сильном и жестоком
329
Преступных он мятет врагов.
Богиня кротко с ним взирает
На невский брег и простирает
Свой перст на дщерь свою с высот:
Воззри на образ твой и плод,
Что все дела твои восставит
И в свете тем себя прославит.
В оде 1746 г. («На день восшествия Елизаветы») он говорит о том, что от Елизаветы ждали продолжения «дел Петра»:
Взирая на дела Петровы,
На град, на флот и на полки,
И купно на свои оковы,
На сильну власть чужой руки,
Россия ревностно вздыхала
И сердцем всякий час взывала
К тебе, защитнице своей:
Избавь, низвергни наше бремя,
Воздвигни нам Петрово племя,
Утешь печаль твоих людей.
..........
Покрой отечески законы,
Полки противных отжени.
При сопоставлении Елизаветы с Петром образ Елизаветы почти стирается в сознании читателя, а остается только образ Петра I. Так, в его словах:
Таков был Петр врагам ужасен,
Своим отец, везде велик
совсем исчезает образ восхваляемой в оде Елизаветы. В 1742 г. прибывает из Голштинии внук Петра I, будущий Петр III. Ломоносов пишет в честь этого «события» оду (имеются даже две редакции ее) и при этом «играет» именем Петра:
В лице Петровом свыше данну,
Ты зришь Великого Петра.
В оде 1743 г. («На день тезоименитства Петра Федоровича») снова появляется образ Петра, которому должен следовать внук его, Петр III. Некоторые строфы носят характер именно «повеления»:
Покажешь меч и страх в день брани,
Подобно как твой дед в полках,
Премудрость сядет в суд с тобою,
Изгонит лесть и ков с хулою.
И дальше Ломоносов обращает взор «воспеваемого» Петра III на дела его деда:
Воззри на труд и громку славу,
Что свет в Петре не ложно чтит;
Нептун познал его державу,
С Минервой сильной Марс гласит:
Он бог, он бог твой был, Россия,
330
Он члены взял в тебе плотские,
Сошел к тебе от горних мест.
Во второй половине строфы внук совсем забыт. Иногда, без всякой мотивировки, Ломоносов вводит в произведение петровскую тему, причем несмотря на то, что строки, посвященные Петру, не являются в нем органически необходимыми, они вместе с тем являются наиболее конкретными и пафосными. Так, в цитированной выше оде 1757 г., посвященной рождению дочери Петра Федоровича, первая строфа целиком посвящена Петру (некоторые стихи были использованы впоследствии в поэме «Петр Великий», над которой Ломоносов начал работать примерно в это же время).
Красуйтесь многие народы;
Господь умножил дом Петров.
Поля, леса, брега и воды!
Он жив, надежда и покров;
Он жив, во все страны взирает,
Свою Россию обновляет,
Полки, законы, корабли
Сам строит, правит и предводит,
Натуру духом превосходит
Герой в морях и на земли.
Петровская тема неизменно обогащает содержание ломоносовских од и вносит в средства поэтического выражения большую конкретность.
Наибольшей глубины содержания, а потому и наибольшей конкретности формы Ломоносов достиг в своей оде 1747 г. В этой оде он пишет о России, о Петре, о русском народе и русской природе, о торжестве человеческого разума, об исключительных возможностях России и перспективах, открывающихся перед ней. Как прославление дел Петра избавляет Ломоносова от использования мифологических образов, так описания огромных пространств России избавляют его от экзотики географических названий. Подлинная география приходит на смену условной. Ни в одном из других произведений Ломоносова Россия не выглядит такой величественной, огромной, богатой своими морями, реками, недрами, лесами, как в этой оде:
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;
..............
Там Лена чистою водою,
Как Нил, народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.
Тут и «глубокие» леса, в которых тесно жить зверям, и «скачущие елени» и «поющие птицы»:
На пастве скачущих еленей,
Ловящих крик не устрашал,
Охотник где не метил луком,
Секирным земледелец стуком,
Поющих птиц не разгонял.
331
Величие России заключается не в одних ее безмерных пространствах, но и в людях, призванных эти пространства подчинить себе.
Когда Ломоносов говорит о разуме русских людей, он достигает наибольшей искренности и воодушевления:
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О ваши дни благословенны,
Дерзайте ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
В этих словах Ломоносова выражены самые сокровенные мысли его. Вся ода проникнута чувством подлинного патриотизма, основанным на глубокой вере в то, что Россия может дать своих гениев науки и искусства. Патриотизм и вера в прогресс сливаются у Ломоносова в одно понятие. Ломоносов и в этой оде и в поэме «Петр Великий» проводит ту мысль, что Петр, борясь со всевозможными препятствиями, с внутренними и внешними врагами, преодолевая сопротивление косных сил, действовал как истинный патриот, таж как разрешал исторические задачи, стоявшие перед Россией:
Ужасный чудными делами
Зиждитель мира искони
...........
Послал в Россию человека.
Каков не слыхан был от века,
Сквозь все препятства он вознес
Главу победами венчанну,
Россию варварством попранну
С собой возвысил до небес.
На примере этой оды видно, как наличие «истинных дел» освобождает произведение от излишней метафоричности, от традиционных поэтических формул, гиперболичности, условности стиля. В этом отношении чрезвы чайно показательна та же ода 1747 г. На ряду с очень выразительными стихами, относящимися к России и Петру, мы видим в строках, посвященных Елизавете, поэтические формулы, лишенные конкретного содержания и являющиеся почти дословным переводом из Буало и Гюнтера:
Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет:
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.
Вы, наглы вихри, не дерзайте
Реветь, но кротко разглашайте
Прекрасны наши времена:
В безмолвии внимай, вселенна;
Се хощет лира восхищенна
Гласить велики имена.
Гиперболизм стиля, «надутость», изобилие метафор, логически не оправданных, т. е. как раз те черты художественной системы Ломоносова, которые
332
подвергались насмешкам со стороны Сумарокова и Елагина, хотя имели место в его творчестве, но отнюдь не являются чертами, наиболее характерными для него. Как на пример подобной метафоричности, можно указать на некоторые строфы в оде 1743 г., посвященной Петру Федоровичу:
Холмов Ливанских верх дымится!
Там Наввин иль Самсон стремится!
Текут струи Евфратски вспять!
Он тигра челюсти терзает,
Волнам и вихрям запрещает,
Велит луне и солнцу стать.
Фисон шумит, Багдад пылает,
Там вопль и звуки в воздух бьют.
Ассирски стены огнь терзает
И Тавр и Кавказ в понт бегут
Един трясет свирепым югом
И дальным всточных стран округом
Сильнейший гор огня ветров.
Отмститель храбр врагов сварливых,
Каратель стран в союзе лживых,
Российский род и род Петров.
Торжественные оды Ломоносова — это в большинстве своем произведения, которые откликаются на текущие события, происходящие в стране, и в которых дается оценка этих событий. Ломоносов своими одами стремится воздействовать на политическую жизнь страны и зачастую, прославляя войны, воспевая победы, он вместе с тем показывает, что условием процветания страны является мир.
В одах Ломоносова всегда почти чувствуется оппозиционная струя, ибо в каждой из них говорится не о том, что есть, а что должно быть. В своих одах он воплощает мечту о будущем, которая резко противопоставляется им настоящему. Он мечтает о благополучии России, о распространении просвещения, о «размножении и сохранении российского народа», об овладении морями и недрами России, об укреплении мощи ее.
Ломоносов никогда не выступал как апологет современной ему «официальной» России. В 1761 г., т. е. почти через двадцать лет после начала царствования Елизаветы, Ломоносов все еще продолжает «уповать» на будущее. Он, правда, пытается поставить в заслугу Елизавете водворение мира и процветание наук. Но эта условная похвала разбивается предыдущей строфой, в которой говорится не о мире, а о войнах, которые вела Елизавета:
Великая Елизавет
И силу кажет и державу;
Но в сердце держит сей совет:
Размножить миром нашу славу,
И выше как военный звук
Поставить красоту наук.
А предыдущая строфа говорит:
От стрел российския Дианы
Из превеликой вышины
Стремглавно падают Титаны.
Что касается того, что Елизавета стремилась выше всего «поставить красоту наук», то в этих словах можно видеть даже некоторую иронию по ее
333
адресу. Ведь именно 1761 год — год, показавший. Ломоносову тщетность его стремлений превратить Россию в просвещенную страну. Ведь именно в 1761 г. он никак не мог добиться подписания университетской привилегии. Как раз в этом году он пишет свои «Просительные стихи» Елизавете об инавгурации (торжественном открытии) университета и тогда же переводит из Анакреона прекрасное лирическое стихотворение «Кузнечик дорогой...», две последние строчки которого, принадлежащие самому Ломоносову, раскрывают его собственное моральное состояние.
Обращаясь к кузнечику, он говорит:
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен;
Что видишь, все твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.
Поэтому в оде 1761 г. Ломоносов сам не выдерживает своей панегирической интонации и кончает строфу противопоставлением себя Елизавете (момент исключительно редкий в одах Ломоносова):
По мне хотя б руно златое
Я мог как Язон получить,
То б музам для житья в покое,
Не усумнился подарить.
За громкими словами, за панегиризмом од зачастую скрываются критика и недовольство существующим. И недаром один из путей развития русской оды — превращение этого «хвалебного» жанра в жанр «обличительный».
Ломоносов пользуется всяким поводом, чтобы внести в оду «обличительные» мотивы. Так, например, в связи с дворцовым переворотом в 1762 г. он получил возможность ввести в оду «На день восшествия на престол Екатерины II» целый ряд критических моментов, так как все, что он осуждал, он мог связать с именем Петра III. Царствование Петра III было настолько кратковременным, что вызывать «дух Петра» и его именем обвинять Петра III не имело бы смысла, Ломоносов просто использовал этот повод для того, чтобы выдвинуть свои обвинения против современной ему России:
Я мертв терплю несносну рану!
На то ли вселюбезну Анну
В супружество я поручил,
Дабы чрез то моя Россия
Под игом области чужия
Лишилась власти, славы сил!
На толь, чтоб все труды несчетны
И приобретенны плоды
Разрушились и были тщетны
И новы возросли беды?
На толь воздвиг я град священный
Дабы врагами населенный
Россиянам ужасен был,
И вместо радостной столицы
Тревожил дальные границы,
Которы я распространил?
Слыхал ли кто из в свет рожденных
Чтоб торжествующий народ
334
Предался в руки побежденных?
О стыд, о странный оборот?!
Но обличая, Ломоносов вместе с тем прославляет Россию и ее народ; веру в Россию он не утрачивает, несмотря ни на что.
Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел,
И чувством собственным поверьте, —
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас героев,
От земледельца до царя.
В суде, в полках, в морях и в селах
В своих и на чужих пределах
И у святого алтаря.
Каждая ода Ломоносова — это наказ царям. В течение 20 лет он поучал Елизавету. Когда вступил на престол Петр III, он излагает перед ним целую «программу действия»; когда на смену Петру III пришла Екатерина, он и тут, используя слова манифеста, изданного Екатериной при ее восшествии на престол, превращает их в «наказ» самой Екатерине:
Услышьте судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы,
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу.
Некоторые оды Ломоносова почти совсем утрачивают панегирический характер. Лишь отдельные строфы, выполняющие функцию обрамления, сохраняют свой традиционный панегиризм. Это относится к тем одам, которые превращаются в развернутые пожелания на будущее. Такова ода 1748 г. и отчасти ода 1757 г. В этих одах отсутствуют обычный для Ломоносова «громкий» стиль, метафорическая усложненность, гиперболичность. Они менее абстрактны, чем те оды или те строфы, которые обращены к настоящему, но и в них пожелания формулируются в самой общей форме. Смысл его пожеланий в том (в оде 1748 г.), чтобы не было войн, чтобы не было вражды:
Вражда и злость да истребится,
И огнь и меч да удалится,
чтобы в России наступило довольство:
Весна да рассмеется нежно,
И ратай в нивах безмятежно
Сторичный плод да соберет.
Железо брани да не знает,
Служа в труде безмолвных сел.
В такие оды прорываются совсем реалистические детали:
Народы твоея державы
Различна речь, одежда, нравы.
335
Примерно тот же круг пожеланий и в оде 1757 г., хотя основной темой ее как будто является прославление побед, одержанных над Фридрихом II во время Семилетней войны. В этой оде еще сильнее, чем в оде 1748 г., звучит призыв к труду. В уста бога Ломоносов вкладывает следующие слова:
В моря, в леса, в земное недро
Прострите ваш усердный труд,
Повсюду награжду вас щедро
Плодами, паствой, блеском руд.
Оды 1748 и 1757 гг. с трудом даже могут быть названы «торжественными» одами. Они выдержаны (за исключением четырех-пяти строф) в очень спокойной интонации, в них меньше риторических вопросов, восклицаний, обычных для Ломоносова неожиданных ассоциаций, вносящих в оду логические сдвиги, прерывистое движение темы. Эти оды дают четкое, логическое и последовательное развитие темы. Подобная система построения ломоносовской оды не была отмечена и поддержана многочисленными одописцами середины и второй половины XVIII в., в глазах которых Ломоносов был только «громким» лириком, строившим свои оды по принципу взлетов и падений, т. е. того принципа, который подводился под понятие «пиндаризирования». Такому представлению о нем немало содействовали многочисленные замечания Сумарокова и его приверженцев об одах Ломоносова.
В тесной связи с торжественными одами Ломоносова находится его поэма «Петр Великий» (1760—1761). В ней важна не сюжетная сторона, а самое понимание личности и деятельности Петра. Это произведение суммирует в себе разбросанные по разным одам и надписям лаконичные характеристики и замечания, относящиеся к Петру. В этой поэме Ломоносов старается увековечить образ Петра, но и тут, как и в одах, он ставит перед собой не столько познавательные цели, сколько назидательные. Ломоносов сам подчеркивает назидательный характер своего произведения следующими строками его:
Да на его пример и на дела велики
Смотря весь смертных род, смотря земны владыки,
Познают, что монарх, и что отец прямой.
Неоднократно указывалось, что Ломоносов строит свою поэму согласно принципам поэтики классицизма и что образцом в этом отношении ему служили «Энеида» Вергилия и «Генриада» Вольтера. Это справедливо, но дело здесь было не в желании Ломоносова сравняться с Вольтером, а в содержании поэмы. Ломоносова интересуют в этом произведении две темы: ему важно показать, какие огромные препятствия пришлось преодолеть Петру в борьбе за достижение своих целей и какие перспективы открылись перед Россией в результате его деятельности. Обе эти темы поворачивают произведение к современности (как это было и в «Генриаде»). Подробно останавливаясь на стрелецком бунте, на расколе, т. е. на показе тех сил, которые противостояли Петру, противостояли прогрессу, он указывает тем самым на необходимость и в современной ему действительности бороться с подобными же реакционными силами. Все реакционное, мешающее прогрессу, должно быть устранено. Известно, что Ломоносов, неоднократно борясь с церковью, представлял дело таким образом, что он выступает против раскольников («Гимн бороде»). На самом деле именно церковь была для него наиболее реакционной силой, препятствующей развитию научной мысли. Недаром он гораздо меньше боялся невежества
336
крестьянства, нежели невежества «чтецов писания и ревнителей к православию».
В поэме «Петр Великий» Ломоносов показывает, как боролся Петр с оплотом невежества, с расколом. Он так говорит о расколе и об отношении к нему Петра, что не оставляет никакого сомнения в том, что он подразумевает здесь свою собственную борьбу с духовенством:
Едва сей бурный вихрь несчастьем укротился
И я в спокойствии к наукам обратился,
Искал где знания сияет ясный луч,
Другая мне гроза и мрак сгущенных туч
От суеверия и грубости восходит,
И видом святости сугубой страх наводит.
Ты ведаешь, раскол, что начал Аввакум
И Пустосвят злодей, его сообщник дум.
Невежество почтет за святость старой веры,
Пристали ко стрельцам ханжи и лицемеры.
Сам Ломоносов не скрывал того обстоятельства, что в своей поэме он будет говорить не только о прошлом, но и о современности. Недаром, прежде чем перейти к повествованию о стрелецком бунте и расколе, Ломоносов останавливается и выражает сомнение, может ли он продолжать свой рассказ, не вызвав нареканий:
Ах музы, как мне петь? Я тех лишу покою,
Которых сродники развращены мечтою,
Не тщились за Петра благословенный путь,
Но тщетно мыслями против него дерзнуть!
Представив злобу их, гнушаюсь и жалею.
Что род их огорчу невинностью своею.
Очень возможно, что Ломоносов не закончил своей поэмы потому, что неизбежно должен был бы говорить о современниках и о современности. В своем письме к Татищеву (от 27 января 1749 г.) Ломоносов одобряет намерение историка не писать в истории о Петре, так как это требовало бы упоминания многих «знатных» людей и представления их в невыгодном для них свете: «Ваше превосходительство изволили показать в причине, для чего не соблаговолили сочиненной вами истории присовокупить жизни государя императора Петра Великого, что упоминая худые дела знатных некоторых людей, не досадить бы их фамилиям. То сие правильно надлежит по моему мнению наблюдать и в самом предъизвещении».
Интересно отметить, что Ломоносов, который говорит в начале поэмы о том, что Петр смирил «злодеев внутрь и вне попрал противных», больше внимания уделяет все же борьбе его с «злодеями» внутри страны. Очевидно, именно в них он видел основную опасность для страны, и не только в прошлом, но и в настоящем. Правда, Ломоносов пишет и о победе Петра над врагами внешними, потому что понимает, что победа над врагом является необходимым условием для процветания в стране наук и искусств.
Как истинный патриот, Ломоносов гордится той армией, которую создал Петр и которой он обеспечил возможность процветания страны:
Не спорит меж собой развратна прежде рать;
Петрову новому учению послушны
Россияне стоят в полках единодушны.
Движением своих величественных сил
Народу новый дух и мужество вложил.
337
Ломоносов в этой поэме пишет лишь о тех явлениях, которые могут служить примером для современности. Каждое слово этой поэмы учит. Петр выступает в ней как царь, укрепивший страну, победивший врагов, а главное, как просветитель. Друзья обращаются к Петру со следующими словами:
Нам сносны все труды и неужасны смерти:
Лишь только бы твоих врагов гордыню стерти,
Отечеству подать довольство, честь, покой
И просветить народ, как дух желает твой.
В поэме верно воспроизведены некоторые исторические эпизоды (путешествие Петра в Соловецкий монастырь, о котором Ломоносов, вероятно, знал еще с детства, внешняя история стрелецкого бунта, сражение с шведами и т. п.), но историзма в ней, конечно, нет. Ломоносов вызывает «духов прошлого», чтобы уяснить задачи, стоящие перед современностью. Очень часто Ломоносов в уста Петра вкладывает свои собственные мечты о будущем России. Поворачивая свою поэму к современности, Ломоносов направляет ее против тех, кто препятствует делу просвещения; он отождествляет себя с Петром и представляет своих врагов как врагов дела Петра. Среди людей своей эпохи он не видит продолжателей дела Петра. Он чувствует себя одиноким, но верит, что наступит время, когда люди, подобные ему, не будут больше Одинокими:
Довольно таковых родит сынов Россия —
говорит он в «Посвящении». Ломоносов нашел прекрасные слова для характеристики Петра и сумел превратить его образ в символ поступательного движения русской истории. Ряд идей Ломоносова, связанных с оценкой им Петра, точно так же как самый принцип поэтического воплощения его образа, оказали воздействие на Державина и Пушкина.
Поэма Ломоносова «Петр Великий» состоит из двух песен и посвящения И. И. Шувалову. Хотя она Ломоносовым не закончена, однако эта незаконченность чисто формальная: сюжет ее, повидимому, должен был охватить все важнейшие эпизоды из жизни Петра, а на самом деле даны только два эпизода из первых лет его царствования. Но в идейном отношении, в смысле выявления самого замысла произведения поэма безусловно имеет вполне законченный характер. Каждая из песен развивает тему борьбы с врагами: первая — с врагами внутренними, вторая — с врагами внешними. Посвящение же Шувалову раскрывает тот угол зрения, под которым Ломоносов рассматривал воспроизводимые им события, и вносит в поэму лирическую струю. Наибольшей искренности он достигает и тех строках, где говорит о себе, о своих собственных заслугах перед Россией:
И если в поле сем прекрасном и широком,
Преторжется мой век недоброхотным роком;
Цветущим младостью останется умам,
Что мной проложенным последует стопам.
И первая и вторая песни поэмы чрезвычайно злободневны по своему содержанию. Ломоносов писал ее в самый разгар Семилетней войны.
Не может свет стоять без сильных воружений.
На устиях Невы его военный звук
Сооружал сей град, воздвигнул храм наук;
И зданий красота, что ныне возрастает,
В оружии свое начало признавает.
338
Гневом дышат его слова, когда он обращается к Европе:
Европа там гремит, сама в себе пылая,
Коль часто Фурия свирепствует в ней злая!
Не менее злободневна тема борьбы Петра с внутренними врагами.
В поэме мы не находим плавного повествования о событиях. События даются лишь вскользь, описания почти отсутствуют; она представляет собой рассуждение или размышление по поводу событий, происходящих в стране, очень важных для нее или для человечества в целом.
И в «торжественных одах» и в поэме «Петр Великий» Ломоносов выступает как поэт гражданственных мотивов, социально-значимых тем. Но в этих произведениях поэт принужден все же обходить «теневые» стороны жизни. Только иногда, как мы видели, сквозь панегирическую оболочку произведения можно уловить выражение неудовлетворенности, недовольства и даже протеста. Но все же подобные мотивы хоронились глубоко, и обнаружить их в произведении подчас бывает трудно. Очень редко в «торжественной» оде автор говорит о себе. И оды и поэма «Петр Великий» Ломоносова — это лиро-эпические произведения, в которых субъективизм выражается лишь в изъявлении «восторга». Это не значит, что ломоносовский «восторг» всегда является лишь данью внешней необходимости. Ломоносов, прославляя Петра, Россию, ее будущее, человеческий разум, русскую науку, прогресс, вполне искренен в своем восторге и обнаруживает большой запас оптимизма и веры в свою страну. Жизнеутверждающее начало пронизывает его философию, его восприятие природы, всю его научную, общественную и литературную деятельность. Поэтому ода и поэма — это те литературные жанры, которые не навязываются ему извне, а органически вытекают из всей совокупности его идейных воззрений. Но на ряду с этими произведениями в творчестве Ломоносова имеются подлинно лирические произведения, в которых очень сильно звучат мотивы социального протеста; таковы его «Переложения» псалмов.
«Переложения» псалмов были широко распространены и в западноевропейской литературе, так как они открывали возможность развития в литературе лирической темы. Время для лирики, для художественного раскрытия индивидуального человеческого сознания и индивидуальных человеческих переживаний еще не наступило. Лишь в «Переложениях» псалмов, в переводах с древних, языков лирическая тема получала свое оправдание и право на существование. Чужими славами поэты выражали свои собственные мысли и переживания.
Псалмы — это лирика зачастую совсем земного человеческого содержания. Ломоносовские «Переложения» псалмов еще усиливают их земное содержание и ослабляют их молитвенный религиозный характер. В своих «Переложениях» псалмов он не только не отталкивается от жизни, а, наоборот, стремится псалмы приблизить к жизни, делает их выражением тех противоречий, которыми полна жизнь.
Впервые Ломоносов обратился к переложению псалмов в связи с состоявшимся «состязанием» между ним, Тредиаковским и Сумароковым по вопросу о предпочтительности в русском стихе ямбической или хореической стопы. Кто из трех поэтов предложил выбрать 143-й псалом — неизвестно. В течение 40-х годов он переложил сначала еще 14-й, 116-й и 145-й псалмы, а затем 1-й, 26-й, 34-й, 70-й и 103-й. Некоторые из них он привел в качестве примеров в «Риторике» 1748 г. (14, 116 и 145), остальные (кроме «Переложения» 103-го псалма) впервые появились в «Собрании стихотворений» Ломоносова в 1751 г.
Широко известно письмо Ломоносова к В. Н. Татищеву,
339
написанное в ответ на «совет» последнего «о переложении псалмов». Это письмо, датированное 27 января 1749 г., вызывает некоторое недоумение. Ломоносов пишет в нем, что совет Татищева ему «весьма приятен» и что сам он «давно к тому охоту» имеет, но что два препятствия мешают ему заняться этим делом: «первое — недосуги» («главное мое дело есть горная наука»), «второе — опасение», что ему придется дать своим переложениям «другой разум» по сравнению с тем, какой имеют сами псалмы, так как в своих переложениях он должен следовать церковно-славянским текстам которые не всегда точно передают еврейский подлинник. Тут же он добавляет, что пытался «перелагать» 103-й псалом, но не сумел довести переложение до конца, так как уловил неточность в церковно-славянском переводе. Может создаться впечатление, что «Переложение» 103-ого псалма было его первым опытом в этом отношении. Между тем, до 1749 г. Ломоносов «переложил» целый ряд псалмов и к тому же в своих «Переложениях», не нарушая общего колорита псалмов, совершенно сознательно отступал от текста, некоторые моменты усиливал, некоторые распространял, а некоторые вовсе не «перелагал». Очевидно, в письме Татищева речь шла о переложении всей книги псалмов, и Ломоносову надо было как-то мотивировать свое нежелание взяться за эту работу. Как показывают «Переложения» Ломоносова, он и не стремился к тому, чтобы воспроизвести на русском языке Псалтырь как таковую. Он не ставил себе целью популяризацию одной из книг Библии, что видно из того, что круг его заимствований на Псалтыри ограничен и тематически очень четок. Как неоднократно уже указывалось в научной литературе, в Ломоносовских «Переложениях» псалмов преобладает тема борьбы с врагами. Из 9 его «Переложений» семь посвящены именно этой теме. Его «Переложения» дышат ненавистью к врагам, что в значительной степени изменяет идейную сущность псалмов. Это уж не молитвы, не выражение человеческой слабости и упования на бога. В «Переложениях» ощущается сила, уверенность, они пронизаны духом борьбы и мести. В этом упорном повторении мотива ненависти к врагам можно усмотреть стремление Ломоносова через «узаконенные» религией поэтические произведения выразить свое недовольство и даже протест против каких-то сторон окружавшей его действительности. «Прикрываясь» псалмами (как позже одой Ж. Б. Руссо «На счастье», переведенной им на русский язык), Ломоносов высказывал такие взгляды, которые он не мог бы высказать как свои собственные. Так, например, в известнейшем и наиболее популярном «Переложении» 145-го псалма Ломоносов пишет:
Никто не уповай во веки
На тщетну власть князей земных,
Их те ж родили человеки
И нет спасения от них.
Когда с душою разлучатся
И тленна плоть их в прах пойдет:
Высоки мысли разрушатся
И гордость их и власть минет.
Такого «развенчания» «земных князей» в псалме нет. Вот, что мы находим в соответственных строках псалма:
Не надейся на князи, на сыны человеческие,
В них же несть спасения.
Изыдет дух его и возвратится в землю свою;
В той день погибнут вся помышления его.
340
Призывая к мести, внушая ненависть к врагам, обличая их, Ломоносов вводит в свои «Переложения» целый ряд образов, которых нет в подлиннике, а иногда и дополнительные строки. В этом отношении показательно «Переложение» 143-го псалма.
Ломоносов | Псалом | |
И молнией твоей блесни, | Блесни молнию и разженеши, я, посли стрелы твоя и смятеши я. Избави мя и изми мя из рук сынов чужих: их же уста глаголаша суету, и десница их — десница неправды. |
«Хищные руки», «власть чужих народов», рука их, наводящая лук, — всего этого в псалме нет.
Точно так же отсутствуют, в псалме и следующие, проникнутые чуждым псалмам субъективизмом строки:
Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.
Вот, что соответствует этим строкам в псалме: «Посли руку свою с высоты, и изми мя, и избави мя от вод многих, из рук сынов чужих». Эти последние слова, как и образ «десницы неправды», повторяются в псалме дважды. Ломоносов избегает этого повторения и развивает тему «чужого народа» и своей обреченности. Интересно отметить, что Ломоносов гораздо детальнее, чем это имеет место в псалме, дает картину благополучной жизни «врагов». Не говоря уже о том, что он вводит дополнительные образы (тоже библейского происхождения), характеризующие это благополучие:
Подобно масличным древам
Сынов их лета процветают,
Одеждой дщери их блистают,
Как златом испещренный храм,
он вносит от себя новые мотивы, которые могли бы занять место и в «светской» оде:
Цела обширность крепких стен,
Везде столпами укрепленных,
Там вопля в стогнах нет стесненных,
Не знают скорбных там времен.
Из всего этого в псалме упоминается лишь, что «вопля в стогнах нет». Нет аналогии в псалме и для следующей строки «Переложения»:
Щастлива жизнь моих врагов!
341
Такое распространение темы о «довольстве» врагов лишний раз заставляет думать, что в этом «Переложении» мы имеем прямой отклик на реальные обстоятельства жизни. Трудно точнй сказать, кого подразумевал Ломоносов под теми врагами, о которых он с таким ожесточением говорил в своих «Переложениях». Возможно, что и сам он не отдавал себе ясного отчета, кто были эти враги. Но, несомненно, что, видоизменяя псалом только в одном направлении, он шел от жизни, которая предстояла перед ним не в состоянии покоя и умиротворенности, а как борьба каких-то враждебных противоречивых сил.
Этот же мотив борьбы с врагами, ненависти и непримиримости по отношению к ним, образ бога, «разящего» врагов, повторяется и в других «Переложениях». Так, например, псалом 1-й развивает тему о праведниках и грешниках. В своем «Переложении» этого псалма Ломоносов превращает «грешников» в «злодеев». Даже в «Переложении» 34-го псалма, который и без того целиком посвящен мотиву мести, Ломоносов не ограничивается передачей его текста. Мотив мести выражен у него гораздо резче, ненависть его страстнее.
Ломоносов | Псалом |
Да помрачится путь их мглою, | Да будет путь их мгла и ползок,
|
Образа «мстящей руки» ангела в псалме вовсе нет. В других строфах, в дополнение к псалму, Ломоносов говорит о «противнике», который «грозит», о врагах, которые «смеются, нагло укоряют». Особенно разительно следующее изменение псалма:
Ломоносов | Псалом |
Ты видел, господи, их мерзость; | Видел если, господи, да не промолчиши; |
Ломоносов даже начинает возмущаться богом, который до сих пор не смирил его врагов:
Ломоносов | Псалом |
Доколе, господи, без гневу | Господи, когда узриши?
|
В перелагаемых псалмах чувствуются человеческая жалоба, страдания, растерянность. Не то у Ломоносова. Он полон гнева и раздражения против «власти чужого народа», «власти сильных», врагов» и «злодеев»:
Глубокий мрачный ров злодеев
В пути да будет сокровен.
Даже 70-й псалом, весь пронизанный мольбой о спасении, приобретает у Ломоносова суровый и грозный характер. Смысл псалма в уповании на бога, смысл Ломоносовского «Переложения» — в показе злобных врагов,
342
готовых растерзать свою жертву. Так, из одного «Переложения» в другое переходит мотив мести и ненависти к врагам, и хотя эти враги у Ломоносова абстрактны, однако глубокий лиризм «Переложений», их внутренняя взволнованность и субъективизм заставляют забывать об этой абстрактности. Они начинают звучать как обличительные произведения, идущие непосредственно от жизни и питающиеся ею. Будучи собраны все вместе, они могли прозвучать для читателя, воспитанного на панегиризме од, очень многозначительно. По своему духу и настроению они являлись контрастом к «торжественным» одами как будто открывали ту сторону жизни, которая не могла просочиться в оды.
Перелагая псалмы, Ломоносов сохраняет ту простоту и лиризм, ту интимность в обращении к богу, какая присуща псалмам. Эти обращения к богу передают дух народной религиозности, со смутной верой народа в какую-то силу, которая сумеет спасти «праведных» от «ужасных врагов».
Услыши, господи, мой глас,
Когда к тебе взываю,
И сохрани на всякий час:
К тебе я прибегаю.
........
Настави, господи, на путь
Святым твоим законом,
Чтоб враг не мог поколебнуть
Крепящегося в оном.
Псалмы привлекали Ломоносова не только своим содержанием, но и своей песенностью, образностью и напряженным лиризмом. Он воспринимал их больше всего как явление эстетическое, притом как явление свое национально-русское (так как псалмы глубоко пустили корни в культуру русского народа). Нет никакого сомнения в том, что Ломоносов, для которого псалмы были первой школой поэтического искусства, который был свидетелем их широкого распространения в народе, ощущал их как поэзию, близкую народному сознанию, и, используя их в своем творчестве, он тем самым выражал свои мысли и чувства в тех образах, теми поэтическими средствами, тем языкам, которые были привычны для народа. Не случайно эти произведения Ломоносова ощущаются как подлинно русские, и недаром именно в них он впервые заговорил настоящим русским языком. Из всех поэтических произведений Ломоносова Пушкин выше всего ставил «Переложения». «Слог его [Ломоносова], — пишет Пушкин, — ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему переложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения. Они останутся вечными памятниками русской словесности». Никогда в одах Ломоносов не достигал той простоты и ясности, и лексической и синтаксической, как в «Переложениях» псалмов. Трудно узнать в «Переложении» 143-го псалма автора оды «На прибытие Елизаветы Петровны» 1742 г.:
Но я, о боже, возглашу,
Тебе песнь нову повсечасно,
И в десять струн тебе согласно
Псалмы и песни приношу.
Простота Ломоносовских «Переложений», несомненно, связана с тем, что в сознании Ломоносова они ассоциировались с народной
343
песенностью. Не только Ломоносов, но и Тредиаковский видел связь псалмов с народным поэтическим творчеством. У него мы находим следующее замечание: «С двести лет, без мала, назад певали у нас в церькви на всенощных бдениях псалом 103-ий так, что по окончании речи, когда напев требовал гагаканья, до начатия другия речи, вместо гагаканья оного употребляемы были незнаменательные слова, а именно сии: ай, ненай, ани, унани. Равно и простый народ в некоторых своих песнях, и в подобном случае, такие же употреблял незначащие слова: здунинай, найна, здуни». Близость Ломоносовских «Переложений» народному сознанию и народному поэтическому мышлению подтверждается еще тем, что его «Переложения» сделались известными в народе и сами превратились до некоторой степени в явление фольклора.
Наибольшей творческой силы Ломоносов достиг в «Оде, выбранной из Иова» (впервые напечатана в 1751 г., точная дата написания неизвестна), в «Вечернем размышлении о божьем величестве» (1743) и в «Утреннем» (впервые напечатано в 1751 г., точная дата написания неизвестна). Все эти произведения явились новым словом в русской литературе. Впервые в иоэзии заговорила природа, впервые поэтическое произведение стало формой выражения философских идей автора. Во всех этих произведениях даются величественная картина мироздания и человек, стремящийся постичь его величие. Совершенно очевидна независимость этих произведений, особенно двух «Размышлений», от содержания и духа церковной религиозности. Церковники времен Елизаветы никак не могли увидеть в авторе этих «духовных» од своего единомышленника. Всем своим мироощущением, своей интерпретацией «божьего величества», своей проблематикой они противостояли официальной религии и несли в себе элемент борьбы с ней. Только в дальнейшем, в пору окончательного отделения литературы от религии, эти произведения заняли видное место в школьных хрестоматиях в качестве образцов, выражающих высокое религиозное чувство.
«Ода, выбранная из Иова», написана Ломоносовым по мотивам последних глав библейской книги Иова. Хотя перед нами заимствование из Библии, однако тема его оды не совпадает с темой книги Иова. В книге Иова ставится одна из основных проблем религии — отношение человека к богу. Иов предстает в ней как неразумная человеческая «тварь», которая не в состоянии постичь высшей премудрости божества. Ему остается только подчиниться непонятому им богу и поверить в него. Последние главы книги Иова — это апофеоз веры. У Ломоносова исчез Иов (так как он не дает мотивов из первых глав книги Иова) и вместе с ним исчезла самая проблема веры. Бог Ломоносова — поэтическое олицетворение мироздания, такое же олицетворение, какими являлись греческие и римские боги. Бог в этой оде и не лейбницианский бог. По форме это именно библейский бог, создавший небо и землю в шесть дней. Библейский примитивизм представлений, перенесенный Ломоносовым в эту оду (вспомним ироническое замечание Ломоносова-ученого — «бог так сотворил»), говорит о том, что книга Иова была для него только источником средств поэтического воплощения. То, что там составляло содержание, здесь превратилось в форму. Ломоносов ощущал поэтическое богатство последних глав библейской книги Иова и использовал его для «одухотворения» вселенной.
Не говоря уже об исключительной гармонии образов, часть которых непосредственно заимствована из Библии, а часть дополнена самим Ломоносовым, — это произведение отличается удивительной стройностью композиции, несмотря на разрозненность заимствованных им из книги Иова мотивов. Ода разбита на восьмистрочные строфы, которые, в свою очередь,
344
почти последовательно разбиваются на четверостишия. Синтаксически строфы повторяют одна другую (с некоторыми вариациями). Каждая строфа состоит из ряда вопросов, которые одновременно являются перечислением чудес вселенной (принцип, заимствованный Ломоносовым из книги Иова). ПОчти каждая строфа начинается с обращения к Иову (в первой или во второй строчке):
Где был ты, как передо мною
Бесчисленны тьмы новых звезд?
.............
Возмог ли ты хотя однажды
Велеть ранее утру быть?
..........
Стремнинами путей ты разных
Прошел ли моря глубину?
...........
Стесняя вихрем облак мрачный
Ты солнце можешь ли закрыть?
.............
Твоей ли хитростью взлетает
Орел на высоту паря?
и т. д.
Обильное использование союза и, композиционно упорядоченное (один раз переходящее в анафору), великолепно передает синтаксический строй, свойственный Библии. Третьи и четвертые строчки из только что цитированных строф (исключая первую) таковы:
И нивы в день томящей жажды
Дождем прохладным напоить.
...........
И счел ли чуд многообразных
Стада ходящие по дну.
.........
И воздух огустить прозрачный,
И молнию в дожде родить.
...........
По ветру крила простирает
И смотрит в реки и моря.
Ломоносов нагнетает один грандиозный образ на другой, гораздо больше концентрирует их, чем это имеет место в Библии, ибо его цель представить «обширную громаду света». Заключительные строки оды, привнесенные Ломоносовым от себя, должны, очевидно, воплощать в себе философско-религиозный смысл книги Иова. Они логически не вытекают из всего произведения и даже стилистически из него выпадают, превращаясь в какую-то плоскую дидактику.
Сие, о смертный, рассуждая,
Преставь зиждителеву власть,
Святую волю почитая,
Имей свою в терпеньи часть.
Он все на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси.
И без роптания проси.
345
«Смирение» и пассивность, которые здесь проповедует Ломоносов, настолько резко противоречат его многочисленным призывам к познанию, к тому, чтобы человек стал вровень с «божеством» (образ Прометея в «Письме о пользе стекла»), что могут быть восприняты только как выражение какой-то внешней необходимости.
Если «Ода, выбранная из Иова» является вольным переложением, библейских мотивов, то оба «Размышления» — это совершенно оригинальные произведения Ломоносова, внецерковный характер которых совершенно очевиден. Мало того, что Ломоносов в этих произведениях развивает те идеи, с которыми русское духовенство продолжало вести ожесточенную борьбу (в частности, идею о множестве миров), самый пафос их, обусловленный верой в возможность полного постижения человеком «устава естества», в науку, которая даст истинное представление о солнце, о звездах, о «множестве миров», придает этим произведениям прямой антицерковный смысл, а в условиях русской действительности 40-х и начала 50-х годов XVIII в. и политический оттенок.
Если сравнительно легко обнаружить отсутствие связи «Размышлений» с церковной теологией, то гораздо труднее отделить их от теологии: лейбницианского толка, так как внешне они как будто целиком укладываются в рамки рационалистического деизма Лейбница, особенно «Вечернее размышление». Говоря о бесконечном разнообразии природы, о «несчетных солнцах», «бездне звезд», о «морских волнах», «вечном льде», о явлениях, которые кажутся человеку непонятным чудом (северное сияние), Ломоносов вместе с тем видит единство, внутреннюю упорядоченность этого необозримого мира явлений, так как он твердо знает, что во всех этих явлениях, порой еще непонятных, действует все «та же сила естества». Весь этот ход мыслей чрезвычайно близок к философским воззрениям Лейбница. И все же это «Размышление» далеко отходит от лейбницианского деизма. Как из «Оды, выбранной из Иова» исчезла религиозная библейская проблематика, так из этого «Размышления» выпадает проблематика философско-деистическая. В своих конечных обобщениях Лейбниц всегда приходит к богу, дает апологию его, провозглашает «бесконечную мудрость» творца и при этом оставляет в мире такие начала, которых человек познать не может. «Размышление» Ломоносова тоже философское обобщение, но иного порядка. Для Ломоносова не существует проблемы о соотношении высшего божественного разума и природы, веры и знания. Ломоносов ставит иную проблему: человек может и должен познать природу, раскрыть «закон натуры», «естества устав». Таков философский смысл этого произведения; даже внешне это «Размышление» не дает материала для отождествления его философской сущности с рационалистическим деизмом Лейбница. Мир явлений показан сам по себе, вне высшего разума, давшего им закон существования. Τолько в одной последней строчке упоминается «творец», и притом философски неосмысленный («Кто ж знает, коль велик творец»). Правда, он упоминается еще и в третьей строфе, но здесь это упоминание имеет явно злободневный и полемический характер, так как строфа развивает идею множества миров, противную религии, и бог здесь вводится наперекор церковникам:
Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков:
Для общей славы божества
Там та же сила естества.
346
Что касается заглавия, то, очевидно, оно дано было значительно позже написания произведения, при подготовке к изданию «Собрания сочинений» 1751 г. (в своем «Слове о явлениях воздушных» Ломоносов, упоминая «Размышление», называет его «Одой о северном сиянии»). Такое заглавие давало возможность отнести произведение к разделу «духовных» од и указывало как будто на его традиционность и ортодоксальность. Так, оно во всей последующей литературе и школьных хрестоматиях шло под знаком «духовности», хотя кроме заглавия и последней строчки, ничто об этой «духовности» не говорит.
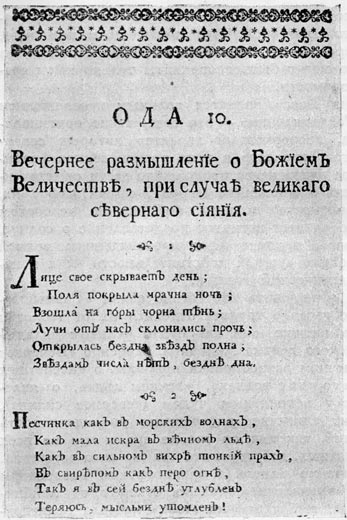
Начало оды Ломоносова „Вечернее размышление...“
в собрании его сочинений изд. 1751 г.
«Утреннее размышление» как будто больше подходит под категорию «духовных» од, уже хотя бы по одному тому, что Ломоносов неоднократно прославляет в нем «зиждителя», являющегося в своих «чудесных» делах («Представь, каков зиждитель сам», «Велик зиждитель наш господь!» «Бессмертный царь»). Но это «Размышление» от лейбницианской теологии может быть еще дальше, нежели «Вечернее». «Зиждитель» и «творец» в этом «Размышлении» идет не от Лейбница (для этого в нем слишком мало философского), а из псалмов. «Утреннее размышление» представляет собой по форме стилизацию псалма. Не только отдельные образы его заимствованы из псалмов (это имеет место и в «Вечернем размышлении»), но оно в целом выдержано в духе псалма, в духе молитвы. Этим именно определяется характер последней строфы «Размышления»:
Творец, покрытому мне тмою | Всегда творити научи.
|
Сближая по форме «Утреннее размышление» с псалмами, Ломоносов вкладывает в него тот же философский смысл, что и в «Вечернее».
Оба «Размышления» имеют много общего и в принципах своего поэтического воплощения (особенно близки «Вечернему размышлению» 2-я, 3-я и 4-я строфы «Утреннего размышления»). Они сочетают в себе исключительную точность описания, граничащую с точностью научной, и яркую образность, порой необычайную, по видимости, близкую к оксюморону. Таковы, например, следующие образы: «огненные валы», «горящие дожди» —
347
из «Утреннего размышления»; из «Вечернего размышления» — «хладный пламень», «ясный ночью луч», «мерзлый пар, рождающий пожар». Все эти образы производят впечатление смелой метафоричности, резких смысловых сдвигов, основанных на ассоциативности мышления. На самом деле они имеют четкое логическое оправдание в самой природе описываемых явлений в одном случае северного сияния, в другом — солнца. Особенно это чувствуется в следующих строфах:
Из «Вечернего размышления:
Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!
Из «Утреннего размышления»:
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов.
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода кипят.
Горящи там дожди шумят.
Оба «Размышления» — образцы высокой лирики. Они звучат более величественно, нежели «торжественные» оды, хотя целый ряд приемов в тех и других совпадает. И тут Ломоносов использует славянизмы, восклицания, вопрошения, которые должны передать изумление и восхищение поэта перед величием описываемого. Но здесь все эти одические приемы приобретают иной смысл, так как они оправданы самим содержанием произведений. Здесь уже не иллюзия восторга, как в большинстве «торжественных» од, а восторг истинный. Оба «Размышления» — произведения единственные в своем роде. В них наука поднята на высоту поэтического пафоса, а поэзия проникнута научным знанием. Ломоносов выступает в этих произведениях как совершенно оригинальный поэт, притом поэт большой творческой силы. Эти произведения получили признание на Западе. Оба «Размышления» были переведены на немецкий язык, а «Утреннее размышление» и на французский язык.
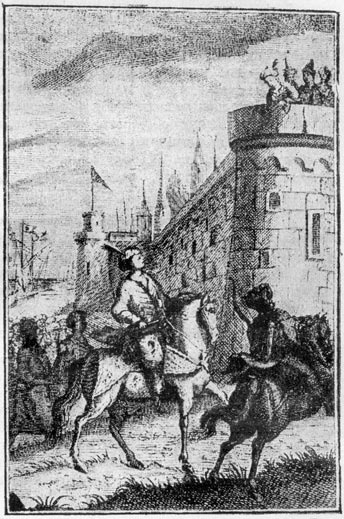
Гравюра из издания трагедии Ломоносова
„Тамира и Селим“ (СПб., 1750 г.).
Ломоносов пробовал свои силы и в трагедии. Он написал дне трагедии: «Тамира и Селим» (1751) и «Демофонт» (1752). В этих произведениях Ломоносов не сказал ничего нового. Они написаны им в основном в духе правил классицизма. Трагедия «Тамира и Селим» представляет известный интерес по некоторым своим мыслям (монолог Надира о тирании; слова Тамиры о праве человека на любовь и др.).
348
У Ломоносова на всем протяжении его творчества чувствуется тяга к личной лирике. Своим «ответом» на первую оду Анакреона он показал, что лирика ему не чужда, что лирические темы его вдохновляли. Но он, повидимому, не давал свободы этому своему влечению, не видя в нем общественного смысла. Его немногочисленные лирические стихи написаны им «для себя» и при жизни его не были опубликованы.
В этом «рыцаре» науки и просвещения, в этом человеке, всю жизнь отдавшем служению обществу, чувствуется какая-то внутренняя неуверенность в том, является ли избранный им жизненный путь правильным. В своем «ответе» на XI оду Анакреона он сталкивает два жизненных пути — путь радостной, веселой жизни для себя и путь жертвенный во имя блага народа.
Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок,
Ты век в забавах жил, и взял свое с собой.
Его угрюмством в Рим не возвращен покой.
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху.
Ломоносов не знает, кто из них прав, и говорит:
Несходства чудны вдруг и сходства понял я.
Умнее кто из вас, другой будь в том судья.
В своей жизни и в поэтическом творчестве Ломоносов шел за Катоном и подавлял в себе все то, что не считал общественно важным. Он подавлял в себе и поэта-лирика, но тем не менее интимная лирическая струя никогда не замирала в его творчестве. Его «ответы» Анакреону, переводы из него, строфы, посвященные Шувалову, раскрывают еще одну сторону его поэтической деятельности.
Сноски к стр. 277
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV (Ф. Энгельс, Диалектика природы), стр. 477.
Сноски к стр. 282
1 Намек на врага Ломоносова по академической канцелярии — Тауберта.
Сноски к стр. 283
1 Материалы для биографии Ломоносова. Собраны Билярским, 1865, стр. 503.
Сноски к стр. 289
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV (Ф. Энгельс. Диалектика природы), стр. 392, 393.
2 Там же, стр. 109, 110.
Сноски к стр. 294
1 В. И. Ленин. Философские тетради, 1936, стр. 77—78.
Сноски к стр. 295
1 Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме, 1936, стр. 62—63.
Сноски к стр. 296
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV (Ф. Энгельс. Диалектика природы), стр. 479.