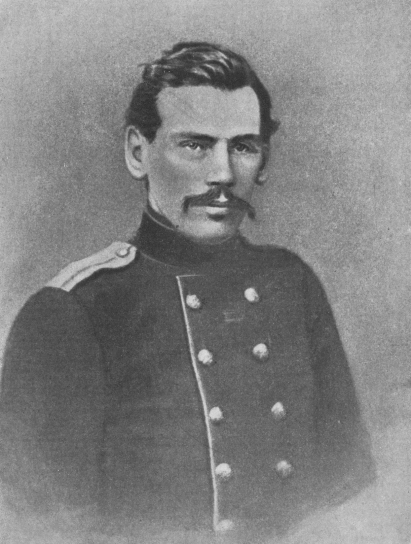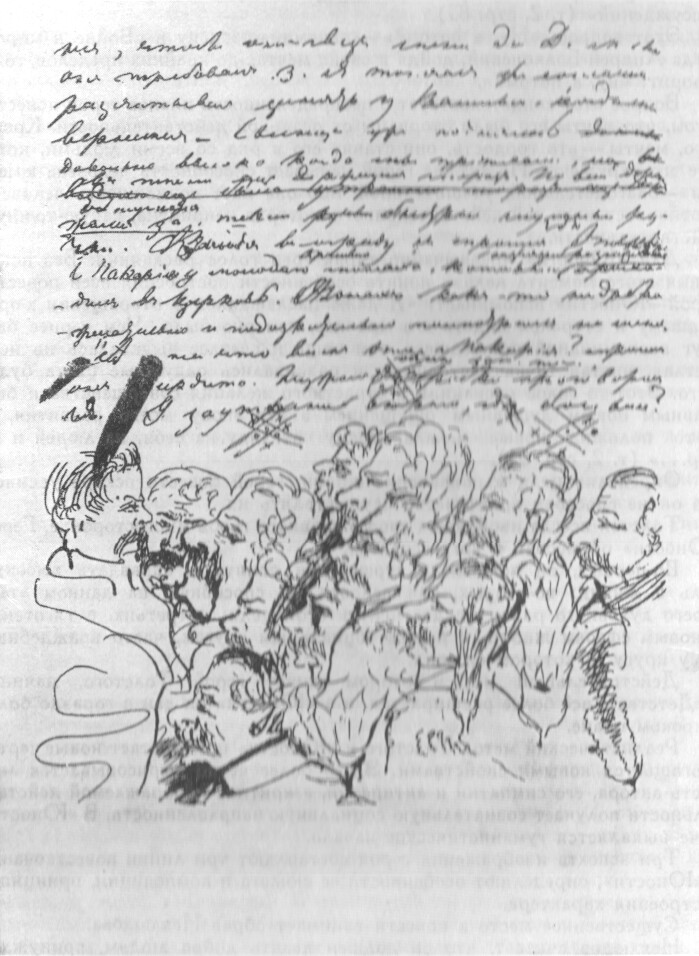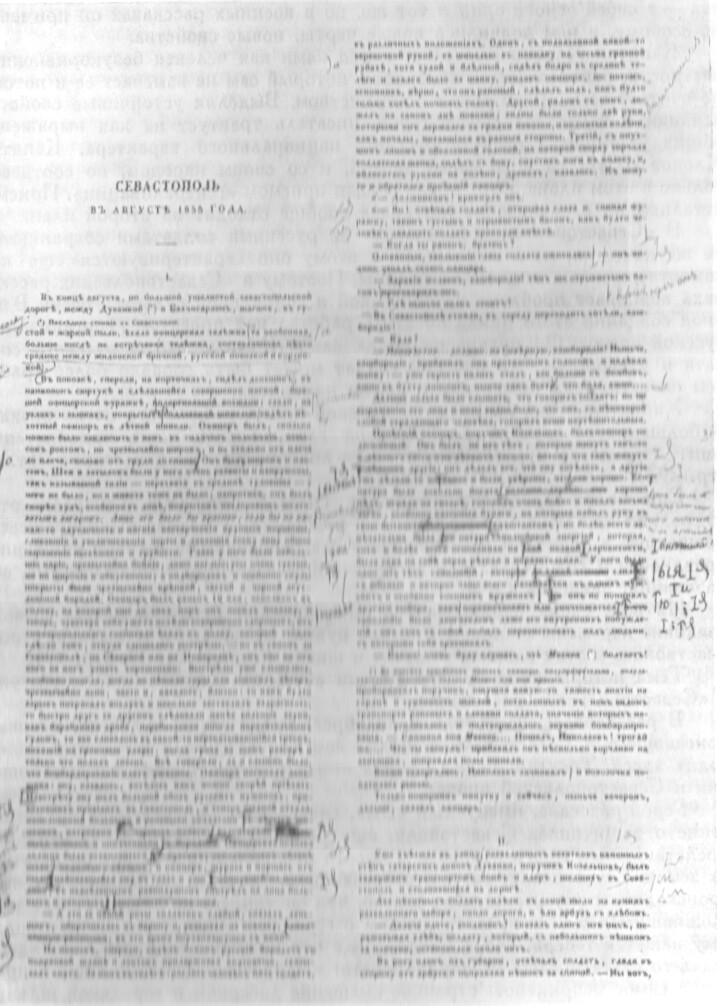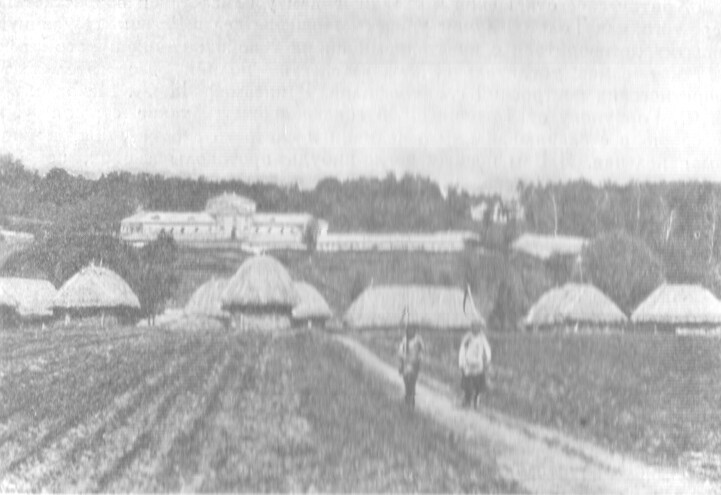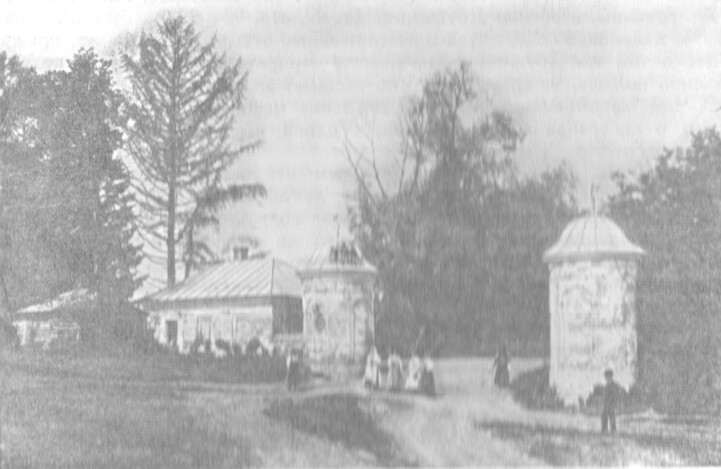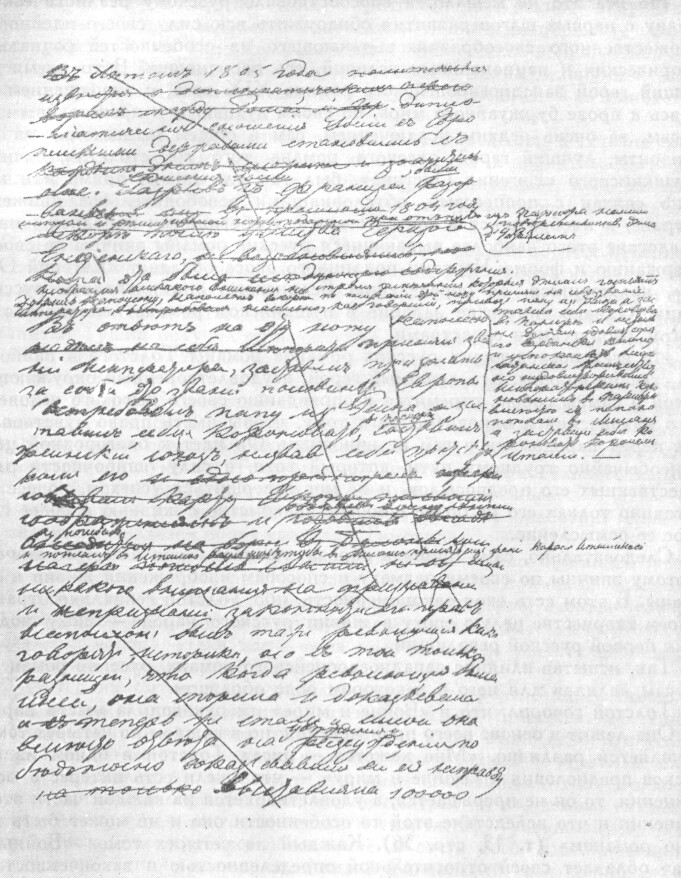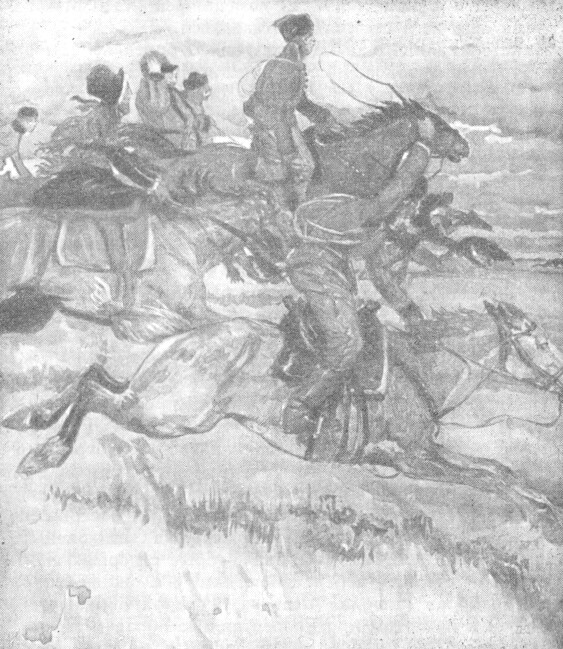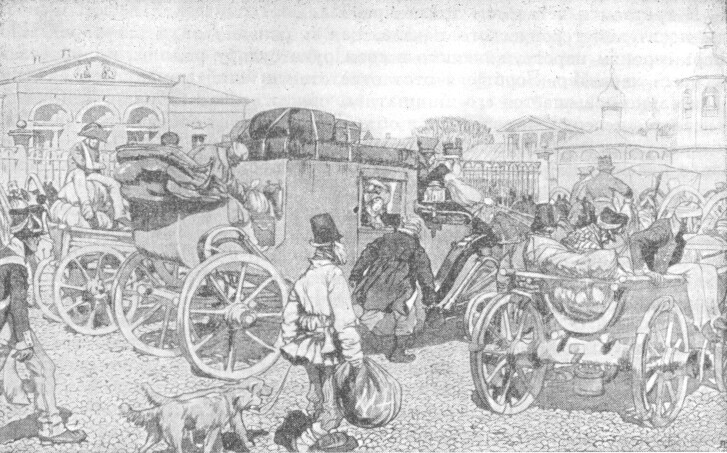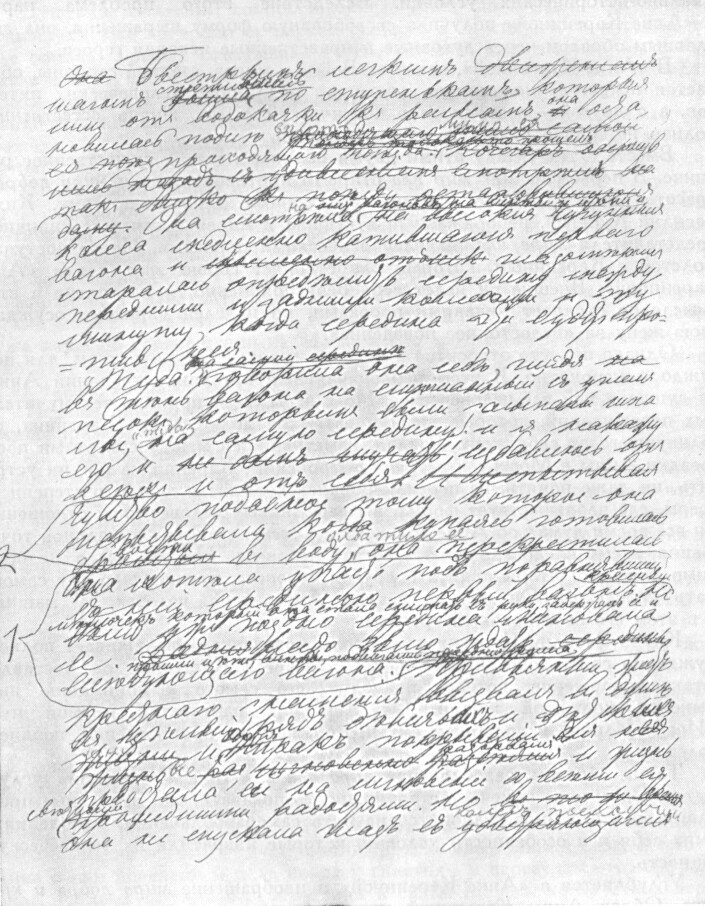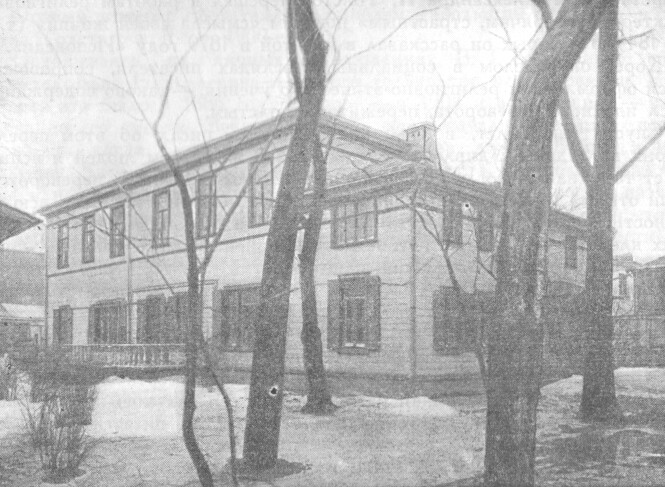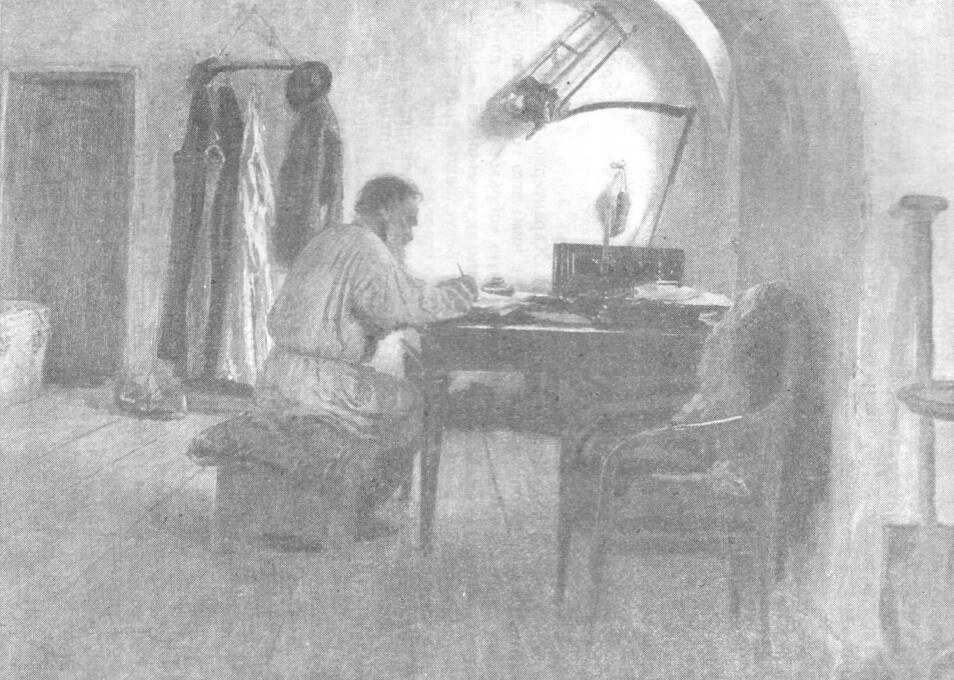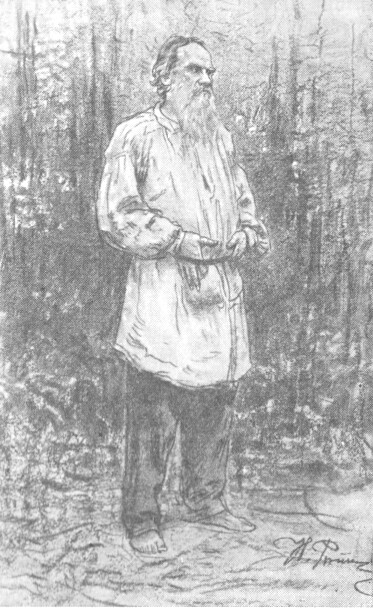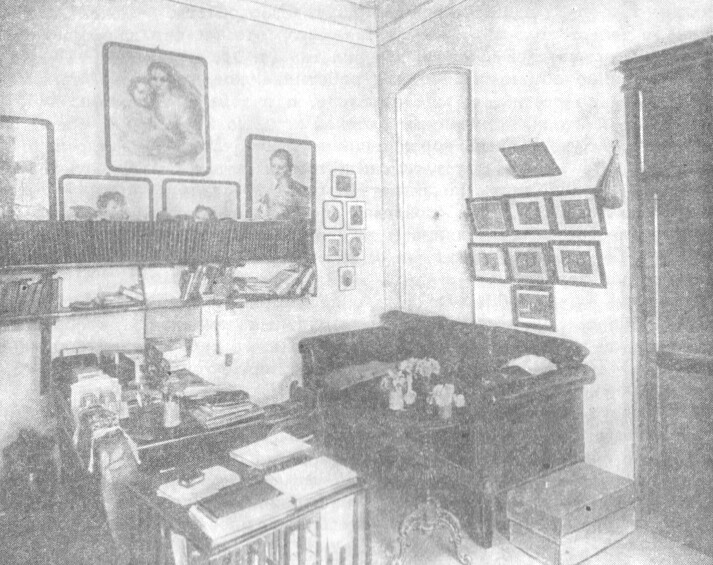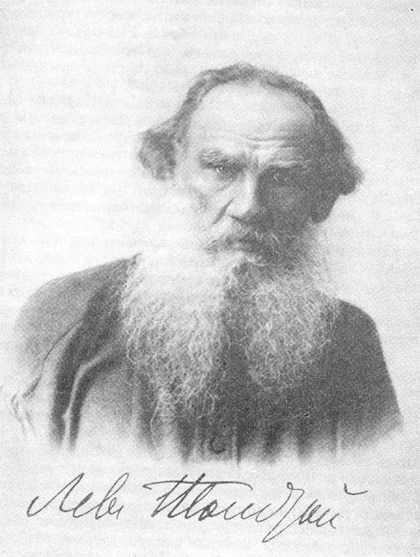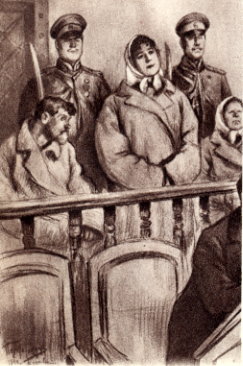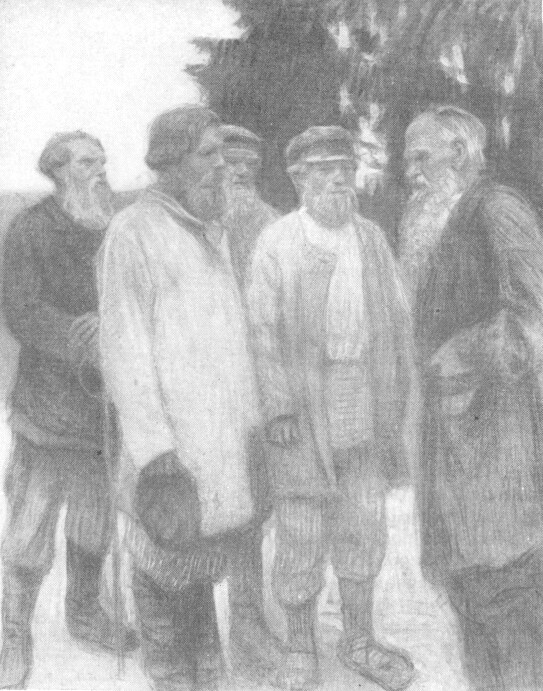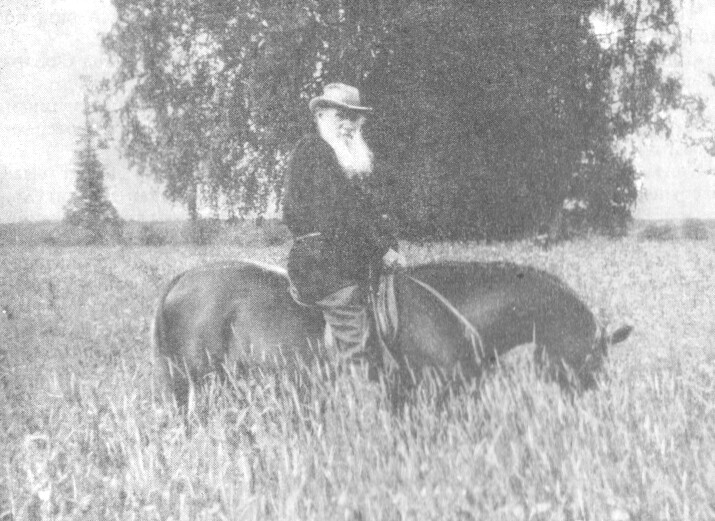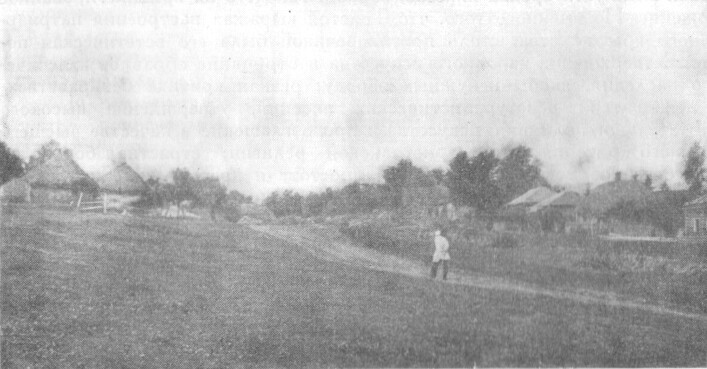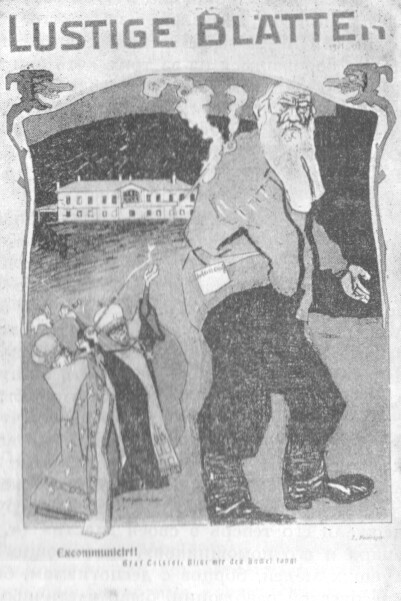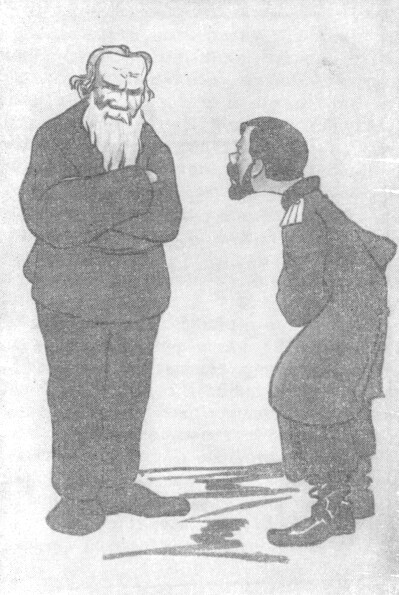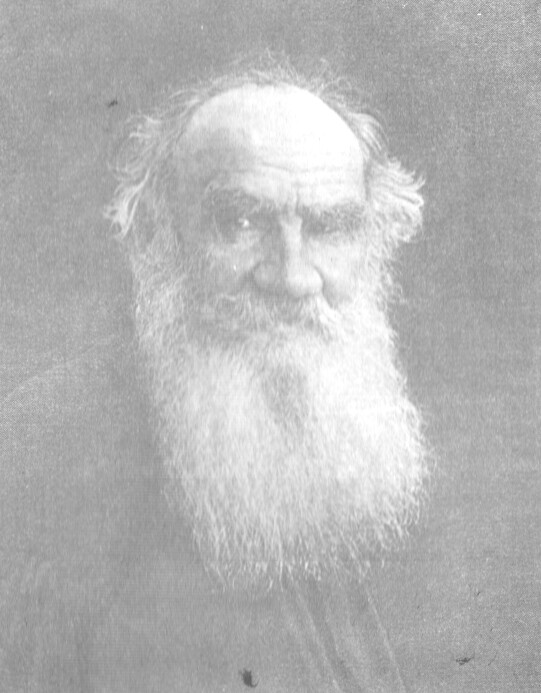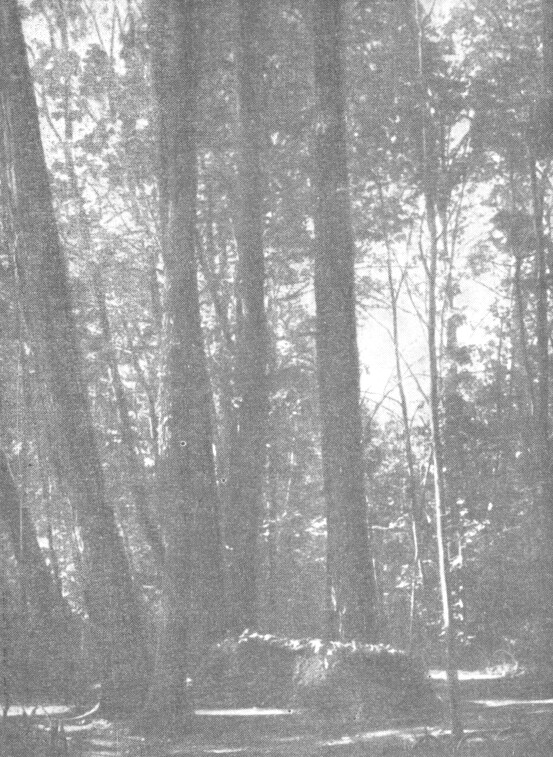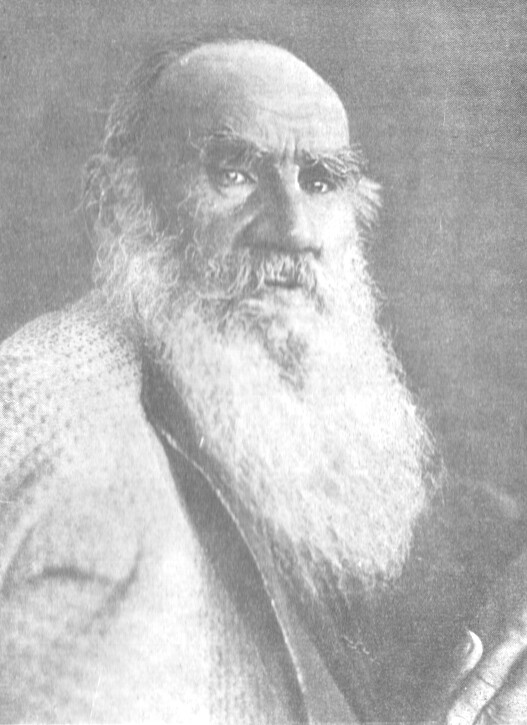- 433 -
Л. ТОЛСТОЙ
- 434 -
- 435 -
Деятельность Льва Николаевича Толстого знаменует собой целую эпоху в истории русской и мировой литературы.
Его мировое значение как художника и мировая известность как мыслителя и проповедника объясняются мировым значением первой русской революции. Как гениальный художник, главный период деятельности которого совпадает с эпохой подготовки русской буржуазно-демократической революции, Толстой, указывает Ленин, не мог не отразить «некоторые хотя бы из существенных сторон революции».1 Толстой вступил в литературу почти за десятилетие до отмены крепостного права. В это время завязывался тот узел общественно-экономических противоречий, которые характеризуют эпоху, начавшуюся после «крестьянской реформы» и продолжавшуюся вплоть до революции 1905 года. «Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Толстой... сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».2
Толстой отрицал революционные методы борьбы, но своими сильными сторонами его творчество было близко революционным демократам — самым передовым деятелям эпохи 60-х годов. Толстого приветствовал Некрасов, видя в нем достойного продолжателя традиций Гоголя, а потом и Чернышевский, назвавший его великой надеждой русской литературы.
Переход Толстого на позицию патриархального крестьянства явился следствием воздействия на писателя социально-исторических процессов, происходивших в русской жизни в эпоху 1862—1904 годов.
«Толстой, — говорит Ленин, — знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы. Острая ломка всех „старых устоев“ деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь».3
- 436 -
Деятельность Толстого как писателя и мыслителя протекала в период, когда Россия крепостническая становилась Россией буржуазной, когда в русском народе зрели силы для массовой революционной борьбы, свидетелем которой ему довелось быть. По словам Горького, Толстой «дал итог пережитого за целый век и дал его с изумительной правдивостью, силой и красотой».1
1
Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне. Родители его — отец Николай Ильич Толстой и мать Мария Николаевна Волконская — происходили из родовитых дворянских семей. Толстой не помнил своей матери: она умерла, когда ему не было еще двух лет, но через всю жизнь он пронес ее светлый образ, который возник в его сознании еще в детские годы.
В 1837 году внезапно скончался его отец. После смерти отца над малолетними детьми была назначена опека: тетка Толстого, Александра Ильинична Остен-Сакен, и приятель его отца, Языков. Воспитательницей будущего писателя стала дальняя родственница Толстых — Татьяна Александровна Ергольская.
Детские и отроческие годы Толстой провел главным образом в Ясной Поляне и в Москве. В 1841 году, после смерти А. И. Остен-Сакен, вся семья переезжает в Казань, где жила новая опекунша, тетка Толстых — Пелагея Ильинична Юшкова.
С переездом в Казань фактически начинается самостоятельная жизнь юноши Толстого. В течение двух с половиной лет он готовился к поступлению в Казанский университет и в сентябре 1844 года был зачислен на восточное отделение философского факультета по турецко-арабскому отделу. Занятия в университете не увлекали Толстого. Внешне он вел в это время жизнь, характерную для молодого человека его круга. Вместе с тем он много читал, задумывался над самыми сложными вопросами жизни человека и общества.
Не выдержав экзамена за первый курс, Толстой в октябре 1845 года перешел на первый курс юридического факультета. Занятия на этом факультете шли у него более успешно. На летнее время он уезжал в Ясную Поляну и пытался сблизиться с крестьянами; думал о том, как улучшить их жизнь, разрабатывал различные планы.
Летом 1846 года восемнадцатилетний Толстой заводит три тетради: в одну записывает «Разное», т. е. «поэзию, философию и вообще вещи не особенно красивые, но о которых приятно писать». Вторая носит название — «Что нужно для блага России и очерк русских нравов», а третья — «Примечания насчет хозяйства».2 С марта 1847 года он начинает вести дневник и ведет его почти непрерывно в течение всей жизни.
На третьем курсе Толстой с большим увлечением писал работу на заданную профессором Меером тему: «„Наказ комиссии о сочинении проекта нового Уложения“ Екатерины II и сравнение его с книгой Монтескье „Дух законов“»; выполнение этой работы явилось важным моментом в его духовном развитии.
- 437 -
В апреле 1847 года Толстой оставляет университет и возвращается в Ясную Поляну. Здесь он разрабатывает подробный план своих будущих занятий, предполагает начать изучение языков, истории, географии, математики, естествознания, заняться музыкой и живописью, составляет для себя правила поведения, рассчитывает в будущем сдать кандидатские экзамены, а затем и заняться хозяйством, улучшить жизнь крепостных крестьян.
В октябре 1848 года Толстой едет в Москву. В начале 1849 года он направляется в Петербург, где сдает экзамены по ряду предметов для поступления в университет, но не доводит дело до конца. Толстой решает поступить на военную службу, однако и от этой мысли отказывается.
Вернувшись в Ясную Поляну, он открыл школу для крестьянских детей, потом поступил на службу в Тульское губернское правление. Однако служба не давала ему никакого удовлетворения, занятия в школе также вскоре стали обременять его.
В конце 1850 года Толстой вновь уезжает в Москву, где, как и прежде, вращается в высшем светском обществе. Он продолжает вести дневник, внимательно следит за литературой, делает выписки из прочитанных книг, дает им свои оценки. К этому же периоду следует отнести зарождение первых его литературных замыслов.
Весной 1851 года Толстой вернулся в Ясную Поляну, где в это время гостил его брат Николай Николаевич, служивший офицером на Кавказе. 29 апреля 1851 года оба брата выехали на Кавказ.
На Кавказе Толстой создал свои произведения, положившие начало блистательной литературной деятельности.
Первое выступление Толстого в печати относится к 1852 году, когда в «Современнике», редактировавшемся Некрасовым, появилась его повесть «Детство». Автору повести исполнилось к тому времени 24 года. Имя его в литературе никому не было известно, и он, не уверенный в успехе, подписал свое первое произведение буквами Л. Н.
«Детство» свидетельствовало не только о силе, но и о зрелости таланта молодого писателя. Это было произведение сложившегося мастера, оно привлекло к себе внимание читательской массы и литературных кругов. Вскоре после опубликования «Детства» были напечатаны (в том же «Современнике») новые произведения молодого писателя — «Отрочество», рассказы о Кавказе, а затем знаменитые «Севастопольские рассказы». Толстой занял место в ряду виднейших писателей того времени.
Толстой начал работать над «Детством» в июле 1851 года. Через год повесть была закончена и отправлена в «Современник». В январе 1852 года Толстой был зачислен на военную службу. В армии он находился до осени 1855 года, принимал активное участие в героической обороне Севастополя.
Толстой очень рано стал жить напряженной духовной жизнью. Праздность, тщеславие, отсутствие каких-либо серьезных духовных интересов, неискренность и фальшь — вот те пороки, которые Толстой обличает в «Детстве». Он задумывается над вопросом о высоком назначении человека, хочет найти себе настоящее дело в жизни. Из этих попыток пока что ничего не получается. Несмотря на это, рано пробудившиеся у Толстого интересы к сложным идейно-нравственным вопросам не угасали, не ослабевали. Эта напряженная работа мысли нашла отражение в дневнике.
Первая дневниковая запись была сделана Толстым 17 марта 1847 года. Некоторое время спустя, 7 апреля того же года, он писал:
- 438 -
«Я никогда не имел дневника, потому что не видал никакой пользы от него. — Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития».1
Дневник Толстой рассматривает как средство духовного и нравственного развития. Его второе назначение — служить практическим руководством в жизни. Третье назначение дневника становится ясно Толстому лишь во второй половине 1850 года, уже тогда, когда у него было немало литературных замыслов: «Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными; постараюсь пооткровеннее и поподробнее вспомнить и написать их. Вот еще третье назначение для дневника» (т. 46, стр. 35).
В своих дневниках Толстой не только констатирует порочность духовного и нравственного мира светских людей, но ищет и пути избавления от пороков. С его точки зрения, общество губит человека, убивает в нем здоровые начала. Отсюда мысль о том, что человек должен вести уединенный образ жизни, добиваться того, чтобы чувствовать себя независимым от окружающей среды.
С одной стороны, юноша Толстой стремится к усовершенствованию своего духовного мира, а с другой — заботится о том, чтобы укрепиться в той же самой среде, которая им осуждается. И он вырабатывает для себя два ряда правил поведения: первый ряд — что́ нужно делать для того, чтобы духовно и нравственно расти; второй — при помощи каких средств он может укрепить свое положение именно как светский человек. В этом сказывалось наличие еще прочной связи его со средой, становившейся для него ненавистной.
Толстой ставит перед собой цель — всестороннее развитие личности. В то же время он отдавал себе отчет в том, какие трудности стоят перед ним, порой колебался, сомневался в избранном пути, иногда задумывался над тем, не лучше ли ему вернуться на колею, по которой идут все люди его круга.
Записи дневника помогают Толстому разбираться в том, каким закономерностям подчинен каждый человеческий поступок, каждая человеческая мысль, каждое человеческое чувство. Это приводило к расширению записей, которые в ряде случаев постепенно перерастали в литературные замыслы. Ему становится ясным третье назначение дневника.
Вопросы, которых касался Толстой в своем дневнике, были поставлены всем ходом развития социально-исторической действительности. Русская литература задолго до Толстого выдвинула тему неполноценности идеологии и психологии господствующих классов, тему величия духовного мира народа. В 40-е, а тем более в 50-е годы обе названные темы заняли существенное место в творчестве выдающихся русских писателей. Разоблачению эксплуататорской морали и борьбе за новую мораль немало сил отдавали Белинский и Герцен, а затем Чернышевский, Некрасов, Добролюбов, Салтыков-Щедрин. Этому важному делу служила вся передовая русская литература. Существенно отметить, что именно в статье о Толстом Чернышевский писал: «Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени, во всех замечательных своих произведениях,
- 439 -
без исключения, есть благородное проявление чистейшего нравственного чувства».1
Л. Н. Толстой.
Фотография. 1856.Толстой, показывает Чернышевский, решал ту самую задачу, которая стояла перед всей русской передовой литературой того времени. Но он решал ее по-своему. К выполнению своей исторической миссии он готовился на протяжении долгих лет, изучая самого себя, людей различных званий и положений, жизнь страны, ее культуру и прежде всего литературу. Результаты неустанных наблюдений и размышлений он заносил в свой дневник, делая в нем определенные обобщения теоретического и художественного порядка, — в этом смысле и говорится здесь о дневнике молодого Толстого как о школе, в которой формировался его талант.
Борьба за новую мораль требует глубокого анализа человеческой психологии. К овладению методом психологического анализа постоянно призывал писателей Белинский. Герцен еще в 1846 году писал о необходимости введения микроскопа в изучение нравственного мира человека. С большой остротой ставит этот вопрос Чернышевский. В той же статье о Толстом он пишет: «Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны — ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами» (III, 427).
Толстой потому и был так восторженно встречен передовыми писателями и критиками, что своими произведениями он с особой силой ответил на важнейшие требования эпохи. Однако Толстой с восторгом был принят и критикой либерального лагеря. Эта критика, в противоположность критике революционных демократов, пыталась доказать, что произведения Толстого никак не связаны с эпохой и являются подтверждением теории «чистого искусства». Об этом писали в своих статьях П. В. Анненков, А. В. Дружинин, С. С. Дудышкин. Чернышевский в своей статье показал полную несостоятельность позиции критиков-либералов и охарактеризовал реалистический метод молодого писателя как выражение существеннейших требований эпохи нараставшего общественного подъема.
В ранние литературные произведения Толстого входит тот же круг вопросов, которым насыщены его дневники. Для него литературные произведения
- 440 -
на первых этапах становятся как бы расширенным, художественно обработанным дневником. Одним из первых его произведений является незаконченный рассказ «История вчерашнего дня», выросший непосредственно из дневниковых записей.
В самом начале рассказа Толстой определяет цель, которой он хочет достигнуть: проследить поступки и мысли человека за один день.
Наблюдения над собой и другими приводят Толстого к выводу, что на каждый свой поступок человек смотрит не с одной, а с нескольких точек зрения, прямо указывает на то, что нет ни одного такого поступка, совершаемого тем или иным человеком, против которого он не мог бы высказаться. Но нет также ни одного такого поступка, которого человек не мог бы одобрить. Таким образом, по отношению к каждому поступку есть «за» и есть «против». Толстой признает за человеком свободу в его действиях и в размышлениях. Но тут же он указывает и на обусловленность каждого его поступка, каждого действия.
Мысль о цели в жизни начинает преследовать героя рассказа «История вчерашнего дня». Он хочет иметь великую, возвышенную цель в жизни, но понимает, что ее нет у него, что он не способен осуществить ее. И отсюда его мучения. Он то идет навстречу мысли о высокой цели жизни, то прячется от нее. Наконец, в рассказе описано, как герой засыпает, испытывая наслаждение от того, что, наконец, погружается в сон и наступает тот момент, когда можно уйти от преследующей его мысли о цели, о смысле жизни.
Толстой считал, что только развитие всех умственных способностей дает человеку истинное счастье. И поэтому в его произведениях мы находим гимны человеческому уму. Но для Толстого ум человеческий — не только благо, но и зло. Ум открывает человеку несовершенство окружающего мира и самого себя, дает возможность поставить перед собой высокую цель, намечает путь для достижения совершенства. Поэтому он — благо. Но этот путь на деле не ведет к совершенству, цель оказывается неосуществленной. Поэтому ум человеческий — зло, несчастье, он превращает жизнь человека, поверившего в силу ума, в сплошное мученье. Это противоречивое отношение к деятельности человеческого ума выражает и сильные, и слабые стороны мировоззрения великого писателя.
Дневники молодого Толстого со всей очевидностью показывают, что существенные принципы его художественного метода сложились еще до того, как он выступил в печати. Они формировались в тесной связи с теми процессами, которые происходили в это время в русской литературе.
На Кавказе, а затем в Севастополе в постоянном общении с русскими солдатами, людьми простыми и в то же самое время величественными, крепли симпатии писателя к народу, углублялось его критическое отношение к эксплуататорскому строю.
Начало литературной деятельности Толстого совпадает с началом нового подъема освободительного движения в России. Тогда же начинал свою деятельность и великий революционный демократ Чернышевский. Чернышевский и Толстой стояли на различных идеологических позициях: первый был сторонником революционного преобразования действительности, а второй отрицательно относился к революции. Вместе с тем Толстой питал глубочайшие симпатии к народу, понимал весь ужас его положения, непрестанно думал о том, какими средствами можно облегчить его участь. Симпатии Толстого к народу и понимание положения народа нашли сильное и яркое отражение в самых первых толстовских произведениях.
- 441 -
Творчество молодого писателя неразрывно связано с начавшимся демократическим подъемом в стране, с ростом всей передовой русской литературы.
Проблема народа — основная проблема всего творчества Толстого.
Вскоре после окончания «Детства» Толстой задумал произведение в четырех частях — «Четыре эпохи развития». Под первой частью этого произведения разумелось уже написанное «Детство», под второй — «Отрочество», под третьей — «Юность», под четвертой — «Молодость». Толстой осуществил не весь замысел: «Молодость» не была написана вовсе, а «Юность» он не довел до конца (для второй половины повести написана вчерне только первая глава). Над «Отрочеством» Толстой работал с конца 1852 года по апрель 1854 года. «Юность» была начата в марте 1855 года, окончена в сентябре 1856 года, когда прошло уже около года после возвращения Толстого из армии.
В произведении «Четыре эпохи развития» Толстой намеревался показать процесс становления человеческого характера — от самой ранней детской поры, когда зарождается духовная жизнь, до молодости, когда она вполне самоопределяется. В образе героя в значительной степени отражены черты личности самого автора. «Детство», «Отрочество» и «Юность» поэтому принято называть автобиографическими повестями. В то же время этим повестям свойственна большая сила художественного обобщения. Самый образ Николеньки Иртеньева является глубоко типичным. Толстой показывает, как среда, в которой жил его герой, отрицательно влияет на него и как герой пытается противостоять среде, возвыситься над нею. Герой Толстого — человек сильного характера и выдающихся способностей.
Повесть «Детство», как и автобиографическую трилогию в целом, нередко называли дворянской хроникой, произведением, в котором поэтизируется дворянская усадьба. В действительности же основной пафос этого произведения в другом. Толстой весьма далек от поэтизации довольства, которым был окружен Николенька Иртеньев.
Ведущим, основополагающим началом в духовном и нравственном развитии Николеньки Иртеньева является его стремление к добру, к правде, к истине и к торжеству любви между людьми. Духовный и нравственный рост героя повести раскрывается в двух планах: во-первых, Толстой показывает, как герой познает самого себя, открывает в самом себе всё новые и новые свойства; во-вторых, как окружающий мир познается героем повести.
Николенька уверен, что он в детстве почти одинаково любил отца своего и учителя Карла Ивановича, и ему казалось, что люди, которых он одинаково любит, должны любить и друг друга. На самом деле Николенька устанавливает нечто совершенно другое. Он видит, что между отцом и учителем не только нет любви, но что отец проявляет к Карлу Ивановичу крайнюю несправедливость. И это доставляет Николеньке большое огорчение.
Важное значение в сюжете и композиции повести имеет глава XIII — «Наталья Савишна». Николенька уронил графин с квасом и облил скатерть. Узнав об этом, Наталья Савишна в присутствии родителей ничего не сказала своему любимчику, а потом, когда они были одни, начала тереть по его лицу мокрым, приговаривая: «не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Николенька страшно возмутился: «Как... просто Наталья говорит мне ты, и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!» (т. 1, стр. 38). Но как только Наталья Савишна
- 442 -
обратилась к Николеньке с лаской, он сразу раскаялся и устыдился своих прежних мыслей.
Герой Толстого вспоминает именно такие случаи из своей жизни, в которых он стремится оправдаться перед самим собой.
Николенька замечает в каждом человеке неестественность и фальшь, и это развивает в нем беспощадность к людям, а также к самому себе, так как свойственную людям фальшь и неестественность он видит и в себе. Он нравственно казнит самого себя за это.
Толстой показывает, как постепенно его герою становится ясным несоответствие внешней оболочки окружающего его мира и истинного его содержания. Николенька уясняет, что люди, с которыми он встречается, не исключая самых близких и дорогих для него людей, на деле вовсе не такие, какими они хотят казаться. Так, в первой редакции повести Николенька говорит о своем отце: «...я не могу не судить его. — Как не больно, не тяжело мне было по одной срывать с него в моих понятиях завесы, которые закрывали мне его пороки, я не мог не сделать этого» (т. 1, стр. 106).
Одним из выражений духовного роста героя следует признать развитие в нем аналитической способности. Но эта же способность, содействуя обогащению духовного мира ребенка, разрушает в нем наивность, безотчетную веру во всё доброе и прекрасное, что Толстой считал «лучшим даром» детства. Это хорошо видно, в частности, из главы VIII — «Игры». Дети играют, и игра доставляет им громадное наслаждение. Но они получают это наслаждение в той мере, в какой игра кажется им настоящей жизнью. Как только утрачивается эта наивная вера, игра перестает доставлять детям радость. Первым высказывает мысль о том, что игра не есть настоящая жизнь, Володя, старший брат Николеньки. Николенька понимает, что Володя прав, но тем не менее слова Володи его глубоко огорчают.
Николенька размышляет: «Ежели судить по настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что же тогда остается?..» (т. 1, стр. 27).
Николенька живет как бы в двух мирах — в мире детском и в мире взрослых людей. Большое место в повести занимает описание чувства любви к людям, и эта способность ребенка любить других, может быть, больше всего восхищает Толстого. Но восхищаясь этим чувством ребенка, Толстой показывает, как мир «больших», мир взрослых людей разрушает это чувство, не дает ему возможности развиться во всей чистоте и непосредственности. Николенька был привязан к мальчику Сереже Ивину. Но он так по-настоящему и не мог сказать ему о своей привязанности, чувство это так и погибло в нем.
Отношение Николеньки к Иленьке Грапу обнаруживает другую черту в его характере, опять-таки отражающую дурное влияние на него мира «больших».
Герой Толстого был способен не только к любви, но и к жестокости. Иленька Грап, мальчик из небогатой семьи, стал предметом насмешек и издевательств со стороны мальчиков круга Николеньки Иртеньева. Николенька не отстает от своих друзей, но потом, как всегда, испытывает чувство стыда и раскаяния.
Последние главы повести, связанные с описанием смерти матери героя, подводят как бы итог его духовному и нравственному развитию в детские годы. В этих главах подвергаются бичеванию неискренность, фальшь и лицемерие светских людей. Николенька наблюдает за тем,
- 443 -
как он сам и близкие ему люди переживают смерть его матери. Он устанавливает, что никто из них, за исключением простой русской женщины Натальи Савишны, не был до конца искренен в выражении своих чувств. Отец по виду был потрясен несчастьем, но Николенька отмечает, что он не утерял своей эффектности. И это заставляло думать, что горе отца не было «вполне чистым горем». Даже в искренность переживаний бабушки Николенька не до конца верит. Жестоко осуждает он и себя за то, что только на одну минуту был целиком поглощен своим горем.
Иллюстрация:
«История моего детства». Первопечатный текст.
«Современник», 1852, № 9.Николенька устанавливает причину этой неискренности, фальши светских людей: тщеславие.
Заключительные страницы повести «Детство» овеяны глубокой грустью. Николенька находится во власти воспоминаний о матери и Наталье Савишне, уже умерших к тому времени. Он уверен, что с их смертью отошли в прошлое самые светлые дни его жизни.
В высшей степени примечательно то обстоятельство, что образ Натальи Савишны Николенька ставит рядом с образом своей матери. Тем самым он признает, что Наталья Савишна сыграла в его жизни такую же важную роль, как и его мать, а может быть, еще важнее.
Образ Натальи Савишны не получил должного освещения в литературе о Толстом. Существует весьма распространенное мнение, согласно которому сущность характера Натальи Савишны — в ее рабской преданности своим господам. Действительно, покорность — одна из существенных черт ее психологии. Но в духовном и нравственном облике Натальи Савишны есть и другие, не менее существенные свойства — прежде всего ее нравственная чистота и безупречность, которая неизменно возвышает ее над господами. Образ Натальи Савишны служит для Николеньки подтверждением того, что мир правды и добра существует и что есть пути к этому миру.
Своего главного героя Толстой всегда изображал в процессе непрерывного духовного роста и постоянной внутренней работы. Этим определились многие существенные черты толстовского художественного реализма, в котором на первом плане стояло изображение духовной жизни
- 444 -
человека. По определению Чернышевского, прочно вошедшему в критическую литературу, Толстой, усвоив лучшие достижения своих предшественников, с изумительным мастерством раскрывал в своих произведениях «диалектику души» человека. С его точки зрения, постоянный духовный рост человека не только не исключает, но предполагает крутые перемены в своем внутреннем развитии. Он резко выделяет их при изображении своих лучших героев, связывая, как правило, и с определенными событиями в их жизни. Так, в сюжете повести «Детство» выделены два момента: отъезд Иртеньевых в Москву и смерть Maman. С одним из них — отъездом в Москву — связано нарушение первоначальной гармонии в характере Николеньки, выразившееся в том, что он стал постепенно утрачивать непосредственное чувство любви к людям; другим событием — смертью Maman — подчеркнут перелом в понимании и оценке Николенькой окружающих его людей: ему стало ясно, что они насквозь лживы и фальшивы.
Во время работы над «Отрочеством» Толстой проявлял особый интерес к различным философским вопросам, в частности к вопросу о цели жизни. С точки зрения Толстого, человек, который желает достигнуть совершенства, должен стремиться к тому, чтобы развить и укрепить веру в торжество добра, правды, справедливости и любви между людьми, а с другой — выработать в себе способность к аналитическому мышлению. Только в этом случае он сможет и поставить перед собой высокую цель.
С этим связаны те две черты реализма Толстого, на которые было указано Чернышевским: «...глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства...» (III, 428).
Толстой, таким образом, видел прямую связь между двумя способностями человека: развитием его умственных сил и верой в правду и добро. Вместе с тем ему казалось, что ум подрывает веру. Отсюда у него тяготение к вере, стремление заменить верой аналитическую способность ума.
Если судить по окончанию «Детства», можно прийти к заключению, что перед героем Толстого в ту пору открывалось несколько выходов. Увидев беспощадную силу аналитической способности, которая казалась ему разрушительной, он мог отказаться от нее. Ему представлялся и такой выход: он мог поставить перед собой цель — дальше развивать аналитическую или теоретическую способность, отказавшись от веры. Это, конечно, привело бы его к пессимизму, тогда как, идя по первому пути, он пришел бы к поверхностному пониманию жизни. Наконец, перед героем Толстого открывался третий путь: стремиться одновременно укреплять в себе и теоретическую способность, и веру в торжество правды и добра на земле. Герой Толстого пошел именно по этому пути. Для него наступает такой период духовных и нравственных исканий, который можно было бы назвать периодом поисков равновесия между аналитической способностью и верой во всё прекрасное и доброе. Поиски этого равновесия и определяют художественную структуру повести «Отрочество».
Сюжет «Отрочества», как и «Детства», — духовная биография Николеньки Иртеньева. Критический пафос во второй повести гораздо выше. Разлад Николеньки с окружающей средой ясно наметился уже в «Детстве». Однако в ту пору этот разлад, осознанный в той или иной мере героем, практически слабо ощущался в его отношениях с людьми. В «Отрочестве» же герой то и дело вступает в конфликты с ними. Поэтому сюжет «Отрочества» гораздо более напряженный, он охватывает и более широкий жизненный материал.
- 445 -
В «Детстве» Толстой показывает своего героя в узком семейном кругу. Остальной мир для него в то время существовал лишь постольку, поскольку он соприкасался с его семьей.
Первая глава «Отрочества» — «Поездка на долгих». Пока Николенька Иртеньев видит «большой мир» только из окна кареты, на постоялых дворах. Но он уже задумывается о нем и понимает, что существуют люди, которые не имеют никакого отношения к его семье и которые никак не интересуются его семьей, а живут какими-то своими особыми интересами.
Соприкоснувшись с «большим миром», он думает о том, чтобы найти свою собственную дорогу в нем, чтобы определить свой собственный жизненный путь.
Уже на этом этапе духовного развития у Николеньки появляется желание заменить удовольствия светского человека, которыми пользовался его брат, другими наслаждениями, в первую очередь уединением. По самому замыслу произведения, братья Иртеньевы — характеры противоположные.
В одном из планов романа «Четыре эпохи развития» содержится такой пункт: «Провести во всем сочинении различие братьев: одного наклонного к анализу и наблюдательности, другого к наслаждениям жизни» (т. 2, стр. 243).
Наслаждаясь жизнью, Володя с ранних лет показывает себя таким, какими были все люди его круга. Поэтому ему и живется так легко и просто.
Николенька своим необычным поведением обращает на себя внимание уже в детские годы. Он рано чувствует себя каким-то отщепенцем. Карл Иванович, учитель братьев Иртеньевых, перед уходом из их дома рассказывает Николеньке грустную историю своей жизни. В результате всех злоключений, выпавших на его долю, Карл Иванович выглядит не только человеком глубоко несчастным, но и отчужденным от мира. Выслушав из уст своего учителя историю его жизни, Николенька почувствовал внутреннюю близость к нему.
Вслед за главами, повествующими об истории Карла Ивановича, следуют главы: «Единица», «Ключик», «Изменница», «Затмение», «Мечты», в которых рассказывается история злоключений Николеньки Иртеньева. Внутренняя связь истории учителя и ученика очевидна: оба они, несмотря на различие в возрасте и положении, чувствуют свое одиночество.
Поступки и мысли Николеньки Иртеньева — это поступки и мысли ребенка. Ничего неестественного в них нет. Мальчик не приготовил урока и был за это наказан. По просьбе отца он пошел к нему в кабинет, там заинтересовался портфелем, открыл его, а потом, стараясь закрыть портфель, сломал ключик. Новый проступок. Во время игры мальчик нечаянно наступил на платье гувернантке и оборвал его, чем поставил ее в неудобное положение и доставил удовольствие девочкам. Во всем этом нет ничего неправдоподобного. И великое искусство Толстого заключается в том, что он через эти пустяковые случаи в жизни ребенка показывает глубокий разлад его с окружающим миром.
Николенька сомневается в самых близких для него людях, сомневается в существовании бога.
На смену Карлу Ивановичу, облик которого близок духовному миру Николеньки Иртеньева, приходит новый гувернер француз St.-Jérôme. Николенька возненавидел его. Ненависть к St.-Jérôme для Николеньки как бы олицетворяет ненависть ко всему миру больших — тому миру, к которому принадлежали его родные. Это обстоятельство делало его раздражительным,
- 446 -
влияло на отношения с людьми, с которыми он непосредственно соприкасался, отсюда все его злоключения.
Раздражение против St.-Jérôme и против всех больших ставило Николеньку в особое положение, делало его одиноким ребенком. После главы «Ненависть», посвященной St.-Jérôme и объясняющей отношение Николеньки Иртеньева к людям, его окружающим, идет глава «Девичья». Эта глава начинается так: «Я чувствовал себя все более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения» (т. 2, стр. 51). У него возникает тяготение к простым людям, к дворовым.
Период отрочества герой Толстого прямо противопоставляет периоду детства, с одной стороны, и периоду юности — с другой.
«Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности» (т. 2, стр. 58).
Отрочество противопоставляется юности в том смысле, что в период юности герой Толстого надеется найти утраченное равновесие между аналитической способностью и верой во всё доброе и прекрасное. О вступлении в юность говорятся уже в заключительных главах «Отрочества». Здесь опять-таки перед героем открывается несколько возможных путей. Один путь, казалось бы весьма вероятный, — соединиться с миром простых людей, который олицетворял всё доброе и прекрасное. Но до этого было еще далеко. Мир простых людей пока существовал для героя только как подтверждение того, что правда и добро не погибли.
В заключительных главах «Отрочества» начинаются поиски положительной деятельности, которая оправдывала бы высокое назначение человека. И Толстой, и его герой пока ищут ее в обычной для них обстановке.
Первая глава повести «Юность» называется «Что я считаю началом юности». Николенька заявляет, что дружба с Нехлюдовым, которая началась еще в период отрочества, открыла ему новый взгляд на жизнь, на ее цель и назначение: «Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно» (т. 2, стр. 79).
Вторая глава «Юности» — «Весна» — прямо перекликается с одной из начальных глав «Отрочества». В главе «Весна» проводится параллель между тем, что происходит в душе героя, и тем, что происходит в природе.
В третьей главе — «Мечты» — герой раздумывает о том, как он изменится, когда начнет осуществлять «новый взгляд» на жизнь, на ее цель и назначение. Он знает, что тогда он сам будет себя обслуживать. Он поступит в университет и будет ходить на занятия пешком. Если ему дадут деньги на дрожки, он отдаст их бедным.
Затем его мечты переключаются в совершенно другой план. Он думает о том, как будет учиться в университете, аккуратно слушать лекции, опережать план занятий, как первым напишет диссертацию. Мечты заводят его далеко. Он уже видит себя магистром, доктором, вообще каким-то выдающимся человеком: «...сделаюсь первым ученым в России... даже
- 447 -
«Юность». Черновой автограф Л. Н. Толстого.
- 448 -
в Европе я могу быть первым ученым. Ну, а потом? — спрашивал я сам себя, — но тут я припомнил, что эти мечты — гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений» (т. 2, стр. 83).
Этот вопрос: «Ну, а потом?» — напоминает сцену в «Войне и мире», когда Андрей Болконский, дойдя в своих мечтах до крайних пределов, тоже говорит: «ну, а потом?».
Вопрос этот свидетельствует о неопределенности планов героя повести, о том, что мечты его были оторваны от реальной действительности. Кроме того, мечты — это гордость, они ставят его в ряд со всеми людьми, которые его окружают. Но тут же герой называет способность человека к мечтам — благодетельной, утешительной, ибо она дает возможность человеку противопоставить той действительности, которая неприятна, какую-то иную действительность.
Для «Юности» чрезвычайно характерен голос раскаяния. Без понимания этого момента нельзя понять особенности построения всей повести. Герой «Юности» вспоминает: «Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в эту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир...» (т. 2, стр. 85).
Определив цель и назначение жизни, герой повести вскоре уясняет, что он не способен практически осуществлять их.
Толстой всегда изображал своего главного героя многосторонне. Герой «Юности» обрисован в трех аспектах.
Во-первых, он показан в стремлении понять и оправдать высокую цель в жизни; во-вторых, как человек, не способный на данном этапе своего духовного развития достигнуть этой цели; в-третьих, в тяготении к новым сферам жизни, к новым социальным кругам, часто враждебным тому кругу, в котором он жил.
Действительный мир, в котором живет герой Толстого, начиная с «Детства», всё более расширяется, и в «Юности» он дан в гораздо более широком плане.
Реалистический метод Толстого в «Юности» приобретает новые черты, обогащается новыми свойствами. Здесь более четко вырисовывается личность автора, его симпатии и антипатии, а критика изображаемой действительности получает сознательную социальную направленность. В «Юности» ярче выявляется гуманистическое начало.
Три аспекта изображения героя составляют три линии повествования в «Юности», определяют особенности ее сюжета и композиции, принципов построения характера.
Существенное место в повести занимает образ Нехлюдова.
Нехлюдов считает, что он должен делать добро людям, принуждая себя к этому. Так он принуждает себя полюбить Любовь Сергеевну, подружиться с Безобедовым. Добродетель Нехлюдова фальшива, лицемерна. В этом отношении примечательна сцена, когда Нехлюдов во время разговоров с Николенькой на возвышенные темы глушит кулаком Ваську по голове, который не во-время принес матрац. Выходит, что когда Нехлюдов поступает по логике — это один человек, а когда в нем прорывается настоящее барское нутро — он выглядит совершенно по-другому.
- 449 -
Идеалы Николеньки Иртеньева и его старшего друга Нехлюдова Толстой характеризует как барские по своей природе. Они порождены не знанием жизни и не желанием изменить несправедливый порядок вещей, а желанием показать себя с наилучшей стороны, свойственным именно барину, помещику. Поэтому Толстой не верит в осуществимость идеалов Нехлюдова и Николеньки Иртеньева, осуждает эти идеалы, поднимаясь на уровень социальной критики дворянской идеологии, хотя сам остается прочно связанным с нею.
Главный порок героя «Юности» в том, что у него нет никакого дела в жизни.
Последние главы повести посвящены университету. Предпоследняя глава носит название «Новые товарищи». Здесь возникает именно третья линия повествования — влечение героя к новым сферам, к новым людям. В главах «Новые товарищи» и «Зухин и Семенов» рассказывается и о том, как герой одновременно и тяготел к этим людям, и не мог с ними сойтись. Он великолепно видит достоинства их и в то же время не хочет примириться с тем, что это люди совсем другого общественного положения, хотя отлично знают иностранную литературу, не говоря уже о русской, разбираются в музыке, а Оперов даже играет на скрипке.
Последняя глава — «Я проваливаюсь» — по своему названию имеет некий символический смысл. Николенька «проваливается» не только на экзамене, но и во всей своей жизни.
Толстой предполагал написать вторую половину «Юности», но до нас дошел только план ее и первая глава в черновом виде.
Главный герой Толстого — исключительный человек. Он стремится изменять и совершенствовать свой духовный мир, возвысившись над порочной дворянской средой. При всем этом толстовский герой — лицо типическое: в нем воплощены черты, свойственные людям одинакового с ним положения, в очень яркой, иногда даже в гиперболической форме.
Герой Толстого — это человек, ищущий истину, борющийся за нее. Каждый раз оказывается, что та истина, которую он выработал, не является истиной, а представляет собой заблуждение. Отсюда его новое, еще более горячее стремление к истине. Рисуя так своего героя, Толстой изображает действительность в самых глубоких ее разрезах.
Общеизвестно, что герой повестей Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность» — лицо во многом автобиографическое. Однако Толстой заявил протест, когда в «Современнике» «Детство» было названо «Историей моего детства». Толстой придавал этому произведению обобщающее значение. Он, конечно, вполне сознавал, что его герой, Николенька Иртеньев, может показаться исключительным человеком. И вначале он хотел оправдать это исключительными обстоятельствами его жизни. В первой редакции «Детства» братья Иртеньевы — незаконнорожденные дети небогатого помещика, в прошлом офицера, и помещицы, принадлежавшей к высшим слоям дворянства. В окончательной редакции повести братья Иртеньевы — выходцы из обыкновенной дворянской семьи. Толстой пошел по более трудному пути. Рисуя необыкновенную судьбу своего героя, находившегося в обыкновенных обстоятельствах, он создавал типический образ большой широты и глубины.
Основой для образа Николеньки Иртеньева Толстому послужил опыт собственных духовных исканий, собственной духовной биографии. Только в этом смысле образ Николеньки мы и называем автобиографическим.
Тот этап духовных исканий, который отражен в образе Николеньки, был для Толстого периода написания автобиографической трилогии давно
- 450 -
пройденным. И это сказалось в самой структуре повестей. Между Николенькой Иртеньевым как действующим лицом и как рассказчиком установлена дистанция во времени: он рассказывает о своем далеком прошлом, привнося в рассказ позднейший жизненный опыт. В результате в произведении действительность изображается шире и глубже, нежели ее мог наблюдать и оценивать Николенька Иртеньев как действующее лицо.
Толстой подчеркивал некоторые преимущества автобиографического жанра в сравнении с другими жанрами. Он считал, что произведение автобиографического жанра позволяет писателю с наибольшей силой указать на человеческие слабости, носителем которых он является сам, и тем содействовать всем людям в борьбе с их собственными слабостями. Толстой придавал особое значение литературе именно как средству самовоспитания человека. Но автобиографический жанр, как убеждался Толстой, имеет и некоторые неудобства, в частности дополнительные сложности в изображении характеров, особенно центрального характера, от имени которого ведется повествование. Для наиболее глубокого изображения действительности в автобиографической трилогии понадобилось рядом с Николенькой как действующим лицом ее поставить Николеньку рассказчика. Но и этим нельзя было ограничиться. Толстой критически относился к своему герою. Рассказ Николеньки в тех случаях, когда он иронизирует над собой, строится так, что самый подбор фактов углубляет его саморазоблачение. Словом, позицию автора в автобиографической трилогии нельзя полностью отождествлять с позицией героя, хотя этот герой и является во многом лицом автобиографическим. Та ступень духовного развития Николеньки Иртеньева, на которой он находится в период воспоминаний о своем детстве, отрочестве и юности, рассматривалась Толстым лишь как определенный момент его идейной биографии. В этом смысле и следует говорить об известном несовпадении позиции автора с позицией героя. Толстой стремился объективировать его образ.
Принципы, выработанные Толстым в автобиографической трилогии по изображению идейно близкого ему самому, во многом автобиографического героя, развивались в его последующих произведениях. Этот герой занимает центральное место в творчестве Толстого. Он изображался писателем на основе опыта собственной духовной биографии, которая характеризуется стремлением к разрешению кардинальных вопросов социально-исторического развития России.
2
Военные действия на Кавказе, а затем и в Севастополе Толстой описал как очевидец и непосредственный их участник. Его военные, и в особенности «Севастопольские рассказы», имеют поэтому документальное значение. По своему построению они в некоторых отношениях приближаются к жанру очерка. Но это — не очерки. Широта художественного обобщения — преобладающая черта рассказов, явившихся одной из вершин в творчестве писателя до «Войны и мира».
Проблематика военных рассказов органически связана с той, которая глубоко волновала Толстого задолго до того, как он оказался на Кавказе, а потом и в Севастополе, и которая нашла отражение в его автобиографической трилогии.
Толстой сознавался, что одной из главных целей его приезда на Кавказ было желание избавиться от привычек, уже им самим осуждаемых.
- 451 -
Он надеялся и на то, что на него благотворно будет действовать «роскошная кавказская природа», и на то, что в нем «развернется лихость». Но в июне 1851 года в своем дневнике он записывает, что кавказская природа его не завлекает и лихость в нем не зарождается. Он попрежнему не удовлетворен собой, попрежнему горит желанием переделать себя, попрежнему ощущает, что для этого ему недостает твердой воли, настойчивости, характера.
Наряду с замечаниями о том, что вследствие всего этого он не может стать совершенным человеком, Толстой заносит в дневник и такие записи, в которых утверждается, что он изменился, стал другим.
Думая о войне, он, конечно, не мог не поставить вопроса о своем отношении к смерти, о том, что такое смерть и страшна ли она ему.
Он записывает в дневнике: «Я равнодушен к жизни, в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить ее; поэтому не боюсь смерти. — Не боюсь и страданий; но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти» (т. 46, стр. 90).
Толстой задумывается и над такими вопросами: что́ такое война? кому она нужна? для чего она ведется? В общем плане он осуждает войну. «Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Хорошо ли я делаю?» (т. 46, стр. 155).
Так, с одной стороны, война привлекает Толстого как испытание характера человека, а с другой — возбуждает в нем уже в это время отвращение, ибо она несет смерть и разрушение.
Если мы сопоставим по внутреннему содержанию военные рассказы Толстого и его автобиографические повести, то увидим общность между этими на первый взгляд совершенно непохожими произведениями. Главная проблема автобиографических повестей — проблема высокого назначения человека, которое он может Оправдать лишь обладая твердой волей и непреклонным характером. Эта же проблема, конечно, в другом виде присутствует и в кавказских рассказах.
В автобиографических повестях Толстого преобладает материал самонаблюдения. В кавказских же рассказах первенствует материал наблюдений над другими людьми, хотя, разумеется, есть и материал самонаблюдения, ибо авторское «я» занимает в них довольно значительное место.
Главная тема кавказских рассказов — тема храбрости. Она рождена всем ходом идейно-нравственных исканий Толстого.
Храбрость невозможна без твердой воли, без устойчивого характера. Качества, из которых складывается храбрость, как раз и необходимы были Толстому и его героям, стремившимся к тому, чтобы оправдать свое высокое назначение. И эти качества Толстой замечает в народе. Поэтому годы пребывания на Кавказе, где он близко соприкоснулся с солдатской массой, имели для него очень важное значение.
Толстой приходит к выводу, что существует два вида храбрости: моральная и физическая. Под моральной храбростью он понимает такую, которая диктуется понятиями долга перед отечеством, высоким сознанием, чувством товарищества. В основе физической храбрости, с его точки зрения, лежат низкие побуждения: например, офицер служит в армии по соображениям выгоды, он рискует жизнью, находясь в бою, тем самым проявляет храбрость, но эта храбрость не моральная, а физическая.
Второй аспект рассмотрения храбрости: каковы источники, ее порождающие? В рассказе «Разжалованный» Гуськов утверждает: храбрость
- 452 -
есть следствие ума и образованности, следовательно, она свойственна только образованным людям.
Все три кавказских рассказа Толстого опровергают это положение. Храбрость не есть следствие образования и ума. Сама жизнь вырабатывает в человеке это свойство. Храбрость формируется не теоретическим, а практическим путем. В рассказах Толстого утверждается, что не всякая жизнь порождает в человеке храбрость, а только такая, которая с ранних лет приучает человека бороться с трудностями, преодолевать их. И как раз обстоятельства жизни образованных людей не учат этому.
Кавказские рассказы, будучи связаны внутренне с автобиографической трилогией по проблематике, тем не менее существенно отличаются от нее. Проблема храбрости в скрытом виде присутствует и в автобиографической трилогии как производная от главной проблемы — проблемы высокого назначения и высоких устремлений человека. Но в кавказских рассказах проблема храбрости становится главной. Это во многом и предопределило их идейное и художественное своеобразие.
Сюжет и композиция в трилогии обусловлены стремлением Толстого раскрыть характер главного героя во всей его сложности и противоречивости, показать закономерность его духовного развития. Рассказ об этом движении и развитии героя и составляет суть повествования трилогии. В кавказских рассказах герои даны сформированными. Здесь цель повествования заключается в том, чтобы показать, как раскрывается в исключительных условиях уже сложившийся, сформировавшийся герой.
Человеческие характеры в кавказских рассказах обрисованы отрывочно. Они служат автору либо подтверждением его определенных теоретических положений, либо материалом для тех или иных выводов. Действиями, поведением героев тех или других рассказов Толстой либо подтверждает свои логические построения, либо из поведения этих людей делает определенные теоретические выводы. Поэтому в кавказских рассказах характеры классифицируются, как в теоретическом труде: уясняется их отношение к главному понятию, понятию храбрости. В рассказе «Набег» это понятие сначала рассматривается теоретически, а затем и в художественных образах противоположного характера: и в образе капитана Хлопова, который является носителем истинной храбрости, и в образе поручика Розенкранца, воплощавшем ложную храбрость. В «Рубке леса» Толстой развивает тему, поставленную в «Набеге». Этот рассказ в значительной степени построен на противопоставлении солдат как носителей истинной храбрости офицерам, которые во многих случаях наделены ложной, физической храбростью.
В кавказских рассказах автор стоит на тех же идеологических позициях, что и в автобиографической трилогии, которая создается именно в это же время. Для себя лично он здесь выясняет тот же вопрос, что и в трилогии, — как достигнуть совершенства.
Для того чтобы осуществить эту цель, человеку, с точки зрения Толстого, необходимо обладать двумя качествами: богатством внутреннего, духовного мира, а кроме того, — твердой волей и решительным характером. Только первое качество он находит в себе, а второе видит в народе, в тех солдатах, с которыми общается. Следовательно, храбрость для Толстого, как и для его главного героя, есть выражение лучших человеческих качеств. Носители этого качества — в первую очередь солдаты. Поэтому в военных рассказах Толстой рисует образы солдат как подлинных, истинных представителей нации, Толстой показывает не храбрость вообще, а храбрость русских солдат, храбрость русского человека.
- 453 -
«Севастополь в августе 1855 года». Корректура с правкой Л. Н. Толстого.
- 454 -
Реализм автобиографической трилогии и реализм военных рассказов — в своей основе один и тот же, но в военных рассказах он применен по-особому, в нем появились новые черты, новые свойства.
Капитан Хлопов выступает перед нами как человек безукоризненной честности, непоколебимой храбрости, который сам не замечает ее и потому не считает ее наличие своим достоинством. Выделяя устойчивые свойства психики и характера своего героя, писатель трактует их как выражение общих устойчивых свойств русского национального характера. Капитан Хлопов соотнесен и со своей эпохой, и со своим народом, но соотнесен только в этом плане. Этот образ создан приемом «генерализации». Приемы детализации в кавказских рассказах вообще отходят на второй план.
В «Севастопольских рассказах» за русскими солдатами сохраняются те же качества, но в дополнение к этому они характеризуются еще как самоотверженные защитники родины. Поэтому в «Севастопольских рассказах» возникает проблема исторической и социальной судьбы России. В период создания этого цикла писатель работал над проектом реорганизации русской армии. Он прекрасно видел замечательные черты русского солдата и утверждал, что русский солдат может быть гораздо более храбр, чем он есть, если положение в армии изменится.
Характеристика офицерства царской армии у Толстого очень резкая. В большинстве случаев для офицера главная цель «суть приобретение денег. Средства к достижению ее — лихоимство и угнетение» (т. 4, стр. 292).
Еще более сурово характеризует Толстой генералов. Генерал — это, за редким исключением, «существо отжившее, усталое, выдохнувшееся, прошедшее в терпении и бессознании все необходимые степени унижения, праздности и лихоимства для достижения сего звания — люди без ума, образования, энергии» (т. 4, стр. 293).
Из всех своих наблюдений и размышлений писатель делает вывод: «великие перемены ожидают Россию, нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (т. 47, стр. 37).
Тема исторической судьбы России занимает существенное место уже в «Севастопольских рассказах».
В рассказе «Севастополь в декабре», рисуя образ человека, впервые приехавшего в Севастополь и жадно всматривающегося в то, что происходит здесь, Толстой рисовал образ всего русского народа в его отношении к Севастопольской эпопее.
Герой рассказа, именуемый «Вы», создал себе определенное представление о защитниках Севастополя, еще не побывав в городе. В этих его представлениях много наивного и просто неправильного. И вот он вступил на землю Севастополя, своими собственными глазами увидел всё, что там происходит, и ему стало ясно, что то, что он увидел, не соответствует уже сложившимся у него представлениям о героизме защитников Севастополя. Ему кажется теперь, что в Севастополе нет никакого героизма, что здесь какая-то суета и даже беспорядочность: «Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать» (т. 4, стр. 5).
Это говорит тот, кто сопровождает человека, впервые оказавшегося в Севастополе. На самом деле такого героя в рассказе нет. На месте его может оказаться всякий защитник Севастополя, как на месте «осматривающего» — всякий действительно русский человек. Рассказ ведется от
- 455 -
имени защитников Севастополя. Он адресован всем русским людям. Тема рассказа: Россия и Севастополь. Отсюда его эпический размах.
Но к России принадлежали и те силы, которые породили героизм Севастополя, и те, по вине которых герои севастопольской эпопеи оказались в трагическом положении. Рассказ содержит в себе и обличительный элемент. В частности обличается официальная печать, создавшая ложное представление о Севастополе и его защитниках. Жертвой ее в известной мере становились все русские люди, с нею и ведет борьбу Толстой, показывая истинный героизм и истинных героев.
Голос «сопровождающего» разъясняет: откиньте свои ложные представления о героизме, вглядитесь в лица защитников Севастополя, и вы увидите в этих простых людях настоящих, подлинных героев.
Потом «сопровождающий» приглашает «приехавшего» совершить с ним путешествие по городу, зайти во внутреннюю часть города, в госпиталь, побывать на 4-м бастионе.
Разворачиваются одна за другой картины города-фронта. Но это не просто зарисовки, хотя бы и гениальные. Перед читателем всё время стоит образ человека, всей душой любящего свою родину, стремящегося понять происходящее у него на глазах. Поэтому картины героического поведения защитников Севастополя в рассказе Толстого полны глубокого философского смысла. Они подводят читателя к такому выводу: «Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину» (т. 4, стр. 16). И вот почти последние слова рассказа: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...» (там же).
Второй рассказ — «Севастополь в мае» — пронизан критическим пафосом. В рассказе сделан упор на теневые стороны. Но выделив их, Толстой так построил рассказ, что тема героизма — основная для первого рассказа — не снимается и даже не затушевывается. Теневые стороны, которые Толстой вскрывает во втором рассказе, не ставят под сомнение то, что стало известно читателю из первого рассказа. В рассказе «Севастополь в мае» показаны громадные недостатки в армии. Вот почему Толстой и спрашивает: нужно ли было это говорить, нужно ли было вскрывать теневые стороны, когда речь идет об армии, защищающей Севастополь?
В рассказе осуждается война как явление противоестественное, чуждое человеческому разуму. Мотив осуждения войны проходит через весь рассказ. Выдвигаются различные аргументы. Первый аргумент — природа. Несколько раз Толстой возвращается к описанию природы. Всякий раз он подчеркивает, что природа способна дать радость жизни всем людям, а война отнимает ее у людей, приносит бедствия народам и человечеству. Следовательно, война противоестественна.
Толстой видел одно из назначений человека в том, чтобы делать добро другим людям. Война же, с его точки зрения, ожесточает человека, превращает его в убийцу. Это второй аргумент осуждения войны.
Из этого видно, что рассказ «Севастополь в мае», конечно, не чужд пацифистских ноток.
Осуждая войну как явление, противное человеческой природе, Толстой как художник подходил к пониманию, что существуют войны несправедливые и справедливые. По Толстому, войны первого рода люди, безусловно, должны категорически осуждать. На войны второго рода они должны смотреть как на суровую необходимость и, осознав это, соответственно вести себя на войне, проявляя мужество и героизм в защите родины,
- 456 -
отечества. Но бывают такие люди, которые к войне относятся как к средству наживы и карьеры. Вступив в армию, они ведут себя недостойно, фальшиво. В момент опасности они показывают свое подлинное лицо. Как правило, храбрость свойственна не им, а людям, которых они презирают, — раньше всего простым солдатам.
Они идут на войну не для того, чтобы получить награды и чины, а сознавая, что в этой войне решается судьба России. В рассказе «Севастополь в мае» со всей силой звучит героическая тема.
Тщеславие, за которое Толстой обличает аристократов, порождается праздностью, оно не только губит их, но и является одной из причин войн. Каждый тщеславный человек, с точки зрения Толстого, в своей потенциальной возможности — изверг и может стать на путь завоевателя: «Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и поручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья» (т. 4, стр. 53).
Так осуждение войны сливается с осуждением аристократов.
Своих лучших героев Толстой всегда ведет по трудному жизненному пути, чтобы дать им возможность испытывать свой характер, закалять свою волю, совершенствовать свой разум. Отрицательных героев Толстой ставил в трудные положения затем, чтобы они сами засвидетельствовали свое ничтожество.
Установка на испытание человека труднейшими обстоятельствами жизни выдвигает в творчестве Толстого тему — человек перед лицом смерти. В рассказе «Севастополь в мае» она появляется впервые. В последующих произведениях писателя эта тема займет чрезвычайно важное место. По мысли Толстого, сущность человека раскрывается в решающие моменты его жизни, но с наибольшей глубиной тогда, когда человек стоит перед лицом смерти, когда он как бы подводит красную черту под своей жизнью.
Этот прием Толстого становится одним из основных в плане разоблачения представителей господствующих классов. Отсюда вырастет замечательнейшая повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Вспомним описание смерти Праскухина: «Кого убьет — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так всё кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу еще жив остаться. А может быть одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе — меня. Тут он вспомнил про 12 р., которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен 5 лет тому назад, и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего — ожидания смерти и ужаса — ни на мгновение не покидало его» (т. 4, стр. 48).
Вот всё, что мог вспомнить этот человек в те минуты, когда он стоял на грани жизни и смерти. Таков незавидный итог его жизни.
Тему рассказа «Севастополь в мае» можно было бы сформулировать так: война — бедствие для человечества и только тот достойно ведет себя
- 457 -
на войне, кто не думает извлекать из войны какую-нибудь выгоду, делать на войне карьеру.
Каждый из трех «Севастопольских рассказов» — законченное и самостоятельное художественное произведение. В то же время мы должны рассматривать все эти рассказы как единое целое. Они объединяются и темой, и проблематикой, и некоторыми особенностями художественного построения. Основная тема их — героизм русского народа. Но в каждом рассказе эта тема решена по-своему, каждый рассказ вносит нечто новое в решение этой темы.
Тема долга — вот тема последнего севастопольского рассказа. Она решается в двух образах: Володи Козельцова и его старшего брата. Образ Володи — это первая стадия решения темы, Володя лишь готовит себя к выполнению долга, проходя через нравственные страдания и испытания. И эта черта, будучи индивидуальной особенностью Володи Козельцова, в то же время в той или иной мере, в том или ином виде является характерным свойством всех защитников Севастополя — от генерала до солдата при всем несходстве их положений. Каждый из них стремится к тому, чтобы сохранить мужество в самый страшный час своей жизни, думает о том, как выполнить свой долг. Следовательно, переживания Володи являются переживаниями типическими.
Старший Козельцов уже обладает всеми теми качествами, которые еще только старается выработать в себе его младший брат. В образе старшего Козельцова тема долга представлена на более высокой ступени развития. Характерен, скажем, такой момент. Оба брата погибают, но старший Козельцов погибает как герой, а Володя умирает незаметно. Умирая, старший Козельцов спрашивает у исповедующего его священника, выбиты ли все французы из Севастополя, и священник, чтобы успокоить его, говорит неправду — что русские войска заняли свои прежние позиции. Козельцов-старший умирает как герой, и, умирая, он думает о том, чтобы и его младшему брату выпало такое же счастье.
При всем том старшему Козельцову дана в рассказе суровая характеристика. Он самолюбив, даже себялюбив, презрительно относится к другим, любит во всем брать верх. Он свысока смотрит на солдатскую массу. Но к солдатам своей роты Козельцов относится с уважением, ценит их как товарищей по оружию. Они также с уважением относятся к нему. Никаких иных точек соприкосновения между Козельцовым и солдатской массой нет.
В первом рассказе, освещающем тему русского героизма в общем плане, действуют одни герои. Там мы не видим людей, которые вели бы себя недостойно.
Герои второго рассказа распадаются на два лагеря — на героев и трусов, причем героизм в основном присущ солдатской массе, а трусость — преимущественно офицерам-аристократам. В третьем рассказе такого деления на героев и трусов нет. Здесь перед нами — люди, исполняющие свой долг. Этот долг исполняют и солдаты, и офицеры. К офицерам Толстой относится здесь мягче, чем во втором рассказе. Это находит своеобразное выражение в такой сцене: офицеры играют в карты, в этой игре принимает участие и старший Козельцов. Между играющими в карты возникает недоразумение, которое перерастает в скандал. Толстой не доводит до конца описания этой сцены: «Но опустим скорее завесу над этой глубоко-грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно...» (т. 4, стр. 96).
- 458 -
В первом и во втором «Севастопольских рассказах» храбрость русских воинов объясняется их патриотизмом. Патриотизм — это самая высокая побудительная причина героического поведения. Но наряду с патриотизмом есть еще чувство воинского долга, причем всякий офицер или солдат, героически защищающий Севастополь из чувства патриотизма, наделен вместе с тем и чувством долга. Но человек может вести себя героически, храбро, и не выработав в себе чувства патриотизма, а выработав только чувство долга. Одним словом, чувство долга как побудительная причина героического поведения является низшей ступенью по сравнению с чувством патриотизма. И поскольку в первых двух рассказах поведение солдат и офицеров объясняется с этой точки зрения, постольку там чувство долга выступает как низшее чувство в сравнении с чувством патриотизма. Оно не осуждается, но и не поэтизируется. А в третьем рассказе поэтически воспевается именно чувство долга: старший Козельцов героически сражается с врагом из чувства долга, не ставшего еще патриотическим чувством, но умирает как патриот.
Своеобразие проблематики третьего «Севастопольского рассказа» и предопределило своеобразие его художественного построения. Тема героизма взята здесь как тема долга, а тема долга разрабатывается преимущественно в психологическом плане: как формируется качество, необходимое человеку для выполнения его долга. Это и обусловило необходимость выдвижения индивидуальных героев — братьев Козельцовых. И хотя рассказ ведется преимущественно о судьбах этих двух героев, но интерес читателя, его внимание приковано не к ним, а к тем событиям, в которых они участвуют. В рассказе, в центре которого стоят два главных героя, не исчезают и те два образа, о которых говорилось при характеристике рассказа «Севастополь в декабре». Эти образы сохранены и в последнем «Севастопольском рассказе», хотя они где-то глубоко скрыты и обнаруживаются только к концу.
Таким образом общая тема «Севастопольских рассказов» — это эпическая тема: Россия и Севастополь. Образ повествователя — это образ представителя защитников Севастополя, образ, под которым можно подразумевать каждого из них.
3
В ноябре 1855 года Толстой приехал из Севастополя в Петербург, где впервые встретился с представителями различных литературных кругов. Он был окружен всеобщим вниманием.
Уже после появления первых его произведений для всех стало очевидным, что в лице Толстого на литературную сцену вступил крупный талант, писатель-новатор. Всё же тогда было еще не ясно, какую позицию он займет в происходящей и всё более обостряющейся литературно-политической борьбе. Каждый из борющихся лагерей имел некоторые основания надеяться привлечь его на свою сторону. Вот почему его имя так часто фигурирует в переписке и литературно-критических статьях тех лет.
Ожесточенная борьба за Толстого между либералами и революционными демократами разгорелась в 1856 году. В течение этого года критики-либералы напечатали о нем несколько статей весьма комплиментарного характера. В самом конце года появилась замечательная статья Чернышевского, не оставившего камня на камне в доказательствах либералов, что Толстой своим творчеством подтверждает теорию «чистого искусства». Борьба за Толстого — очень существенный момент в литературно-политической
- 459 -
жизни той эпохи. Но при всем том она не имела сколько-нибудь определяющего влияния на позицию Толстого. Он не примкнул ни к тем, ни к другим, а шел своим особым путем, самостоятельно осмысляя решающие события эпохи, в центре которых он теперь оказался.
1856 год — существенная грань в развитии литературной и общественной деятельности молодого писателя. В этом году он завершает работу над некоторыми произведениями, задуманными еще на Кавказе, в частности над «Романом русского помещика». Окончательно отработав ряд глав романа, он выпускает их под названием «Утро помещика». Произведение это было отмечено Чернышевским как выдающееся достижение реализма Толстого. В том же 1856 году Толстой вступает в новую полосу идейного развития — тогда серьезные перемены наметились в развитии всей передовой русской литературы.
В 1855 году появляется диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». В ней великий критик с материалистических и революционно-демократических позиций как бы подводит итог достижениям предшествующего этапа развития русской литературы и эстетической мысли и намечает пути дальнейшего движения их вперед. В 1856 году выходит сборник стихотворений Некрасова, явившийся крупнейшим достижением поэта. На протяжении всего 1856 года в «Современнике» Чернышевский печатал «Очерки гоголевского периода русской литературы», первый из которых появился в декабрьской книжке журнала за 1855 год. Как и знаменитая диссертация, «Очерки гоголевского периода русской литературы» — произведение огромной исторической важности, манифест реалистической литературы, вступающей в новую эпоху своего существования. В том же 1856 году в письмах к Некрасову Чернышевский решительно заявляет, что Некрасов способен «быть в поэзии создателем совершенно нового периода» (XIV, 323), а в статье о Толстом называет Толстого великой надеждой русской литературы. К 1856 году относится и рецензия Чернышевского на «Стихотворения Н. Огарева», в которой говорится о том, что литература должна создать образ нового героя. Не называя имен писателей, которые способны сделать это, Чернышевский утверждает (это место было исключено из окончательного текста статьи), что такие писатели есть, что они «идут вперед, по всей вероятности поведут за собою и литературу» (III, 847).
В 1856 году появляются «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина, которые дали основание Чернышевскому сказать, что Щедрин, опираясь на традиции Гоголя, сделал шаг вперед в сравнении с Гоголем в развитии русского реализма.
К середине 50-х годов, в обстановке общественного подъема и под воздействием критики революционных демократов, преодолевая временные колебания в сторону славянофилов, выходит на широкую дорогу реалистического творчества Островский: он создает такие шедевры своей драматургии, как «В чужом пиру похмелье» и «Доходное место», а тремя годами позже — «Грозу».
Вторая половина 50-х годов — расцвет творчества Тургенева. В 1856 году напечатан его роман «Рудин», в 1859-м — «Дворянское гнездо», в начале 1860-го — «Накануне».
В противоположность большинству крупнейших русских писателей Толстой во второй половине 50-х годов переживал творческий кризис. И это объясняется его особой позицией.
Некрасов и Салтыков-Щедрин выступают в своем творчестве этих лет в основном с позиций революционной демократии.
- 460 -
Островский, не разделяя идеи революции, с полным сочувствием рисовал в своих пьесах растущий протест масс.
Тургенев как писатель в это время проявлял наибольший интерес к таким личностям, которые являлись носителями самых передовых идей эпохи.
Сочувственно изображая этих людей, он сам как общественный деятель не только не примыкал к ним, но вступал в борьбу с ними. В эти годы Тургенев тесно сближается с либералами и в конце концов в 1860 году порывает с «Современником», вдохновителями которого были вожди революционной демократии — Чернышевский и Добролюбов.
В 50-е годы Толстой, подобно Тургеневу, одновременно и глубоко сочувствует положению крепостного крестьянства и озабочен судьбою дворянства, при этом взгляды двух писателей далеко не совпадали. В отличие от Тургенева, в общем остававшегося на позиции наблюдателя борьбы вокруг крестьянского вопроса, Толстой стал непосредственным и самым активным участником ее. Он стремился найти такое решение крестьянского вопроса, которое могло бы послужить примером для всех дворян, для самого правительства. При этом им руководила как забота об улучшении положения крестьянства, так и забота об исторической судьбе дворянства. Он хотел совместить несовместимое. Естественно, что все его планы и намерения терпели крах.
Этим и объясняется тот кризис, который Толстой переживал. Суть дела в том, что в противоположность тому же Тургеневу Толстой как художник в качестве основных проблем выдвигал всегда те проблемы, которые определяли его собственное жизненное поведение. Тургенев сделал главными героями своих лучших романов Инсарова и Базарова, людей, внутренне далеких от него.
Для Толстого это было совершенно невозможно.
Первые произведения Толстого пронизаны критическим пафосом к моральным устоям дворянства. Толстому представлялось, что лучшие из дворян найдут свое спасение в сближении с простыми людьми, с народом. Вера в здоровые нравственные и духовные основы народа — вторая существенная черта творческих устремлений молодого Толстого.
Толстой считал, что задача духовного сближения с народом будет разрешена лучшими представителями дворянства лишь при том условии, если они в корне изменят свой образ жизни. Согласно его представлениям, помещик должен был трудиться вместе с крестьянами, заботиться не только о своем, но и в не меньшей степени об их благе. В «Романе русского помещика», задуманном еще в 1852 году, он и намеревался показать деятельность помещика, поставившего перед собой именно такую цель и приступившего к ее реализации. Этот роман был назван догматическим произведением, которое, по мысли писателя, должно было являться своего рода практическим руководством для гуманных помещиков. Характерно, что именно на 1856 год приходится наиболее напряженная работа над романом. Толстому так и не удалось закончить его. Не написал Толстой и последней части «Четырех эпох развития» — «Молодости». По всей видимости, замысел ее слился с замыслом «Романа русского помещика». В обоих произведениях решались одни и те же вопросы.
Говоря о неуклонном подъеме творчества Толстого с момента его выступления в литературе и вплоть до 1856 года, следует иметь в виду нарастание в его произведениях критического пафоса по отношению к дворянству и всё более и более глубокое раскрытие психологии простых людей и образа их жизни.
- 461 -
В 1856 году Толстой создает два произведения, в каждом из которых одно из указанных начал достигает наиболее высокого для всего его творчества пятидесятых годов уровня: в «Юности» — критический пафос по отношению к дворянской морали, а в «Утре помещика» — изображение народа.
Завершая работу над «Романом русского помещика», Толстой, с одной стороны, как бы подводил итоги тем идейным и художественным исканиям, которые нашли отчетливое выражение в его работе над автобиографической трилогией и военными рассказами, а с другой — вступал в следующую фазу своего развития. Новые тенденции в его творчестве определялись самим характером русской социально-исторической действительности того периода, хронологическими границами которого являются окончание Крымской войны и начало революционной ситуации 1859—1861 годов.
Указанный период был для Толстого одним из наиболее сложных и трудных на всем протяжении его литературной и общественной деятельности. Редко когда впоследствии испытывал он на себе такое сильное давление идеологии и жизненных интересов помещичьего класса. Именно после возвращения из Севастополя у него начался своеобразный роман с «бесценным триумвиратом» (Анненков, Дружинин, Боткин), в основном закончившийся в 1859 году.
«Утро помещика» — этапное произведение. В связи с появлением его Чернышевский заметил, что Толстой умеет переселяться в душу поселян. Продолжая метафору Чернышевского, можно было бы сказать, что, переселяясь в душу поселян, иначе сказать крестьян, Толстой увидел в ней такие свойства, которые со всей очевидностью показывали невозможность союза между помещиком и крестьянином. Замысел романа сложился у Толстого еще до возвращения из Севастополя. Выводы же, к которым он пришел в нем, окончательно определились только в результате поездки в Ясную Поляну летом 1856 года. Эти выводы оказались в решительном противоречии с позициями самого Толстого как помещика, еще не желавшего уступать своих «прав». Естественно, что при таких обстоятельствах писатель не мог прямо и непосредственно продолжать линию, наметившуюся в «Утре помещика».
Толстой всегда остро ощущал потребности эпохи. Это распространяется и на тот период, о котором здесь идет речь, что подтверждается и его перепиской тех лет, и художественным творчеством, в частности такими произведениями, как повесть «Два гусара» (1856) и рассказ «Люцерн» (1857).
Первое произведение является началом длительной борьбы писателя с идеологией либерализма, а второе — с фальшивой и лживой буржуазной «цивилизацией» и «демократией».
Во второй половине 50-х годов Толстой неоднократно возвращался к работе над ранее задуманными «Казаками». И это — одно из свидетельств того, что проблема единения лучших представителей дворянства с народом попрежнему волновала его.
Повесть «Утро помещика» представляет собою важнейшее достижение всей русской литературы в разработке образа народа. Ко времени вступления Толстого в литературу передовые русские писатели добились значительных успехов в этом отношении. Не надо, однако, забывать того обстоятельства, что еще Белинскому приходилось доказывать право писателя делать героями своих произведений наряду с представителями господствующих сословий людей низших званий, в частности мужиков. Великой
- 462 -
заслугой Гоголя Белинский считал то, что свое творческое внимание он обратил на народную массу, на «толпу», как выражался критик.
Критики либерального лагеря, в первую очередь Дружинин и Анненков, высказывались в том духе, что крестьяне не являются выразителями общенациональных начал и что, следовательно, на материале крестьянской жизни нельзя создать типических образов.1 Эту мысль Анненков развивал в статьях о Николае Успенском и Помяловском, а Дружинин — в статье о популярном в то время в России английском писателе Краббе. Лживые и реакционные теории критиков-либералов опровергались всем ходом развития русской литературы. Передовые русские писатели всегда видели в крестьянине человека, представляющего свою нацию в определеленный исторический период ее жизни наравне с лучшими людьми, принадлежащими к другим сословиям. Именно — наравне. Крестьянин есть равноправный человек, которому доступно всё человеческое, — такая мысль проводится даже в лучших произведениях литературы 40-х годов, посвященных народу.
Толстой идет по пути своих предшественников, но он идет гораздо дальше их. Для него вопрос стоит не так, что и крестьянин есть человек, а так, что человек есть прежде всего крестьянин, т. е. тот, кто трудится, и является в первую очередь человеком. В произведениях Толстого крестьянин становится как бы своеобразной мерой для оценки человеческой личности.
Толстой в сравнении, например, с Тургеневым проник более глубоко в сущность крестьянской жизни и крестьянского мира не потому только, что превосходил его своим талантом, а главным образом потому, что занимал иные, отличные от тургеневских, общественно-политические позиции, к тому же опираясь в изображении крестьян на свой опыт делового общения с ними в период, непосредственно предшествующий отмене крепостного права.
В самом деле, сопоставим «Утро помещика» с рассказом Тургенева «Хорь и Калиныч». В тургеневском рассказе крестьянин Хорь наделен незаурядным умом, способностью задумываться над вопросами, недоступными часто и людям из привилегированных сословий. В образе Хоря раскрыты громадные потенциальные возможности народа. Но Хорь живет в исключительных, не характерных для крепостного крестьянства условиях. Поставив своего героя в эти условия, Тургенев выполнял одно из важнейших требований эстетики революционных демократов. Белинский призывал передовых писателей для изображения лучших свойств народа прибегать к такому приему, который и осуществлен Тургеневым в рассказе «Хорь и Калиныч».
Толстой в «Утре помещика» достигает еще больших результатов, рисуя образы рядовых представителей крестьянства в обыкновенных для них условиях жизни. Образ крестьянина Чуриса, так высоко оцененный Чернышевским, с неменьшей силой, нежели образ Хоря, воплощает в себе замечательные черты русского национального характера. Чурис не рассуждает на темы, не имеющие прямого отношения к его собственной жизни. Сила его ума, благородство натуры и твердость характера открываются нам в разговоре крестьянина с помещиком.
- 463 -
Л. Н. Толстой.
Фотография. 1861.Во время своего пребывания летом 1856 года в Ясной Поляне Толстой с необычайной отчетливостью понял, в чем состоит источник непримиримо враждебного отношения крепостного крестьянства к помещичьему классу. Он признал, что крестьяне правы в этой своей ненависти, что они будут правы даже и тогда, когда перережут помещиков. По мнению Толстого, если это случится, вина будет лежать на самих же помещиках: значит они не удовлетворили справедливых требований крестьян. Толстой считал, что крестьянское восстание — вещь вполне возможная. Но он надеялся на то,
- 464 -
что его можно избежать, если правительство и помещики пойдут на определенные уступки крестьянам. Эту противоречивую мысль он высказывал в своих письмах и дневниках. Отпечаток ее лежит на «Утре помещика», на образах его основных героев, на глубоком понимании писателем общественных конфликтов, а также на наивном, в конечном итоге реакционном, представлении о возможности их устранения. Все планы Нехлюдова об установлении «дружеских» отношений между помещиком и крестьянином жизнь разбивала в прах. В крестьянах, с которыми он встречался, чувствовалась сдержанная сила и затаенный гнев, как будто ждущие момента для того, чтобы взорваться. «Утро помещика» рисует такой глубокий конфликт психологий двух противоположных миров, крестьянского и помещичьего, который не мог иначе разрешиться как только столкновением их. Но Толстой, будучи еще очень прочно связан с жизненными позициями и идеологией дворянства, искал всяческие меры для предотвращения крестьянского восстания. Он не мог в это время дальше работать над образом крестьянского мира в его столкновении с миром помещичьего класса, так как реалистический путь создания образа русского крестьянства вступил в решительное противоречие с классовыми предрассудками и симпатиями писателя.
Толстой равно не мог отступить от реализма в изображении деревни, как и порвать со своими классовыми позициями.
Одновременно с Толстым реалистические принципы изображения народа, в частности крестьянства, развивали Некрасов и Салтыков-Щедрин. Образы крестьян у Некрасова и Салтыкова-Щедрина свободны от недостатков, свойственных образам Толстого. Некрасов и Салтыков-Щедрин показывали крестьян в столкновении с помещиком, с чиновником, с купцом, с кулаком, с попом — со всеми его угнетателями. Это объясняется характером отношения Некрасова и Салтыкова-Щедрина к основным социально-историческим конфликтам эпохи. Они сходились с Толстым в том, что оценивали растущие противоречия между помещичьим классом и крестьянством как почву, которая может породить крестьянское восстание. Но тогда как Толстой направлял свои усилия на то, чтобы найти пути и средства для, так сказать, мирного улаживания конфликта, Некрасов и Салтыков-Щедрин всеми силами стремились поднять в крестьянстве способность к революционным действиям.
В «Утре помещика» развитие и углубление толстовского реализма сказывается как в образах крестьян, так и в образе помещика. Нехлюдов пытается разобраться в основном вопросе эпохи — в вопросе о взаимоотношениях помещика и крестьянина — и в понимании его обнаруживает бо́льшую силу ума, трезвость мысли, умение бесстрашно смотреть в глаза истине, как бы она горька для него ни была, чем его предшественник Николенька Иртеньев. Слабость Николеньки в годы юности состояла в том, что его поведение не соответствовало тем правилам и требованиям, которые он сам же намечал для себя и предъявлял к себе. Слабость Нехлюдова в другом — он плохо знает жизнь крестьян, которую решил изменить. Представления о жизни у того и другого не соответствуют ее истинному содержанию. Их развитие и совершается по линии преодоления этого недостатка.
Помимо «Утра помещика», Толстой завершил в 1856 году работу над «Юностью», написал «Метель» и «Двух гусаров».
Рассказ «Метель» представляет серьезный интерес прежде всего с точки зрения уяснения особенностей метода психологического анализа у Толстого.
- 465 -
Рассказ «Записки маркера» был написан еще в 1853 году и тогда же отправлен в «Современник», в котором и был опубликован в первой книжке за 1855 год. Цензура согласилсь на опубликование рассказа лишь после изъятия из него целого ряда мест. Полный текст рассказа был напечатан в 1856 году, возможно, после произведенной дополнительной правки.
В «Записках маркера» ставится одна из центральных проблем творчества Толстого — проблема воспитания человека. Герой рассказа — человек с большим запасом внутренних, духовных сил, с чистой душой и чистыми помыслами. Он оказывается, как и все лучшие герои Толстого, в среде, которая губительно действует на всё, что есть в нем хорошего. Возникает конфликт, аналогичный тому, который лежит и в основе автобиографической трилогии. Но тогда как герой автобиографической трилогии находит в себе необходимые силы для того, чтобы бороться за развитие собственной личности, герой рассказа «Записки маркера» гибнет, оказавшись не в силах противостоять пагубно на него действующей среде.
4
В мае 1856 года Толстой получает отставку по службе в армии и уезжает в Ясную Поляну. Встретившись лицом к лицу с крестьянами и с их жизнью, он понял, как наивны были его представления о деревне. Он понял также и то, что сам сильно переменился с того момента, когда несколько лет назад в связи с поездкой на Кавказ покинул деревню. Необходимость освобождения крестьян от крепостной зависимости для него теперь — очевиднейшая истина.
В Ясной Поляне Толстой составляет письмо на имя председателя Департамента законов Государственного Совета Блудова. Письмо это — важнейший документ для изучения взглядов Толстого на крестьянский вопрос.
Но значение его этим не исчерпывается. Оно помогает уяснению существенных особенностей творчества писателя за этот период, его взглядов на русский национальный характер.
Крестьяне отвергли проект Толстого об их освобождении, хотя он как помещик шел на большие уступки. Он не мог не задуматься над тем, почему всё это происходит. Сначала ему показалось, что крестьяне не понимают того блага, которое он им предлагает. «Не хотят свободу», — записал он 4 июня (т. 47, стр. 79). Но прошло пять дней, и он увидел ошибочность своего вывода. 9 июня он писал: «Крестьяне по своей всегдашней привычке к лжи, обману и лицемерию, внушенной многолетним попечительным управлением помещиков, говоря, что они за мной счастливы, в моих словах и предложениях видели одно желание обмануть, обокрасть их. Именно: они твердо убеждены, что в коронацию все крепостные получат свободу, и смутно воображают, что с землей, может быть, даже и со всей — помещичьей; в моем предложении они видят желание связать их подпиской, которая будет действительна даже и на время свободы» (т. 60, стр. 65).
Приведенный отрывок — великолепный комментарий к «Утру помещика».
Характеристику крестьянской психологии Толстой начинает с установления недоверия крестьян к помещику, объясняя само это недоверие экономическими отношениями между поместной усадьбой и крепостной
- 466 -
деревней. Интерес Толстого к крестьянскому вопросу, желание практически разрешить его применительно к собственному имению, таким образом, способствовали тому, что он лучше узнавал жизнь и народ. Ему становилось ясно, что крестьяне не только не доверяют помещику, но и ненавидят его, готовы при удобном случае расквитаться с ним. Вопрос о том, нужно или не нужно освобождать крестьян от крепостной зависимости, для Толстого теперь не стоял вовсе. Его волновал другой вопрос: как их освободить — с землей или без земли? Он считал бесспорной истиной то, что земля — собственность помещиков. С его точки зрения, следовать исторической справедливости — значит освободить крестьян без земли. Характерно, однако, что он беспокоится не о том, чтобы убедить крестьян в отсутствии у них прав на землю, но о том, чтобы освободить их с землею. Он выставляет самый убедительный для помещичьего класса довод: не отдадите землю — будет восстание, а если оно будет, то не крестьян вините, а самих же себя и правительство. «И кончится тем, что нас перережут» — вот неопровержимый аргумент (т. 60, стр. 89).
Для Толстого русский народ одновременно и кроткий, и революционно боеспособный. Основанием для утверждения, что он кроток, служат действительно присущие ему черты отсталости и социальной запуганности. Толстой не мог подняться до рассмотрения этих черт народа как явлений, исторически сложившихся и, следовательно, преходящих, ибо, стремясь сблизиться с народом, он хотел видеть в нем только хорошее, привлекательное. Помимо того, его собственные идеологические позиции диктовали ему идеализацию отсталости и забитости крестьянства. К выводу же о том, что в народе заложена возможность вступить на путь революционных действий, Толстой приходил в результате глубокого анализа его условий жизни и психологии.
В начале 1857 года Толстой выехал за границу, где находился около полугода. Он побывал в Германии, во Франции, в Швейцарии, значительную часть времени провел в Париже.
Буржуазно-демократические «свободы» при всей их лживости и лицемерности позволяли ему с еще большей ясностью, нежели раньше, ощутить весь ужас положения в России. С другой стороны, лживость и лицемерность буржуазных «свобод» укрепили в нем отрицательное отношение к политической деятельности.
Критическое оружие Толстого в борьбе с капитализмом впервые оттачивалось в странах Западной Европы, во время его первого заграничного путешествия. История с бродячим музыкантом послужила сюжетом для рассказа «Люцерн», который Ленин называет первым, когда перечисляет произведения Толстого, выражающие одновременно и его ненависть к капитализму, и борьбу с ним с позиций «вечных истин».
В середине 1857 года Толстой возвратился в Россию, которая теперь производила на него еще более мрачное впечатление: «В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни» (т. 60, стр. 222). В подтверждение своих мрачных мыслей Толстой приводит ряд случаев, имевших место в течение всего одной недели: старая барыня на улице избила свою прислугу; становой пристав предложил Толстому привезти воз сена, иначе угрожал наказать одного его крестьянина; чиновник избил 70-летнего старика только за то, что тот нечаянно
- 467 -
«зацепил за него»; бурмистр Толстого, надеясь угодить ему, послал подвыпившего садовника босиком по жнивью стеречь стадо и радовался, что ноги садовника покрылись ранами. Аналогичные записи встречаются и в дневнике писателя. 6 августа: «Противна Россия. Просто ее не люблю». 8 августа: «Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна, и чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со всех сторон обступает меня. Зорина прибили на станции, я хотел заступиться, но Василий объяснил мне, что для этого надо подкупить Доктора. — И много такого он говорил мне. Бьет, сечет» (т. 47, стр. 150).
Вид на усадьбу Ясная Поляна. Фотография. 1908.
Совершенно очевидно, что в письмах и дневниках Толстого речь идет о России официальной, о ее общественном и государственном строе. К народу русскому любовь его не уменьшилась, а возросла. Толстой еще задолго до поездки за границу задумывался над вопросом о несовершенстве социально-политического строя в России.
Критика существующих порядков исходила в то время от представителей разных лагерей. Не говоря уже о революционных демократах во главе с Чернышевским, с критикой выступали и славянофилы, и либералы-западники. Стремясь разобраться в политической обстановке, Толстой проявлял живой интерес к различным общественно-политическим группировкам и к их деятельности.
К славянофилам Толстой относился отрицательно, у него есть лишь несколько более или менее сочувственных о них замечаний, в частности о их взглядах на семейный быт. Иногда ему казалось, что они выгодно отличаются от либералов-западников любовью к своему, к русскому. Но эти отдельные сочувственные замечания о славянофилах не характерны для позиции Толстого, которая ни в чем не соприкасалась с их позицией.
- 468 -
Критическое отношение к славянофилам усиливается и возрастает по мере того, как Толстой лучше узнает положение дел в России. Неудачную попытку договориться с крестьянами об их освобождении он рассматривает как самое убедительное доказательство полной несостоятельности теоретических построений славянофилов. В письме к Н. А. Некрасову и И. Ф. Горбунову от 12 июня 1856 года содержатся такие строки: «Уж поговорю я с славянофилами о величии и святости сходки мира. Ерунда самая нелепая. Я Вам покажу когда-нибудь протоколы сходок, которые я записывал» (т. 60, стр. 69).
Толстой отмечает два главных и основных порока в мировоззрении и общественно-политическом поведении славянофилов: первый тот, что они цепляются за прошедшее, второй — что не знают народа.
Характерны следующие его высказывания о славянофилах:
«Одно из главных зол, с веками нарастающих во всевозможных проявлениях, есть вера в прошедшее. Перевороты геологические, исторические необходимы. — Для чего строят дом в 1856 году с греческими колоннами, ничего не поддерживающими?» (т. 47, стр. 68).
«Славянофилы мне кажутся не только отставшими, так что потеряли смысл, но уже так отставшими, что их отсталость переходит в нечестность» (т. 60, стр. 156).
Иным было отношение Толстого к либералам-западникам. Главных представителей этого лагеря — Дружинина, Боткина и Анненкова — он именует «бесценным триумвиратом». Он часто пишет к ним письма, восторженно отзывается о них в письмах к другим лицам. Принято думать, что в течение определенного времени он даже находился под их большим влиянием. Это не соответствует действительности. Толстой всегда сохранял свою самостоятельную позицию. Его внимание к либералам, как увидим дальше, свидетельствует лишь о том, что он рассчитывал найти в них поддержку в своих попытках противодействовать обострению политической борьбы в литературе и обществе. Поездка в Западную Европу способствовала усилению его критического отношения к существующим порядкам, утвердила на позиции отрицания политики. Несомненно, что в лице либералов он надеялся найти единомышленников только в этом вопросе и ни в чем другом. Интересно, что с середины мая и по конец октября 1856 года, когда Толстой находился в Ясной Поляне, он написал всего два небольших письма Дружинину, а Боткину и Анненкову — ни одного. Другим адресатам Толстой написал за это время около двух десятков писем. Интересно и другое — в письмах к Дружинину ни слова не говорится о том, что так волновало Толстого, об его отношениях с крестьянами. Он не находил нужным обсуждать с ним эту тему, а касался только литературных вопросов.
Будучи в Ясной Поляне, Толстой не хотел писать либералам о том, как идут его дела, так как жизнь беспощадно опровергала всё то, о чем они говорили ему в Петербурге и Москве. Он так и пишет Е. Ковалевскому: «Как я занялся делом в подробности и увидел его в приложении, мне совестно вспомнить, что за гиль я говорил и слушал в Москве и Петербурге от всех умных людей об эманципации. Когда-нибудь расскажу вам все и покажу журнал моих переговоров с сходкой. — Вопрос стоит вовсе не так, как полагают умные: как решить лучше? (ведь мы хотим сделать лучше, чем во Франции и Англии), а как решить скорее?» (т. 60, стр. 89). Под «умными» здесь разумеются либералы. В другом месте, называя Боткина, Анненкова и Дружинина своими литературными друзьями, Толстой сознается, что «умные разговоры» с ними наскучили ему (т. 60,
- 469 -
стр. 147). «Гиль» — это в первую очередь беседы Толстого с Кавелиным, ум которого он еще совсем недавно называл «прелестным». Вскоре он станет для него олицетворением тупости.
Башни въездных ворот в усадьбу Ясная Поляна. Фотография. 1908.
Из этого ясно, что уже в середине 1856 года Толстой знал подлинную цену либералам. И тем не менее в течение ряда лет, вплоть до 1859 года, он внешне находится с ними в дружеских отношениях, рассматривает их в известной степени как своих идеологических союзников. Ему в этот период казалось, что политика начинает подчинять себе и губить искусство и что последнее, подчинившись политике, вырождается и гибнет. Он считал, что необходимо обрести прочные опоры, непоколебимые убеждения для защиты искусства. Прежде всего с этой стороны и интересовали его либералы. Но Анненков, например, мало устраивал его и в этом отношении, ибо, как ему казалось, он жадно следил за современностью, боясь отстать от нее. «Вообще надо вам сказать, — писал он Боткину и Тургеневу осенью 1857 года, — новое направление литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что они такое, и имеют вид оплеванных» (т. 60, стр. 233—234). Только от Дружинина Толстой в восторге. «Дружинин также умен, спокоен и тверд в своих убеждениях... Дружинин непоколебим» (там же). У Дружинина он, по его словам, отдыхает.
Так выглядят либералы, в частности Дружинин, в письмах Толстого. Несколько иначе характеризуются они в его дневниках:
7 ноября 1856 года: «вечером Дружинин и Анненков, немного тяжело с первым».
8 ноября: «Был у Дружинина и Панаева, редакция „Современника“ противна».
- 470 -
13 ноября: «в 4-м часу к Дружинину, там Гончаров, Анненков, все мне противны, особенно Дружинин» (т. 47, стр. 98—99).
В дневниках содержатся и восторженные отзывы о либералах, прежде всего о том же Дружинине, но всё же отрицательных оценок и количественно больше, и, кроме того, они весомее, значительнее.
Чем же объяснить такое расхождение между высказываниями Толстого о либералах в его письмах, с одной стороны, и в дневниках — с другой?
Думается, что дело тут в следующем: в письмах Толстой говорит не столько о действительном содержании деятельности либералов, сколько о том, какую роль, с его точки зрения, она должна была играть. А в дневниках он оценивает их конкретные поступки и действия. И эти оценки глубоко проницательны. Толстой, например, присутствует при разговоре Дружинина с Григоровичем и потом делает такую запись в дневнике: «Дружинин не уважает достоинства человека в своих отношениях с Григоровичем» (т. 47, стр. 200). Сам Толстой иногда оказывался в положении Григоровича, встречаясь с Дружининым. Он отмечает, что Дружинин однажды уклонился от разговора с ним, вообще невнимателен к нему. Толстой констатирует высокомерие Дружинина, его равнодушие к людям, к тому, что происходит вокруг него.
Наиболее сложным было отношение Толстого к революционным демократам. Он, конечно, не мог не осуждать их политической деятельности. Но тогда как либералов Толстой презирает за их бесполезность для общества, в революционных демократах он видит серьезную угрозу будущему России. Толстому, безусловно, была ясна связь между ростом в народной массе недовольства существующим положением и деятельностью революционных демократов. С представителями либеральной идеологии он считал возможным вступать в союз, а представителей революционной демократии рассматривал как своих прямых политических противников. При всем том в революционных демократах он чувствовал большую силу. Он восхищался статьями Белинского о Пушкине, в его дневниках мы встречаемся с восторженными записями о Чернышевском.
Эта двойственность позиции Толстого в отношении к революционным демократам понятна. Революционные демократы — истинные деятели своей эпохи, подлинные защитники народа. Толстой так или иначе должен был почувствовать это. Но он не только не мог сойтись с ними, но неизбежно должен был считать их своими противниками: его отношение к политической деятельности было противоположно позиции революционных демократов в этом вопросе.
Вторая половина 50-х годов — время, когда самые различные слои населения, в особенности крестьянство, а также различные общественно-политические группировки ожидали более или менее значительных перемен в жизни страны. Тогда много говорили о будущем России. Этого вопроса не могли обойти ни славянофилы, ни либералы. Присматриваясь к ним, Толстой не мог не заметить, что как те, так и другие нисколько не озабочены судьбою и будущим русского народа. Они не знают ни его самого, ни его потребностей. Славянофилы выставили своим знаменем общину, показав при этом себя людьми, которые не только не думают о развитии народного самосознания, но всё делают для того, чтобы воспрепятствовать его росту. Толстой прекрасно понимал это. В июле 1856 года, находясь в Ясной Поляне и повседневно общаясь с крестьянами, он писал в своем дневнике: «Община до такой степени стеснительна, что всякий член ее, ежели только он немного выходит из животного состояния,
- 471 -
стремится выйти из нее» (т. 47, стр. 189). Либералы вообще хотели представить дело таким образом, что речь может идти только о частных исправлениях существующих общественных и экономических порядков. К тому же необходимость этих исправлений они мотивировали не столько потребностями самой русской действительности, сколько тем, что она должна стать одинаковой с западноевропейской. Толстой отметил это устремление либералов и высмеял их.
Толстой задумывался и над общественным идеалом революционных демократов, но не понял и не принял его. В ноябре 1856 года, уже возвратившись из Ясной Поляны в Петербург, он сделал такую запись в своем дневнике: «Есть два либерализма — один, который желает, чтобы все люди были равны мне, чтобы всем было так же хорошо, как мне, другой, который хочет, чтобы всем было так же дурно, как мне. Первый основан на нравственном христианском чувстве, желании счастья и добра ближнему, другой — на зависти, на желании несчастья» (т. 47, стр. 199). Заметим, что для Толстого в это время «либерализм» имел не тот негативный смысл, который приобрел позже, а был равнозначен требованию серьезных изменений жизни в интересах народа. Он не без гордости заявляет, приехав в Ясную Поляну, что настроен очень «либерально». Так вот, под первым «либерализмом», т. е. таким, который заинтересован в том, чтобы уравнять бедных с богатыми, он разумеет свою собственную, по сути дела утопическую, реакционную программу, рассчитанную на установление союза барина и мужика, а под вторым — революционную демократию. Об этом с достаточной ясностью говорит сопоставление приведенного места из дневника с письмом к Некрасову от 2 июля 1856 года. В указанном письме Толстой нападает на то положение в эстетике революционных демократов, которое требовало от реалистической литературы гнева и возмущения против отрицательных явлений действительности. Некрасов написал Толстому, что литература тем лучше будет выполнять свой долг, чем больше будет злиться: «И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину».1 Сознательное отрицательное отношение революционных демократов к помещичьему строю в целом Толстой пытался истолковать как неискреннее, не свойственное людям, находящимся «в нормальном положении». Требование революционных демократов лишить помещиков их состояния и за этот счет повысить благосостояние народа он расценивал как желание сделать одинаково несчастными всех — и богатых, и бедных.
В определении будущего позиции Толстого отличались от позиций и славянофилов, и либералов.
Толстой был противником всякой догмы, хотя нередко и проповедовал различные догматические учения. «Ум, который я имею и который люблю в других, — тот, когда человек не верит ни одной теории; проводя их дальше, разрушает каждую и, не доканчивая, строит новые», — так писал он в июле 1857 года в «Записной книжке» (т. 47, стр. 212). От этого он никогда не отказывался. Ему хотелось самому лично всё испытать, во всем убедиться. Это в сильнейшей степени отразилось на поисках им идеала.
По возвращении из-за границы Толстой иногда был склонен думать, что от всех невзгод, даже при отсутствии идеала, можно укрыться в мире искусств и поэзии. Тут, по его мнению, можно было не видеть ни станового,
- 472 -
даже от помещика требующего взятку, ни бурмистра, который расправляется с крестьянами. Характерно, что этим словам предшествуют следующие: «...в России жизнь постоянный, вечный труд и борьба с своими чувствами» (т. 60, стр. 222). Эти слова коренным образом противоречат утверждению, что мир искусства может послужить убежищем от всех социальных невзгод. Таким образом, в одном и том же письме Толстой высказывает два положения, каждое из которых взаимно исключает другое. Нет ничего поэтому удивительного в том, что спустя примерно два месяца Толстой осудил свою мысль об уходе в мир искусства. В письме к своей родственнице графине А. А. Толстой он писал: «Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем» (т. 60, стр. 230). Нельзя не заметить, что мысль о труде во втором письме прямо перекликается с аналогичной мыслью в первом, и выражены они в сходных словах. Тем не менее во втором письме осуждено одно из положений первого письма, в нем Толстой сознается, что в его взглядах на жизнь произошла перемена. Он отрекается от мысли устроить счастливый и честный мирок, в котором «можно было бы спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку» (т. 60, стр. 231). Он формулирует в этом письме представление о подлинно человеческой жизни: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость» (там же). В первом письме он пытался так или иначе определить идеал. Ему тогда казалось, что, не имея возможности представить себе идеал как развитие реальной действительности, человек может создавать его независимо от действительности, уходить в мир фантазии. Теперь он думает, что на такой путь становиться нельзя, что такой путь может вызвать безразличие к тому, что делается в мире. Взамен осужденного идеала он не выдвинул во втором из двух названных писем иного, который бы представлялся ему более совершенным.
Вопрос об идеале затрагивается и в письме Толстого к Боткину и Тургеневу (октябрь 1857 года). Он рассказывает своим адресатам, что, возвращаясь из-за границы, по дороге домой «строил планы будущей жизни». Он сообщает, что придумал себе «далекую от действительности прекрасную жизнь», но тут же отказался от нее, так как наткнулся на «тяжелую действительность». Ему осталось одно из двух: «карабкаться вверх по этой грязи или идти в обход». Он сознается, что нередко «выбирал обход: философия (не изучаемая, а своя нелепая, вытекающая из настоящей душевной потребности), религия такая же и искусство, последнее время, вот были мои обходы». Толстой, конечно, не точен, утверждая, что для него характерны были именно «обходы». Но они всё же были, и то, что он понимал это, свидетельствует о том, что и «обходы» использовались им для движения к высокой цели. Сказав про «обходы», он спешит добавить, что больше не будет прибегать к их помощи, что этим ничего не достигнешь, так как «тяжелая, нелепая и нечестная действительность не случайность, не досадное приключение именно со мною одним, а необходимый закон жизни» (т. 60, стр. 232).
Признание силы и могущества действительности звучит здесь как отказ от движения к идеалу, минуя действительность. Но идеал не формируется. Пока только намечаются в самой общей форме пути и средства его достижения: бесстрашное исследование действительности, неустанный
- 473 -
труд, смелое стремление к высокой цели через преодоление ошибок и заблуждений.
Всё же и в дальнейшем Толстой не смог прямо двигаться к идеалу. Он и впоследствии пользовался «обходами», которые были несколько иными по своей природе. Иногда мысленно он создавал такой идеал, на осуществление которого явно не надеялся. Об этом свидетельствует его письмо от 14 апреля 1858 года опять-таки к А. А. Толстой. В письме рассказывается о том, с каким настроением он ехал в Ясную Поляну и какое настроение создалось у него, когда он приехал на место. Письмо это одновременно полно грусти и надежды. Ему грустно потому, что он никак не может найти душевного равновесия. Но он не отчаивается его найти, глубоко верит в это. По дороге его пугало предстоящее одиночество, от этого ему становилось «все грустнее и грустнее». Когда же он приехал в деревню, то ему показалось, что он вдовец, потерявший недавно семью. «И действительно, это семейство моего воображения жило там». Он жалеет своего старшего сына, жену, которая «была славная, хотя странная женщина». «Вдовцом» называл он себя в том смысле, что его мечты, представления об идеале умирают раньше, чем он даже попытается осуществить их. Важно, что Толстой признает наличие у него такого идеала, который не находит подтверждения в действительности; важно, что, ощущая потребность в идеале, он не может создать его, опираясь на реальную действительность. Так опять возникает надобность в «обходе», т. е. в создании неосуществимого идеала. Толстой обращается к своей адресатке: «...научите, что делать с собой, когда воспоминания и мечты вместе составят такой идеал жизни, под который ничто не подходит, все становится не то, и не радуешься и не благодаришь бога за те блага, которые он дал, а в душе вечное неудовольство и грусть» (т. 60, стр. 260).
Но зачем же нужен был Толстому такой идеал? Почему он, понявший непреложную силу законов жизни, не мог отмести его?
Перед ним вставал этот вопрос: «Бросить этот идеал — скажете вы. — Нельзя. Этот идеал не выдумка, а самое дорогое, что есть для меня в жизни».
Однако, написав эти слова, Толстой тут же, видимо, снова задумался над тем, как ему быть с его неопределенным, неясным для него самого идеалом. И он пишет дальше: «Иногда приходит в голову отслужить по всему панафиду, да тогда уж других молитв в душе не останется» (т. 60, стр. 260).
Толстой вырабатывал свой идеал, никогда не забывая о реальной исторической действительности. Он жаждал такого идеала, который выражал бы его духовные потребности и при этом соответствовал бы реальному, подчиненному определенным закономерностям ходу жизни. На этом пути он встречался с непреодолимыми для него трудностями, перед которыми, однако, не отступал. Исходя из своего понимания действительности, он пытался так или иначе сформулировать свой идеал, затем соотнести его с тою же действительностью, что позволяло выяснить его односторонность, ошибочность, неосуществимость (отсюда требование права на достижение цели через преодоление ошибок: «надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать...»). Признавая всякий раз в том или ином виде сформулированный идеал несостоятельным, он тем не менее не отказывается от новых попыток создать его. Так и следует понимать выражение: идеал — это «в душе вечное недовольство и грусть». Вот почему, сказав, что ему иногда приходит мысль, не лучше ли отслужить «панафиду» по идеалу, раз нет возможности
- 474 -
достигнуть такого, который бы удовлетворял его, он продолжает, что и такой идеал выбросить нельзя, надо добиваться того, чтобы заменить несостоятельный истинным. Даже несостоятельный идеал он отказывается признать выдумкой. Для него это «самое дорогое» в жизни не в том смысле, что он не может расстаться с ним, а в том, что добыл его великими трудами и сможет превзойти только новыми громадными усилиями.
Поиски идеала, страстное желание определить его диктовались Толстому заинтересованностью в судьбе народа и отвращением к «застарелой мерзости и лжи». Трудности, которые он встретил на этом пути, коренятся прежде всего в том, что не была еще расторгнута его связь с помещичьим классом, и также в отрицательном отношении к политической деятельности. Но именно потому, что, думая об идеале, Толстой всегда помнил при этом о народе, он в поисках идеала никогда не порывал с реальной действительностью, ибо всякое отступление от нее вело к забвению истинного положения народа.
Таким образом, между тем пониманием идеала, которое было у Толстого, и тем, которого придерживались либералы, лежит целая пропасть. Решительно расходился Толстой с либералами и в оценке общественного назначения искусства.
И либералы, и Толстой часто говорили о «примиряющей роли» искусства, о том, что искусство должно возбуждать не злобу, а любовь к жизни. Казалось, что либералы и Толстой говорят об одном и том же. На самом деле речь шла о разных вещах. Навязывая искусству «примиряющую роль», либералы рассчитывали добиться того, чтобы оно внушало мысль о социальном мире между классами-антагонистами, обходило социальные противоречия и конфликты. Критики-либералы в своих статьях искажали смысл выдающихся произведений русской литературы. Так, например, Дружинин в статье о «Военных рассказах» Толстого и «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина извращает и то, и другое произведение. Дружинин пишет, что Щедрин является прекрасным знатоком русской действительности и потому-де отрицательные явления он изображает не как типические, а как единичные. По мысли Дружинина, Щедрин, обличая отдельных взяточников, в целом с любовью рассказывает о мире чиновников. Дружинин дал совет Щедрину глубже присмотреться к этому миру, он уверен, что в нем можно найти таких же хороших людей, каких нашел Толстой в военном сословии — среди офицеров и солдат: «В гражданской провинциальной деятельности откроются герои превосходного и худого свойства, свои Хлоповы, Розенкранцы, Козельцовы, Вланги, Гальцыны, Праскухины... Вместо анализа первого ощущения под пулями, мы увидим рассказ о первом ощущении при расследовании какого-нибудь преступления; вместо поэтических ночей на биваке, пойдут ночлеги в деревнях и селах, посреди новых лиц, товарищей по занятию, поселян и чиновников, честных служителей Фемиды и зловредных крючкотворов».1
Своей статьей Дружинин хотел сбить с толку и читателя, и самого писателя. Невозможно было поверить, чтобы Щедрин понравился Дружинину. Однако дружининская статья — по своему тону похвальная. Ругать Щедрина было опасно. Так можно было раскрыть свое подлинное существо, которое либералы усиленно маскировали. Но в статье Дружинина Щедрин истолковывается таким образом, что выглядит либералом. Дружинин пользуется явно демагогическими приемами.
- 475 -
Фальшивой и лживой является также статья Дружинина о романе Гончарова «Обломов». Дружинин дает весьма высокую оценку этому роману, говорит об обломовщине, о необходимости преодолеть ее. Затем делается такой поворот: обломовщина выражает-де собою сущность русского национального характера, его духовную незрелость; следовательно, к Обломову нужно относиться как к ребенку, его необходимо любить; преодолевать обломовщину — значит из ребенка превращаться во взрослого человека.
В итоге Дружинин звал не к борьбе с обломовщиной, а к примирению с ней, он совершенно извращал глубокий социальный смысл образа Обломова.
Толстой считал, что искусство имеет своей целью заставить человека любить жизнь; представляя же отрицательные явления как положительные, оно изменяет своему призванию. Являясь противником крестьянского восстания, он, в отличие от либералов, не призывал литературу не замечать общественных противоречий. Напротив, с его точки зрения, социального мира тем скорее можно добиться, чем глубже будут обрисованы те причины, благодаря которым крестьянин ненавидит помещика. Толстой оказывался на позициях утопизма, когда он говорил о будущем, объявлял возможность заключения союза между барином и мужиком. Когда же он переходил к изображению современной ему действительности, а это всегда было главным в его деятельности, он твердо стоял на позициях реализма. В связи с этим у Толстого принципиально иное отношение к классическим произведениям русской литературы, чем у либералов. Он очень высоко ценил «Обыкновенную историю» Гончарова, «Доходное место» Островского, ценил их за те именно достоинства, которыми они в действительности обладали. Так, например, Толстой указывал на такие недостатки в пьесе Островского «Доходное место», устранение которых не ослабило бы критического пафоса этого произведения, а углубило бы его.
Свою безжизненную теорию либералы пытались подкрепить творчеством крупнейших писателей, в том числе и Толстого. Анненков утверждал, что его произведениям чужды «пятна современности». Либералы, написавшие ряд статей о Толстом, оказались неспособными определить сущность его таланта, на что и указал в своей статье Чернышевский. В рассуждениях о том или ином писателе они обходили эпоху, к которой он принадлежал, народ, который его породил. В связи с этим они были лишены даже возможности поставить вопрос о том, чем данный писатель обогатил национальную или мировую литературу.
Суждения Толстого о литературе и искусстве развивались в другом, прямо противоположном плане. Он считал, что литература ставит и решает именно те вопросы, которые являются главными для данного народа и в данную эпоху его исторической жизни. Художник, с его точки зрения, не имеет права оставаться в стороне от той деятельности, которою занят весь народ. «Нет человека, который бы мог обойти матерьяльную сторону жизни, а у нас она — мужики, также как англичанину банк» (т. 47, стр. 190—191). Искусство должно сообщать человеку нечто важное, именно его касающееся, иначе оно будет просто не нужно ему. А для того чтобы оно исполняло эту роль, художник обязан знать жизнь своего народа, быть в постоянном контакте с эпохой. «Романы учат знать людей» (т. 47, стр. 193), — напоминает себе Толстой в тот же период, а это был период его дружеских отношений с «бесценным триумвиратом». Он требует от художника постоянного труда, непрерывных усилий, направленных на то, чтобы разобраться в окружающем мире. Работая, художник узнает
- 476 -
лучше мир и людей, он делает благо и себе, так как познание мира совершенствует его, и другим людям, так как помогает им познавать и мир, и самих себя.
Толстому чужд эгоизм, в какой бы жизненной сфере он ни проявлялся, тогда как эстетика и этика либералов грубо эгоистична. Исходным пунктом всех суждений Толстого является идея о высоком назначении человека, о том, что человек всеми своими помыслами и действиями оправдывает свое призвание, лишь делая добро людям. При этом он сам должен испытывать счастье. Если же этого нет — значит, он не выработал в себе качеств, необходимых человеку, который достоин этого звания. Филантропическую деятельность, идущую вразрез с истинными побуждениями ума и чувств, Толстой решительно отвергает. Отвратительно получается, когда человек, в духовном и нравственном отношении невзыскательный к самому себе, не обладающий значительными духовными потребностями и запросами, начинает, жертвуя собою, делать добро другим людям. Ничего, кроме лжи и лицемерия, из этого получиться не может. Вспомним, с какой ядовитостью описан в «Юности» друг Николеньки Иртеньева — Нехлюдов и всё его лицемерное «логическое семейство». Человек обязан сосредоточиваться прежде всего на самом себе, на своем собственном духовном мире, развитие и совершенствование которого окажется невозможным без участия в делах общих, без потребности служить людям, обществу, народу, человечеству. Человек обязан достигнуть такого положения, чтобы, думая о себе, он непременно думал и о других. Толстой боролся не за то, чтобы человек, не чувствуя в себе этой потребности, служил своим ближним, а за то, чтобы он вырабатывал в себе такое мироотношение, которое бы не позволяло ему не служить им.
Этика Толстого своими существенными сторонами соприкасается с этикой революционных демократов, с их учением о разумном эгоизме. В обоих случаях утверждается, что человек бывает лично счастлив, когда он не пренебрегает счастьем других людей, заботу о нем считает своей первейшей обязанностью. Этика Толстого, как и этика революционных демократов, одной своей стороной повернута против той проповеди о веригах долга, которая звучала, например, со страниц романов и повестей Тургенева. Толстой и революционные демократы, признавая, что человек, отдавая всего себя служению другим людям, остается в каком-то определенном смысле «эгоистом», отстаивали полноценность его чувств и переживаний, духовное богатство его личности. Другой своей стороной этика Толстого и этика революционных демократов повернуты против этики тех же самых либералов, этики грубого эгоизма и индивидуализма.
Отмечая сходство этики Толстого с этикой революционных демократов, ни в коем случае нельзя забывать об их глубоком различии. Революционные демократы, говоря о выгодах для человека одновременно отстаивать свое счастье и счастье других людей, о невозможности иным путем добиться своего собственного счастья, признавали тем самым единство интересов угнетенной массы, коллективность в борьбе за эти интересы. По существу они материалистически решали вопрос, делая упор именно на массе, на ее праве бороться за счастье, под которым они понимали прежде всего материальные условия жизни. Толстой иное разумел под счастьем. Отправным пунктом его рассуждений на эту тему в 50—70-е годы была забота о счастье гуманного дворянина. В представлении Толстого этот последний, стремясь к собственному счастью, естественно понимает под ним не материальные блага, а гармонию своего духовного мира; лишь в поисках этой гармонии он приходит к мысли, что ее невозможно
- 477 -
достигнуть, не сделав счастливыми других людей, от него зависящих и переживающих материальные тяготы. В противоположность этике революционных демократов в этике Толстого вопрос о материальном благе возникает как производный от других вопросов. В связи с этим этика Толстого отрицает борьбу людских масс за преобразование общественного строя, провозглашая основной задачей преобразование духовного мира отдельного человека. В определении путей достижения человеческого счастья — главный пункт расхождения между этикой Толстого и революционных демократов.
Этика непосредственно связана с эстетикой, что всегда подчеркивал Толстой. В своих суждениях об искусстве и литературе он ставит перед художниками как одну из важнейших задач — задачу изображать жизнь народа одновременно и в реальном положении его, и в стремлении к высокому идеалу, но самый путь достижения последнего при этом мыслится туманно, расплывчато, противоречиво, в целом неверно. Эстетика Толстого имеет прямое сходство с эстетикой революционных демократов раньше всего в истолковании изображения реального положения народа и духовной жизни человека. Толстовское понимание задач искусства и литературы в то же время в существенных пунктах противостоит пониманию их революционными демократами. Например, Толстой считал, что художник не должен делать предметом изображения гнев народа против угнетателей; революционные демократы, напротив, настаивали на том, что в этом — одна из главных задач художника.
Толстой всегда оставался противником такого искусства, которое мобилизует людей на политическую борьбу. Но особенно активно выступал он против него во второй половине 1850-х годов: в то время крестьянское восстание стояло в порядке дня, а он всеми силами старался предотвратить его. И хотя либералы были для него и во второй половине 50-х годов неизмеримо более далеки, чем революционные демократы, он вступает в «союз» с первыми для того, чтобы нападать на вторых. При этом он полностью сохраняет свою особую, самостоятельную позицию, в сущности противоположную позиции либералов.
5
Толстой почти во всех своих выдающихся произведениях вел беспощадную борьбу с либералами. Ленин видел в этом одну из его великих заслуг.
Повесть «Два гусара», написанная в 1856 году, — едва ли не первое произведение, в котором Толстой выступил с критикой идеологии либерализма. Эта повесть внешне не связана с основной линией творчества Толстого 50-х годов. Герои повести — отец и сын Турбины — внутренне далеки от писателя, хотя отцу он явно отдает предпочтение. Лучший герой Толстого — это человек большого интеллекта, глубоко не удовлетворенный собою и всем окружающим. Отношение его с эпохой всегда очень сложное. Он является одновременно и продуктом, и судьей ее. Думается, этим и объясняется один из принципов изображения Толстым лучшего своего героя: не столько герой раскрывается через эпоху, сколько эпоха через героя. В повести «Два гусара» Толстой применяет иной, прямо противоположный принцип. Здесь его интересуют прежде всего особенности двух эпох, типическими представителями которых выступают старший и младший Турбины.
- 478 -
В рассказе о старшем Турбине отсутствует его обобщенная характеристика, рассказ о Турбине-младшем именно с нее начинается. Старший Турбин и не обличается и не поэтизируется. Он — уродливое явление прошедшей эпохи, но вместе с тем и величественное. Он то, что называется «широкой натурой», которая, однако, управляется не разумом, а страстями. Это-то и породило как достоинства Турбина-отца, так и недостатки. У него не было никакой определенной цели в жизни, и это, конечно, не могло импонировать Толстому. Отмеченная особенность старшего Турбина не дала возможности развиться хорошим задаткам, заложенным в его натуре. С другой стороны, эпоха, которую Толстой называет наивной, не привила старшему Турбину узкого практицизма. Он — праздный, несвободный человек. Поэтому Толстой снисходителен к нему. Иначе он относится к сыну, изображая его нередко сатирическими красками. Обобщенная его характеристика понадобилась для того, чтобы со всей ясностью и отчетливостью выставить его отрицательные черты. Он погублен своей эпохой. Натура его по своим возможностям, видимо, мало чем отличается от натуры отца. В повести указывается на наследственную даровитость младшего Турбина, на его умственные способности. Героями повести не случайно являются отец и сын: подразумевается, что это два человека с одинаковыми возможностями, живущие в разные эпохи и потому оказавшиеся совершенно разными.
Сущность характера того и другого героя раскрывается в параллельных эпизодах. Первый из них: игра в карты. Турбин-отец отнимает у шулера деньги, чтобы возвратить их проигравшемуся корнету Ильину. Насколько отец благороден, настолько же сын его мелочен и ничтожен. Он играет в карты с вдовушкой, за которой ухаживал когда-то его отец, и выигрывает у нее тридцать два рубля с полтиной ассигнациями. Второй эпизод: свидание. В поведении Турбина-отца, встретившегося с молоденькой в то время вдовушкой, сказалась необузданность и сила его характера; в поведении Турбина-сына, который решил поухаживать за хорошенькой дочкой постаревшей вдовушки, — трусость и ничтожество. Здесь в ироническом, даже сатирическом плане дана та ситуация, которая позже будет разработана Тургеневым в «Асе» уже без всякой иронии.
Тип либерального деятеля сразу стал Толстому в общем ясен и неприятен, как только он столкнулся с ним. Его раздражала вся та шумиха, которая была поднята вокруг вопросов, связанных с крестьянской реформой. С присущей ему проницательностью и требовательностью от человека предельной искренности он не мог не заметить, что все славословия либералов — сплошное лицемерие. В его представлении деятельная натура — это человек, который не доволен прежде всего самим собою, взыскателен к самому себе. От либералов же так и несло самодовольством. Ему казалось, что тип либерала вызван к жизни именно предреформенной эпохой. Отсюда — и суровая ее критика. Так возникает параллель между двумя Турбиными. У Толстого появляется интерес к истории. Одна из причин обращения его к эпохе 1812 года состоит в том, что она представлялась ему такой, когда для развития умственных интересов людей были открыты более широкие просторы. В «Двух гусарах» об этом сказано еще недостаточно определенно, а в набросках романа о декабристах — решительно и категорически. Так устанавливается преемственность между этими двумя произведениями. Повесть «Два гусара» — первое звено, ведущее к замыслу «Войны и мира».
Теперь становится очевидным то обстоятельство, что проблематика «Двух гусар» находится в прямой связи с проблематикой «Утра помещика»,
- 479 -
автобиографической трилогии и военных рассказов. В «Двух Гусарах» либерализм осужден Толстым с тех самых позиций, которые служили для него основанием при создании образа деятельной натуры, близкой и родственной ему самому. Образ этот проходит через автобиографическую трилогию, военные рассказы, «Утро помещика», где он достигает ясности и силы.
Во второй половине 50-х годов Толстой проявлял усиленный интерес к вопросам эстетики. Его внимание занимали главным образом два вопроса: о месте искусства в общественной жизни и об отношении искусства к действительности. В свете той позиции, на которой он стоял в эти годы, интерес его к указанным проблемам вполне понятен.
Рассказ «Люцерн» (1857) и повесть «Альберт» (1857—1858) являются своего рода художественными трактатами об искусстве.
«Люцерн» написан от имени князя Нехлюдова, путешествовавшего по Европе. В основу рассказа положен действительный случай, описанный самим Толстым в письме к Боткину от 26 июля 1857 года. В рассказе подчеркнуто, что случай этот гораздо значительнее событий, о которых пишут историки, и что их обязанность записать его «огненными, неизгладимыми буквами».
Князь Нехлюдов шел по набережной и увидел певца, поющего, песенки. Толпа людей жадно слушала его. Она была преображена искусством певца, полностью захватившего и самого рассказчика.
«Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеяния, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? сказалось мне невольно, вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Всё твое, всё благо...» (т. 5, стр. 8).
Публика, с жадностью слушавшая певца, осталась неблагодарной, никак не вознаградив его за то наслаждение, которое от него получила. Более того, она стала издеваться над ним, когда он обратился с протянутой шапкой. В рассказе дважды повторяется почти одна и та же фраза: «Толпа загоготала от радостного смеха».
Неблагодарность людей к художнику, давшему им наслаждение искусством, равнодушие к человеку, безразличие к его судьбе есть следствие антигуманистического начала в буржуазном обществе, возникшего как результат испорченности людей, которые замыкаются в себе и остаются безразличными к человеку.
Рассказ «Люцерн» примечателен еще и тем, что в нем впервые определяются основные признаки того, что мы называем «толстовщиной» — вера в «вечный дух», в «вечные нравственные начала». Когда В. И. Ленин пишет в своих статьях о толстовщине, то первым в ряду тех произведений, в которых сказалась она, назван «Люцерн». Ленин пишет: «В „Люцерне“ (писано в 1857 году) Л. Толстой объявляет, что признание „цивилизации“ благом есть „воображаемое знание“, которое „уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре“. „Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, — восклицает Толстой, — Всемирный Дух, проникающий нас“».1
- 480 -
Толстой решительно отвергает буржуазные «свободы», ибо они губят искусство, ибо «равенство», провозглашенное в буржуазном обществе, является мнимым и лицемерным. В самом деле, восклицает Толстой, какое тут равенство, если «лакей одет лучше певца и безнаказанно оскорбляет его», если всякий, у кого есть деньги и чины, может презирать тех, у кого их нет.
Основная проблема рассказа «Люцерн» — искусство и общество. Судьба художника, бродячего певца и музыканта, не служит предметом самостоятельного повествования. Он приходит неизвестно откуда и уходит неизвестно куда. Рассказ начинается задолго до его появления и продолжается после того, как он «скрылся в темноте». Бродячий музыкант — лишь пример бесчеловечного отношения буржуазного общества к искусству.
«Люцерн» построен на материале западноевропейской капиталистической действительности. Толстой ставит названную проблему в общем плане — в плане раскрытия враждебности капитализма искусству. Поэтому рассказ перерастает в памфлет громадной обличительной силы. Художник, бродячий певец и музыкант, изображенный в рассказе «Люцерн», стоит как бы вне того социального, в корне враждебного ему мира, с которым он лишь временами сталкивается. В силу этого его натура более или менее цельная. Он нищий, часто бывает голоден, но он всё-таки чувствует относительную независимость от мира, который так жестоко с ним обходится. Когда ему отказывают в вознаграждении за его песни, он благодарит людей, которые ему ничего не дали, и спокойно уходит в другую сторону. Он обвиняет не их, а себя. Если люди не откликнулись, не поблагодарили его за его песни, значит сила его искусства недостаточно велика. Так высоко стоит этот человек. Так безразличен он к миру, который губит всё лучшее ради наживы; так верит он в силу искусства.
Повесть «Альберт» строится иначе. Она основана на материале русской жизни, к которой Толстой относится хоть и очень критически, но не так, как к капиталистическому миру Западной Европы, целиком отвергаемому. Самый материал повести, следовательно, обязывал писателя перенести центр внимания с изображения объективной действительности, как это было в «Люцерне», на художника, его психологию. В «Люцерне» главная тема — «искусство и общество», а побочная — «общество и художник». В «Альберте» — наоборот.
Герой повести «Альберт», замечательный музыкант, не принимает зла окружающего его мира. Он удаляется в мир мечты, создаваемый силою фантазии, силою искусства. Этим миром он радует и самого себя, и людей, с которыми соприкасается. Но, создав свой особый мир, нисколько не похожий на тот, от которого он отрешился, художник не может прожить без этого последнего. Возникает конфликт между художником и обществом. Художник независим от мира действительного в своих мыслях, но в конкретных действиях, в повседневной жизни он не может обойтись без него. Ему нужны деньги, ему нужна скрипка, для того чтобы на ней играть, ему, наконец, нужны люди, которые слушали бы его игру. Действительность возвращает художника к себе. С этого собственно и начинается повесть. Художник, казалось бы, ушедший в своих мечтах от действительности, всё-таки попадает к ней в плен. Здесь он чувствует себя человеком ничтожным, таким же, как все остальные. В его представлениях он возвышается над всеми остальными людьми только до тех пор, пока остается в мире фантастики, который, как он думает, не подчинен никаким законам. Считая себя представителем этого мира, он спокойно
- 481 -
ворует деньги, крадет скрипку, чувствует себя великим, честным и хорошим человеком. Но как только он переносится в мир реальной действительности, то для него сразу становится ясно, что он вор, пьяница, бесчестный человек; в этом мире для него обязательны те же законы, которым подчиняется поведение всех других людей.
В рассказе несомненно есть стремление возвысить мечту над действительностью. Но рядом с этим стремлением — другое: показать, что мечта, оторванная от действительности, не связанная с нею, не имеет никакой цены, губительна для человека. Альберт проходит по улицам Петербурга и слышит какой-то голос, который говорит ему: «проходи своей дорогой, а то не дойдешь». Перед ним всё время две дороги: дорога мечты, своя дорога, и дорога действительности, на которую его вернул Делесов. Умирая, Альберт слышит два голоса: голос Петрова, художника, и голос Делесова, у которого он жил, т. е. голос мечты и действительности. Петров говорит о том, что Альберт велик, а Делесов — что он жил нечестно. Альберту кажется, что оба говорят правду. На самом деле, конечно, и тот, и другой не правы.
Позицию Толстого в «Альберте» можно охарактеризовать так: действительность отвратительна, поэтому правы художники, противопоставляющие миру действительности мир мечты, но мир мечты нереален, потому художник совершает преступление, когда он игнорирует мир действительный.
В повести «Альберт» Толстой существенно отступает от тех принципов построения характера, которые были им выработаны в предшествующих произведениях. Характер Альберта строится так, что раскрытие закономерности его судьбы, определяемой закономерностями самой реальной действительности, отходит на второй план.
Наряду с искусством, своего рода убежищем от нелепой и нечестной действительности, Толстой в конце 50-х годов считал природу. Он неоднократно писал об этом в своих письмах. «Природа больше всего дает это высшее наслаждение жизни, забвение своей несносной персоны» (т. 60, стр. 188). «Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. Желаю вам того же от души. Бывают минуты счастья сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья» (т. 60, стр. 265).
В связи с пониманием природы как одного из условий морального здоровья человека у Толстого появился замысел рассказа «Три смерти». Идею рассказа он изложил в письме к А. А. Толстой от 1 мая 1858 года: «Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. — Барыня жалка и гадка, потому, что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а всё существо ее становится на дыбы, и другого успокоения (кроме ложно-христианского) нету, — а место занято. — Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет» (т. 60, стр. 265—266).
- 482 -
Толстой хотел показать, что человек тем более является человеком, чем ближе стоит он к природе, и — наоборот. В рассказе «Люцерн» он вопрошал: «кто больше человек и кто больше варвар» — знатный лорд или бесприютный бродячий музыкант? Ответ был ясен: признавалось неизмеримое человеческое превосходство музыканта. В рассказе «Три смерти» подлинным человеком оказывается простой мужик, а не богатая и образованная барыня. По замыслу рассказ должен был утверждать идею величия природы по отношению к человеческому обществу, на деле получилось произведение с ярко выраженной социальной тенденцией. В ходе изложения становится совершенно очевидным, что изломанность барыни, фальшь ее натуры, неискренность ее поведения — вовсе не следствие того, что она далека от природы. Это — следствие условий ее помещичьей жизни, которая коверкает человека, лишает его прямоты и искренности. Мужик умирает, не боясь смерти, прямо глядя ей в глаза, вовсе не потому, что он не разлучен с природой, а потому, что таким его воспитала вся обстановка крестьянской жизни.
А. А. Толстая склонна была думать, что рассказ «Три смерти» написан с «христианской точки зрения». Толстой утверждает, что в нем нет ничего христианского. Более того, говорит он, своим острием рассказ направлен против христианских догм, против лживой христианской морали: барыне не хотелось умирать, и она за утешением обращалась к религии, которая не могла дать ей иного успокоения, кроме того, что внушала верить в загробную жизнь; против такого успокоения «все существо ее становилось на дыбы». Таким образом, несостоятельность религиозных догм доказывается здесь самой человеческой натурой, ее здоровыми потребностями.
Разъяснив смысл своего рассказа, Толстой тут же сознается, что в нем самом «есть, и в сильной степени, христианское чувство» (т. 60, стр. 266) наряду с чувством «правды и красоты». Чувство «правды и красоты» суть иное обозначение той самой «вечной тревоги», о которой говорится в различных письмах Толстого этой поры, — его стремление постигнуть истину, найти ответы на самые волнующие вопросы Под «христианским чувством» он разумеет нечто противоположное чувству «правды и красоты».
Если рассказ «Три смерти» написан преимущественно на основе чувства «правды и красоты», то роман «Семейное счастье» (1859) представляет собою попытку найти для своего героя такое положение, которое бы гарантировало ему спокойствие, о котором с осуждением говорится в письме к А. А. Толстой по поводу рассказа «Три смерти».
Герой «Семейного счастья» — гуманный, добрый помещик, который поселился в деревне, чтобы заниматься своим прямым делом, заботясь и о себе, и о крестьянах. В этом духе он воспитывает и Машу — свою будущую жену. Всё это сближает героя «Семейного счастья» с героями предшествующих произведений Толстого и прежде всего с Нехлюдовым из «Утра помещика».
Но между Сергеем Михайловичем и Нехлюдовым имеется и принципиальное различие. Нехлюдов хорошо еще не знает, как ему нужно жить, он только ищет путей правильной жизни, а Сергей Михайлович убежден, что нашел их. Вот как он сам об этом говорит своей возлюбленной: «Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и всё думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья» (т. 5, стр. 100). Далее он разъясняет то, что понимает под счастьем: «Тихая уединенная жизнь в нашей деревенской глуши, с возможностью делать добро людям, которым так легко делать
- 483 -
добро, к которому они не привыкли, потом труд, труд, который, кажется, что приносит пользу, потом отдых, природа, книга, музыка, любовь к близкому человеку, вот мое счастье, выше которого я не мечтал» (там же).
Из этих слов видно, что герой «Семейного счастья» хочет строить тот «счастливый мирок», о котором Толстой писал в письмах к А. А. Толстой в 1857 и к Чичерину (1858).
Толстой в это время ищет убежища от социальных бурь, которые начинали разыгрываться вокруг него. Он хотел найти его в искусстве, в природе, а также в помещичьей усадьбе.
Роман «Семейное счастье» написан от имени героини, хотя носителем главной идеи произведения является герой. Это очень существенный момент. Сергей Михайлович, убежденный в том, что он создал себе «счастливый мирок», вместе с тем не уверен в его прочности. Он боится прикоснуться к нему своими воспоминаниями о прошлом, своими размышлениями о настоящем. Поэтому рассказ не может вестись от его имени. Тогда бы его прошлое ворвалось в этот рассказ и разрушило «счастливый мирок». Но прошлое героя — еще не самое страшное для него. Страшнее было другое. Как помещик Сергей Михайлович встречается ежедневно с крестьянами. Но в романе об этом ничего не говорится. О них нельзя было бы умолчать, если бы Сергей Михайлович сам рассказывал о своей жизни. Толстой знал по опыту, что если встать на путь изображения крестьян, то от «счастливого мирка», которого так жаждет его герой, не останется камня на камне. Толстой настойчиво подчеркивает, что его герой стремился обойти те вопросы, которые могли бы вызвать тревогу и беспокойство в его душе. Естественно, что крестьянский мир остается за пределами романа.
Роман «Семейное счастье» не мог быть написан также и от имени автора. Герой — лицо, весьма близкое самому автору. Если бы повествование вел сам автор, он неминуемо раскрыл бы противоречивую сущность героя: и его желание построить «счастливый мирок», и понимание, что это невозможно. Толстой решил показать в своем романе только одну сторону героя — его желание достигнуть счастья и покоя.
И это сузило идейную проблематику романа. То, что Сергей Михайлович хотел выдать за счастье, на деле явилось отрицанием истинной жизни, всякого движения вперед. И Маша это поняла: «Хуже всего для меня было то, что я чувствовала, как с каждым днем привычки жизни заковывали нашу жизнь в одну определенную форму, как чувство наше становилось несвободно, а подчинялось ровному, бесстрастному течению времени» (т. 5, стр. 111).
Самые живые страницы романа — это те, где Маша заявляет протест против экспериментов Сергея Михайловича по устройству «счастливого мирка», изолированного от большого, живого, действительного мира.
Еще не успев напечатать «Семейное счастье», Толстой понял, что роман совершенно не удался. Он резко осудил свое произведение в письмах к Боткину и Дружинину.
Романом «Семейное счастье» заканчивается тот период идейных и творческих исканий Толстого, когда он пытался укрыться от социальных бурь и потрясений то в мире искусства, то в мире природы, то просто в дворянской усадьбе.
В середине 1859 года Толстой вступает в новую полосу идейных исканий. С настроениями, которыми был порожден роман «Семейное счастье», он решительно порывает. Самая логика идейно-художественного
- 484 -
развития писателя, обусловленная теми процессами, которые совершались в социально-исторической действительности, вела его к этому.
1859 год — это год бурного подъема общественного движения в России, начало революционной ситуации.
В ряде писем, относящихся к осени 1859 года, Толстой заявлял, что он решился оставить литературную деятельность. Некоторые из его адресатов, как, например, Дружинин, полагали, что он собирался так поступить только потому, что к нему охладела публика. В действительности дело было в другом. Толстому стало ясно, что тот путь, которым он шел, начиная с 1857 года, не может доставить ему успеха как художнику. Так, затрагивая этот вопрос в письме к Дружинину от 9 октября 1859 года, он замечает: «Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу — тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей-богу руки не поднимаются» (т. 60, стр. 308).
То, что Толстой называет отречением от литературы, на самом деле было поисками новых путей для литературной деятельности, которую он как раз в это время называет «лучшей в мире». Толстой сознается, что самая попытка отречься от литературной деятельности оставила в нем пустоту, которую он «старался заткнуть чем-нибудь» (т. 60, стр. 316).
Так подготовлялась у него мысль о школьных занятиях с крестьянскими детьми. К концу 1859 года он приступил к этим занятиям. В феврале 1860 года в письме к Фету, в обоснование своей новой деятельности, он выдвинул следующее положение: «Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко того, что мы знаем» (т. 60, стр. 325).
В июле 1860 года Толстой выехал за границу с тем, чтобы навестить больного брата Николая и ознакомиться с постановкой дела народного образования. За границей он провел свыше девяти месяцев, побывав за это время в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Англии. Толстой слушал лекцию Диккенса о воспитании, неоднократно встречался с Прудоном, с польским революционером Лелевелем, много внимания уделял изучению постановки дела в школах.
В октябре 1860 года умер брат Толстого Николай. Толстой был потрясен его смертью, и впоследствии воспоминания о ней нашли отражение в описании смерти Николая Левина в «Анне Карениной».
Самым значительным событием поездки Толстого за границу было его знакомство с Герценом (в начале марта 1861 года). В течение примерно двух недель Толстой и Герцен часто встречались. Как видно из писем Толстого к Герцену, в своих беседах они затрагивали коренные вопросы общественного развития. Толстой отводит упрек Герцена в том, что он не знает России. «Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на нее с своей призмочки» (т. 60, стр. 374). Комментатор этого письма в Юбилейном издании Толстого утверждает, что «субъективной Россией» Толстой называл русский народ.1 В действительности же в письме речь идет о том, что Толстой видит Россию не так, как Герцен — по-своему, субъективно. В представлениях о России Толстого и Герцена, при всем различии, было, однако, и нечто общее. Не соглашаясь с Герценом в вопросе о дальнейших путях развития, Толстой считал, что необходимо вперед «идти не останавливаясь» (там же). В письме к Герцену Толстой дает
- 485 -
оценку манифесту царя от 19 февраля 1861 года: «Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. — Еще не нравится мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность его даже ученому крепостнику ничего не представляет, кроме обещаний» (там же). Толстой сообщил Герцену, что он «затеял месяца 4 тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист» (там же). Из этого видно, что роман был начат как раз в то время, когда Толстой писал разным лицам об «отречении» от литературной деятельности.
За границей Толстой работал над рядом художественных произведений, в частности над «Казаками» и над «Поликушкой», задумал по приезде на родину издавать педагогический журнал. В апреле он возвратился в Россию и сразу подал прошение на имя министра просвещения о разрешении издавать журнал «Ясная Поляна», в мае занял должность мирового посредника, которую исполнял около года, вызывая всеобщее недовольство местных дворян и восхищение крестьян.
Иллюстрация:
Титульный лист журнала «Ясная Поляна»,
издававшегося Л. Н. Толстым. 1862.В связи со своей деятельностью как мирового посредника и с изданием журнала Толстой оказывается на подозрении у царского правительства. В июле 1862 года в Ясной Поляне в отсутствие Толстого жандармским полковником Дурново совместно с крапивинским исправником и становым был произведен обыск, продолжавшийся два дня. Толстому стало это известно, когда он, возвращаясь из поездки в Поволжье, приехал в Москву. В письме к А. А. Толстой он выразил негодование и возмущение: «Как то я писал вам о том, что нельзя искать тихого убежища в жизни, а надо трудиться, работать, страдать. Это всё можно, но ежели бы можно было уйти куда-нибудь от этих разбойников с вымытыми душистым мылом щеками и руками, которые приветливо улыбаются. Я, право, уйду, коли еще поживу долго, в монастырь, не богу молиться — это не нужно по-моему, а не видеть всю мерзость житейского разврата — напыщенного, самодовольного и в эполетах и кринолинах» (т. 60, стр. 429).
Начатая в 1859 году педагогическая деятельность Толстого продолжалась около трех лет. Журнал «Ясная Поляна» издавался в 1862—1863 годах, всего вышло двенадцать книжек. Первая книжка его вышла в свет в феврале 1862 года. В статье Толстого «О народном образовании» была подвергнута убийственной критике казенная педагогика, игнорирующая живые интересы и потребности народа. Та часть статьи, где Толстой
- 486 -
развивал положительно программу, полна глубоких противоречий. Так, в статье одновременно утверждается и то, что народ должен учиться тому, чему он хочет, и то, что никому не известно, «в чем должно состоять образование народа» (т. 8, стр. 24). В другой статье — «О методах обучения грамоте» — Толстой в сущности приходит к утверждению, что образование не только бесполезно, но просто вредно для народа.
На первые две книжки журнала «Ясная Поляна» «Современник» поместил рецензию Чернышевского, которого сам Толстой просил об этом. Рецензия резко разделяется на две части. В первой речь идет о постановке дела обучения в яснополянской школе, где нет никакого принуждения. Чернышевский сочувственно говорит об этом. Вторая, основная, часть статьи посвящена педагогическим теориям Толстого, которые Чернышевский в целом осуждает. Революционные демократы стремились использовать школу, как средство политического воспитания людей, подготовки их к революционным действиям. Поскольку статьи Толстого были напечатаны без подписи автора, Чернышевский говорит о них, как о редакционных.
Толстой ответил Чернышевскому статьей «Воспитание и образование», написанной в заостренно полемической форме.
Программный характер носят статьи Толстого «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» и «Прогресс и определение образования». В первой из них утверждается: «Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше его нужно воспитывать, тем больше ему нужно свободы» (т. 8, стр. 323). Что касается парадоксального вопроса, заключенного в заглавии статьи, ответ на него давался примерно такой: поскольку главное для писателя — умение видеть мир таким, каков он есть, этому умению он должен учиться у крестьянских ребят, которые смотрят на всё чистыми и светлыми глазами. Во второй из названных статей Толстой выступает против идеи прогресса, доказывая, что он вовсе не является обязательным законом для всего человечества. Толстой ссылается на восточные народы, которых будто бы совершенно не коснулся прогресс. Цитируя это место из статьи Толстого, Ленин писал:
«Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании».1
В это время Толстой много работает и как писатель. В 1861—1862 годах он пытался написать цикл рассказов из деревенского быта. Проблема отношения классов, крепостного крестьянства и дворянства, отступает в сознании Толстого этого периода на задний план. Здесь причина того, почему не был осуществлен цикл рассказов из деревенского быта. «Поликушка» — единственное законченное произведение этого цикла. Много работал Толстой над повестью «Идиллия» — в более поздних редакциях «Тихон и Малания». Но эту повесть ему закончить не удалось.
В «Поликушке» Толстой намерен был показать крестьянина лишь как жертву проникновения денег в деревню. Но когда он приступает к реализации своего замысла, то делает другое: судьба Поликея рисуется им как типическая судьба крепостного крестьянина. Картина жизни крепостной деревни, нарисованная Толстым в «Поликушке», имеет и много общего с той, которая была им нарисована в «Утре помещика», и в то же
- 487 -
время отличается от нее. Общим для этих двух произведений является то, что и в том, и другом показаны нищета и бесправие крестьян, расслоение деревни, нарождение кулацких элементов; общим является также нескрываемая любовь автора к забитым, бедным крестьянам, его вера в здоровые нравственные качества русского народа, крестьянства. Но произведения эти написаны были с различными целями. Вследствие этого каждое из них, помимо того, что их объединяет, имеет и свои особенные черты. «Утро помещика» превосходит «Поликушку» по силе описания враждебности идеологии крестьян и помещиков. «Поликушка» стоит выше «Утра помещика» в смысле раскрытия трагического характера судьбы крепостного крестьянина.
Наиболее значительное из всех произведений, над которыми работал Толстой в начале 60-х годов, — повесть «Казаки». Замысел ее относится еще к 1852 году. На протяжении десяти лет Толстой неоднократно обращался к повести, но никак не мог ее завершить. Она так и появилась в печати в незаконченном виде: Толстой отдал ее Каткову для опубликования в «Русском вестнике» в уплату долга. «Казаки» были напечатаны в 1863 году.
Идея произведения, над которым Толстой работал с таким напряжением, длительное время оставалась для него не вполне ясной. 18 августа 1857 года он записал в дневнике, что своей Кавказской повестью «совсем недоволен. Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — не достаточны» (т. 47, стр. 152).
На первый взгляд, в «Казаках» Толстой шел не вперед, а назад. В самом деле, в отличие от Нехлюдова, Оленин не занимается улучшением крестьянского быта. В «Казаках» нет картин бедствия крепостного крестьянства. И несмотря на это, «Казаки» явились новой ступенью в развитии мировоззрения и реализма Толстого.
То, что в «Романе русского помещика» мыслилось как должное — обеспеченная жизнь трудовых масс, — в «Казаках» показано как сущее. Толстой, казалось бы, облегчил своему герою путь для достижения гармонии в своем сознании. Совесть его перед казаками чиста. Но и казаки совершенно независимы от него. В противоположность Нехлюдову, перед которым крестьяне склонялись как рабы перед господином, Оленин в лице казаков видит людей, в сущности равных себе. Как и его предшественник Нехлюдов, он — личность в духовном отношении дисгармоничная. И эту дисгармоничность он стремится устранить путем установления некоего равновесия между своим мироотношением и миропониманием и мироотношением и миропониманием казаков. Перед писателем встала необходимость определить сущность того и другого мироотношения и миропонимания.
Основная тема «Казаков» — это возвеличение духовного мира людей труда и развенчание духовного мира привилегированных сословий. Толстой сделал упор на поэтизации трудовой жизни и психологии простых людей, складывающейся на ее основе. Казаки — люди вольные, независимые, с развитым чувством собственного достоинства, и это отличало их от рядовых крестьян крепостной деревни. В то же время казак — это тот же крестьянин, живущий своим собственным трудом и не представляющий себе иного образа жизни. Условия, в которых жили казаки, были исключительными в сравнении с условиями жизни крепостной деревни, но их психология — типичная для трудящихся слоев населения.
В плане литературных традиций произведением, наиболее близким «Казакам», являются повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»,
- 488 -
которые так горячо одобрил Белинский именно за то, что в них была верно воспроизведена идея народной жизни. Гоголю пришлось перенести действие своих повестей в XVIII столетие, Толстому — в станицу терских казаков.
Разумеется, было бы наивно говорить о зависимости в этом отношении Толстого от Гоголя. Речь должна идти о другом — в каких направлениях передовая русская литература искала пути и способы для создания образа народной массы, соответствующего великим возможностям, заложенным в ней самой. Повести Гоголя рисуют поэтический образ народа, преимущественно взятый сам по себе. Повесть Толстого дает этот образ в непримиримом конфликте с образом противостоящего ему мира. Социальный конфликт в повести Толстого необычайно глубок. Он воплощен прежде всего в отношениях Оленина и Марьяны. Их «роман» предвещает в какой-то мере «роман» Нехлюдова и Катюши Масловой в «Воскресении». Марьяна не может понять Оленина так же, как не могли понять крепостные мужики Нехлюдова в «Романе русского помещика»: Марьяна судит об Оленине не по тому, что́ он думает о себе, а по тому, к какому социальному миру он принадлежит. Ей нет дела до его духовных и нравственных исканий, ее правоту понимает и сам Оленин. Следовательно, он уже начинает догадываться, что несет перед народом ответственность за принадлежность к привилегированному сословию.
В целом образ Оленина — шаг вперед сравнительно с образом Нехлюдова, но в одном отношении первый образ ниже второго. Нехлюдов имел перед собою практическую цель, Оленин ее не имеет, — это настойчиво подчеркивается на самых же первых страницах повести. Характер Оленина в основном раскрывается в лирическом плане — через его отношения с Марьяной. Лирическая линия — ведущая в повести. Но наряду с ней развивается и эпическая линия, которая начинается с четвертой главы и продолжается до девятой включительно, а затем — сливается с лирической.
Мир казачьей станицы Толстой рисует, как ту почву, которая взрастила характер Марьяны. Образ дяди Ерошки — олицетворение философии этого мира, образ Лукашки — его практики.
Казачья станица в ее социально-бытовой характеристике совершенно не интересует Оленина, и если он иногда задумывается над тем, не стать ли ему казаком, наподобие Лукашки, то только потому, что видит в этом единственную возможность находиться постоянно вблизи Марьяны. Этим и следует объяснить то, что образ Марьяны дан преимущественно через восприятие Оленина, а образы дяди Ерошки, Лукашки — путем непосредственной авторской характеристики.
При первой же встрече с Олениным дядя Ерошка гордо заявляет ему: «Я тебя всему научу». Крепостной крестьянин не мог так сказать своему барину. Воздействие народного сознания на лучшего героя, близкого самому Толстому, в «Казаках» гораздо более активно, нежели в предшествующих его произведениях. Мудрость дяди Ерошки — мудрость трудового человека. Он — гуманист и язычник, стихийный материалист. Он проповедует идею братства народов, резко осуждает жестокость войны, которая велась тогда на Кавказе. Вместе с тем он чувствует, что его собственная жизнь не вполне согласуется с его пониманием жизни. Он сам сделал немало зла людям. И когда Оленин спросил его, приходилось ли ему убивать людей, он закричал на Оленина: «Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено!» (т. 6, стр. 59).
- 489 -
Дядя Ерошка, прожив большую жизнь, начинает чувствовать, что условия, в которые он поставлен, исказили в некоторых отношениях его облик как трудового человека.
Оленин покидает станицу, непонятый Марьяной, как покинул крепостную деревню Нехлюдов, непонятый мужиками. Повесть «Казаки» не имеет конца, как не имеет его и «Утро помещика». Это означало, что тому и другому герою Толстого предстояли новые жизненные испытания, перед ними открывались новые жизненные горизонты. После образа Нехлюдова в творчестве Толстого закономерно возник образ Оленина, который в значительной степени подготовил образ Пьера Безухова.
Нехлюдов понял, что какую бы заботу помещик ни проявлял о своих крепостных крестьянах, он не достигнет дружественных отношений с ними.
Оленин пошел еще дальше. У него вполне сложилось убеждение, что его мироотношение и миропонимание, его жизненные позиции в чем-то глубоко несправедливы, и народ, в глазах Оленина олицетворяющий добро и справедливость, не хочет признать его своим равноправным членом. А без этого признания он не мог спокойно жить.
В «Казаках» мастерство Толстого, особенности его реализма с наибольшей силой проявились в построении образа Оленина. За исключением дяди Ерошки, все казаки воспринимают Оленина как типичнейшего представителя господствующего класса. Он и был таковым в значительной степени. В то же время Оленин обладал и некоторыми положительными чертами, прежде всего искренним стремлением сблизиться с народом. Но это стремление было настолько еще туманным и неопределенным даже для самого Оленина, что оно воспринималось всеми как чудачество. Взаимоотношения с дядей Ерошкой и раскрывают во всем духовном строе Оленина ростки нового, смысл которых еще не вполне ясен даже ему самому.
Признание дядей Ерошкой благородных порывов Оленина как бы освящало их, давало Оленину уверенность в плодотворности своих духовных и нравственных исканий.
Оленин тяготится теми особенностями своей психологии, которые являются типичнейшими для его класса, дворянства. И это не только не снижает типичности образа Оленина, но во многом повышает ее.
Идея «Казаков» — поэтизация трудовой жизни и порожденного ею мироотношения и миропонимания — складывалась в процессе многолетней работы над повестью.
Если в «Казаках» Оленин соотнесен с трудовой жизнью и трудовой психологией казаков одной только станицы, занимающей к тому же исключительное положение по отношению к крепостной деревне, то в «Войне и мире» Пьер Безухов, продолжающий линию исканий Оленина, соотнесен уже с целой Россией.
На ряду с военными, в особенности «Севастопольскими рассказами», «Казаки» явились ближайшим подступом к «Войне и миру».
6
Над «Войной и миром» Толстой работал с 1863 по 1869 год. Первоначально он думал написать роман о декабристах, которым в 1856 году было разрешено вернуться из ссылки. К этому времени приурочивалось и повествование. Вскоре Толстой должен был передвинуть начало повествования к 1825 году для того, чтобы показать политическую деятельность своего героя, определившую весь его дальнейший жизненный путь. Однако
- 490 -
и такое начало было признано неподходящим: оставался неосвещенным период формирования характера и мировоззрения героя.
Так перед Толстым возникла задача изображения эпохи Отечественной войны против Наполеона — войны 1812 года.
В связи с этим изменялся и самый замысел произведения. Интерес к эпохе, к действиям народных масс становился главенствующим.
Основное творческое задание, которое определилось в ходе работы Толстого над «Войной и миром», — раскрытие сущности русского национального характера.
Повествование в «Войне и мире» начинается с 1805 года. «1805 год» — под таким заглавием появились первые двадцать восемь глав произведения Толстого в январской книжке журнала «Русский вестник» за 1865 год. Толстой заявляет, что он начал свой роман не с 1812, а с 1805 года из-за чувства застенчивости: «... совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших неудач...» (т. 13, стр. 54). Но дело, конечно, не только в этом. Идея произведения требовала перенести начало повествования к событиям 1805 года, на что далее и указывает сам Толстой: «Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений» (там же).
Предчувствие «великих перемен», ожидающих Россию, всегда отличало Толстого. Об этом он писал еще в дни героической защиты Севастополя.
Пытаясь проникнуть в будущее своей страны, Толстой основывается как на ее настоящем, так и на прошлом. Известно, что его привлекал целый ряд исторических тем, в том числе и тема Петра Первого. Замысел исторического произведения, посвященного эпохе Отечественной войны против Наполеона, совершенно закономерно возник в творческом сознании Толстого.
Историческая тема занимала существенное место в передовой русской литературе: достаточно указать здесь на такие произведения предшественников Толстого, как «Борис Годунов» и «Капитанская дочка» Пушкина, как «Тарас Бульба» Гоголя. Пушкин и Гоголь обращались к истории затем, чтобы, осмысляя великие события прошлого, глубже уяснить сущность современной им эпохи. Выражая идеи первого поколения русских революционеров-декабристов, Пушкин выдвинул в своем творчестве тему революции. В связи с этим перед ним встал вопрос о роли народных масс в историческом движении. В «Борисе Годунове» проводится мысль о решающем значении «народного мнения» в общественно-историческом процессе. Однако сам народ как действующий субъект истории в трагедии не показан. В «Капитанской дочке» нарисована картина стихийного движения народных масс против своих угнетателей и создан образ их руководителя — Пугачева. Позиция Пушкина в «Капитанской дочке» противоречива. Он одновременно и явно сочувствует крестьянскому движению, видя в нем силу, способную сломать строй рабства и угнетения, чего не смогли сделать декабристы, и рассматривает его как разрушительную стихию. Гоголь, не ставя в своем творчестве непосредственно тему революции, углубил разработку темы народа в историческом движении. В «Тарасе Бульбе» он создал коллективный образ народа, отстоявшего свою национальную независимость, особенно подчеркнув в народе его высокий разум, героизм и преданность родине, т. е. такие качества, которые внушали мысль о его способности подняться на борьбу за социальную свободу.
- 491 -
Опыт Пушкина, Гоголя и Лермонтова в разработке исторической темы явился школой для передовых писателей на новом этапе развития русской литературы.
После поражения царизма в Крымской войне в стране бурно росло общественное движение, в результате чего к концу 50-х годов сложилась революционная ситуация. Особое значение в литературе и критике этого времени приобретает проблема изображения сознательного борца за интересы народа, проблема изображения народных масс, в которых зрела способность бороться за коренное изменение собственного положения. Эти проблемы настойчиво, глубоко и с огромным политическим пафосом разрабатывались Чернышевским и Добролюбовым. Передовые писатели эпохи, так или иначе содействуя подъему общественного движения, обращались не только к настоящему, но и к прошлому. Герцен печатал в это время в «Полярной звезде» «Былое и думы». В той же «Полярной звезде» в 1859 году появилась поэма Некрасова «Белинский». Островский в 1856 году задумывает пьесу на историческую тему «Козьма Захарьич Минин-Сухорук». В марте 1861 года Толстой в письме к Герцену сообщает о зарождении у него замысла романа о декабристах.
Революционная ситуация 1859—1861 годов не переросла в революцию. Первый демократический натиск был отбит царизмом. Реакция развернула наступление на демократию по всему фронту. В этих условиях передовые общественные деятели эпохи, у которых имелась возможность продолжать свою деятельность, отдавали себе отчет в том, что их ответственность за воспитание масс не уменьшилась, а возросла.
Пафосом борьбы с реакцией и разоблачения реакционной сущности правительственных реформ пронизаны такие произведения Некрасова, как «Благодарение господу богу», «Из автобиографии генерал-лейтенанта Рудометова 2-го», «Мороз, Красный нос», «Песни о свободном слове» и сатирический цикл «О погоде», «Балет», «Газетная». В произведениях поэта, написанных в период наступления реакции, не ослабли, но усилились революционные мотивы. Характерно, что тема революции решалась им и на материале прошлого. В 1870 году он создает поэму «Дедушка», а в 1871-м — поэму «Русские женщины». Обе поэмы посвящены декабристам. Проблема преемственности революционных поколений для Некрасова имела громадное значение.
В «Письмах из провинции» (1868—1869) Щедрин настойчиво доказывал, что народ представляет собою главную силу истории, что неудача первого демократического натиска объясняется отсталостью сознания народа и что первоочередная и самая важная задача передовых людей заключается в том, чтобы помочь ему преодолеть его отсталость. В решении ее сам Щедрин опирался не только на факты современности, но и на уроки истории. Именно в конце 60-х годов создает он свой гениальный роман «История одного города».
Некрасов и Щедрин — революционные демократы; задачи, которые были поставлены эпохой перед передовой литературой, они решали, руководствуясь тем, что служат делу революции.
Но делу освобождения народа служили и те писатели, которые не являлись сторонниками революционной демократии, например, Островский, а порою и вступали с ней в открытую борьбу, например, Тургенев и Толстой, при всем отличии их друг от друга.
Добролюбов писал, что Островский выразил в своем творчестве стремления и потребности, «которыми проникнуто всё русское общество, которых голос слышится во всех явлениях нашей жизни, которых удовлетворение
- 492 -
составляет необходимое условие нашего дальнейшего развития».1 Особое внимание драматург уделял росту самосознания в народе. Именно поэтому ему удалось создать такой выдающийся образ, как образ Катерины. Начиная с середины 50-х годов, драматург широко вводит в свое творчество историческую тематику. На протяжении 50—60-х годов он создает такие исторические пьесы, как «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1856—1861), «Воевода», или «Сон на Волге» (1865), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866).
В целом «Война и мир» не только не противостоит произведениям Щедрина и Некрасова, но во многих существенных пунктах близка им. Немало точек соприкосновения можно было бы установить между творческим пафосом Толстого и Островского.
Глубоко постигнув психологию народа уже в самом начале творческого пути (вспомним отзыв Чернышевского об «Утре помещика»), Толстой в обстановке общественного подъема 60-х годов полностью отдавал себе отчет в том, что народ мечтает о лучшей жизни, стремится к ней. И он сочувствовал этому стремлению, хотя был решительно против осуществления его революционным путем.
В поисках ответов на вопросы, поставленные временем, Толстой обращался к выяснению сущности русского национального характера, опираясь при этом на традиции Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Широко известно, например, его признание, что зерном, из которого выросла «Война и мир», явилось стихотворение Лермонтова «Бородино».
Средством испытания для отдельных людей и для целых социальных групп в «Войне и мире» выступает прежде всего война. Тема войны здесь органически сливается с темой мира. Война — самая строгая проверка духовных свойств людей, того, насколько в них развито чувство национального достоинства. Но это чувство складывается и развивается на протяжении всей жизни человека в условиях мирного времени.
Отсюда и жанровые особенности «Войны и мира». Это одновременно и национально-героическая эпопея, в которой создан величественный образ русского народа, показан его подвиг в защите родины и освобождении народов Европы от ига Наполеона, и реалистический роман, раскрывающий самые глубокие социально-исторические конфликты, присущие дореформенной России.
Создание «Войны и мира» — великий творческий подвиг Толстого. Трудности, стоящие перед ним, были тем более значительны, что он решал одновременно задачу изображения и судеб отдельных людей во всей их конкретности как носителей типических черт, и жизни народа за целую эпоху. Ему нужно было выработать такую структуру произведения, какой не знала до него мировая литература.
Именно в годы работы над «Войной и миром» Толстой усиленно думает над вопросом о природе романа как особого жанра. Толстой находит, что русские романисты гораздо более свободны от канонов жанра, нежели романисты Западной Европы. Так именно и надо понимать слова Толстого из его статьи по поводу «Войны и мира»: «Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе...» (т. 13, стр. 54).
Различие между русским и западноевропейским романами не исключает определенного взаимодействия между ними. Безусловно, западноевропейский
- 493 -
«Война и мир». Черновой автограф Л. Н. Толстого. Начало романа в первой
редакции.
роман сыграл очень большую роль в становлении, а затем и в развитии русского реалистического романа. Достаточно здесь напомнить роль Байрона («Дон-Жуан»), Вальтер Скотта, а также западноевропейских писателей XVIII века в творческой деятельности Пушкина, в его работе над романами в стихах и в прозе. В последующее время опыт западноевропейского романа учитывали все выдающиеся русские романисты, подтверждением чему может служить, в частности, отношение Достоевского к Бальзаку, Толстого — к Стендалю, Диккенсу, Теккерею, к ряду английских и французских романистов XVIII столетия.
- 494 -
Но всё это не мешало, а способствовало русскому реалистическому роману с первых шагов развития обнаружить всю силу своего идейного и художественного своеобразия, вытекающего из особенностей социально-исторических и национальных условий, его породивших. В то время как лучший герой западноевропейского романа XIX века, с отвращением относясь к прозе буржуазного мира, по своим духовным и нравственным запросам, за очень редким исключением, сам в общем не выходил за эти горизонты, лучший герой русского романа того же столетия, начиная с пушкинского «Евгения Онегина», был так или иначе, прямо или косвенно связан с процессами, обусловившими освободительное движение в стране, и изображался в соответствии с требованиями народной жизни. Вследствие этого наиболее выдающиеся русские романы эпичны по своему содержанию и форме. Чертами подлинного эпоса обладает «Евгений Онегин», являющийся, по определению Белинского, энциклопедией русской жизни. Однако эпическое задание в пушкинском романе исполняется во многом лирическими средствами.
Из всех последующих русских романов романы Толстого в наибольшей степени эпичны. Его любимый герой, неудовлетворенный окружающей средой и самим собою, стремится к оправданию своего высокого человеческого назначения и одновременно к тому, чтобы иметь право чувствовать себя перед народом ни в чем не виновным. Он идет к благородной цели по необычайно трудному пути, который хотя, в силу ошибочности ряда существенных его предпосылок, и не мог завершиться успехом, но всё же постоянно толкал его на более широкое знакомство с жизнью и более глубокое ее осмысление.
Следовательно, сама природа образа главного героя Толстого эпична, а потому эпичны по своему размаху и способам изображения жизни и его романы. В этом есть своя закономерность, ибо Толстой гениально отразил в своем творчестве целую эпоху в жизни русского народа — эпоху подготовки первой русской революции.
Так, испытав влияние западноевропейского романа, русский роман затем сам являлся для него в некотором роде образцом.
Толстой говорил, что в «Войне и мире» им руководила мысль народная. Она лежит в основе всего произведения, но в каждом из четырех томов проявляется различно. «Мне кажется, — писал Толстой в одном из набросков предисловия к «Войне и миру», — что ежели есть интерес в моем сочинении, то он не прерывается, а удовлетворяется на каждой части этого сочинения и что вследствие этой то особенности оно и не может быть названо романом» (т. 13, стр. 56). Каждый из четырех томов «Войны и мира» обладает своей относительной определенностью и законченностью, но в то же время вполне уясняется лишь в неразрывной связи со всеми остальными, так как является частью целого.
Содержание первого тома концентрируется вокруг событий, связанных с войной 1805 года.
Тема войны в «Войне и мире» возникает впервые в разговорах придворных особ. О нашествии Наполеона в то время еще никто не говорил. Но в самом имени его царь и верхи дворянства видели угрозу монархии, крепостническому строю. Вот причина, благодаря которой царское правительство вступило в войну с Наполеоном, отправив в заграничный поход свои войска. Всё дело кончилось полным крахом из-за предательства Австрии, союзницы России, и полной бездарности Александра I, который сам взялся управлять сражением, отстранив Кутузова. Сценой разгрома русских войск в Аустерлицком сражении заканчивается первый том.
- 495 -
Основной пафос первого тома — критический. Критика направлена в первую очередь против правительственных и близких царскому правительству сфер. По их вине была затеяна антинародная война, закончившаяся провалом. Антинародная сущность людей, принадлежащих к этим сферам, вскрывается в их поведении в мирных условиях. Так сливается здесь тема войны с темой мира.
Народная мысль, положенная в основу произведения, в первом томе его проявляется в позиции писателя и по отношению к правительственным и близким к ним сферам, которые он беспощадно осуждает, и по отношению к основной массе русской армии, с точки зрения которой ведется это осуждение.
В первом томе «Войны и мира» Толстой рисовал и образы истинных представителей нации. К ним относится прежде всего образ капитана Тушина, скромного русского офицера, не замечавшего своего геройского поведения, так оно было естественно для него. Характерно, что за свой подвиг капитан Тушин получил от начальства не награду, а выговор. Так далеко было это начальство от солдатской массы и лучшей части офицеров, так не способно оно было разобраться в сущности дела. Из всего штаба лишь один Андрей Болконский смог оценить героизм капитана Тушина и всей команды его батареи, отличившейся в Шенграбенском сражении. Сцена самого этого сражения, нарисованная в «Войне и мире», служит как бы иллюстрацией к мысли Толстого, что сущность национального характера с особой силой раскрывается в трудных обстоятельствах.
Значительным достижением Толстого в плане разработки героического характера является образ капитана Тимохина.
Главы, рисующие Аустерлицкое сражение, — композиционный узел первого тома. Крушение стратегии царя, явившегося причиной бессмысленной гибели многих тысяч русских солдат и офицеров, сделало совершенно очевидной пропасть, отделявшую царский двор и тех, кто его поддерживал, от народа. Идея всего тома получила в заключительной картине свое окончательное выражение.
В Аустерлицком сражении тяжелое ранение получил Андрей Болконский. Он находился на грани жизни и смерти. И в этот момент наступил крутой перелом в его душевном состоянии. Ему вдруг стало ясно, что цель, к которой он стремился, — стать великим полководцем — утратила для него всякий смысл. Этот перелом в душевном состоянии Андрея Болконского психологически оправдан тем, что он смотрел на всё земное глазами человека, оказавшегося на грани жизни и смерти. Но указанный перелом имеет и другое, более глубокое объяснение. В свете того, что произошло на Аустерлицком поле сражения, Андрей Болконский, мечтавший стать великим полководцем, неизбежно должен был по-иному взглянуть на свое будущее.
Мысли о мире и покое, зародившиеся в душе Андрея Болконского в тот момент, когда он после ранения лежал на поле сражения, служат как бы связующей нитью между первым и вторым томом.
Второй том охватывает промежуток времени между войной 1805 и войной 1812 года. Сцены мирной жизни в первом томе в значительнейшей части связаны с высшими столичными кругами. Во втором — высшие столичные круги отступают на задний план, а главенствующее место отводится Пьеру Безухову и Андрею Болконскому, семьям Ростовых и Болконских. Замечательный образ горячо любимой автором России, которой вскоре предстояло пройти через великие испытания, Толстой создает во втором томе своего романа.
- 496 -
Второй том «Войны и мира» — самый поэтический. Здесь даны великолепные картины русской природы — поездка Андрея Болконского в Отрадное, лунная ночь в Отрадном, возвращение его домой, охота Ростовых, святочные катания.
Композиционный узел второго тома — роман Наташи Ростовой и Андрея Болконского. Центральные из тех сцен, в которых с наибольшей силой выступает поэтический образ России, так или иначе соотнесены с романом Наташи Ростовой и Андрея Болконского.
Роман этот, выявив лучшие черты героев как истинных представителей русской нации, психологически предопределил трагический исход судьбы Андрея Болконского. Тяжело переживая разлуку со своим женихом, Наташа встретилась в этот момент с Анатолем Курагиным и увлеклась им. С князем Андреем она порвала. Если вспомнить, что встреча с нею вернула когда-то его к деятельной жизни, то легко себе представить, какое значение могла иметь для него потеря Наташи. Непосредственная причина трагического исхода судьбы Андрея Болконского — Анатоль Курагин, один из представителей мира зла, того мира, который порождает трагедии не только отдельных людей, но и целых народов. К тому же миру, по Толстому, принадлежал и Наполеон.
Разрыв с Наташей послужил лишь психологической мотивировкой окончательного разлада Андрея Болконского с жизнью. Более глубокие причины этого разлада — в другом.
Если в первом томе преобладает пафос критический, то во втором — поэтический. При этом следует отметить, что в первом томе довольно сильно звучат поэтические мотивы, а во втором — критические. Сделав эту оговорку, можно сказать, что в третьем и четвертом томах романа преобладает пафос героический.
Картина Бородинского сражения, нарисованная Толстым в третьем томе, — композиционный центр не только этого тома, но и всего произведения в целом. Во время Бородинского сражения были приведены в действие потенциальные силы русского народа, раскрыта самая глубокая сущность его — патриотизм.
Таким образом, каждый из четырех томов романа имеет свою особенность. Но совершенно ясно, что и первый, и второй том выражают лишь отдельные стороны идеи целого произведения: идеи величия русского народа. Трагический смысл Аустерлицкого сражения выступает со всей очевидностью только в свете хода и результатов сражения на Бородинском поле. С другой стороны, Бородино придает полную ясность основным мотивам и второго тома. Наконец, оно открывает перспективу для народной войны, рассчитанной на уничтожение врага — тема четвертого тома романа.
Мысль народная, положенная в основу всего произведения, в каждом отдельном томе его проявляется по-своему, своей особой стороной. От осуждения правящих классов с позиций народа к поэтизации его героического облика — таков ход повествования, определивший собою структуру произведения.
7
В «Войне и мире» насчитывается несколько сот действующих лиц. Каждое из них неповторимо в своем внешнем и внутреннем облике. При всем этом основных героев романа-эпопеи условно можно объединить в две группы. К одной из них будут относиться те, которые, по терминологии
- 497 -
Толстого, ведут искусственную жизнь, к другой — которые живут естественной жизнью.
С первых же страниц романа Толстой рисует столичную знать заостренно сатирически. Эти люди фальшивы и пусты, они думают о карьере, наживе, личных удовольствиях. Само сравнение вечера Анны Павловны с прядильной мастерской достаточно определенно говорит об отношении Толстого к столичной знати: «Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели». Разговоры на вечере носят чисто механический характер. Оживление наступает лишь там, где появляется Пьер Безухов, который, по словам Андрея Болконского, «один живой человек среди всего нашего света» (т. 9, стр. 13, 36).
Принцип изображения представителей столичной знати как людей, ведущих искусственную жизнь, Толстой осуществляет последовательно на протяжении всех четырех томов романа. Он показывет, что духовный мир их до крайности убог, что интересы общие совершенно чужды им. Причина всего этого, как думает Толстой, та, что они совершенно оторваны от трудовой жизни народа.
В представлении Толстого столичная знать — отрицательная величина в обществе. Так он и изображает ее.
На жизненном пути Андрея Болконского становятся Ипполит и Анатоль Курагины. Ипполит оскорбляет Андрея Болконского грубым и вызывающим ухаживанием за его женой; Анатоль — одна из причин крушения его жизни.
Семья Курагиных причинила много страданий и Пьеру Безухову. Анатоль вовлекал его в различные скандальные истории. Тяжелые нравственные мучения пережил Пьер Безухов, женившись на Элен Курагиной.
Встреча с Анатолем Курагиным осталась мрачной страницей в жизни и Наташи Ростовой, и Марьи Болконской.
Представители столичной знати — носители зла. Это выражено словами Пьера Безухова, обращенными к жене:
«— Где вы, там разврат, зло...» (т. 10, стр. 363).
Пьер говорит это в тот момент, когда узнает, что Анатоль Курагин намеревался похитить Наташу Ростову.
Понятно, что судьбы таких людей, как Курагины, Друбецкие, даются лишь в столкновении с судьбами любимых героев Толстого и не составляют предмета самостоятельного повествования, их роль как отрицательной величины в обществе подчеркнута сюжетом произведения.
Положительные герои Толстого живут напряженной духовной жизнью, они постоянно развиваются и изменяются. В этом интерес их судеб, которые показаны в романе как бы в их непрерывности. Отрицательные герои Толстого всегда одинаковы в своей духовной убогости, они не развиваются, а только приспособляются к изменяющимся условиям жизни.
Среди отрицательных героев, пожалуй, один только подвержен внутренним изменениям — Борис Друбецкой. Но эти изменения особого порядка: они раскрывают постепенное утрачивание подлинных человеческих качеств, усвоенных им от семьи Ростовых, в которой он проводил много времени в детские и юношеские годы.
Отрицательные персонажи «Войны и мира» по своей духовной сущности мало чем отличаются друг от друга, что не мешает Толстому, при их изображении последовательно осуществлять принцип индивидуализации. У каждого из них свои особенности, свой собственный жизненный путь,
- 498 -
выражающий ту или иную сторону, тот или иной момент мира зла, представителями которого все они являются.
Князь Василий Курагин, Адольф Берг, Борис Друбецкой изображены как беспринципные карьеристы. Но тогда как сущность князя Василия Курагина прикрыта светским «воспитанием», высоким положением в обществе, сущность Адольфа Берга совершенно обнажена, он воспринимается почти как карикатура на князя Василия. Помимо этого, рисуя образ Берга, Толстой подчеркивает его безразличие к судьбам России как человека не русского по своему происхождению. Князь Василий Курагин нередко выдает себя за патриота. Сопоставление с Адольфом Бергом показывает цену его «патриотизма». Борис Друбецкой, принадлежа к той же категории людей, своей индивидуальной судьбой отличается и от того, и от другого.
Отчужденность людей этого круга от народа подчеркнута еще и тем, что в их разговорах преобладает французская речь. Многими из них русский язык воспринимается как иностранный: так, например, Ипполит Курагин по-русски говорил «таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России» (т. 9, стр. 26). Этим прежде всего объясняется, что французский язык занимает такое значительное место в «Войне и мире». Рисуя образы представителей столичной знати, Толстой как бы демонстрирует различные стороны и ступени распада человеческой личности.
Василий Курагин — деятельная натура, но деятельность его носит сугубо корыстный характер. Сыновья ничем не хотят заниматься, так как их высокое положение в свете обеспечивается положением отца. Ипполит стоит на грани идиотизма, Анатоль мало чем отличается от своего брата. Сам отец называет одного из своих сыновей, Ипполита, дураком спокойным, а другого, Анатоля, — дураком неспокойным.
Если в сыновьях князя Василия Курагина определяющие их черты — праздность и тунеядство, то в дочери, Элен Курагиной, — цинизм. Даже Анатоль способен в какой-то мере увлекаться, Элен руководствуется лишь расчетом. Образ Элен в наибольшей степени олицетворяет искусственность жизни столичной знати, которая ценила только внешний блеск, придавала значение только показному. Элен слывет не только красавицей но и умнейшей женщиной, хотя даже самому непроницательному человеку было ясно, что она глупа.
Столичное дворянство взято Толстым как бы в застывшем состоянии: описаны лишь взрослые, вполне сложившиеся люди, нет ни одного образа ребенка или юноши, не описано ни смерти, ни рождения человека. Элен Безухова умирает страшной, загадочной смертью, которая привлекает внимание не сама по себе, а именно тем, что она загадочна. Светские люди не способны по-человечески испытывать ни инстинные радости, ни истинные огорчения. В них всё фальшиво.
Жизнь людей, которым недоступны подлинные человеческие интересы, будучи бессодержательной, вместе с тем и преступна. Им чуждо чувство родины, самое глубокое из человеческих чувств. Князь Василий Курагин показан в романе как представитель государственной власти, нисколько не озабоченный судьбами народа. Как царский двор в миниатюре, описаны Толстым великосветские салоны. Изображен в «Войне и мире» и непосредственно царский двор. Характерно изображение столичного, правящего Петербурга в момент, когда Наполеон подходил к Москве: «...спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по-старому; и из-за хода этой жизни надо было
- 499 -
делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напомнить трудность настоящего положения» (т. 12, стр. 3).
Толстой создает ярко сатирический образ графа Растопчина, градоначальника Москвы, который в период нашествия Наполеона распространял по Москве свои балаганные афишки, написанные псевдонародным языком, глубоко чуждые народу своим показным, ложным «патриотизмом».
Для Толстого искусственная жизнь — это жизнь людей, сосредоточивших все свои усилия на том, чтобы достигнуть высокого положения в обществе, и не брезгующих никакими средствами. В большинстве — это столичная знать.
К людям, которые ведут естественную жизнь, Толстой причислял всех тех, кто заботится в первую очередь об удовлетворении своих духовных запросов. Таким людям, утверждает Толстой, доступны истинные радости и страдания, им доступна и подлинная поэзия, выразителями которой они сами являются.
Само собой разумеется, что разделение людей на две категории, производимое Толстым, несостоятельно. Оно в сущности и носит в романе условный характер. Именуя жизнь столичной знати искусственной, Толстой как художник рисует убедительнейшую картину распада человеческой личности в условиях праздности, тунеядства, беспринципного карьеризма. Задолго до написания «Войны и мира» Толстого волновал вопрос о духовной ущербности дворянства, о том, каким путем его лучшие представители могут избавиться от свойственных помещичьему классу недостатков. Он видел спасение для них в сближении с народом, с природой, с трудом. Поместную усадьбу, деревню он описывает с большой любовью и в произведениях 50-х годов, и в «Войне и мире».
Большое место в «Войне и мире» отведено семье Ростовых. Образ Наташи Ростовой — самый поэтический в романе. В этом образе выражена поэзия детства и юности, прелесть молодости с ее жаждой счастья и любви. Наташа великолепно чувствует русскую природу, русское искусство, идущее из глубин народной жизни. Это народное искусство и способность чувствовать и понимать его усвоено Наташей от самого народа. Вспомним сцену у дядюшки — пляску Анисьи Федоровны, крепостной крестьянки, и графини Наташи Ростовой. Выросшей в дворянской усадьбе, ходившей в шелку и бархате графине удалось, пишет Толстой, «понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке» (т. 10, стр. 266).
Сила народного чувства, заложенного в Наташе, особенно ярко проявилась в тот момент, когда она настояла, чтобы все подводы, на которых было уложено имущество Ростовых, были освобождены для раненых.
Рядом с Наташей выступает вторая героиня романа — Марья Болконская. В романе ей принадлежит немногим меньшее место, чем Наташе Ростовой. С обеими героинями мы встречаемся и в эпилоге романа.
Наташа и Марья, близко сойдясь у постели умирающего князя Андрея, полюбили друг друга. После его смерти они долго не могли расстаться, поняв, что каждая из них дополняет другую, что в каждой из них есть что-то такое, чего недостает другой, но что она так ценит. Они делились воспоминаниями о своем прошлом. И вот «Наташа прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанною
- 500 -
любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни» (т. 12, стр. 178). Княжна Марья также стала духовно богаче от общения с Наташей. «Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открылась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждение жизни» (т. 12, стр. 178—179).
При создании образов положительных действующих лиц Толстой применяет иной принцип индивидуализации, показывая отличительные признаки духовного облика каждого из них.
Как и Наташа Ростова, Марья Болконская наделена высоким чувством патриотизма. Она восприняла его прежде всего от своего отца и брата. «Она невольно думала их мыслями, чувствовала их чувствами» (т. 11, стр. 149). Когда ей сообщили, что приближаются французы, она решила немедленно уехать «...они мне будут рассказывать о победах над русскими» (там же).
Наташа Ростова и Марья Болконская — не просто две героини «Войны и мира», они — два идеала женщины в представлении Толстого. Жизнелюбие Наташи, с такой силой им воспетое, Толстой как бы отчасти хочет нейтрализовать «христианским самоотвержением» княжны Марьи. Слабость мировоззрения Толстого обнаруживается и в образе Наташи, и в образе Марьи, в последнем значительно сильнее.
В образе Наташи Ростовой до известной степени отразилась философия пассивизма Толстого, его отрицательное отношению к учению революционных демократов о разумном эгоизме. Толстой открыто говорит, что его героиня не отличалась умом, ко обладала исключительной чуткостью. При создании образа княжны Марьи на Толстого, художника-реалиста, несомненно очень сильное давление оказала его философия аскетизма.
Несмотря на тот отпечаток, который наложила реакционная философия на образы Наташи и княжны Марьи, оба они принадлежат к числу самых значительных женских образов у Толстого и вообще в русской литературе.
Образ Наташи, ставшей женой Пьера, некоторыми своими сторонами связан и с другими программными положениями реакционной философии Толстого: обязанность женщины только рожать детей, кормить их и не иметь никаких самостоятельных умственных интересов.
Ошибочность такого понимания назначения женщины Толстой сам же и обнажил, создав образ Марьи Болконской, воплотивший поэзию духовных наслаждений, которые с возрастом, в частности с выходом замуж, не прекращаются, не приостанавливаются, а получают новый толчок к своему развитию.
В «Войне и мире» ценность человеческой личности, принадлежащей к дворянской среде, вытекает из ее отношения к родине и народу. Лучшие люди из дворянства восприняли всё хорошее от народа, с которым они связаны общей заинтересованностью в судьбе родины. Но этим дело не исчерпывается. К ним предъявляется и такое требование, как подтверждение близости к народу и единства с ним всей своей повседневной жизнью и во всех сферах своей деятельности. Некоторые, как, например, Наташа Ростова и Марья Болконская, в той или иной мере стихийно отвечают этому. Другие, в частности старый князь Болконский, являются принципиальными аристократами в своем общественном поведении.
По Толстому, доказать свое единство с народом лучшие представители дворянства не могли, не совершив того или иного подвига, который должен
- 501 -
был состоять в преодолении норм поведения, выработанных их классовой принадлежностью. Перед возможностью совершить такого рода подвиг оказалась Марья Болконская в момент богучаровского бунта.
«Война и мир». Ростовы на охоте. Акварель Д. Н. Кардовского.
1911.Выяснив неожиданно для себя, что крестьяне голодают, она была удивлена и потрясена этим обстоятельством и тут же распорядилась именем только что умершего отца и находящегося в армии брата открыть амбары и дать крестьянам хлеб. Крестьяне отказались взять помещичий хлеб, расценив распоряжение Марьи Болконской как хитрую уловку помещицы. Подвиг не был совершен, но сама попытка совершить его очень важна. Наташе удается то, что не удалось Марье Болконской. Подвиг Наташи — поступок патриотки, не имеющей никакой связи с практикой взаимоотношений помещика и крестьянина. В то же время этот подвиг характеризует ее как человека, способного преодолевать нормы поведения представителей помещичьего класса.
Рисуя взаимоотношения между помещичьим классом и крестьянством, Толстой устанавливает, что эти два класса разделены целой пропастью, вследствие чего создалось социальное неблагополучие в стране. Наиболее глубоко это ощущают Пьер Безухов и Андрей Болконский. Их идейно-нравственные искания порождены именно этим ощущением. Они в сущности
- 502 -
оказываются в конфликте с помещичьей идеологией, от которой в то же время еще не в состоянии отказаться.
Ощущение социального неблагополучия в определенном смысле (применительно только к положению в собственном хозяйстве) свойственно и Николаю Ростову. По своему генезису образ Николая Ростова во многом близок образам Пьера Безухова и Андрея Болконского, но по идейному наполнению и принципам построения в основном противоположен им.
8
В образах Андрея Болконского и Пьера Безухова, с одной стороны, и Николая Ростова — с другой, Толстой в двух направлениях ищет ответа на один и тот же вопрос: какими должны быть отношения между помещичьим классом и крестьянством? В представлении самого Толстого Николай Ростов является героем, в известном отношении равноправным и равнозначным Андрею Болконскому и Пьеру Безухову. Ему уделено примерно такое же внимание: он проходит через всё произведение и в эпилоге выступает как антипод Пьера Безухова, будучи его ближайшим другом.
Ощущение социального неблагополучия в стране отражено на первых страницах романа, главным образом в разговорах Андрея Болконского и Пьера Безухова. Николай Ростов в это время ведет безмятежную жизнь, ни над чем не задумываясь. В этом отношении он совершенно не похож на лучших героев Толстого, таких, например, как Николенька Иртеньев, Дмитрий Нехлюдов, Дмитрий Оленин, которые с первых шагов своей сознательной жизни ставили перед собою самые сложные вопросы. И тем не менее, рисуя образ Николая Ростова, Толстой окружает его поэтической атмосферой и при этом противопоставляет образам Пьера Безухова и Андрея Болконского.
Одновременно со своим товарищем детства, Борисом Друбецким, Николай Ростов оказался в армии. Для Бориса, поставившего себе цель — сделать карьеру, служба в армии — одна из возможностей достигнуть ее. Собственно, Борис Друбецкой даже не почувствовал перехода к армейской жизни. В армии он думает о том же, о чем думал до армии — о способах сделать карьеру.
Чувство долга, совершенно не свойственное Борису Друбецкому, чрезвычайно характерно для Николая Ростова и Андрея Болконского, хотя они совершенно различно понимают это чувство. Николай Ростов понимает его элементарно, даже примитивно: «— Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и всё...» (т. 10, стр. 150). В образе Николая Ростова воплощена романтика военного подвига. Вместе с тем понимание долга Николаем Ростовым характеризует его именно как среднего человека из помещичьей среды, не идущего в своих рассуждениях дальше вопроса о поведении отдельного солдата или офицера, об образцовом выполнении присяги.
У Андрея Болконского представление о долге органически слито с представлением о величии России. Для него выполнить свой долг — это значит одержать блестящую победу над противником, прославить русское оружие, русскую армию, русский народ.
Весь пафос жизни Николая Ростова — поступать честно в рамках общепринятых норм. Именно поэтому такое большое место в его жизни занял вопрос об отношениях с Соней и Марьей Болконской. Пьера Безухова
- 503 -
и Андрея Болконского подобный вопрос не мог бы так долго и глубоко волновать. Пафос их жизни в другом.
После женитьбы на Марье Болконской Николай Ростов целиком отдался управлению своими имениями. В отличие от Пьера Безухова и Андрея Болконского, общий вопрос о судьбе дворянства и крестьянства его нисколько не занимает. Он думает только о том, как бы наладить свое собственное хозяйство и отношения со своими собственными крестьянами. И тут он достигает, как об этом рассказывается в романе, больших успехов. Его удовлетворяют общепринятые принципы ведения хозяйства и отношений с крестьянами. Он старается только честно выполнить их. Он — принципиальный консерватор и нескрываемо враждебно относится ко всяким нововведениям. Замечательно сказала о Николае Ростове его сестра Наташа, которая так хорошо его знала:
«— У Николеньки есть эта слабость, что если что не принято всеми, он ни за что не согласится».
В споре с Пьером, который, по словам Николая, называл присягу «условным делом», Николай доказывал, что он, не задумываясь, будет исполнять ее, хотя бы ему пришлось пойти и против самых близких людей. Рассказывая об этом жене, Николай выдвигает как самый важный аргумент против позиции Пьера слова: «долг и присяга выше всего» (т. 12, стр. 288).
Основная линия идейных и нравственных исканий в «Войне и мире» воплощена в образах Пьера Безухова и Андрея Болконского. Но Толстой не вполне уверен, что это единственно возможная линия и что она приведет к успеху. В связи с этим он противопоставляет жизненное поведение Пьера Безухова и Андрея Болконского, с одной стороны, и Николая Ростова — с другой. Первые два героя — выдающиеся люди; третий — обыкновенный, рядовой человек.
Пьер Безухов и Андрей Болконский — противники общепринятых норм; Николай Ростов — сторонник их. Пьер Безухов и Андрей Болконский убеждены в том, что положение в стране можно изменить к лучшему путем изменения общепринятых норм; Николай Ростов держится противоположной точки зрения. Пьер вступает в члены тайного политического общества; Николай заявляет ему, что по приказу Аракчеева, ни на секунду не задумавшись, он выступит с эскадроном и будет рубить всех, кто противодействует правительству, пусть среди них и окажется его лучший друг, Пьер Безухов.
Николай Ростов всегда занимался только тем, что лично его касалось; Пьер Безухов и Андрей Болконский исходили в своей деятельности из оценки общего положения в стране. Кругозор Николая Ростова — собственная усадьба или во время пребывания в армии — Павлоградский полк. Кругозор Пьера Безухова и Андрея Болконского — вся страна или даже весь мир. Вот почему образ Николая Ростова не стал и не мог стать равноправным и равнозначным образам Пьера Безухова и Андрея Болконского. Следя за судьбой двух последних героев, мы следим и за судьбою России, русского народа. В судьбе же Николая Ростова мы видим лишь отражение судьбы среднего представителя помещичьего класса.
Колебания Толстого между образами Пьера Безухова и Андрея Болконского, с одной стороны, и образом Николая Ростова — с другой, — это колебания между потребностью, диктуемой ему самой живой действительностью, преодолеть помещичью идеологию и чувством еще прочной связи с нею. Конечно, связь Толстого с помещичьей идеологией легко обнаружить и в образах Андрея Болконского и Пьера Безухова, но ведущее
- 504 -
начало в них — неудовлетворенность дворянской идеологией. Напротив, ведущее начало в образе Николая Ростова — защита интересов помещичьего класса. Как уже сказано, в представлении Толстого Николай Ростов — обыкновенный, средний человек и рядовой помещик, но при этом честно исполняющий свой долг. Толстому как представителю помещичьего класса казалось, что положение незамедлительно изменится к лучшему, как только помещики сами по-настоящему займутся своими собственными делами. Проводя эту мысль, Толстой рисует Николая Ростова как помещика-крепостника, как верноподанного царского правительства.
В споре с Пьером Безуховым, который говорил, что «все гибнет», Николай Ростов доказывал, что «никакого переворота не предвидится», что никакой опасности нет, что она — плод воображения Пьера.
Позиция Николая Ростова не одобрялась не только Пьером Безуховым, но также сестрой Николая, Наташей, и его женой, Марьей, которая, несмотря на свою любовь к нему, была очень далека от него. Когда Николай говорил жене о своих успехах в хозяйстве, ей «хотелось сказать ему, что не о едином хлебе сыт будет человек, что он слишком много приписывает важности этим делам; но она знала, что этого говорить не нужно и бесполезно» (т. 12, стр. 289).
При всей общности, объединяющей образы Андрея Болконского и Пьера Безухова, между ними есть и существенное различие. И те черты, которые сближают Андрея Болконского и Пьера Безухова, и те, которыми один из них отличается от другого, с предельной отчетливостью проявляются во время их спора в Богучарове, куда Пьер приехал навестить своего друга после поездки по своим имениям в Киевской губернии. Спор шел о самом главном — о цели жизни. Пьер видит ее в служении другим, Андрей в том, чтобы самому честно жить.
В практическом отношении Андрей Болконский стоит неизмеримо выше Пьера. Достаточно сказать, что Пьер, думающий, что он живет для других, делая им добро, глубоко заблуждается. Он был уверен, что во время поездки по своим имениям в Киевской губернии облегчил участь крестьян. На самом деле, всё, что он сделал для них, нисколько не улучшило их положения. И Толстой откровенно иронизирует над своим героем, рассказывающим о своих «успехах» и не подозревающим, как далек он от истины. С Адреем Болконским ничего подобного не могло бы случиться.
В споре о целях жизни Андрей и Пьер подняли вопрос о том, как следует относиться к крестьянину. Позиция Пьера ясна и определенна: крепостное право должно быть уничтожено. Позиция Андрея Болконского насквозь противоречива. Он за то, чтобы освободить крестьян от крепостной зависимости. Но он считает, что это следует сделать не ради них самих, а ради их владельцев, т. е. помещиков, которых, по его мнению, крепостное право губит нравственно. Эта мысль, свидетельствующая о несомненной и прочной связи Андрея Болконского с идеологией дворянства, как увидим, не исчерпывает его отношения к крепостному крестьянству.
Пьер Безухов вменяет в обязанность дворянину возводить в деревнях школы и больницы. Андрей Болконский против этого. Учить мужика, говорит он, — это значит выводить его «из его животного состояния» в то время, как для него «единственно возможное счастье — есть счастье животное». Все жестокие слова Андрея Болконского о крестьянине вызваны не враждебным отношением к крестьянину, а скорее тем, что он не знает, как помочь и ему, и самому себе.
- 505 -
Наивность — неотъемлемое, существенное свойство Пьера. И всё же в конечном итоге прав был Пьер с его наивной верой.
В «Войне и мире» мало места отведено изображению жизни крепостного крестьянства. О нем сравнительно мало говорят и главные герои романа. При всем том крестьянский вопрос — один из основных стимулов их идейно-нравственных исканий, хотя они сами и не сознают этого. Их возмущает общее положение в стране, придавленной крепостным правом. И они ищут выхода. В своем идейно-нравственном развитии Пьер Безухов и Андрей Болконский по сути дела стремятся преодолеть помещичью идеологию, но не в силах этого сделать. Их многое сближает, но в то же время между ними огромное различие. Они одинаково отрицательно относятся к существующим условиям жизни, но по-разному думают о том, как и где можно найти выход. Каждый из них ищет его в реальной жизни — и это одна из предпосылок богатства жизненного содержания в «Войне и мире».
Мысль Андрея Болконского по преимуществу устремлена на то, чтобы обнажать несовершенства существующего мира; мысль Пьера направлена прежде всего на то, чтобы найти пути его усовершенствования.
Пьер обращался к Андрею: «надо жить, надо любить, надо верить».
Князь Андрей хотел поверить: он «вздохнул и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся, восторженное, но всё робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.
«— Да, коли бы это так было! — сказал он» (т. 10, стр. 117).
Князю Андрею казалось, что он слишком много знает для того, чтобы поверить Пьеру, хотя и хотел поверить. Та вера в лучшее будущее, которой придерживается Пьер, не могла удовлетворить Андрея Болконского.
Не веря в лучшее будущее, Андрей Болконский считает себя не в праве дальше жить. На Бородинском поле, накануне великого сражения он говорит Пьеру:
«— Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла» (т. 11, стр. 209).
Зло жизни Пьер Безухов видел не менее остро, нежели Андрей Болконский. Но, как и его «первенствующий друг», Пьер не знал реальных путей для устранения общественного зла. Ему становилось «страшно жить под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни» (т. 10, стр. 296), и он хотел так или иначе освободиться от них, порою даже забыть их, — и здесь, в частности, надо искать корни его наивности.
Итак, оба любимых героя Толстого не удовлетворены действительностью своего времени. Оба они хотели бы ее видеть не такой, какой она была. Им обоим недоступно понимание того, как ее нужно и можно изменить. Но тогда как один из них, Пьер, верит в возможность этого изменения, другой, Андрей, не верит, но при этом считает, что человек обязан стремиться к оправданию своего высокого назначения.
Андрей Болконский по характеру своего идейно-нравственного облика на своем жизненном пути сталкивается по преимуществу с Россией официальной. Изображая своего героя, пытавшегося осуществить высокое призвание человека, Толстой подвергает убийственной критике сначала сферы высшего военного командования, а потом — высшей бюрократии. И представители военного командования, и представители бюрократических сфер, как, например, Сперанский, осуждаются Андреем Болконским за то, что их деятельность ни в какой мере не отражает потребностей народной
- 506 -
жизни. Андрей Болконский, успев разочароваться в административных сферах, вспоминал, как на различных заседаниях, участником которых он был, «старательно и продолжительно обсуживалось все касающееся формы и процесса заседаний комитета, и как старательно и кратко обходилось всё, что касалось сущности дела». Андрей Болконский вспомнил «о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя». Он вспомнил «мужиков, Дрона-старосту, и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, и ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такою праздной работой» (т. 10, стр. 209).
Основной двигатель всей деятельности Пьера — это желание помочь другим людям. Но кто они, эти другие люди, которые нуждаются в помощи? Пьер не ставит перед собой такого вопроса. Характерно, однако, что когда он пытался перейти от слов к делу, его внимание было обращено на положение крепостных крестьян, его усилия были направлены на облегчение их участи. Значит, другими людьми, забота о которых не давала покоя Пьеру, и были крестьяне, значит, этим обстоятельством и были порождены все его высокие стремления, хотя сам он и не подозревал этого.
Толстой верил в победу начал добра и справедливости, и эта вера воплощена прежде всего в образе Пьера Безухова, но писатель не видел реальных путей для этой победы, аналитическая сила его разума носила несколько односторонний характер, и это нашло свое воплощение в образе Андрея Болконского.
Однако проблема соотношения ума и веры решается не только путем противопоставления Андрея Болконского Пьеру Безухову, но и путем изображения внутреннего мира каждого из них. Андрей Болконский великолепно понимает, что без надежды на лучшее будущее невозможно жить. Он хотел, но не мог верить в то, во что верил Пьер. И по-своему он был прав. Вот почему Пьер уверен, что если бы его друг остался в живых, то был бы, как и он, членом тайного политического общества. Согласно логике романа, безысходно трагическое положение, в котором под конец жизни оказался Андрей Болконский, не является основанием для осуждения людей, подобных ему, а только указывает на то, какие колоссальные трудности стояли перед ними.
Двигаясь в своем духовном развитии по пути преодоления помещичьей идеологии, Андрей Болконский и Пьер Безухов пытаются с бесстрашной честностью осмыслить основные конфликты эпохи. Рассказывая об этом, создавая замечательные образы этих двух героев, Толстой тем самым способствует созданию образа России и русского народа.
Андрей Болконский не нашел возможности для применения своих сил и способностей в сферах России официальной, т. е. реакционной. Он в сущности оказался во враждебных отношениях с нею. Раскрывая эту сторону в своем герое, Толстой воспроизводил определенные черты России реакционной. Но Андрей Болконский замечает черты и другой России, демократической, которая хотя и остается для него весьма далекой, но которой он несомненно сочувствует. Он видел героизм русских солдат и простых русских офицеров, противостоящий бесплодной, бездарной и враждебной армии и народу работе военных штабов. Образы таких офицеров, как капитан Тушин и капитан Тимохин, которые являются истинными представителями русской храбрости, даны в значительной степени через восприятие Андрея Болконского.
Наблюдения, размышления, жизненные встречи Пьера Безухова способствуют созданию в «Войне и мире» образа России демократической.
- 507 -
Описание его поездки по имениям, расположенным в Киевской губернии, дают яркое представление о жизни крепостного крестьянства. Многие сцены, рисующие и то, как Москву покидают ее жители, и то, как в нее входит наполеоновская армия, сразу же встречающаяся с народным гневом, выступают перед нами, преломленные сквозь сознание Пьера Безухова. В Москве, оставленной ее жителями и подвергшейся вражескому нашествию, Пьер ведет себя как представитель стихийных сил народа.
9
Мысль о судьбе России, о ее историческом предназначении пронизывает гениальный роман Толстого от первой до последней страницы. Толстой был уверен в великом будущем России, русского народа. Обращался ли он к изображению событий, свидетелем и участником которых был сам (как, например, в «Севастопольских рассказах»), или описывал далекое прошлое («Война и мир»), он постоянно интересовался вопросом о том, какие силы служат опорой для русского государства, действительно возвышают его, а какие, наоборот, являются для него помехой. В «Войне и мире» Толстой поднимается на новую ступень в сравнении со всем предшествующим творчеством в понимании и в изображении русского национального характера. В романе значительно усилилась критика привилегированных классов и стоящего на защите их интересов государственного строя.
Наибольшее внимание уделено здесь изображению представителей различных слоев дворянства. И несмотря на это, мысль о народе — решающая в «Войне и мире». Толстой отчетливо сознавал, что усилиями народа движется и развивается национальная жизнь, что, будучи создателем всех материальных ценностей, народ в то же время служит источником, почвой для возникновения и всех духовных ценностей.
Однако, признавая народ не только творцом истории, но и судьей ее, Толстой вплоть до конца 70-х годов не мог порвать с дворянством, не мог отказаться от реакционной мысли о союзе между дворянством и крестьянством. Для того чтобы такой союз стал возможен, нравственный мир крестьян, с точки зрения Толстого, должен был остаться в прежнем состоянии, а нравственный мир помещичьего класса необходимо было существенным образом изменить. В этом одна из причин того, почему дворянские персонажи занимают главное место в произведениях Толстого первых десятилетий его литературной деятельности. Примечательно всё же, что лучшие черты своих лучших героев, принадлежащих к дворянству, Толстой всегда объяснял благотворным влиянием на них народной жизни.
Поэтому в образ народа в «Войне и мире» включаются в той или иной мере образы лучших представителей дворянства, в частности Пьера Безухова и Андрея Болконского, Наташи Ростовой и Марьи Болконской. Наташа Ростова и Марья Болконская безотчетно испытывают влияние народной жизни. Пьер Безухов и Андрей Болконский, так или иначе, отдают себе отчет в том, что в отрыве от народа человек не может оправдать своего высокого назначения. Мысль о народе — главенствующая в их идейно-нравственных исканиях. Особенно это относится к Пьеру Безухову. Характеристика его духовного мира, его идейной биографии будет в то же время и характеристикой известных сторон народной жизни. Один из существенных принципов толстовского реализма — изображение народной жизни сквозь призму идейных исканий лучшего героя. Игнорирование
- 508 -
этого обстоятельства и породило предрассудок, будто в «Войне и мире» обойден вопрос о положении крепостного крестьянства.
Коллективный образ народа, включая в себя определенные черты индивидуальных героев, в том числе и тех, которые принадлежат к господствующим сословиям, мыслится, однако, как образ самой народной массы.
Его следует рассматривать как нечто единое и целостное, притом в движении и развитии. Только в этом случае, собственно, и можно говорить об образе в подлинном смысле этого слова. При иной постановке вопроса речь может идти лишь о тех или иных свойствах народа, отраженных на страницах романа.
В первом томе «Войны и мира» к наиболее ярким сценам, рисующим характер русского человека, принадлежит сцена боевого действия батареи капитана Тушина. Сцену эту следует рассматривать с двух точек зрения. В силу антинародной политики царя русская армия оказалась вдали от родины, на территории государства, изменившего России, вступившего в сговор с ее противником — Наполеоном. Русские полки попали в трагическое положение: им угрожал полный разгром. Но Кутузов нашел выход, поручив немногочисленному отряду Багратиона задержать главные силы наполеоновской армии с тем, чтобы могла отойти основная масса русских войск. Багратион великолепно выполнил поручение Кутузова. Успех был достигнут. Андрей Болконский как участник сражения заявляет Багратиону, что этим успехом отряд был обязан в первую очередь батарее капитана Тушина. Капитан Тушин — подлинный герой Шенграбенского сражения. Характерно, однако, что он действовал как герой только потому, что до него не дошло приказание начальства. Капитан Тушин — обыкновенный, ничем не выдающийся офицер, каких было много в русской армии. Обыкновенны и его солдаты. Они — как все. Из этого вытекает, что так действовать, как действовала батарея капитана Тушина, могла бы вся русская армия, если бы она не была скована пагубными для нее распоряжениями высшего начальства. Важно отметить также и то, что после сражения командование вызывает капитана Тушина не как героя, совершившего замечательный подвиг, а как нарушителя приказа.
С другой стороны, значение отмеченной сцены заключается в том, что она открывает глаза Андрею Болконскому на самого себя, помогает ему понять собственные заблуждения. Он мечтал о славе, хотел достигнуть ее путем составления и осуществления гениального стратегического плана. Он думал, что дело в одном человеке, в великом полководце. Практика убедила его в ином. Исход сражения был определен действиями простых людей. Разрыв Андрея Болконского со своими честолюбивыми мечтами после Аустерлицкого сражения был неизбежен.
Критический пафос, являющийся преобладающим в первом томе «Войны и мира», достиг наибольшего звучания в изображении Аустерлицкого сражения.
Во втором томе на первый план выступает пафос идейных и нравственных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова, а в связи с этим и поэтизации русской жизни. Образ народа развивается и углубляется.
Особенное значение имеют страницы, рассказывающие о поездке Пьера Безухова по его имениям в Киевской губернии, о встрече его с Андреем Болконским. Здесь нет ни капитана Тушина, ни его солдат, но эти эпизоды романа перекликаются с описанием действий батареи капитана Тушина. В том-то и состоит особенность коллективного образа народа,
- 509 -
что он складывается из образов отдельных лиц, часто между собою ничем не связанных.
«Война и мир». Отъезд Ростовых из Москвы. Акварель Д. Н. Кардовского. 1911.
Поездка Пьера по имениям Киевской губернии — отнюдь не случайный, а глубоко закономерный и в высшей степени важный эпизод в «Войне и мире». Пьер не исправил положения, не улучшил условий жизни своих крестьян. О Пьере как помещике-филантропе Толстой пишет с нескрываемой иронией. Управляющие и приказчики беззастенчиво обманывают его. Толстой когда-то сам верил в успех помещичьей филантропии, что подтверждается его замыслом «Романа русского помещика». Но роман не был написан, а из «Утра помещика» видно, как жизнь разрушала иллюзии Толстого. Он уже тогда увидел бессилие своего героя-филантропа, но в то время еще не потерял окончательно веры в то, что тот добьется поставленной цели, пройдя суровую школу жизни. Что касается предприятий Пьера Безухова по улучшению жизни крестьян, то Толстой совершенно не верит в них. Взгляд его на положение в стране за время, прошедшее с момента написания «Утра помещика» до начала работы над «Войной и миром», несоизмеримо расширился. Дмитрий Нехлюдов думал только о своей усадьбе и своих крестьянах. Пьер Безухов задумывается не только о судьбе страны, но даже о судьбах всего мира. Для Пьера деятельность по улучшению жизни своих крестьян — лишь отдельный момент, которому он не мог целиком отдаться. Этот момент гораздо более важен для обоснования сущности его идейно-нравственных исканий, нежели для характеристики его деятельности.
В «Утре помещика» даны глубоко разработанные образы крестьян, в описаниях же поездки Пьера по своим имениям нет индивидуальных образов крестьян, дана лишь общая картина нищей и угнетенной крепостной деревни. Это производит не менее, а более тягостное впечатление. Страдают и мучаются не отдельные крестьяне, а вся деревня, символизирующая крепостную Россию.
- 510 -
В третьем и четвертом томах преобладает героический пафос. Основным носителем героического начала, как и раньше, является народ. Но теперь героизм народа, взявшего в свои руки судьбу родины, приобретает массовый характер. Вообще в этот ответственнейший момент для России значительно повышается его инициатива, общественная активность. Он задумывается теперь над вопросом и об изменении своей собственной судьбы. В безразличии дворянства к судьбе родины народ увидел его слабость, что давало надежду на успех в борьбе за свое освобождение от гнета. Но ему были неясны пути этой борьбы.
Картина бунта богучаровских крестьян служит как бы прямым продолжением картины, в которой изображалась рабская жизнь крепостных деревень, принадлежащих Пьеру Безухову. Деревни Пьера находились в Киевской губернии, деревни Болконских, примыкавшие к их имению Богучарово, — в средней полосе России. Но как в тех, так и в других царила нищета и рабство. Закон крепостничества был одинаково гибельным для всего закабаленного крестьянства. Оно повсеместно страдало. Изобразив с этой стороны богучаровских крестьян, Толстой расширил и углубил в своем романе картину жизни в крепостнической России вообще. Он показал здесь и реальное положение крестьянства, и могучий, неугасимый порыв его к лучшей, свободной жизни.
В отличие от других крестьян, богучаровские крестьяне редко встречались с помещиком: Богучарово — «заглазное имение» Андрея Болконского. Вообще в окрестностях Богучарова было мало помещиков. Отсюда и особенности богучаровских крестьян. Они выделялись и своим говором, и одеждой, и нравами; и хотя они были трудолюбивы, старый князь Болконский не любил их, как он говорил, за их «дикость». Словом, это были крестьяне, которые благодаря некоторым особым обстоятельствам, даже внешне никогда не мирились со своим рабским положением. Именно за эту черту их характера они и были прозваны старым князем Болконским дикими. Андрей Болконский, временно проживая в Богучарове, кое-что сделал для облегчения их жизни: он построил больницы, школы, уменьшил оброк. Однако это не только не смягчило их нрава, но еще более обострило его. «Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки, то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797-м году (про которую говорили, что тогда еще воля выходила, да господа отняли), то об имеющем через семь лет воцариться Петре Федоровиче, при котором всё будет вольно и так просто, что ничего не будет» (т. 11, стр. 142).
В жизни крестьян Богучарова «были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной, русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников» (там же). Следовательно, стремление к вольной жизни в силу особых обстоятельств, более ярко выразившееся у богучаровских крестьян, было присуще всему крепостному крестьянству. Оно, это стремление, всякий раз проявлялось в народе, как только для этого наступал подходящий момент, т. е. обстановка, способствовавшая повышению инициативы и активности народа. Толстой рассказывает о неудачной попытке богучаровских крестьян переселиться на «теплые реки». Многие из них сами вернулись на старое место, были наказаны, сосланы в Сибирь, другие умерли по дороге от голода и холода. Но ничто не могло подавить в народе «подводных струй», которые собирались для того, чтобы вновь проявиться «неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно» (т. 11, стр. 143). В 1812 году, по
- 511 -
словам Толстого, для тех, кто близко соприкасался с народом, «заметно было, что эти подводные струи производили сильную работу и были близки к проявлению» (там же). Богучаровские крестьяне не разобрались сначала в подлинных намерениях наполеоновской армии. Поэтому они решили оставаться на месте, когда она двигалась в глубину России. Им казалось, что в такое время легко и просто освободиться от помещичьего гнета. На этой почве и возникает бунт в Богучарове, во время которого обнаружилось подлинное отношение крестьян к помещикам.
Богучаровские крестьяне — родные братья солдат Аустерлицкого сражения, крестьян, живущих в деревнях Пьера Безухова, ополченцев Бородина. В целом это — русский народ в различных проявлениях своей сущности. В сцене бунта богучаровцев со всей силой и очевидностью раскрыт тот социальный конфликт между помещичьим классом и крестьянством, который ощущается в романе с первых же страниц и постепенно углубляется.
Бунт был быстро и легко подавлен Николаем Ростовым. Мало того, что крестьяне не оказывают ему никакого сопротивления, они как будто даже выражают сожаление по поводу того, что не сразу подчинились требованию Алпатыча. Сожаление крестьян было искренним. Из этого можно сделать различные заключения. Можно говорить, что Толстой показал и силу, и слабость крестьян, взбунтовавшихся против помещичьей власти и испугавшихся самого бунта. Возможен и другой аспект рассмотрения указанной сцены. Богучаровские крестьяне, как и все простые русские люди, — истинные патриоты своей родины. Они склонялись к тому, чтобы для достижения своего векового стремления — вольной жизни — воспользоваться появлением на русской земле наполеоновской армии лишь до того момента, пока им не стала ясна цель последней. После этого они должны были стать лишь непримиримыми врагами захватчиков. Вследствие этого столкновения между Николаем Ростовым и крестьянами не могло быть.
Бунт был подавлен, но причина, вызвавшая его, оставалась в полной силе. Можно вполне допустить, что участники богучаровского бунта оказались в рядах народного ополчения, которое на Бородинском поле выступило на защиту Москвы и России. Отсюда напрашивается такое заключение: готовясь перед Бородинским сражением пролить кровь за родину, всем народом навалиться на врага, крестьяне, ставшие ополченцами, тем самым показывали способность не только отстоять русскую землю от иноземных захватчиков, но и в будущем сделать свою жизнь вольной и свободной. Истинный патриотизм невозможен у людей, не поднявшихся до понимания своего человеческого достоинства.
Коллективный образ народа в «Войне и мире» растет и возвышается от события к событию, участником которых является народ.
В первых двух томах «Войны и мира» показана связь угрозы исторической судьбе России с тяжкой социальной судьбой народа.
В третьем и четвертом — перед нами народ, взявший на себя ответственность за исход войны, в которой решался вопрос о национальной независимости и государственной самостоятельности России. Кутузов был поставлен во главе армии волею народа. Как главнокомандующий он и был выразителем и исполнителем его воли, составляя единое целое с армией и народом.
И тут напрашивается одно совершенно закономерное заключение: если судьба России является незыблемо прочной, когда она находится в руках народа, значит нужно сделать, чтобы всегда так было, а для этого необходим иной общественный и экономический порядок.
- 512 -
Такого вывода в романе нет, но он подсказывается всей логикой его образов, прежде всего логикой коллективного образа народа. Создав замечательный образ народа-победителя, Толстой будил в самом народе мысль о коренном изменении его социальной судьбы.
Образ народа в «Войне и мире» дается в двух планах: как образ русской нации и как образ народной массы, противостоящей чуждой ей государственной системе управления. Грань между этими двумя образами условна, но она всё-таки явно ощутима, и о ней ни в коем случае нельзя забывать. В образ народа как нации входят и образы представителей дворянства, причем не только такие, как Болконские, Ростовы, Пьер Безухов, но и такие, как та московская барыня, которая еще в самом начале войны со «своими арапами и шутихами» уехала в саратовскую деревню, образы купечества (купец Ферапонтов) и т. д.
Героический образ народной массы со всей отчетливостью проступает уже в первом томе романа, и он противостоит безразличному отношению высших слоев общества к судьбам России. Именно народ показывает наибольшую непримиримость к национальному гнету, и в этом обнаруживаются зреющие в нем способности свергнуть социальный гнет. Ненависть к захватчикам испытывали все русские люди, но богатые и бедные испытывали ее по-разному. Русский народ не дрогнул оттого, что на его землю вторгся неприятель, не растерялся. Он «спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что оставалось» (т. 11, стр. 277).
Бесспорно, самый яркий образ среди партизан — образ крестьянина Тихона Щербатого. Он, конечно, принадлежит к самой трудовой части населения. «Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии... Тихон одинаково верно, со всего размаха раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колушки и вырезывал ложки» (т. 12, стр. 132).
Активность и героизм народа в «Войне и мире» изображаются как качества, неуклонно развивающиеся в нем. Сначала перед нами развертываются картины, рисующие героическое поведение солдат и офицеров как представителей русского народа. Потом, на Бородинском поле сражения героика русской армии сливается с героикой самого народа: ополченцы — это ведь те же самые крестьяне, которые еще вчера в своих руках держали косу и плуг, а сегодня — боевое оружие. Следующая ступень героизма народа — его действия в партизанских отрядах.
Одновременно с нарастанием героизма русского народа, вступившего в беспощадную борьбу с врагом, всё более и более прояснялись цели и идеалы, во имя которых он боролся. Сначала — это независимость родины, потом — и мечты об освобождении от социального гнета. Картины бунта богучаровских крестьян с достаточной силой свидетельствуют об этом. Идея вольной, свободной жизни никогда не умирала в народе.
В образе народа, разумеется, отражены и слабые стороны мировоззрения Толстого. Толстой колеблется в своем отношении к социальным идеалам народа. Он видит полную обоснованность и правомочность их, но в то же время надеется на мирное разрешение конфликта между помещичьим классом и крестьянством. Отсюда двойственность в изображении богучаровского бунта: правы и крестьяне, осмелившиеся не подчиниться распоряжению помещицы, прав и Николай Ростов, усмиривший бунт. Толстой вместе с тем любовно говорит об отсталости народа,
- 513 -
о свойственных отдельным его слоям настроениях рабской покорности, терпения к окружающему злу. Так возникает фигура Платона Каратаева В Каратаеве абсолютизированы привитые веками рабства и угнетения недостатки в сознании и общественном поведении народа. Образ Платона Каратаева неразрывно связан с философией фатализма, которая проповедуется в «Войне и мире». Источник этой философии — те стороны сознания патриархального крестьянства, которые порождаются его вековым рабством, угнетением, разобщенностью. Было бы, однако, неправильно рассматривать философию фатализма только как проповедь примирения со всеми тяготами жизни. В этой философии есть и другая сторона: чувствуя свое бессилие изменить ход жизни, человек начинает полагаться на то, что она изменится сама собою и в том направлении, которое соответствует его интересам.
Таким образом, и в толстовской философии фатализма отражена неудовлетворенность народа своим положением. Но поскольку философия фатализма полностью отрицает значение воли человека в общественно-историческом процессе, постольку по своему конечному смыслу она реакционна.
Многие существенные представления Толстого о жизни народа, развиваемые в «Войне и мире», соответствуют передовым идеям эпохи. Но в образ народа Толстой вносит противоречия, свойственные его мировоззрению и жизненным позициям. Он изображает как положительные качества народа его отсталость, терпение к окружающему злу.
10
В «Войне и мире» наряду с вымышленными лицами действуют лица исторические. Прежде всего это — Кутузов, Наполеон и Александр I. Образы их создавались Толстым с такой установкой, чтобы они соответствовали и реальным жизненным фактам, и идейно-художественной концепции романа.
Наиболее неясный среди них образ Александра I. Существует мнение, что царь идеализирован в «Войне и мире». П. Вяземский придерживался противоположного взгляда: он считал, что Толстой развенчал его и тем самым погрешил против исторической истины. Как увидим ниже, ни то, ни другое мнение не соответствует действительности. Толстой нарисовал в своем романе образ царя таким, каким представляли его себе самые различные люди.
Великосветское петербургское общество в восторге от Александра I. Анна Павловна Шерер называет его «милым императором», убеждена, что он «спасет Европу», верит в его «высокую судьбу», ставит его имя рядом с именем самого бога.
Второй, основной, аспект освещения Александра I — восприятие его Николаем Ростовым. Николай боготворит царя, он влюблен в него и готов во всякую минуту пожертвовать своей жизнью за него. При появлении царя он не просто в общем хоре солдат и офицеров кричал «ура», а хотел этим криком повредить что-нибудь в себе, чтобы вполне выразить свой восторг. И это, конечно, характеризует самого Николая, а не царя. Для Николая Ростова, как человека формально понятого долга, доказать свою любовь к царю, свою готовность умереть за него — значит выполнить свои самые высшие человеческие обязанности.
Представление Николая Ростова о царе — самое распространенное. Оно в то время разделялось огромной массой населения страны. Для нее
- 514 -
царь был олицетворением самой России, ее славы и могущества. Она верила в Россию, в русское оружие, а потому и в царя.
Николай Ростов, говорится в «Войне и мире», действительно был влюблен «и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия» (т. 9, стр. 311).
Аустерлицкое сражение уронило царя в глазах тех девяти десятых армии, которые были в него влюблены, хотя и менее восторженно, чем Николай Ростов. Но последний не изменил своего отношения к царю. По-прежнему обожая его, он теперь сливался с самыми консервативными элементами общества. Характерно, что Николай совершенно не описан как участник Бородинского сражения.
Третий аспект освещения Александра I — отношение к нему Андрея Болконского, который прямо нигде не рассуждает о царе. Тем не менее его позиция в этом вопросе совершенно ясна. Вот два эпизода, раскрывающие сущность дела.
Русский и австрийский императоры устраивают смотр войскам перед Аустерлицким сражением. Николай Ростов не может оторвать глаз от Александра I. Но когда он на минуту взглянул в сторону, то заметил фигуру Андрея Болконского, «лениво и распущенно сидящего на лошади» (т. 9, стр. 299).
Деталь достаточно красноречивая. Андрею Болконскому претил весь тот дух легкомыслия, который вносило в войска присутствие царя, вся та шумиха, которая была поднята вокруг его персоны, отвлекала от дела, от подготовки к бою и, следовательно, ничего хорошего не предвещала.
Второй эпизод. Дело происходит на балу в Петербурге. Появление царя подавляюще подействовало на всех присутствующих. Андрей Болконский, нисколько не смутившись, наблюдал за другими. В этот момент Пьер, сам не танцевавший, указал ему на Наташу Ростову, которую никто не приглашал. Теперь он из наблюдателя превратился в действующее лицо, и тут у него появилось желание «поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя» (т. 10, стр. 203). Именно «досадный ему круг смущения». Чувство то же самое, что и в первый раз, — раздражение и против самого царя, и против тех, кто сделал из него идола и слепо поклоняется ему.
Образу царя в романе противостоит образ Кутузова, в создании которого Толстой опирается на опыт предшествующей русской литературы, в первую очередь на опыт Пушкина. Он изображает Кутузова как подлинно народного полководца, достигая в этом отношении громадной художественной силы. Вместе с тем здесь обнаружились и слабые стороны мировоззрения писателя. В образе Кутузова дало себя знать противоречие между философскими установками, которые Толстой проводит в «Войне и мире», и принципами его реализма.
В философском плане Толстой стремился установить некие «конечные причины», определяющие развитие стран и народов, человечества в целом. Известно, что он не мог найти этих причин. Толстой, указывает Ленин, «рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения „вечных“ начал нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого („переворотившегося“) строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов». Для
- 515 -
Толстого, говорит Ленин, «определенная, конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто совершенно чуждое».1
Те или иные философские цели Толстой ставил перед собою почти в каждом своем значительном художественном произведении. Однако в тех случаях, когда он изображал частную жизнь людей (как, например, жизнь Оленина в «Казаках»), указанные цели не всегда даже формулировались, часто они только подразумевались и должны были находить осуществление в самих художественных образах В результате отвлеченные цели в его произведениях, как правило, отступали на задний план перед изумительными картинами реалистически изображаемой действительности.
В «Войне и мире» линия философских рассуждений сохранила самостоятельное значение, будучи в то же время органически связана с линией художественного повествования. В основе сюжета «Войны и мира» — не только частные судьбы частных людей, но и судьбы народов и государств. Повествуя о великих исторических событиях, Толстой показывал, как внезапно, быстро и круто они могут изменить положение той или иной страны, того или иного народа. Отсюда и интерес его к причинам, порождающим войны, а также к законам, подчиняющим военные действия, ход и исход военных сражений. Толстой видел, что в ходе войны исключительную роль играла воля людей, воля народа и армии, воля и талант полководца. Поэтому наряду с вопросами о причинах возникновения войн Толстого в процессе работы над «Войной и миром» интересовал в такой же степени вопрос о том, чему подчиняется и чем управляется воля человека, что она представляет собою.
Этим определяется значение философских отступлений в «Войне и мире». После описания Бородинского сражения они начинают занимать преобладающее место в сравнении с художественным повествованием.
В целом силою и правдою своего искусства Толстой преодолевает собственные философские заблуждения. Но отпечаток ошибочности их лежит и на его реализме, на ряде его выдающихся образов, в частности, как это было показано, на образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
В образе Кутузова скрещиваются обе линии, параллельно развиваемые в последних двух томах «Войны и мира», третьего и особенно четвертого, — линия художественного повествования и линия философско-исторических отступлений.
Естественно, что это внесло противоречие в образ великого русского полководца. Некоторые черты, которыми наделил Толстой Кутузова, не соответствуют его историческому облику. Толстой нередко подчеркивает, что Кутузов считал бесполезным вмешиваться в ход событий, что он «презирал и знание и ум, и знал что-то другое, что должно было решить дело» (т. 11, стр. 170).
Толстовский Кутузов постоянно чувствует свою ответственность перед народом, он глубоко переживает неудачи наших войск. Величественна и в сущности трагична фигура Кутузова перед Аустерлицким сражением. Он был на грани того, чтобы отказаться выполнять приказ царя вести русские полки в наступление, которое — Кутузов знал это — могло закончиться лишь их полным разгромом. И в этой широте взгляда, глубине понимания событий — его величие. Кутузов не смог противостоять царю, но всем своим поведением показал, что без его вмешательства русскую армию ожидала бы совсем иная участь, чем та, которая постигла ее на поле Аустерлица.
- 516 -
Вступая в прямое противоречие со своими философскими положениями, Толстой рисует Кутузова как полководца, действующего по заранее обдуманному плану, как подлинного организатора победы русских войск над наполеоновской армией. Значение воли, ума и полководческого таланта Кутузова Толстой особенно подчеркнул в его решении дать Бородинское сражение.
Образ Кутузова находится в тесной связи с образом русской армии, который создается на страницах «Войны и мира».
Сила армии, как она изображается Толстым, прежде всего в ее солдатах. Дело не только в том, что солдаты составляют основную массу армии, а главным образом в том, что чувство долга, определяющее качество военного человека, коренится в самой сущности их, часто может быть даже не вполне осознанное ими самими. Толстой видит в этом преимущество их патриотизма перед патриотизмом таких людей, как, например, Пьер Безухов или Андрей Болконский. Для Пьера Безухова и Андрея Болконского патриотизм — это такое качество, которое они должны вырабатывать в себе непрерывной борьбой с собой, с окружающей их средой, постоянным и упорным напряжением мысли. Другое дело — простые солдаты, представители народной массы. У них нет мучительных поисков родины, потому что родина — это они сами.
Моральное состояние армии упирается в моральное состояние народа, истинными представителями которого являлись солдаты. Образ народа и в этом отношении возвышается над всеми другими образами романа.
У Толстого было противоречивое отношение к войне. С философской точки зрения он отрицал всякую войну как явление, противное человеческой природе. По-иному складывалось дело, когда речь шла не вообще о войне, но об определенной, конкретной войне. Суждения такого рода были у Толстого нередко глубоко проницательными. Так, война с наполеоновской армией, в которой Россия отстаивала свою независимость, была для него справедливой. Эта позиция Толстого приближалась к позиции революционных демократов. Чернышевский писал, что «человеку трудящемуся разорительна всякая война; полезна для него только та война, которая ведется для отражения врагов от пределов отечества» (IV, 488). Толстой близок революционным демократам и в оценке роли народа в Отечественной войне 1812 года.
Если в противопоставлении Кутузова и Александра I отражена враждебность государственного и общественного строя России русскому народу, то противопоставление Кутузова Наполеону отражает противоположность целей русской и французской армий. В основу построения образа Наполеона, как и образа Кутузова, положен принцип соотнесения личности с историческими событиями, выявление ее роли и места в историческом процессе. В этом смысле образы двух главнокомандующих коренным образом отличаются от образа Александра I, который дан в сниженном, бытовом плане. Больше всего мы его видим на балах. Это блестящий светский кавалер. Собственно, и на войне он ведет себя, как на балу, занятый тем, какое впечатление он производит на окружающих. Характерно, что в философских отступлениях имя Александра I встречается гораздо реже, нежели имя Наполеона и Кутузова.
Образ Наполеона, как и образ Кутузова, строится на стыке двух потоков — художественного повествования и историко-философских рассуждений. Но тогда как образу Кутузова свойственны известные противоречия, образ Наполеона един и целостен. На историко-философские рассуждения в «Войне и мире» нельзя смотреть, как на сплошное заблуждение.
- 517 -
В них содержится и положительный момент. Они направлены против субъективистского понимания исторического процесса. В них доказывается, что развитие общества подчинено объективным закономерностям, сущность которых Толстой, однако, понимает неправильно, совершенно отрицая, в частности роль личности в истории. Последнее, глубоко ошибочное положение Толстой пытался проиллюстрировать деятельностью Кутузова. И отсюда — противоречие в образе великого русского полководца. Действиями Наполеона Толстой подкреплял в основе своей правильное положение, направленное против культа личности. В результате рассказ о действиях Наполеона (в художественном повествовании) и рассуждения о нем (в историко-философских отступлениях) сливались в одно целое.
Армия Наполеона не имела благородных целей в войне. В силу этого побудительной причиной ее действий стала личность самого Наполеона. Армия верит только в него. Он верит только в себя. Это порождает его позу. Он актер, вынужденный играть роль великого человека. Полагаясь во всем только на себя и внушая эту мысль всей армии, он совершенно равнодушен к солдатам, к армии в целом. Простое человеческое чувство лишь однажды проникло в его душу, когда он после Бородинского сражения увидел страшное поле, покрытое трупами и ранеными, когда ему стало известно о гибели двадцати знакомых генералов и когда он убедился в «бессильности своей прежде сильной руки». В день Бородинской битвы «ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие» (т. 11, стр. 256).
В Кутузове Толстой подчеркивает гуманизм. Наполеон же трактуется им как носитель антигуманистического начала: он не мог понимать «ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того, чтобы он мог понимать их значение» (т. 11, стр. 257—258).
В литературе было немало споров относительно принципов изображения Наполеона в «Войне и мире». Толстого упрекали в том, что он отступил от исторической правды, что его Наполеон не имеет ничего общего с действительным.
Конечно, толстовский Наполеон — образ открыто тенденциозный, но при этом глубоко реалистический. Толстой смело, даже дерзко снимает с французского императора ореол, которым тот был окружен в западноевропейской художественной, исторической и мемуарной литературе. Наполеон Толстого — образ полемический. Но дело было не в том, что писатель по каким-то соображениям решил опровергнуть истолкование деятельности Наполеона, даваемое западноевропейскими писателями. Цели Наполеона были неодинаковы в различные периоды его жизни. В «Войне и мире» перед нами Наполеон на закате своей славы. Его прогрессивные войны были уже позади. Теперь он вел захватническую войну.
При создании образа Наполеона Толстой широко пользуется средствами сатиры. Толстовский Наполеон вызывает гнев как человек, который стремится навязать свою волю великому народу и при этом остается равнодушным к смерти и страданиям людей, в том числе собственной армии. Толстовский Наполеон смешон как человек, думающий, что он управляет историей, тогда как на деле он совершенно бессилен перед ее законами.
Буржуазная историография и литература прославляли Наполеона как героя, который «все может» и которому «все позволено». Вот где разгадка
- 518 -
того, почему фигура Наполеона привлекла внимание русской литературы 60-х годов. Наполеон занимает существенное место и в романе Достоевского «Преступление и наказание», писавшемся в то время (1865—1866), когда Толстой работал над «Войной и миром». С разных позиций и по-разному, но как Толстой, так и Достоевский созданием образа Наполеона осуждают буржуазный индивидуализм, взгляд на историю как на результат деятельности отдельных личностей.
При создании образов исторических деятелей Толстой пользовался особыми приемами индивидуализации. Личные, человеческие качества каждого из них определялись прежде всего тем, в каком соотношении с историческими событиями он находился. Александр I — наивен и чувствителен (увидев раненых солдат, он тут же заболел), это качества человека, который не может оказать никакого воздействия на исторические события. Толстой настойчиво подчеркивает его юношескую внешность, а в одном месте уподобляет царя четырнадцатилетнему мальчику. Личные качества Наполеона — честолюбие, равнодушие, фальшь и самоуверенность — характеризуют его как исторического деятеля, который считает, что всё зависит только от его воли. Кутузов как человек во всем противоположен Наполеону: он спокоен, порою даже намеренно вял, несмотря на то, что обладает исключительным темпераментом; он чуток и внимателен к солдатской массе и совершенно равнодушен к славе, ему чужда всякая поза; не будучи излишне самоуверенным, он действует всегда твердо и уверенно. В личных качествах Кутузова раскрываются черты полководца, сила которого в знании массы, в понимании ее благородных целей.
«Война и мир» — крупнейшая веха в развитии мировоззрения и реалистического метода Толстого.
В предшествующих «Войне и миру» произведениях реализм Толстого развивался в основном по таким линиям: по линии критического изображения дворянской среды с ее лживой и фальшивой моралью, с духовной опустошенностью, порожденными праздностью и тунеядством; по линии создания образов лучших представителей дворянства, которые, осуждая окружающую их среду, прилагали все свои духовные усилия к тому, чтобы своей жизнью оправдать высокое назначение человека; наконец, по линии изображения представителей народа и самих народных масс.
Главные герои «Войны и мира», Пьер Безухов и Андрей Болконский, задумываются над самыми сложными вопросами социальной и исторической судьбы своей страны. Именно поэтому они становятся, сами того еще не вполне сознавая, на путь преодоления помещичьей идеологии.
По глубине отражения действительности, понимания человеческого характера, по широте охвата жизни «Война и мир» знаменовала собою новую веху в развитии реализма всей мировой литературы. Роман Толстого произвел колоссальное впечатление не только в России, но и за рубежом. О «Войне и мире» с восторгом говорил в своем письме к Тургеневу такой выдающийся французский писатель, как Флобер.
Появление «Войны и мира» вызвало ожесточенную борьбу в литературе и критике того времени. Реакционная критика обрушилась на Толстого с клеветническими нападками, обвиняя его, в частности, в том, что он дал искаженную картину героической эпопеи 1812 года (статьи А. Норова «„Война и мир“ с исторической точки зрения и по воспоминаниям современников», П. Вяземского «Воспоминания о 1812 годе» и др.). Прогрессивная критика не смогла дать должного отпора реакционной критике. Статья Писарева «Старое барство», в которой дан интересный
- 519 -
анализ ряда образов, прежде всего образов Бориса Друбецкого и Николая Ростова, не была закончена, в ней отсутствовал анализ общей проблематики и структуры романа. А такой критик прогрессивного крыла, как Шелгунов, резко и справедливо выступив против реакционной философии Толстого (статья Шелгунова называется «Философия застоя»), не сумел подняться до правильной оценки гениального романа в целом.
«Война и мир» завершает целый этап в идейно-художественном развитии Толстого. Один из признаков толстовского реализма этого периода состоит в таком построении образа главного героя, при котором духовный мир его раскрывается путем соотнесения с духовным миром народа, путем выяснения его отношения к исторической и социальной судьбе России.
Поскольку герои Толстого считают, что народу принадлежит решающая роль в историческом развитии страны, постольку они признают его жизнь единственно значимой.
«Анна Каренина» — это уже новая ступень в развитии толстовского реализма. Построение образа одного из главных героев романа, Константина Левина, определяется тем, что вся его духовная биография связана с непрерывными усилиями понять экономическую структуру общества, выяснить, в чем причина ее непригодности.
11
Сразу после окончания «Войны и мира» Толстой заинтересовался эпохой Петра Первого и намеревался посвятить ей свое новое произведение.
Сначала он предполагал писать пьесу о Петре, но вскоре отказался от этой мысли и приступил к работе над романом. Первое свидетельство о начале содержится в дневнике жены писателя, С. А. Толстой (дата записи — 15 февраля 1870 года): «Я застала его за чтением истории Петра Великого — Устрялова. Типы Петра Великого и Меншикова очень его интересуют. О Меншикове он говорил, что чисто русский и сильный характер, только и мог быть такой из мужиков. Про Петра Великого говорил, что он был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношение с Европейским миром».1
В дальнейшем идея будущего романа принимала всё более определенные очертания. Толстой признал, что Петр совершил «великое необходимое дело», что он открыл путь к европейской цивилизации. Однако он был очень далек от мысли о механической пересадке ее на русскую почву. По словам Толстого, он понимал, что «не нужно брать цивилизацию, а только ее орудия, для развития своей цивилизации» (т. 48, стр. 123).
Русский народ, по утверждению Толстого, так именно и поступает. Он — подлинный творец истории, создатель всех ее богатств. Всякая иная историческая концепция вызывала отпор со стороны писателя. Особенно показательна в этом отношении его запись (дата — 4 апреля 1870 года), вызванная чтением многотомного труда известного историка Соловьева. Толстой возмущается тем, что в этом труде всё плохое приписывается русскому народу, а всё хорошее — царскому правительству. Но если, говорит Толстой, русский народ умел только грабить и не умел ничего
- 520 -
создать, то «кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше? Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражущихся. И это правители — несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого» (т. 48, стр. 124).
В итоге роман о Петре вырисовывался в сознании Толстого в сущности как роман о русском народе — движущей и созидательной силе истории.
В течение 1870 года, усиленно занимаясь изучением эпохи Петра Первого, Толстой несколько раз приступал непосредственно к писанию романа, но дальше отдельных набросков не пошел. В 1871 году он был занят «Азбукой» и над романом не работал. В течение 1872 и начала 1873 года он опять работает над романом о Петре. О нем он часто пишет в своих письмах к различным лицам. Что-то подсказывало ему, что роман не получится.
Так это и случилось. С марта 1873 года Толстой целиком отдался работе над «Анной Карениной», задуманной еще три года назад. Этот переход от одного романа к другому явился неожиданностью даже для Софьи Андреевны, следившей за каждым движением творческой мысли Толстого. Остается предположить, что в то время, когда писатель был занят романом о Петре, прежний замысел не переставал тревожить и волновать его.
«Анна Каренина» создавалась в период 1873—1877 годов. С течением времени замысел претерпевал большие изменения. Менялся план романа, расширялись и усложнялись его сюжет и композиция, менялись герои и самые имена их. Громадную эволюцию пережил и образ главной героини. Анна Каренина, какой ее знают миллионы читателей, мало похожа на ее предшественницу из первоначальных редакций. От редакции к редакции Толстой духовно обогащал свою героиню и нравственно возвышал ее, делал всё более привлекательной. Образы же ее мужа и Вронского, который в первых вариантах носил другую фамилию, изменялись в обратном направлении, т. е. духовный и нравственный уровень их снижался.
Но при всех изменениях, внесенных Толстым в образ Анны Карениной, в нем до конца сохранились черты, о которых говорится в дневнике Софьи Андреевны. И в окончательном тексте Анна Каренина остается, по терминологии Толстого, одновременно и «потерявшей себя», и «не виноватой» женщиной. Она отступила от своих священных обязанностей матери и жены, но у нее другого выхода не было. Поведение своей героини Толстой и оправдывает, и в то же время осуждает.
В образе Анны Карениной развиваются и углубляются поэтические мотивы «Войны и мира», в частности сказавшиеся в образе Наташи Ростовой; с другой стороны, в нем временами уже пробиваются суровые нотки будущей «Крейцеровой сонаты».
Сопоставляя «Войну и мир» с «Анной Карениной», Толстой заметил, что в первом романе он любил мысль народную, а во втором — семейную. Эти слова не могут служить основанием для противопоставления «Анны
- 521 -
«Анна Каренина». Черновой автограф Л. Н. Толстого.
Карениной» «Войне и миру». В «Анне Карениной» Толстой не только не отошел от проблемы народа, так широко разработанной в «Войне и мире», но значительно углубил ее. Сопоставление «Анны Карениной» с «Войной и миром», сделанное самим Толстым, надо, очевидно, понимать так: в «Войне и мире» непосредственным и одним из главных предметов повествования была именно деятельность самого народа, самоотверженно защищавшего родную землю, в «Анне Карениной» — преимущественно семейные отношения героев, взятые, однако, как производные от общих социально-исторических
- 522 -
условий. Вследствие этого проблема народа в «Анне Карениной» получила своеобразную форму выражения, она дана главным образом через духовные и нравственные искания героев.
В «Анне Карениной», как и в «Войне и мире», с одной стороны, обличается искусственная жизнь, лишенная подлинных человеческих интересов, а с другой — возводится в поэтический идеал жизнь естественная, полная не только радостей, но и страдания.
Вместе с тем между этими двумя романами есть и существенное различие. В первом из них мир зла открыто противопоставлен миру добра и красоты. Во втором соотношение между ними дано по-другому. Князь Василий Курагин, изображаемый в «Войне и мире» в качестве типичного представителя мира зла, наделен всяческими пороками. Иначе поступает Толстой с Карениным, который олицетворяет собою мир зла в «Анне Карениной». Внешне он ведет себя безукоризненно, и не только в этом смысле не страдает никакими пороками, но наделен «правом» осуждать свою жену за «недостойное поведение».
Однако всё, что относится к истинно человеческим чувствам, для него чуждо и непонятно. В этом первоначальный источник страданий Анны: он душил в ней всё человеческое. Но в этом же и причина тех мучительных переживаний, которые выпали затем на долю самого Каренина, оттолкнувшего от себя жену. Разлад, наметившийся между супругами после поездки Анны в Москву и встречи с Вронским, Каренин не мог ни устранить, ни даже понять, не переключившись хотя бы в какой-то степени из сферы, где владычествует форма, в сферу живых человеческих отношений. Он всё время думал об Анне только как о жене, с чисто формальной точки зрения, а ему следовало понять ее как человека. Но это было недостижимо для него: чтобы судить о другом человеке, нужно было ему самому стать человеком. Он же, по словам Анны, — не человек, а машина. И в этом его своеобразный трагизм.
Князь Василий Курагин всем своим поведением заслуживает полного осуждения со стороны читателя. Что касается Каренина, он поставлен в такое положение, которое подводит его самого к пониманию никчемности прожитой жизни. От Каренина намечается прямой путь к Ивану Ильичу и подобным ему персонажам из произведений позднего Толстого.
Таким образом, разоблачение мира зла в «Анне Карениной» углубляется. Здесь уже намечается возможность показать, как отдельные представители этого мира становятся на путь саморазоблачения, осуждения и самих себя и в особенности условий, которые извратили их человеческую сущность.
Углубляется в «Анне Карениной» и изображение мира добра и красоты. Образ Анны Карениной имеет несомненное сходство с образом Наташи Ростовой. Обе они — и Наташа, и Анна — стремятся к полноценному человеческому счастью. Но тогда как Наташа достигает его (как ей это представляется и как думает об этом Толстой), Анна погибает на пути к счастью.
Мир добра и красоты в «Анне Карениной» гораздо более тесно переплетается с миром зла, нежели в «Войне и мире». Анна появляется в романе «ищущею и дающею счастье». Но на ее пути к счастью встают активные силы зла, под влиянием которых в конечном счете она и гибнет. Судьба Анны поэтому полна глубокого драматизма. Напряженным драматизмом проникнут и весь роман, многие его образы, в том числе и образ Каренина.
- 523 -
Душевное смятение, сопровождающее Анну до конца ее дней, обнаруживается уже во время ее первой поездки в Москву, т. е. в самом начале романа. Тревога охватывала ее тем сильнее, чем упорнее она хотела отделаться от нее. По дороге в Петербург она уже настолько овладела собою, что стала читать книгу. Но чтение не доставляло ей удовольствия. Необходимость следить за тем, как живут другие люди, ее раздражала. И это происходило оттого, что «ей слишком самой хотелось жить».
Силой своей любви к Вронскому Анна была поднята на такую высоту, с которой заново открывалась ей ее собственная жизнь. Возвратившись в Петербург, в первые минуты она была разочарована даже в сыне. Сын напомнил ей о действительности, тогда как она находилась во власти мечты. Но сын был так прелестен, что в какой-то мере примирял ее с действительным миром. Другое дело — муж. На первый взгляд может показаться, что Анна увидела всю непривлекательность мужа лишь по возвращении из Москвы. Но это не так. Толстой довольно ясно дает понять читателю, что Анна и раньше способна была видеть мужа таким, каков он был, но умышленно закрывала глаза.
Первые дни по возвращении из Москвы в Петербург Анна непрестанно примеривала себя к старым, ставшим уже привычными, условиям жизни. Это был период, когда она как бы проверяла возникшее чувство к Вронскому. Душевный мир Анны раздваивался, она много думала о муже, защищала его якобы от каких-то нападок, не подозревая, что на него никто не нападал, кроме нее самой. Это был ее суд над Карениным, причем такой, на котором ей едва ли не с одинаковой силой хотелось и обвинять Каренина, и оправдывать его. В душевном смятении Анны отражалась борьба привычки жить по-старому, т. е. притворяться, что живешь, с пробудившейся потребностью жить новой, истинной жизнью.
Но как бы ни старалась Анна убедить себя, что она должна жить по-старому, из этого ничего не получалось. Выбор был уже сделан, простые и глубокие человеческие чувства брали верх над всеми остальными, и Анна, не желая думать об этом, неуклонно шла навстречу своему счастью и своей гибели. Тот путь, на который вступила Анна после своей встречи с Вронским, приводит ее к конфликту с мужем, со светским обществом и, наконец, с самим же Вронским.
У Каренина не было никаких подозрений относительно поведения жены до тех пор, пока он не услышал осуждения ее другими. Каренин был взволнован, но не тем, что он усомнился в любви Анны к себе, а тем, что Анна своим поведением дала повод к сплетням и пересудам, что она нарушила нормы супружеского поведения в свете. Ночью, когда Анна вернулась домой, между супругами произошло объяснение, положившее начало их вражде.
Анна оказалась в таких условиях, когда она не могла быть до конца правдивой. Каренин же был формально прав. Следовательно, положение его было более выгодно. Он, Каренин, просит Анну, чтобы она говорила правду. И Анна готова была откликнуться на его призыв, как бы забыв, что он все-таки машина, а не человек. Но последней фразой Каренин выдал себя. Он сказал: «Я муж твой и люблю тебя». Слово «люблю» возмутило Анну, ибо чувство любви, как и всякое истинное человеческое чувство, было чуждо ее мужу.
Анна лгала и мучилась сознанием, что она лжет. Каренин же лгал, не замечая этого. Ложь Анны — вынужденная, ибо она противоречит
- 524 -
самому существу ее натуры. Ложь Каренина, напротив, — неотъемлемое его свойство.
Может быть наибольшие мучения Анна испытывала как раз оттого, что она, по ее собственным словам, попала в положение «лжи и обмана».
Вронский, успев убедиться, что его отношения с Анной ничего общего не имеют с обычным светским «романом», хочет добиться ясности в них. И тут он встречается с препятствием, аналогичным тому, с которым встретился Каренин. Анна уклонялась от обсуждения с Вронским создавшегося положения, из которого нужно было как-то выйти. Он чувствовал, что Анна закрывала для него какую-то часть своей души. Образ Анны двоился в его представлении: перед ним была не только та Анна, которую он любил, но и та, которую он не знал и не надеялся узнать.
После того, как Анна сообщила ему о своей беременности, Вронский стал настаивать на том, чтобы кончить с неясностью и ложью. Он был убежден, что это можно сделать легко и просто. Анна думала иначе. То, что Вронскому представлялось вполне ясным и определенным, ей казалось запутанным и неясным. Она понимала свое положение не так, как он, и не хотела говорить ему тех слов, которых сама боялась.
Так между Анной и Вронским вырастает стена.
Развод Анны с Карениным, думал Вронский, положит конец всей неясности, запутанности и лжи. Каренин не давал развода. Следовательно, заключал Вронский, надо было добиться его. Между тем, Анна, не была так решительно настроена. Суть дела в том, что ее пугал развод. Но как раз этого она и не могла сказать Вронскому. Анна была не только любящей женщиной, но и нежной матерью. И даже самый удачный исход дела наложил бы мрачную тень на всю ее жизнь.
Для Анны оставить всё по-старому — значит потерять Вронского, а сделать по-новому — потерять сына. Она не может сделать ни того, ни другого. Когда она говорит с Вронским, то часто невольно становится на позицию защиты «старого», когда же встречается с Карениным, ей так или иначе приходится защищать «новое».
Каренин объявил ей, что она преступная жена и мать, и потребовал от нее соблюдения внешних приличий.
Вслед за тем состоялось новое объяснение Анны с Вронским. Анна надеялась, что Вронский скажет ей о готовности бросить всё ради нее, и тогда она также пожертвует всем.
Но, увидев Вронского, Анна сразу почувствовала, что он принял внутреннее решение не жертвовать ради нее своим положением и карьерой. Ей стало ясно, что обманута ее последняя надежда. И потому на все уговоры его добиваться развода она почти с упреком бросала ему: «— А сын?».
Та внутренняя борьба, которой всё время был охвачен душевный мир Анны, в известной степени была борьбой между матерью и любящей женщиной. И мы не можем сказать с полной уверенностью, кто из них победил — мать или любящая женщина. Толстой не дает ответа на этот вопрос. Могла победить та, могла победить и другая. В данном случае победила мать, но это оказалось возможным потому, что Вронский не оправдал надежд Анны. А что было бы, если бы он их оправдал? Очевидно то, что победа осталась бы за любящей женщиной. Так оно и случилось впоследствии. Чувства матери и любящей женщины, испытываемые Анной, Толстой показывает как равноценные. В Анне мать так же чиста и благородна, как и любящая женщина.
- 525 -
Основываясь на рассказах матери Вронского, Анна создает о нем представление как о герое, т. е. человеке, способном на самопожертвование Первая же встреча с Вронским укрепила в ней это представление: Вронский пожертвовал крупную сумму семье погибшего железнодорожного сторожа. На деле Вронский не был героем. Поняв это, Анна не решилась вынести свое новое, более справедливое суждение о нем. Для нее это было невозможно: с Вронским она связывала свое будущее.
Вронский — типичный представитель столичной аристократии, «один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской». В нем много блеска, который и обманул Анну. Он полон высокомерия и презрения к людям, не занимающим высокого положения в свете. Он сам не отдавал себе отчета в этих качествах и подумал о них только тогда, когда оказался в положении низшего, сопровождая иностранного принца. Принц «был очень глупый, и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего». Вронский видел, что принц не заискивал перед высшими, «был свободен и прост в обращении с равными, и был презрительно равнодушен с низшими». Принц показался Вронскому карикатурой на него самого.
Таков по сути дела Вронский. Карьера была для него важнее всего. Однажды обошли его по службе. Самолюбие было ущемлено, и, встретившись с Анной, он надеялся, что роман с ней возвысит его в глазах общества, возместит то, что было потеряно в сферах служебной деятельности. К чувству Вронского примешивался расчет, который и оправдался на первых порах. Роман с Анной сначала действительно возвысил его в глазах людей его круга. И это отвлекало его внимание от карьеры.
Так Вронский был выбит из колеи обычной для него жизни, и все попытки войти в нее ни к чему не привели. Но от этого он как человек стал не хуже, а лучше. Однако и в таком, несколько приукрашенном виде, Вронский слишком далек от идеала Анны.
Поворот в развитии судьбы Анны наступил в период тяжелой болезни. Самым страстным желанием ее теперь было получить прощение у Каренина для себя и для Вронского, помирить мужа и любовника. Каренин простил и жену и ее любовника.
Анна не считала свой жизненный путь правильным. Она знала, что религия на стороне Каренина. Но у нее была своя мера для того, чтобы оценить каждый свой поступок, и мера — очень строгая: ее любовь и материнское чувство, два великих чувства, которые остаются для нее несоединимыми. И когда Анна просит прощения у Каренина, она вовсе не думает о загробной жизни. Думая о смерти, она хочет соединить то, чего не удалось ей соединить в жизни, и на минуту достигает этого. С Вронским у нее связано представление о себе как о любящей женщине, с Карениным — как о безупречной матери их сына, как о некогда верной жене. Анна хочет одновременно быть и тою, и другою. В полубессознательном состоянии, она говорит, обращаясь к Каренину:
«Я всё та же... Но во мне есть другая, я ее боюсь, — она полюбила того и хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся» (т. 18, стр. 434).
«Вся», т. е. и та, которая была прежде, до встречи с Вронским, и та, которой она стала потом.
Но Анне еще не суждено было умереть. Она не успела еще испытать всех страданий, выпавших на ее тяжелую долю, не успела она также испробовать и всех дорог к счастью, к которому так рвалась ее жизнелюбивая натура.
- 526 -
Перед Анной открывалось теперь несколько возможных путей в жизни: во-первых, она могла примириться с Карениным и вновь стать его верной женой (Каренин всё простил ей); во-вторых, получить от Каренина развод (Каренин готов был дать ей развод); в-третьих, остаться в прежнем положении, какое сложилось после ее встречи с Вронским; в-четвертых, не разводясь с Карениным, уйти к Вронскому.
Анна избрала последний путь. Вновь сделаться верной женой Каренина она не могла. Даже на пороге смерти она понимала, что это было невозможно. Положение «лжи и обмана» она также не способна была более переносить. Остается ответить на вопрос — почему же она не захотела взять развод, вполне ее устраивающий?
Анна отказалась от развода потому, что согласие Каренина на развод с оставлением ей сына было великодушием с его стороны. Если бы Анна воспользовалась его великодушием, она бы почувствовала себя в нравственном отношении ниже Каренина, виноватой перед ним: она сделала его несчастным, а он открывал ей дорогу к счастью. Анна же всё время думает, что ради ее счастья никто не должен приносить никаких жертв.
Если бы Толстой заставил Анну взять развод в тот момент, когда муж давал ей его, ее судьба, начиная с этого момента, перестала бы быть типической. Это означало бы, что у Анны нашелся выход, что перед нею открылся путь к счастью, как она его понимала. Между тем, этого пути у нее не было и не могло быть.
То, что Каренин простил Анну и Вронского, было его ошибкой, случайностью, никак не обусловленной его характером. Так это понимает и сам Каренин. По сущности своей жизни и занятий он не мог быть добрым человеком, если бы даже в нем и пробуждалось иногда желание делать людям добро. У постели больной жены Каренин «первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызвали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости». Единственный раз Каренин попытался сделать добро, но из этого ничего не вышло. Вскоре он почувствовал, что дело не в его благих намерениях. Ему стало ясно, «что кроме благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью, и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия, которого он желал».
Следя за судьбой Анны, мы с горечью замечаем, как рушатся одна за другой ее мечты.
Одной из них была ее мечта уехать с Вронским за границу и там забыть про всё. Рухнула и эта мечта. Не нашла своего счастья Анна и за границей. Действительность, от которой она хотела уйти, настигла ее и там. Вронский скучал от безделья и тяготился, а это не могло не тяготить Анну. Но самое главное — на родине остался сын, в разлуке с которым она никак не могла быть счастливой.
В России ее ожидали мучения еще более тяжкие, чем те, которые она переживала раньше. То время, когда она могла мечтать о будущем и тем самым в какой-то степени примирять себя с настоящим, прошло. Действительность теперь представала перед ней во всем своем страшном облике.
По мере развития конфликта ей открывается смысл всего происшедшего.
Так, Анна, узнавая петербургскую аристократию, подразделяла ее на три круга: первый круг — это сослуживцы Каренина, к которым она вначале питала почти набожное уважение. Познакомившись ближе с этим
- 527 -
кругом, она потеряла к нему всякий интерес. Ей стало известно, «кто за кого и как и чем держится, и кто и с кем и в чем сходится и расходится». Второй круг был тот, с помощью которого Каренин сделал свою карьеру. В центре этого круга стояла Лидия Ивановна. Первое время Анна дорожила этим кружком, имела даже друзей в нем. Вскоре, однако, он стал невыносим для нее. «Это был кружок старых, некрасивых добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин». Анна поняла, что все они лицемерят, притворяются, что добродетельны, а на самом деле злы и расчетливы. Анна порвала с этим кружком после своего знакомства с Вронским. Встречаясь с ним, она оказалась втянутой в третий круг, центром которого была Бетси Тверская. Княгиня Бетси внешне противостоит Лидии Ивановне, с ее набожностью. Бетси не скрывает своего вольного поведения, но собирается в старости стать такой же, как Лидия Ивановна. Поведение княгини Бетси Тверской и графини Лидии Ивановны — это две стороны одной и той же медали. Признание Бетси, что она в старости станет похожей на Лидию Ивановну, бросает яркий свет на образ жизни и ее самой, и Лидии Ивановны: им обеим необходима маска лицемерия. Лицемерно было общество всех трех кругов, с которыми сталкивалась Анна. С каждым поворотом своей трудной судьбы она всё более убеждалась в этом. Она искала честного, бескомпромиссного счастья. Вокруг же себя она видела ложь, лицемерие, ханжество, явный и скрытый разврат. И не Анна судит этих людей, а эти люди судят Анну. Вот в чем ужас ее положения.
Потеряв для себя сына, Анна осталась только с Вронским. Следовательно, привязанность ее к жизни наполовину уменьшилась, так как сын и Вронский были для нее одинаково дороги. Здесь разгадка того, почему она теперь стала так дорожить любовью к себе Вронского. Для нее это была сама жизнь.
Но Вронский с его эгоистической природой не мог понять Анны. Анна была с ним и потому мало интересовала его. Он теперь погрузился в свои собственные интересы. Между Анной и Вронским теперь всё чаще и чаще возникали недоразумения. Причем формально Вронский, как и ранее Каренин, бывал прав, Анна не права. Однако суть дела заключалась в том, что поступками Каренина, а затем и Вронского руководило «благоразумие», как понимали его люди их круга; поступками же Анны руководило ее большое человеческое чувство, которое никак не могло согласоваться с «благоразумием». В свое время Каренин был напуган тем, что в «свете» уже заметили отношения его жены с Вронским и что это грозит скандалом. Так «неблагоразумно» вела себя Анна! Теперь общественного скандала боится Вронский и причину этого скандала видит всё в том же «неблагоразумии» Анны.
В поместье Вронского разыгрывается в сущности заключительный акт трагической судьбы Анны Карениной.
Анна, человек сильный и жизнелюбивый, казалась многим и даже хотела самой себе казаться вполне счастливой. В действительности она была глубоко несчастна. Последняя встреча Долли и Анны как бы подводит итог жизни той и другой. Анна, стремившаяся к счастью, не достигла его и погубила свою жизнь. Долли, смирившись со своим положением несчастливой жены, познала счастье матери. По дороге в имение Вронского Долли с завистью думает об Анне, на обратном пути — с сожалением. Но Долли ни в чем не осуждает Анну, Анна же не испытывает никакого чувства зависти к Долли. У каждой из них своя особая судьба, и каждая не могла бы оказаться на месте другой. Обе они честно прожили свою
- 528 -
жизнь и обе — несчастливы, но каждая несчастлива по-своему. Судьбу Долли и судьбу Анны Толстой рисует как два противоположных варианта судьбы русской женщины. Одна смирилась и потому несчастлива, другая, напротив, осмелилась отстаивать свое счастье и тоже несчастлива.
В образе Долли Толстой поэтизирует материнское чувство. Ее жизнь — подвиг во имя детей, и в этом смысле своеобразный укор Анне.
Анна чувствует, что никто, включая и ее собственного сына, не простит ей того, что она осмелилась отстаивать и защищать свои чистые и святые человеческие чувства, не побоялась для этого разорвать узы несправедливого, унижающего ее человеческое достоинство брака. Анна понимает, что счастья ей не будет и тогда, когда она соединит для себя Вронского и сына, хотя бы уже по одному тому, что сам сын ее не одобрит этого. Соединив для себя сына и Вронского, Анна, казалось бы, уравновесит в себе чувства матери и любящей женщины. Но это только так казалось. Анна была уверена в том, что если бы ее брак с Вронским состоялся и если бы Каренин ей отдал сына, в ней всё-таки перевес взяли бы чувства любящей женщины: она знала, что этот брак был бы не в интересах сына.
Перед нами новый пример широты и глубины освещения и раскрытия Толстым судьбы своей героини. Ей мог представиться случай устроить свою судьбу так, как она хотела. Но, во-первых, это была бы только случайность, осуществившаяся вопреки всей логике событий, взятых в широком социально-историческом плане; во-вторых, если бы эта случайность как возможность (в размышлениях Анны) стала случайностью в действительности, самый характер, самая судьба Анны не перестали бы быть трагическими: счастье ее в настоящем было бы отравлено всем ее тяжелым прошлым, и неловкостью перед сыном, и мучительным сознанием великодушия Каренина, отдавшего ей сына, и многим другим.
Может возникнуть вопрос: зачем понадобилось Толстому заставлять героиню перед самой смертью думать, что ее наилучшая мечта могла бы осуществиться, если совершенно очевидно, что на это можно было рассчитывать лишь как на чистейшую случайность, и если это всё равно ничего бы по существу не изменило, не принесло бы ей счастья?
Ответить на этот вопрос можно так: если бы Анна Каренина не обдумала того, что с ней было бы в случае осуществления ее наилучшей мечты, оставалась бы возможность предполагать, что при некотором изменении обстоятельств ее жизни, прежде всего при получении удовлетворяющего ее развода от Каренина, она могла бы избежать трагической гибели.
Обнажая причины, которые привели его героиню к гибели, Толстой выступает с обвинением против определенного строя жизни, направленного на подавление человеческой личности.
За несколько минут до смерти Анна думает: «Все неправда, все ложь, все обман, все зло!..». Поэтому ей и хочется «потушить свечу», т. е. умереть. «Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это?».
12
Как и Анна Каренина, Константин Левин появляется в романе вполне сложившимся человеком. Тем не менее духовный мир его подвержен постоянным изменениям, он — в движении и развитии.
В духовном облике Левина сочетаются черты подлинного демократизма с чертами дворянской идеологии. Левин вырос и воспитался в условиях
- 529 -
помещичьей среды, усвоив многие ее взгляды и привычки. Вместе с тем он человек богатого жизненного опыта. Левин обладал бесстрашно честным умом, сближаясь в требовательности к себе, в стремлении проверить каждое свое убеждение практикой живой жизни с представителями передовой мысли.
Коренное противоречие между реакционным идеалом и реальной действительностью логикой развития самой действительности ставит Левина в трагическое положение. Уже будучи счастливым семьянином, он боялся носить с собой ружье или веревочку, дабы не покончить самоубийством.
Трагедия Константина Левина воспринимается им самим как отражение общих процессов, происходящих в России. Константин Левин — не только помещик, с трудом справляющийся со своим хозяйством, но и серьезный мыслитель.
Образ Левина — новая ступень в развитии центрального образа в творчестве Толстого. Николенька Иртеньев, не удовлетворяясь окружающей его средой, еще только искал такой сферы в жизни, где бы он с пользой мог приложить свои усилия. Нехлюдов из «Утра помещика», как ему казалось, нашел ее. Он решил, что должен делать добро другим, в первую очередь крепостным крестьянам. Но он ничего не добился, так как крестьяне не поверили в его добрые намерения. Неудача постигла и Оленина, который долго примеривал себя к условиям жизни простых людей, — казаки отвергли его попытки стать членом их общины. В сравнении с образом Нехлюдова образ Оленина — несомненно движение вперед. Но в «Казаках» Толстой непосредственно не решал вопроса о судьбе крепостного крестьянства. В «Войне и мире» этот вопрос был снова поставлен. Один из центральных идейных узлов романа составляют искания Пьера Безухова и Андрея Болконского, порожденные социально-историческими обстоятельствами эпохи. Однако основные усилия Пьера и Андрея направлены не на то, чтобы найти решение крестьянского вопроса, а на то, чтобы выработать правильное представление о жизни и в связи с этим определить свои собственные жизненные позиции. Константин Левин отличается от Пьера Безухова и Андрея Болконского тем, что сущность его идейных исканий составляют попытки решить крестьянский вопрос уже в пореформенную эпоху как основной вопрос экономического развития страны.
Левин, как и Нехлюдов («Утро помещика»), — помещик, он живет у себя в усадьбе и непосредственно занимается хозяйством. Но в отличие от Нехлюдова, который ставил перед собой очень узкую задачу — облегчить участь своих крепостных крестьян, — Левин в конечном итоге смотрит на свои собственные помещичьи занятия как на эксперимент, который мог бы в случае его удачи послужить основанием для решения крестьянского вопроса во всей России. В образе Левина отражена существеннейшая черта пореформенной эпохи как переломной в истории России. Давая характеристику этой эпохи, В. И. Ленин приводит слова героя Толстого о ней: «У нас все переворотилось и только укладывается».
Те проблемы, которые являются центральными для «Анны Карениной», были выдвинуты самим ходом истории, самой эпохой. Поэтому они нашли отражение в творчестве не только Толстого, но и других крупнейших писателей того времени: Некрасов в 1876 году заканчивает поэму «Кому на Руси жить хорошо», а Тургенев — роман «Новь», Салтыков-Щедрин с 1875 года начинает печатать главы «Господ Головлевых», Глеб Успенский с 1877 года, года окончания «Анны Карениной», приступает к работе над циклом «Из деревенского дневника».
- 530 -
Каждый из писателей по-своему увидел эпоху, сосредоточил свое творческое внимание на тех или иных сторонах ее, но эпоха была одна и та же — переломная в истории России. Некрасов развернул грандиозную картину жизни русского народа, его бедствий и страданий, его величия, накопления в нем революционной энергии. Логикой всех образов поэмы он показал неизбежность революционного взрыва. Тема революции стоит и в романе Тургенева, но ей дано противоречивое решение: как правдивый художник Тургенев в той или иной мере раскрывает закономерность зарождения революционных идей, но разделяя политические взгляды либералов, он пытается доказать их несостоятельность. Салтыков-Щедрин, как и Некрасов, стоявший на позициях революционно-демократической идеологии, в романе «Господа Головлевы» рисует картину гибели дворянства. Глеб Успенский в цикле «Из деревенского дневника» описал пореформенную деревню, в которой, сочетаясь с властью помещика, вступила в силу власть денег.
В центре романа Толстого — взаимоотношения помещика и крестьян в новых, пореформенных, условиях жизни. Изображая эти взаимоотношения, Толстой подводит своего героя к вопросу о необходимости коренного преобразования общественно-экономического строя, о «бескровной революции» не только в масштабах России, но и «всего мира».
В представлении Левина Кити была идеальной девушкой, и только на ней он мог жениться. И если Кити отказала ему, значит, он не достоин ее — так думает Левин. Он решает «биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить».
Через некоторое время Кити с радостью приняла предложение Левина. Они были счастливы.
Рисуя трудный путь того или иного своего героя, Толстой нередко показывал, как часто герой заблуждается в поисках выхода из создавшегося положения. Поездка за границу не была выходом для Анны так же, как и женитьба для Левина. Толстой этим подчеркивает, что тот или иной его герой со сложной духовной биографией не сразу осознавал свое истинное положение, что он шел к этому через цепь неудач, имеющих частное значение.
Потерпев неудачу, Левин глубже задумался над своей жизнью, выяснил то главное, что его беспокоило и чего нельзя было устранить удачной женитьбой. Он понял, что его главное стремление — достигнуть такого положения, когда бы он мог перед народом «чувствовать себя вполне правым».
Левин упорно занимается хозяйством, он пишет книгу, пытаясь выяснить тот путь, по которому деревня должна развиваться в новых условиях. Он всё время присматривается к тому, как идет дело у других помещиков. Он устанавливает как непреложный факт исторический крах дворянства. Его глубоко волнует и огорчает это обстоятельство, тем более, что за счет разорения дворянства наживаются темные дельцы, вроде купца Рябинина. Левин мог бы еще смириться с обеднением дворянства, если бы дворянские земли попадали в руки к мужикам.
С хозяйством у него не ладилось, и он всё более убеждался, что и не наладится. Главная причина тому — нежелание крестьян работать на помещика.
В результате собственного опыта ведения хозяйства, размышлений над книгой, которую он писал, в итоге всех наблюдений Левин приходит к выводу, что интересы помещика и крестьянина фатально противоположны и что это является причиной упадка дворянского землевладения.
- 531 -
Итог наблюдений и размышлений Левина, его мучительная борьба с самим собою приближают его к мысли разорвать все связи со своим классом и встать на сторону крестьянства, которому он так симпатизирует.
К Левину вполне применимы ленинские слова о самом Толстом: он «...знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина».1 «Острая ломка всех „старых устоев“ деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него...».2
Образ Левина отражает тот этап в идейных исканиях Толстого, когда он стоял уже перед фактом разрыва со своим классом, но окончательного шага в этом направлении сделать еще не мог.
Толстой наделил своего героя такими качествами, благодаря которым он, согласно концепции писателя, мог достичь совершенства. Это — ни перед чем не останавливающаяся аналитическая способность ума и вера в торжество добра и правды на земле. Левин таким выглядит при своем появлении в романе, таким мы его покидаем и в конце романа. Однако на разных этапах его идейного развития вера в добро и правду находится у него в различных соотношениях с аналитической способностью.
В тот момент, когда он понял, что интересы мужиков «самые справедливые» и при этом не перешел на их сторону, а настаивал на руководящей роли дворянства в русском обществе, — в этот момент в своем жизненном поведении он капитулировал перед беспощадными выводами разума. Левин пытался достигнуть компромисса, захотел примирить непримиримое. Между тем способность на компромиссы была совершенно чужда его натуре, прямой и честной. Убедившись в неосуществимости примирения интересов помещика и крестьянина, Левин, сам того не замечая, переводит вопросы, которые его так мучили, из социального плана в моральный. Так возникает перед ним проблема смысла жизни, проблема смерти и бессмертия. Рассуждения на эту тему были со стороны Левина бессознательной попыткой выйти из того тупика, в котором он оказался. Но он ничего не достиг этим. Те проблемы, на которых он теперь сосредоточил свое главное внимание, обернулись для него также своей трагической стороной. Не решившись сделать определяющих для его жизни выводов, Левин как бы поставил преграду перед своим умом и отдал предпочтение вере. Но сильный и честный ум Левина, так прочно связанный с реальной действительностью, преодолевал преграды, возникавшие перед ним. У постели умирающего брата, Николая, Константин Левин «ужаснулся не столь самой смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что оно такое». Попытка Левина укрыться от самых страшных для него вопросов закончилась крахом. Эти вопросы снова возникали перед ним, хотя и в совершенно другой форме. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в конце концов становится для него проблемой, как дальше жить, как вести хозяйство, как относиться к крестьянам. На все эти вопросы он не находит ответа. И это доводит его до отчаяния. Никогда не утрачиваемая Левиным вера в разумность жизни спасает его от того шага, который был сделан Анной Карениной. Левин решает обратиться за помощью к крестьянину Фоканычу, хочет у него научиться жить. Не найдя выхода с помощью разума, он решил, что сможет найти его с помощью веры, ибо Фоканыч считался праведником.
- 532 -
Мы оставляем Левина на распутье. Но всякому ясно, по какому пути Левин мог бы пойти в дальнейшем — только вместе с народом.
Идейные искания Левина осуществляются в конкретных общественно-исторических условиях. В ту эпоху неблагополучие в стране замечали люди самых разных убеждений, в их числе и либералы. Левин постоянно наблюдал за ними и убеждался на каждом шагу, что они нисколько не заинтересованы в помощи народу. Критика либерализма пронизывает весь роман, начиная от его первых страниц, на которых читатель знакомится с высказываниями Левина о бесплодности и бесполезности земства. Особой остроты эта критика достигает в описании дворянских выборов в городе Кашине. Н. Страхов в письме к Толстому от 16 марта 1877 года, сообщая о том, как в Петербурге встречена «Анна Каренина», отмечал: «...Вам досталось за выборы; как они чутки и обидчивы — удивительно!».1 Страхов имел при этом в виду либеральную печать.
В «Анне Карениной» Толстой разоблачает самый тип психологии либерала как пустослова, как человека, деятельность которого всегда будет бесплодной, потому что он занимается ею формально, не вкладывая в нее никакого личного интереса. А по Левину, человек только тогда добьется чего-либо в жизни, когда он лично заинтересован в том деле, которое делает.
Типичным либералом в «Анне Карениной» выведен «одноутробный брат» Левина — Кознышев. Он много лет работал над книгой и написал никчемное произведение, он охотно рассуждает о народе, совершенно не зная его.
Константин Левин сталкивается не только с реакционерами и либералами, но также с представителями революционной мысли в лице своего брата Николая Левина. Характерно, что по отношению к Сергею Ивановичу Кознышеву Левин чувствует внутреннюю отчужденность, а по отношению к Николаю — глубокую симпатию. Его что-то постоянно влекло к нему, как будто он в чем-то хотел перед ним оправдаться.
Константин Левин во многом близок писателю. Но его нельзя отождествлять с самим Толстым. Толстой не щадит своего любимого героя, всё время выставляет его слабости, особенно главную из них — желание сохранить свои помещичьи привилегии. Недаром Николай Левин бросает брату обвинение в том, что он хочет «балансировать между коммунизмом и определенными формами», что он не просто эксплуатирует мужиков, «а с идеею». Константин Левин чувствовал правду в этих словах.
При всех своих недостатках Константин Левин возвышается над всеми героями романа, в том числе и над своим братом Николаем Левиным. Сила Константина Левина — в его знании народа, в прочной связи с народом. Слабость Николая Левина как представителя крайне радикальной мысли в том, что он не знает народа; отсюда — фантастичность и неосуществимость его социальных проектов. В образе Николая Левина Толстой выразил свою неприязнь к революционным теориям.
Знание народа и прочная связь с народом — вот стимул идейного развития Константина Левина. Естественно поэтому, что в «Анне Карениной» народ изображен довольно широко. Сцены народной жизни, занимающие очень важное место в романе, как правило, связаны с идейными исканиями Левина, и в этом их своеобразие. Толстой не рисует здесь картин нищеты и бесправия народа. Он показывает народ прежде всего со стороны его трудовой деятельности, со стороны его здоровых
- 533 -
нравственных основ. Некоторые исследователи, основываясь на этом, утверждают, что Толстой в «Анне Карениной» идеализирует жизнь крестьянства. При этом «Анне Карениной» противопоставляется поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» как произведение, дающее реалистическую картину жизни русского крестьянства.
Подобный взгляд на роман Толстого является в корне ошибочным. Исследователи, придерживающиеся его, игнорируют своеобразие реализма Толстого, не учитывают того, что основную идейную проблематику он решает в связи с идейными исканиями главных героев. Так, в «Анне Карениной» проблема взаимоотношения помещичьего класса и крестьянства — основная проблема эпохи — находит свое разрешение в образе Константина Левина, на личном опыте убедившегося в фатальной непримиримости интересов помещика и крестьянина и признавшего, что справедливость на стороне последнего.
Показывая непримиримое отношение крестьян к Левину как к помещику, Толстой с громадной силой реализма раскрывает бесправие и нищету крестьян. Субъективно Левин хотел добра своим крестьянам, но всё же он больше заботился о себе, чем о них. И крестьяне это великолепно понимали. Они не верили в благие намерения барина, видя в нем своего угнетателя. Даже Иван-скотник, которого Толстой называет «наивным мужиком», не поддается на уговор Левина «принять с семьей участие в выгодах скотного двора». Когда Левин говорил об этих выгодах, «на лице Ивана выражалась тревога и сожаление, что он не может всего дослушать, и он поспешно находил себе какое-нибудь не терпящее отлагательства дело».
13
Образы Анны и Левина, являясь главными в романе, определили собою и его художественную структуру — сюжет и композицию.
Сюжетом мы называем изображенный в произведении жизненный конфликт — его зарождение (завязка), развитие (включая и моменты кульминации) и разрешение (развязка). В построении сюжета раскрывается мастерство писателя, своеобразие и сила его таланта, характер и широта мировоззрения. По тому, как художник построил сюжет, мы судим о его способности проникать в суть общественных противоречий, ибо последние всегда служат основою сюжета.
Напряженные искания духовно высоко развитой и необычайно требовательной к себе личности — один из самых существенных признаков сюжетного построения крупнейших произведений Толстого, отличающихся глубоким драматизмом. Причем этот драматизм состоит, как правило, не в столкновении антагонистических характеров, а в том, что данный человеческий характер (или в редких случаях — данные) не может примирить достижимого с желаемым. Лучший герой Толстого — максималист в своих требованиях и желаниях, он хочет развить в себе самые высокие человеческие достоинства. Таковы все герои, духовно близкие самому Толстому. Так или иначе, но каждый из них понимает, что образ его жизни находится в противоречии с правдою и справедливостью, и в связи с этим стремится привести свою жизнь в соответствие с требованиями правды и справедливости. Судьею в этом деле он ставит в конечном счете простого человека. Героя Толстого, как видим, можно назвать и человеком, не знающим компромиссов. Он потому-то, в частности, и подвергает себя суду народа, что народ не мирится с компромиссами.
- 534 -
Будучи максималистом в требовании к себе и в постановке цели жизни, лучший герой Толстого не в силах был добиться того, что намечал. И он как человек, не способный идти на компромиссы, оказывался в трагически безысходном положении. Вспомним жизненный путь каждого из тех героев, которые уже назывались здесь, и это станет вполне ясно.
Тот художественный метод, который выработал Толстой, приводил его к величайшим достижениям как в области изображения человеческого характера, так и общественной среды, включая и общественный строй. Предъявив к себе максимальные требования и поставив перед собой условие не идти ни на какие компромиссы, толстовский герой в ходе своих идейно-нравственных исканий всё более убеждался в том, какая страшная пропасть отделяет его от низкой и пошлой среды.
Драматизм сюжетного развития в крупных произведениях Толстого, особенно же в романах, таким образом, выражается одновременно и в противоречиях духовного мира лучших героев, и в их столкновениях с большими общественными кругами.
Лучшие герои Толстого, начиная с Николеньки Иртеньева (автобиографическая трилогия) и кончая Дмитрием Нехлюдовым («Воскресение»), близки самому автору и, следовательно, духовно родственны между собою. Но поскольку каждый из них отражает лишь тот или иной момент в идейно-нравственном развитии писателя, постольку он — вполне самостоятельное лицо, воплотившее в себе черты определенной эпохи. А это значит, что принципы сюжетного построения произведений Толстого, базирующиеся в первую очередь на судьбах главных героев, и сходны между собою, и в то же время оригинальны в каждом отдельном случае.
Можно определенно сказать, что поиски лучшими толстовскими героями выхода из того духовного и нравственного тупика, в котором они оказывались, являются первоосновой в построении крупнейших произведений Толстого. Но это общее начало всякий раз проявляется по-своему. Основой сюжета повести «Казаки» служат духовные искания Оленина, который показан в повести вне типичных для него условий жизни. Сюжетные линии Пьера Безухова и Андрея Болконского, представляющие существенную часть сюжета «Войны и мира», развиваются иначе: оба героя изображаются в постоянном взаимоотношении с обстановкой и людьми их круга. В «Казаках» Толстой интересовался своим героем преимущественно со стороны пересмотра им самим своего собственного духовного мира в сопоставлении с духовным миром простых людей. В «Войне и мире» он уже не ограничивается этим: здесь его интересует также и то, как его герои ищут для себя дела, достойного человека. Из этого следует, что образы главных героев в «Войне и мире» раскрыты глубже, нежели в «Казаках». Более глубокое раскрытие человеческого характера повлекло за собой соответствующие изменения и в принципах построения произведения — положения, полные внутреннего драматизма, сделались неотъемлемой чертой сюжета «Войны и мира». В то время, как Оленин страдает главным образом оттого, что в своем отношении к миру не может достигнуть величия и простоты, свойственных дяде Ерошке, Марьяне и Лукашке, Пьер Безухов и Андрей Болконский наибольшие мучения испытывают от сознания, что общественно-практическая деятельность, оправдывающая высокое назначение человека, остается для них недостижимой.
Драматизм судьбы главных героев «Войны и мира» был значительно превзойден в «Анне Карениной». Стремясь достигнуть гармонии в своем духовном мире и обрести дело, которое возвышает, а не унижает человека, Пьер Безухов и Андрей Болконский оставляли в стороне вопрос об экономических
- 535 -
основаниях своего бытия. Напротив, Константин Левин как раз на решении этого вопроса сосредоточивает свое внимание. Для него найти правду и справедливость — это раньше всего перестроить условия своей жизни таким образом, чтобы можно было чувствовать себя ни в чем не виноватым перед народом. Он потому и поставил перед собою такую цель, что, внимательно наблюдая за жизнью помещика и крестьянина, пришел к выводу, что правда и справедливость на стороне последнего. Как и лучшие герои предшествующих произведений Толстого, Левин не достигает поставленной цели. Это заставляет его еще внимательнее всмотреться в жизнь двух антагонистических классов. И вполне естественно, что вопрос о перестройке собственного хозяйства перерастает для него в вопрос об изменении общественно-экономического устройства всей страны, об ее исторической судьбе. Вследствие этого драматизм его личной судьбы приобретает более напряженный характер.
Константин Левин так же, как и его предшественники, жаждет общественно-практической деятельности на пользу родине, но его мысли на эту тему конкретнее: они прямо и непосредственно связаны с вопросами об «экономической революции». Следует учесть и еще одно обстоятельство. У Пьера Безухова и Андрея Болконского представления о положении в стране и в мире не слиты еще с представлениями о собственном образе жизни, у Константина Левина мы видим полное слияние тех и других. Поэтому, если Пьер Безухов и Андрей Болконский, потерпев неудачу на общественном поприще, могли на время укрыться от «проклятых вопросов» в мире личной жизни, Константин Левин не имел такой возможности.
Острота сюжетного развития в «Анне Карениной» объясняется, таким образом, тем, что в этом романе с небывалой еще для Толстого силой через личные судьбы героев раскрыты существенные противоречия пореформенной эпохи.
Завязка романа концентрируется вокруг проблемы счастья и несчастья в человеческой жизни; эти два подчеркнутых слова употреблены писателем в первых же двух фразах романа. Анна Каренина приезжает из Петербурга в Москву для того, чтобы избавить от несчастья семью Облонских, но узнает здесь, что она сама несчастна. Как человек, жаждущий счастья и в каком-то смысле идущий навстречу ему, она делает несчастной Кити, которая почти в тот же самый момент сделала несчастным Левина. Завязка романа, следовательно, такова: Анна и Вронский, полюбив друг друга, через временное и неполноценное счастье идут к полному и глубокому несчастью; перед Левиным же и Кити, оказавшимися временно несчастными, благодаря цельности и непосредственности их натур открывается путь поисков к завоеванию счастья. Как видим, завязка построена исключительно на столкновении личных стремлений. Стремления, выражающие личные интересы героев, определяют и всё дальнейшее развитие действия в романе. Тем не менее роман насыщен богатейшим общественным содержанием.
Первые встречи Анны и Вронского, когда их отношения еще не определились, были для них наиболее счастливыми. Потом, вплоть до самой смерти Анны, они уже никогда не испытывали такого счастья. Положение их в обществе всё более осложнялось, что приводило к ухудшению отношений между ними.
По-другому складывалась жизнь Левина и Кити. Впервые Левин ощутил личное счастье, лишь вновь встретившись с Кити. Это уже середина романа. В дальнейшем ощущение личного счастья неуклонно росло.
- 536 -
Обе сюжетные линии «Анны Карениной», скрестившись в начале романа, развиваются потом внешне почти независимо одна от другой. Это обстоятельство и поныне порождает недоразумения в литературе о Толстом. Так, например, проф. Б. В. Рождественский в своей недавно опубликованной статье о композиции «Анны Карениной»1 признает композиционное единство романа лишь постольку, поскольку в нем наличествует идеологическое единство. Фактически Рождественский солидаризируется с некоторыми дореволюционными критиками, считавшими, что в «Анне Карениной» не один, а два механическим образом соединенных романа.
Между тем Толстой гордился искусством построения своего романа. В известном письме, которое цитируется и в статье Рождественского, говорится, что своды в романе сделаны так, что их нельзя заметить.
Поставим такой вопрос: возможен ли роман об Анне Карениной без романа о Левине и Кити, или наоборот?
Трагическая тема нарастала в творчестве Толстого с первых его шагов в литературе. Со всей силой она прозвучала в «Войне и мире», свидетельством чему является образ Андрея Болконского, отчасти и Пьера Безухова.
Трагическая тема развивалась у Толстого в двух направлениях: во-первых, как выражение невозможности в условиях того времени для человека с недюжинными способностями и честной мыслью оправдать высокое человеческое назначение; во-вторых, как отражение тех невероятных трудностей, которые возникают перед человеком такого же типа, когда он пытается разобраться в сущности общественных противоречий для того, чтобы определить свою собственную жизненную позицию. Это по сути дела две стороны одной и той же проблемы; первая отражена преимущественно в образе Андрея Болконского, вторая — в образе Пьера.
В отличие от «лишних людей», с которыми они преемственно связаны, герои Толстого близко подходят к тому пути, который открывал выход из тупика. Все упования свои они возлагают на народ. Даже Андрей Болконский при всей его аристократической гордости тянется к народу, чувствуя в нем свое спасение. Но особенно остро это ощущает Пьер.
Рисуя наиболее передовых представителей дворянства, Толстой подчеркивал и то, что положение их является трагическим, и то, что оно не безнадежно, что выход можно найти. Обе эти мысли с одинаковой силой раскрываются в образах Андрея Болконского и Пьера Безухова.
В период, когда создавалась «Анна Каренина», вопрос о поисках недюжинным и честным человеком положительной деятельности в служебных сферах для Толстого уже не стоял. Этот вопрос был уже пройденной ступенью. Тем более очевидным становится трагизм любимого Толстым сильного, честного и богато одаренного человека в обстановке 70-х годов: если у него отсутствовала практическая необходимость в общении с народом, оставалось только одно — искать счастья в личной жизни. Но тут все его надежды были обречены на крушение.
Теперь понятно, почему женщина становится главной героиней романа Толстого. Неуклонно нараставший трагизм мировоззрения великого художника мог именно в женском образе получить наиболее сильное выражение.
- 537 -
Надо сказать, что положительный образ женщины у Толстого исполняет несколько иную роль, нежели во многих выдающихся русских романах, начиная с «Евгения Онегина». У Пушкина, затем у Герцена («Кто виноват?»), Тургенева, Гончарова образ героини, воплощающей в себе черты национального характера, до известной степени выступает укором герою, не оправдавшему ее лучших надежд. У Толстого дело обстоит не совсем так. Его герой имеет в самом себе достаточно твердые национальные опоры, и героиня нисколько не противостоит ему, не предъявляет к нему никаких требований. Но значение ее облика для героя исключительно: то, что она есть, как бы служит ему доказательством того, что тот мир, к которому он так стремится, возможен. В частности, так воспринимается облик Наташи Ростовой Андреем Болконским и Пьером Безуховым.
Образ Кити в соотношении с образом Левина приобретает несколько иной оттенок, хотя положение его в романе аналогично положению Наташи: для Левина Кити то же самое, что Наташа для Андрея Болконского или Пьера Безухова. Сходством и различием между героями «Войны и мира» и героем «Анны Карениной» обусловлено сходство и различие между Наташей и Кити.
Левин одновременно и больше и меньше помещик, чем Андрей Болконский или Пьер Безухов. Для Левина его занятия в поместье — главное жизненное дело, тогда как Андрей и Пьер занимаются этим от случая к случаю. Но именно как деятельный помещик Левин оказывается на грани разрыва с дворянством. Андрей Болконский и Пьер Безухов даже не задумываются над этим.
Идеал Левина двойственен: он и ограничен пределами дворянского мира и далеко выходит за него. Мечты Левина о Кити связаны с первой тенденцией его идеала. Левин представляет себе Кити женой помещика, пусть и самого гуманного. Кити вполне отвечает этим его представлениям. Вот почему ее образ не содержит в себе той силы поэзии, которая свойственна образу Наташи. В этом смысле Анна Каренина ближе к Наташе.
В «Анне Карениной» естественно поэтому образ героини занял господствующее положение. Однако такое же важное место Толстой отвел и герою, тип которого был для него излюбленным. Если бы он этого не сделал, то роман его стал бы не просто трагическим, но трагически безысходным. Между тем 70-е годы, когда писалась «Анна Каренина», характеризовались нарастанием не только трагизма в мировосприятии Толстого, но и страстного стремления найти выход, надежды на то, что это можно сделать. Иначе кризис мировоззрения писателя не завершился бы для него разрывом с помещичьим классом и переходом на сторону патриархального крестьянства.
Образы Анны Карениной и Константина Левина отражают две стороны как в самой действительности того времени, так и в мировоззрении Толстого. Поэтому каждого из них невозможно было создать вне соотношения с другим. Следовательно, сюжетное и композиционное единство романа обнаруживается прежде всего во внутренней взаимосвязи образов главной героини и главного героя.
Судьба Анны, взятая сама по себе, трагически безысходная; трагизм же Левина заключает в себе возможность положительного выхода. В сочетании двух сюжетных линий и обнаруживается мастерство Толстого в построении композиции произведения. Если сюжет исполняет функцию, раскрывающую результаты развития изображаемых конфликтов, то для композиции обязательно также наличие перспективы. Композиция —
- 538 -
более широкое понятие, чем сюжет. Но одно с другим неразрывно связано: композиция — это форма организации сюжета или нескольких сюжетных линий, если перед нами многоплановое произведение.
Строя свой роман на основе двух самостоятельных сюжетных линий, Толстой достигал того результата, что с одинаковой силой и глубиной показывал и трагическую сторону бытия лучших людей из господствующего сословия, и возможность преодоления трагизма путем сближения их с народом. Тем самым композиция его романа отражала реально возможную перспективу движения всей жизни в стране, реальные социально-исторические закономерности. Вместе с тем в романе «Анна Каренина» заключена мысль, что общее благо наступит в результате нравственного самосовершенствования каждой отдельной личности.
Итак, для того чтобы картина жизни, изображаемой в романе, являлась наиболее полной и чтобы художественное раскрытие этой жизни достигало возможно большей глубины, Толстой избирает для своего романа двух равноправных героев, родственных по своей духовной природе, и ставит их в различные жизненные условия. Наличие двух внешне самостоятельных сюжетов сделалось совершенно необходимым. Развитие той и другой сюжетной линии ведет к противоположным результатам. Жизненный путь Анны Карениной характеризуется нарастанием условий, делающих трагедию ее жизни безысходной. Жизненный путь Левина, тяжелый и мучительный, в конце концов подводит его к перспективе перехода из одного социального мира в другой.
Трудности, которые стояли перед ними, имели в конечном счете одни и те же истоки, характеризуя в своей совокупности целый общественный строй, который губил человеческую личность и спасение от которого заключалось лишь в единении с народом.
Соответственно характерам главных героев романа строятся его сюжетные ситуации. Элементам сопоставления, контраста принадлежит здесь существенное место.
Жизненные ситуации, через которые проходит Анна Каренина, обусловлены ее отношением с Вронским, с Карениным и с великосветским обществом.
Встреча с Вронским пробудила в ней жажду личного счастья. Но чем дальше, тем меньше остается у нее доверия к Вронскому как к человеку, с которым она может быть счастлива. Переломной для понимания Анною Вронского является их встреча в саду, которой предшествовали скачки.
Эпизод скачек — один из центральных во всем романе. Сюда стягиваются все нити, сплетение которых определило судьбу Анны. Сцену эту необходимо рассматривать в трех аспектах, выясняя ее значение для развития образов Вронского, Анны и Каренина. Понимая, что положение не может оставаться таким, каким оно сложилось, они ничего не могли предпринять для того, чтобы изменить его. Тут необходимо было постороннее вмешательство. Скачки и сыграли эту роль.
Анне хотелось ясности. Но ясность в отношениях привела к еще большей неясности, запутанности ее положения. В дальнейшем это несоответствие непрерывно нарастало.
Но общее значение эпизода скачек не сводится только к обнажению взаимоотношений между Анной, Вронским и Карениным.
Поскольку в этом эпизоде главное действующее лицо Анна, а не Вронский, в контексте романа скачки воспринимаются как стихийная сила, ломающая жизнь человека. Сцена скачек, да еще несчастливых,
- 539 -
как бы конденсирует в себе ту атмосферу тревоги, которой насыщен весь роман.
Если для Анны происшествие на скачках было стихией, лишившей ее власти над собой, то Каренин воспринял его как позор, обрушившийся на его голову.
Интересно, что Вронский тоже переживает скачки как позор, но совсем по иным причинам. Он всё-таки играет в жизнь, а не живет по-настоящему. Игроком он себя почувствовал и на скачках, которые происходили на глазах у высшего петербургского света, включая и лиц царской фамилии. И игра была проиграна. Поэтому скачки надолго остались «самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни».
Сцена скачек для Анны завершается тяжелым объяснением с Карениным. Назревала необходимость такого же объяснения и с Вронским, но Анну удерживало от разговора с ним ее сложное положение, особенно то, что у нее был сын. Вронский же уклонялся от разговора по другим причинам: он внутренне боялся, что Анна помешает его карьере.
Таким образом, задержка решительного объяснения между Анной и Вронским мотивирована их психологическим состоянием. Наступила своего рода пауза в развитии их отношений, а значит, и удобный момент для возобновления второй сюжетной линии — левинской. Она была прервана в момент отказа Кити Левину. Потом в одной своей части, только левинской, продолжена сценами жизни Левина в деревне.
Второй раз левинская тема возобновляется не прямо, а посредством образа Кити.
Главы, посвященные пребыванию Щербацких на Карлсбадских водах, одновременно служат как бы своеобразной «прокладкой» между контрастирующими темами Анны и Левина.
Такие эпизоды, как косьба Левина с мужиками, потом ночь, проведенная на копне сена в размышлениях о своем прошлом и будущем, о переделке своей жизни по образцу крестьянской, к которой он с такой жадностью присматривался и которая казалась ему такой привлекательной, — эти сцены для романа в целом равнозначны сцене скачек.
Вот вам жизнь и судьба одного и другого героя, которые оба одинаково достойны уважения и сочувствия, — как бы говорит Толстой этими эпизодами. Контраст здесь налицо, но он всё же не бросается в глаза, в нем нет ни нарочитости, ни даже умысла. Всё получилось как бы само собою. Читатель захвачен теми потоками жизни, которые несут одного и другого героя, но несут к разным берегам.
В этом — величайшее искусство Толстого-романиста, замечательного мастера композиции.
Две сюжетные линии, параллельно развивающиеся, в некоторых местах непосредственно или какими-то иными путями пересекаются. Всякий раз это происходит в особенно важные для того или иного сюжета моменты. Так, подобное пересечение сюжетных линий мы наблюдаем в начале романа. Здесь оно прямо и непосредственно. Иной вариант столкновения двух сюжетов представляют собою сцены в доме Облонских, в Москве, когда снова встречаются Левин и Кити и где также присутствует Каренин. Кити и Левин признаются во взаимной любви. А в то же самое время и в том же самом доме Долли уговаривает Каренина не возбуждать против Анны дела о разводе.
К этому времени уже состоялся важный разговор между Анной и Вронским. Это было вечером следующего дня после скачек, но впечатление такое, что скачки были очень давно: промежуток, разделяющий эти
- 540 -
два события, явился значительным и для Анны, и для Вронского. Оба они много пережили и передумали за эти два дня. Но впечатление, о котором только что сказано, усиливается еще тем, что между той и другой сценой в роман властно вошла левинская тема (косьба и ночь на копне). Судьба второго героя оказалась также на перевале. Когда уже было принято решение порвать с прошлым, Левин увидел Кити в промелькнувшей мимо него карете, и прежние мечты и надежды на счастливую семейную жизнь в дворянской усадьбе снова проснулись в нем.
Так оба они — и Анна, и Левин — оказались перед неизвестностью.
Сначала Анна узнала свое будущее. Отправляясь на свидание с Вронским, она не предчувствовала ничего хорошего. Но всё же ей хотелось надеяться на лучшее. Читатель же был уже вполне подготовлен к тому, что произойдет, теми страницами, на которых рассказывается о «стирках» — моральных расчетах, производимых Вронским с самим собою.
Сцена свидания в саду Вреде ничего не решает, она только, так сказать, ставит точки над «и». Всё решилось как бы само собою, без участия и Вронского, и Анны, самими обстоятельствами их жизни.
И чем дальше, тем в большей степени в изображении Анны и Вронского Толстой оттеняет эту сторону. Анна сама понимала, что она ничего не может изменить в своем невыносимом положении. И потому она полагалась на судьбу. Вронский же был бессилен что-либо сделать.
Поведение Левина противоположно поведению Анны. Его можно назвать человеком, который сам кует свое счастье. Когда же у него это не получается, он всё равно не опускает рук. По мере развития действия активное начало в его характере выступает всё более резко.
Казалось бы, что после сцены в саду Вреде возможности для развития характера Анны исчерпаны. Вскоре она заболела, и всё могло закончиться ее смертью.
Вместе с тем путь Левина в романе, казалось бы, можно было бы завершить его женитьбой на Кити.
На самом деле это была лишь середина романа. Если бы здесь было окончание книги, то это означало бы, что все мечты Левина о прелести крестьянской жизни были случайны и временны, что они были порождены лишь неудачей в личной жизни. С другой стороны, такой исход романа мог бы означать, что в трагедии Анны повинен только один Вронский.
Однако впереди была еще вторая половина романа.
Женитьба на Кити теперь явилась для Левина совсем не тем, чем она могла бы стать, когда он делал первый раз ей предложение. За его спиной теперь лежала целая полоса таких трудных и тяжелых духовных испытаний, которых никак не мог зачеркнуть даже счастливый брак. Женитьбой Левин ставил себя лишь в чрезвычайно благоприятные условия личной жизни, но не разрешал тех мучительных вопросов, которые успели возникнуть перед ним. Хозяйство оставалось для него единственным делом жизни, а в нем-то и таились все «проклятые вопросы».
После женитьбы Левина и выздоровления Анны наступил поворот в судьбе героев, в развитии действия в романе. Наметились новые признаки в его построении.
В первой половине романа судьба Анны внешне поставлена почти исключительно в зависимость от ее личных отношений с Карениным и
- 541 -
Вронским. Так в значительной мере ей и самой это представляется. Потом, после болезни и выздоровления, определяющую роль в судьбе ее играла, с одной стороны, окружающая среда со всеми своими пагубными для человека обычаями и нравами и государственные законоположения — с другой.
По-иному складывалась теперь и судьба Левина. Раньше крестьянская жизнь была для него по преимуществу предметом восхищения и любования. После женитьбы он уже не мог так к ней относиться. Раньше он был несчастлив в личной жизни и находил себе утешение, любуясь жизнью крестьянской. Достигнув личного счастья, Левин не утратил интереса к крестьянству. Он даже в первые месяцы после свадьбы не прервал работы над книгой о сельском хозяйстве, а только ослабил ее.
Но вскоре Левин понял, что своим счастливым мирком он не может отгородиться от большого мира, тревоги которого были уже хорошо ему известны. А тут пришло известие о том, что его любимый брат Николай умирает. Смертью брата и начинается второй акт жизненной драмы Константина Левина.
Именно после женитьбы Левин особенно глубоко познает тревоги, волнения и горести мира. У него было всё, чего он желал, но это не давало ему полного счастья; он был счастливым семьянином, но несчастным человеком.
Его отношения с крестьянами приняли деловой характер, утратив свою поэтическую окраску. И на почве деловых отношений возникла та внутренняя драма Левина, которая едва не привела его к самоубийству. Оставаясь всегда неудовлетворенным самим собою, своей неспособностью решить возникшие вопросы, он тут-то и задумался над законами развития человеческого духа, над смыслом жизни и смерти, так как жизнь становилась для него тягостной, а смерть представлялась единственным выходом из создавшегося положения.
Соответственным образом строятся и сюжетные ситуации, относящиеся к Левину периода его семейной жизни.
При всей драматичности или даже трагичности судьбы Левина на этом этапе у него была возможность преодоления всех трудностей.
Явно противопоставляя судьбы героини и героя, Толстой ни в какой мере не хотел этим сказать, что герой прав, а героиня заблуждается. Перед писателем фактически стояла иная задача: во-первых, осудить общественный строй в целом, в условиях которого находились и Анна, и Левин, за то, что он губит в человеке всё человеческое, а если человек найдет в себе силы для сопротивления, то губит его самого; во-вторых, Толстой стремился показать в своем романе такого человека, который, осознав несправедливость своего положения при данном общественном строе, направляет свои усилия на то, чтобы освободиться от него.
Анна защищает свое человеческое достоинство, нисколько не задумываясь о своем общественном положении. Поэтому на нее и обрушивается со всей своей грубой и жестокой силой та машина, которой слепо и безраздельно подчинились люди одного с ней круга, сами став ее составными частями. Левин ничего подобного не испытывает. Его трагизм в том, что он понял несправедливость своего общественного положения и не знает, как сделать, чтобы оно стало справедливым; порожденный общественно-историческими условиями, трагизм Левина по своей форме выражения является по преимуществу трагизмом духа или мировоззрения.
- 542 -
Выше было уже замечено, что в последний период своей жизни, по возвращении из-за границы, Анна постоянно находилась в раздраженном состоянии. Внешней причиной этого был в первую очередь Вронский. В действительности же — и Анна прекрасно знала это — дело обстояло совсем не так. Анна страдала потому, что она всё острее начинала чувствовать, как на нее наваливается какая-то страшная стихийная сила, какая-то машина, против которой человек бессилен и беспомощен. В контексте романа трагедия Анны воспринимается именно как столкновение человека и машины, под колесами которой и гибнет человек. Машиной Анна называет своего мужа, с неменьшим основанием она могла бы назвать машиной ту общественную среду, от которой у нее не было возможности уйти.
Паровоз, под колеса которого бросилась Анна, и символизирует машину, уже до того успевшую раздавить ее жизнь, растоптать ее человеческое достоинство.
Анна сознает это, принимая решение броситься под поезд. Не Вронский, не Каренин занимают ее в последние минуты жизни: она не могла найти примирения с миром, унизившим и смявшим ее.
Ощущение ужаса перед чем-то страшным, железным, механически беспощадным, что должно погубить ее, возникает в сознании Анны в первый момент появления ее в романе, когда, приехав в Москву и не успев еще покинуть вагон, она узнает, что тот самый поезд, на котором она ехала, раздавил человека — железнодорожного сторожа. Потом ей часто снился мужичок, работающий над железом, — и это железо казалось ей предзнаменованием ее трагической гибели.
Начиная с пятой части, сюжетная линия Анны развертывается как приближение неотвратимой катастрофы. То, ради чего она вернулась в Россию, из которой ранее вынуждена была бежать, — свидание с сыном, — было запрещено ей. И не от Каренина исходил этот запрет, а от графини Лидии Ивановны, опиравшейся на авторитет религии, закона, общественного мнения. Вот с какими силами столкнулась Анна! Катастрофа была неизбежна.
Но если свидание с сыном было для нее высочайшим актом материнской любви, не знающей никаких преград, то поездка в театр — это акт отчаяния. Потом, в образцовом поместье Вронского, ничем не напоминавшем Россию, наступает затишье. Отвергнутая обществом, чужая на своей родине, Анна как бы ушла в себя. То было время психологической подготовки к катастрофе. Для этого требовался разлад отношений с Вронским, которого формально ни в чем нельзя было обвинить. Он и после смерти Анны остается верен ее памяти. Свою роль он сыграл до конца. Будь это иначе, сила трагического положения Анны была бы ослаблена. Трагичной кажется фигура самого Вронского, уезжающего на войну, хотя зубная боль и придает его душевным страданиям оттенок искусственности.
Сюжетная линия Левина контрастна по отношению к сюжетной линии Анны в двух отношениях: во-первых, трагизм Левина по форме выражения есть трагизм его собственного духовного мира; во-вторых, он развивается не как безысходный.
Жизнь Левина, ставшего счастливым семьянином, не богата внешними событиями, в ней отсутствуют острые драматические положения, если не считать комической сцены изгнания Васеньки Весловского, особенно резко подчеркивающей левинскую чудаковатость. В противоположность Вронскому, у Левина нет свода правил поведения. Его беспокойная
- 543 -
мысль ищет правды жизни и ее смысла. Не достигая цели, она всегда в разладе с самою собой. Но этот разлад не ведет к катастрофе, так как Левин в своих идейно-нравственных исканиях неизменно опирается на народ.
Духовная жизнь Левина характеризуется наибольшей амплитудой колебания. В Каренине всего лишь один раз пробудился человек. Своеобразным отзвуком был выстрел Вронского, пытавшегося покончить самоубийством. Это, пожалуй, тоже единственный случай нарушения меры поведения, которой умел держаться Вронский. Левин не мог подчинить свои переживания никакой мере. Примечательно, что то чувство, которое можно было назвать восторгом любви, Толстой воплощает в образе Левина, а не Вронского, у которого, казалось бы, ничего не было, кроме страсти к Анне. В описании состояния Левина в то утро, когда он идет делать предложение Кити, Толстой достигает величайшей лирической силы.
Безусловно, к центральным эпизодам сюжетной линии Левина после его женитьбы принадлежат: сцена смерти брата и сцена рождения сына. Эти две сцены — две крайние точки в переживаниях Левина, в колебаниях, характеризующих его духовный мир. У постели умирающего брата, думая над тайной смерти, Левин впал в то состояние, при котором вполне возможна мысль о самоубийстве. Так он зашел в тупик, из которого, казалось бы, не было выхода. Но в тот же час, когда скончался его брат, он узнал о беременности Кити. И к нему вновь вернулась любовь к жизни, подавившая ужас смерти.
Колебания Левина между жизнью и смертью сделаются надолго характерными для него. В них отражается, с одной стороны, его понимание несправедливости своего положения и трудностей разрыва с ним, а с другой — вера в разумность жизни, побеждающей всякие трудности.
Контраст положения главного героя и главной героини с наибольшей силой выражен в седьмой части романа, которая в своей первой половине посвящена преимущественно родам Кити, а во второй — главным образом смерти Анны. Построение этой части — кольцевое, что подчеркнуто начальными и заключительными фразами.
Здесь описана единственная встреча Анны и Левина. Сколько-нибудь основательных внешних причин для нее не было. Облонский пригласил Левина из клуба заехать к его сестре. И Левин охотно принял предложение. Он поехал в дом к Анне не из простого любопытства и не от нечего делать. Со своими строгими понятиями о семейной жизни он не мог не осуждать поведения Анны. Он много слышал о ней, но не знал ее, и когда случай представился встретиться с нею, Левин не мог отказать себе в этом. Он понял и оправдал Анну. Более того, он почувствовал, что Вронский не понимает ее. Ему было и радостно, и страшно с ней. Радость доставляла она как человек редких достоинств, а страшно было оттого, что́ ей сулила ее судьба.
Впечатление Левина от встречи с Анной — это как бы резюме всего сказанного о ней.
Итак, седьмая часть романа начинается с сообщения о предстоящем рождении человека, а кончается смертью главной героини. Тема этой части, стало быть, — тема жизни и смерти. Конечно, это — тема и всего романа. В романе изображается крушение одного общественно-экономического уклада, т. е. крепостничества, и становление другого — капитализма. То, что рушилось, было понятно Толстому, как и Левину, а то, что только укладывалось, было не ясно и для того, и для другого, пугало
- 544 -
их обоих. Капиталистический строй вызывал враждебные чувства в Левине. Крушение крепостничества он понимает как крушение дворянства вообще. В этом — источник трагичности его мировоззрения, причина постоянного обращения к мысли о смерти. И не в растущих капиталистических отношениях черпает он утешение, находит призывы к жизни, а в общении с народом, в уверенности народа в своем будущем.
Последняя, восьмая, часть романа венчает эту тему. Она была необходима, в ней получает свое завершение вся концепция романа. И когда Катков, в журнале которого («Русский вестник») печаталась «Анна Каренина», отказался напечатать восьмую часть, сказав, что со смертью Анны роман кончился, то он этим самым обнаружил свое полное непонимание гениального произведения.
Тема жизни и смерти применительно к «Анне Карениной» может быть истолкована и так, что для таких людей, как Анна и Левин, жить в условиях несправедливого общественного строя — значит всегда стоять перед проблемой жизни и смерти.
В романе «Анна Каренина» смерть всё время идет рядом с жизнью. Но жизнь неизменно берет верх. Ведь и сама Анна решила умереть только потому, что, кроме смерти, у нее не было средства защитить чистоту своей жизни, свое человеческое достоинство.
«Анна Каренина» — роман о людях большой и трудной судьбы, о благородстве и чистоте человеческого сердца, которое хочет только бескомпромиссного счастья, о величии и бесстрашии человеческого ума, способного дойти до истины и признать истину, чего бы это ни стоило. Поэтому «Анна Каренина» — жизнеутверждающий роман.
Произведение, созданное на материале русской действительности, в недрах которой зрела первая русская революция, по своим средствам борьбы явившаяся примером для революционного движения во всех странах, — «Анна Каренина» представляла собою принципиально важный момент в развитии всего мирового реалистического искусства.
14
Перелом в мировоззрении Толстого, определившийся к концу 70-х — началу 80-х годов, был подготовлен всем предшествующим развитием его как художника и мыслителя, его непрерывным и пристальным наблюдением русской дореформенной и пореформенной деревни, интересом и горячей симпатией к жизни народа. Перелом был обусловлен социально-исторической обстановкой пореформенной России: развитием капитализма, невиданным разорением крестьянства и ростом в его среде социального протеста, оскудением дворянства. Глубоко закономерен и тот факт, что перелом произошел в условиях резкого обострения социальных противоречий и назревания в стране революционной ситуации 1879—1881 годов.
Переходный характер пореформенной эпохи, ставшей «перевалом русской истории», был осознан Толстым и со всей отчетливостью выражен в романе «Анна Каренина». Разгоревшаяся в 1877—1878 годах русско-турецкая война потрясла Толстого и обострила его внимание к положению России, углубила размышления о будущем развитии страны. В августе 1877 года Толстой писал Н. Н. Страхову: «...я хотел бы начать свое дело, но не могу от войны. И в дурном и в хорошем расположении духа мысль о войне застилает для меня всё. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой
- 545 -
несостоятельности, которые мне всё становятся яснее и яснее... Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота» (т. 62, стр. 334—335).
Дом Л. Н. Толстого в Хамовническом переулке в Москве. Фотография. 1914.
Толстой с необычайным вниманием следил за совершающимися событиями. Н. Н. Страхова он просил: «Пишите мне, пожалуйста, о том, что делается и говорится в Петербурге. Нет ли книги, в которой бы можно найти описание нынешнего царствования? Или нельзя ли где достать газеты за эти 20 лет?.. Или нет ли журнала, в котором бы были обзоры внутренней политики? Если есть что-нибудь такое, по чем можно бы проследить внутреннюю историю действий правительства и настроений общества за эти 20 лет, то научите меня и даже пришлите» (т. 62, стр. 335).
И несмотря на то, что Толстому вскоре стало ясно, что «эта война, кроме обличения и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, не может иметь последствий» (т. 62, стр. 339), возникшая потребность осмыслить ближайшие 20 лет русской истории, т. е. период, который успела пройти Россия по пути капиталистического развития, не оставляла Толстого и вылилась в желание писать историю царствования Александра II.
Толстой улавливал основной смысл происходящих в стране событий. В 1878 году он писал Н. Н. Страхову: «Засуличевское дело не шутка... Это первые члены из ряда, еще нам непонятного; но это дело важное... это похоже на предвозвестие революции» (т. 62, стр. 411).
Пристальный интерес к самым острым, коренным вопросам социальной жизни России сочетается, однако, у Толстого в эти годы (как и на протяжении всего творческого пути писателя, особенно же после перелома в мировоззрении) с поисками решения поднятых им вопросов в отвлеченных истинах морали, религии, философии. Не случайно, оставив статью
- 546 -
о царствовании Александра II, Толстой перешел к работам религиозного характера, к «горячим, страстным» поискам «смысла своей жизни» (т. 62, стр. 184), о которых он рассказал в начатой в 1879 году «Исповеди».
Коренной перелом в социальных взглядах писателя, сопровождавшийся оформлением религиозно-этического учения, — таково содержание и смысл идейного переворота, пережитого Толстым.
Спустя много лет, в 1906 году, Толстой писал об этом переломе в своих взглядах: «Удивление и ужас перед зверством людей я испытал 25 лет тому назад, когда во мне произошел тот душевный переворот, который открыл мне смысл и назначение нашей истинной жизни и всю преступность, жестокость, мерзость той жизни, которую мы ведем, люди богатых классов, строя наше глупое матерьяльное внешнее благополучие на страданиях, забитости, унижении наших братий» (т. 76, стр. 75—76).
Начиная с 80-х годов, Толстой и в своем художественном творчестве и в публицистике становится беспощадным обличителем всех порядков помещичье-буржуазной России, которые он изображает и оценивает с точки зрения интересов многомиллионной массы русского патриархального крестьянства. В этом главная отличительная черта позднего творчества Толстого, позволяющая рассматривать его как новый, качественно отличный от предшествующего, период в творчестве писателя.
В произведениях, созданных после перелома, с особой силой проявились бурный протест «против всякого классового господства»,1 «беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс...».2
В то же время взгляды Толстого в поздний период его творчества отразили политическую отсталость крестьянства.
Кричащие противоречия в произведениях, взглядах, учении позднего Толстого — отражение силы и слабости, глубины и ограниченности «именно крестьянского массового движения».3
Определяющее воздействие на творчество позднего Толстого патриархально-крестьянской идеологии не исключает его связи с настроениями «различных классов и различных слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную эпоху».4
Недаром Ленин, характеризуя учение Толстого, упоминает о помещике, юродствующем во Христе, и истасканном, истеричном хлюпике, называемом русским интеллигентом.
Однако существо мировоззрения и творческих устремлений позднего Толстого определяется именно его прочной связью с идеологией и жизненными позициями русского крестьянства в период подготовки буржуазно-демократической революции в России. «Толстой велик, — писал Ленин, — как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции».5
- 547 -
Особый интерес представляет проблема эволюции взглядов и творчества Толстого в 1880—1900-е годы.
Основываясь на личных наблюдениях, В. Г. Короленко писал: «Я видел Льва Николаевича Толстого только три раза в жизни. В первый раз это было в 1886 году. Второй — в 1902 и в последний — за три месяца до его смерти. Значит, я видел его в начале последнего периода его жизни, когда Толстой — великий художник, автор „Войны и мира“ и „Анны Карениной“ — превратился в анархиста, проповедника новой веры и непротивления; потом я видел его на распутье, когда, казалось, он был готов еще раз усомниться и отойти от всего, что нашел и что проповедывал: от анархизма и от непротивления. Наконец, в третий раз я говорил с великим искателем у самого конца его жизненного пути и опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное... Каждый раз впечатление другое: точно это три разных снимка, и только в конце они сливаются в один образ великой человеческой личности».1
Эволюция в мировоззрении и творчестве позднего Толстого неразрывно связана с историей общественного развития России этого времени, историей революционного движения и участия в нем русского крестьянства.
В 80-е годы, в тяжких условиях подполья, в России зарождался марксизм, вырабатывались теоретические основы революционного движения широких народных масс. Еще не было массового революционного движения, но неизбежность его появления ощущалась в росте пролетариата как класса и в первых его выступлениях. В среде крестьянства зрели недовольство и протест.
В этих условиях Толстой, отражая настроения многомиллионного патриархального крестьянства, резко критикует основы помещичье-капиталистического строя: частную собственность, буржуазную лживую мораль, разложившиеся семейные устои, жажду капиталистической наживы, агрессию и милитаризм. С другой стороны, в 80-е годы Толстой особенно настойчиво проповедует непротивление злу насилием, христианскую любовь как единственные, по его мнению, средства общественного переустройства. Именно в эти годы создает он свои «народные рассказы».
Начиная с середины 90-х годов, в революционное движение вовлекаются широкие народные массы, возрастает их социальный протест. Критический пафос в творчестве Толстого в это время резко повысился. Проблема морального «просветления» героя, представителя привилегированных классов, занимавшая такое важное место в произведениях Толстого 80-х годов, объективно оттесняется в эти годы, и даже в романе, названном «Воскресение» (1889—1899), на второй план.2
В высшей степени показательным является тот факт, что в условиях общедемократического подъема в стране накануне первой русской революции, под влиянием возросшего революционного движения и вовлечения в него широких народных масс, Толстой сделал революционеров предметом художественного изображения (роман «Воскресение», рассказ «Божеское и человеческое»). Отрицая, как и прежде, целесообразность «насильственного», революционного действия, Толстой, вместе с тем, открыто высказывает свое сочувствие революционерам.
- 548 -
Во второй половине 90-х и начале 900-х годов в произведениях, дневниках и письмах Толстого нередко оправдывается борьба, активное вмешательство в жизнь, чаще возникают сомнения в том, что непротивление и христианская любовь — действительные средства переустройства жизни. Страстная критика ухода от жизни, монастырского затворничества в «Отце Сергии» в известной мере направлена и против религиозно-нравственного учения самого Толстого, которое тоже было уходом от действительной жизни, кипящей в ней борьбы. В отличие от повестей 80-х годов и даже романа «Воскресение», Толстой в начале 900-х годов создает в числе других произведения, в которых поведение главного героя, изображаемого с безусловным авторским сочувствием, не является иллюстрацией толстовских идей самоусовершенствования и непротивления, но, напротив, отрицает догму толстовского учения, утверждает «настоящую», деятельную жизнь: Хаджи-Мурат в одноименной повести, Альбина и Иосиф Мигурские в рассказе «За что?». В созданной в этот период драме «Живой труп» писатель сочувствует Федору Протасову, хотя его жизнь и поступки во многом находятся в противоречии с учением, которое продолжает проповедовать в своих публицистических статьях Толстой.
Не случайно накануне и во время первой русской революции у Толстого вновь пробуждается интерес к истории декабристов, к борьбе поляков и кавказских горцев против самодержавного деспотизма. Беспощадно обличая монархию Николая I, объективно Толстой боролся с самодержавием Николая II; высказывая глубокие симпатии, искреннее сочувствие декабристам и полякам, повстанцам 1831 года, он в какой-то мере оправдывал людей, протестовавших против помещичье-капиталистических порядков царской России в конце XIX — начале XX века.
Однако Толстой не понял революции 1905 года. Он отстранился от нее и не понял ее исторического значения как непротивленец, который выражал в своих взглядах настроения отсталого патриархального крестьянства. Параллельно со статьей «Обращение к русским людям: к правительству, революционерам и народу» (1905—1906) Толстой создает и художественные произведения, выражающие те же самые идеи. Разгоревшейся во время революции классовой борьбе он противопоставляет требование «добрых», незлобивых личных отношений («Корней Васильев»); жестокой и бесплодной, с его точки зрения, революционной «насильственной» деятельности — «истину» об «агнце», который победит всех («Божеское и человеческое»), а царю советует вместо расправы с революционным движением добровольно отказаться от власти и связанного с ней «греха» («Посмертные записки старца Федора Кузмича»).
Во время революционной борьбы 1905—1907 годов «великорусский мужик начал... становиться демократом, начал свергать попа и помещика»,1 революцией был нанесен «смертельный удар... прежней рыхлости и дряблости масс».2 И потому в эти годы проповедь «толстовства» приобретала всё более реакционный смысл, принося, по словам Ленина, «самый непосредственный и самый глубокий вред»3 революционному движению. 1905 год принес с собой исторический крах толстовщине.
С историческим крахом толстовщины связано начало последнего этапа в творчестве позднего Толстого.
- 549 -
Большинство своих произведений 1907—1910 годов Толстой посвящает самой злободневной теме русской жизни: народ осознает свое угнетенное положение, готов открыто протестовать против угнетения; люди из народа все шире вовлекаются в революционное движение. Продолжая и в эти годы обличать эксплуататорский строй самодержавной России, принявший особенно уродливо жестокие формы в условиях столыпинского режима, Толстой показывает, что бедность, унижение, забитость народа достигли крайнего предела и, вопреки своему принципу отрицания всякого насилия, приходит к выводу, что «простительна жестокость и безумие революционеров» (т. 57, стр. 82).
Как и раньше, Толстой не приемлет революционный путь избавления от зол существующего общественного устройства. Непротивление злу насилием и нравственное самоусовершенствование и теперь, после революционных событий 1905—1907 годов, он пытается утвердить как «единственное средство» спасения от всех социальных бедствий.
Однако реальная действительность, которую зорко видит и чутко воспринимает великий писатель, разбивает его утешительные, но ложные идеалы. В этих условиях Толстой в конце концов приходит к пессимистическому для себя и своей философии выводу и записывает в дневнике в 1909 году: «Главное же, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр.» (т. 57, стр. 200). В своих дневниках последних лет жизни Толстой часто выражает неудовлетворенность тем, что он пишет, так как ему нередко кажется, что «все это старое, старое» и, главное, не имеющее воздействия на окружающую его действительность.
Таковы в общих чертах содержание и эволюция мировоззрения и творчества Толстого в течение 1880—1910 годов.
15
В начале 80-х годов вполне определился сложный процесс формирования новых политических, философских и эстетических взглядов Толстого. Разрыв с окружающей писателя барской средой из года в год становился все «больше и решительнее» (т. 63, стр. 76). Осуждение существующих порядков после перелома в мировоззрении становится более глубоким. Об этом сам Толстой писал А. А. Толстой 28 мая 1884 года: «...нельзя знать это <правительственные насилия> и быть спокойным. Когда я был молод и не знал, я негодовал и осуждал, теперь я ищу понять, чего это требует от меня, что̀ я должен делать? А я должен что-то делать!» (т. 63, стр. 172).
Как писатель Толстой считает, что его литературная деятельность должна быть целиком поставлена на защиту интересов народа. Требование это определило характер всего позднейшего творчества Толстого, его обличительную направленность, с одной стороны, и моралистически религиозные тенденции (поскольку писатель не смог в силу ограниченности своего мировоззрения найти верный ответ на вопрос: какое же искусство подлинно нужно народу?) — с другой.
Работа над религиозно-философскими трактатами («Исповедь», «В чем моя вера?» и др.) хотя и занимала Толстого в 1880—1884 годах более всего, не могла целиком захватить его. Он постоянно думал о создании новых художественных произведений. В ноябре 1881 года Толстой, перечисляя людей, разделявших его религиозно-нравственное учение, пишет В. И. Алексееву: «Ну казалось бы хорошо. Кроме того пишу рассказы, в которых хочу выразить мои мысли. Казалось бы хорошо, но нет,
- 550 -
нет спокойствия. Торжество, равнодушие, приличие, привычность зла и обмана давят» (т. 63, стр. 81). Мысль, что еще не начата «настоящая» работа, не оставляла всё это время Толстого. Тревога из года в год продолжала нарастать. «Живая жизнь» разрушала искусно выстроенные логические построения, властно приковывала к себе внимание, заставляла бороться с ее неустройством самым сильным в руках писателя оружием — оружием художественного слова. 3 марта 1882 года Толстой писал жене: «Может быть, это мечты и загадыванья ослабевающего, но приходят все в голову мысли о поэтической работе» (т. 83, стр. 324).
В том же 1882 году, напряженно работая над трактатом «Так что же нам делать?», Толстой начинает рассказ «Жил в селе человек праведный» и задумывает написать «Смерть судьи» (будущая «Смерть Ивана Ильича»). В 1882 году писатель как о пережитом и преодоленном говорил о своем суждении, что искусство — вообще ложь, выдумка, «огромное зло, — зло, возведенное в систему» (т. 30, стр. 211). Создавая «Так что же нам делать?», Толстой вплотную подошел к реалистическому художественному творчеству, в котором обличительная тенденция стала преобладающей. Можно согласиться с высказыванием Р. Роллана об этом трактате: «„Так что же нам делать?“ — это первый этап на тяжелом пути, по которому направился Толстой, покинув ради общественной борьбы относительный покой своих религиозных размышлений».1 Многочисленные зарисовки, описания, эпизоды, внесенные в трактат (описание Ржанова дома и разговоров с его обитателями, встречи с девочкой-проституткой, смерти прачки), принадлежат к высокохудожественным страницам прозы позднего Толстого.
Начиная с 80-х годов для Толстого становится очень характерной не только тесная связь, но и взаимопроникновение публицистики и художественного творчества. Не случайно такая большая близость чувствуется при сопоставлении «Так что же нам делать?» и повестей, создававшихся одновременно с трактатом («Холстомер», «Смерть Ивана Ильича»).
Объявляя войну существующему строю, Толстой отрицает самую прочную и косную основу его — частную собственность. В декабре 1884 года он писал В. И. Алексееву: «Собственность есть самый прочный и страшный соблазн — я постоянно о нем думаю и борюсь с его хитростями. Мне кажется, что против этого соблазна и всех бесконечных усложнений, связанных с ним, есть только одно средство: совершенное непризнавание его в принципе... Я теперь печатаю статью (ее не пропустят) о собственности и не переставая думаю об этом. Я написал неверно, что есть средство. Средства нет и не может быть против соблазна, против фикции, кроме ясного отрицания и доведения этого отрицания до последних выводов без всяких компромиссов, по-русски, без лжи» (т. 63, стр. 195—196). Упоминаемая здесь статья — трактат «Так что же нам делать?». Рассуждения о собственности занимают в ней много страниц; отрицание права собственности составляет и пафос рассказа «Холстомер».
Перечитав в 1885 году в значительной своей части уже написанный в 1863 году рассказ «Холстомер», Толстой принялся за переделку его. Переделка коснулась самой сущности рассказа.
Рукописи 60-х годов свидетельствуют, что обличение частной собственности не составляло тогда ведущей мысли этого произведения. «История лошади», вся жизнь которой — следование естественным велениям природы, была для Толстого в эту пору благодарным сюжетом для произведения, построенного на противопоставлении природы и цивилизации.
- 551 -
В результате многочисленных изменений, сделанных в тексте рассказа в 1885 году, он занял место в ряду социально-обличительных произведений Толстого 80-х годов; основной его задачей стало доказательство губительности института частной собственности как для ее жертв (Холстомер), так и для самих собственников (Серпуховской, молодой хозяин конного завода, его любовница).
В 60-е годы доказывалась странность и неестественность поведения людей, любящих называть вещи и даже живые существа «своими» и распоряжаться ими по своему произволу; в редакции 1885 года подчеркивается преступность, жестокость права собственности (само понятие «собственность» вводится в «рассуждения» Холстомера только в 80-е годы); дается моральная оценка «странных свойств» людей называть вещи своими, и сами эти «свойства» расцениваются теперь как «низкий животный инстинкт».
В редакциях 60-х годов выдвигалась мысль об условности права называть что-либо своим, о том, что преимущественное положение одного существа перед другим достигается не богатством, а прирожденными свойствами и здоровыми условиями естественной жизни. В редакциях 1885 года появилась характерная для позднего Толстого социально-нравственная оценка взаимоотношений собственника и его собственности.
По мере работы Толстого над рассказом всё расширялись и углублялись рассуждения Холстомера о собственности, усиливался их публицистический тон, всё больше подчеркивалась обусловленность всех человеческих отношений правом собственности.1 Обличительный пафос сообщил большую эмоциональность и драматичность рассказу о злоключениях Холстомера.
При переработке рассказа в 1885 году Толстой последовательно усиливал эпизоды, показывающие, как все хозяева мучили и калечили Холстомера. Особенно это относится к одному из центральных моментов произведения — рассказу о пребывании Холстомера у гусарского офицера Серпуховского. Время, проведенное у Серпуховского, как в первоначальной, так и в окончательной редакциях, — самое светлое воспоминание Холстомера. Но если раньше писатель до некоторой степени любовался бесшабашной, удалой жизнью красавца-гусара, то исправления и дополнения, сделанные в 80-е годы, служат иной цели — показать, что Холстомера погубили именно здесь, ибо в безнравственных условиях жизни нельзя не погибнуть. С особенной резкостью обличение жизни Серпуховского было развито Толстым в заключительных главах рассказа, где изображена «грязная старость» этого человека.
Обличительная тенденция пронизывает в редакциях 80-х годов все описания, связанные с Серпуховским и молодым хозяином конного завода, к которому заехал Серпуховской. Как при упоминании о Серпуховском постоянно повторяется эпитет «обрюзгший», так в изображении одежды и домашней обстановки хозяина конного завода неизбежно присутствует эпитет «дорогой» — синоним внешнего блеска и внутренней пустоты.
По замыслу 60-х годов, Серпуховской — опустившийся, но жалкий и трогательный бывший повеса. Он обеспокоен, как бы молодой хозяин, бестактно предлагающий ему кучу сигар, не подумал, что у него нет таких хороших сигар; с горечью вспоминает о былой роскошной, привольной
- 552 -
жизни, хвалится Холстомером, вспоминает, что разбил его; оказавшись в неудобном положении, краснеет, теряет нить разговора.
Зачеркнув написанное ранее, Толстой в редакции 1885 года в ином свете представляет взаимоотношения Серпуховского и молодого хозяина. Описание становится обличительным. Каждый из них обеспокоен одним: побольше похвастаться — один своим заводом, другой — былой разгульной жизнью.
По замыслу 60-х годов, Серпуховской стыдится своего положения. Оставшись один после ужина и разговора с хозяином, он в спальне «ходил взад и вперед. — Я подлец, застрелиться. Нет... водки...».
В редакциях 1885 года исчезают и эти незначительные проблески осознания постыдности своего существования:
«Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.
«Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал. — То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! — Однако раздеться, сапоги не снимешь.
«— Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.
«Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости» (т. 26, стр. 34—35).
Публицистический пафос, морализующая и обличительная тенденции в завершающем «Историю лошади» рассказе о смерти Холстомера и Серпуховского чрезвычайно близко примыкают к содержанию и тону других произведений Толстого, созданных в 80-е годы.
Особо следует отметить неуклонное стремление писателя подчеркнуть красоту, силу, правоту, трудолюбие, полезность для людей жизни «Мужика 1-го» — Холстомера и сгустить темные краски в картине праздной, бессмысленной и безнравственной барской жизни, с которой срываются прикрывающие ее пустоту и преступность «все и всяческие маски».
Всё произведение построено на системе контрастов, выполняющих социально-обличительную функцию — основную в творчестве Толстого позднего периода.
В «Холстомере» впервые применен Толстым для произведения в целом художественный прием, который станет типичным для всего творчества позднего периода: освещение всех событий с точки зрения персонажа, наблюдающего их как бы со стороны и потому могущего распознать скрытую от других сущность их (в «Записках сумасшедшего» — психически ненормального, в «Смерти Ивана Ильича» — умирающего в мучениях человека, в «Крейцеровой сонате» — человека, потрясенного происшедшей в его жизни драмой, в «Воскресении» — порвавшего со своей средой дворянина и т. д.).
Через «удивление» лошади Толстой выражает в «Холстомере» отрицание тех установлений, на которых покоится жизнь Серпуховского и людей его круга.
Слабая сторона взглядов Толстого, окончательно определившаяся после перелома в его мировоззрении, отразилась в рассказе в апологии покорности, смирения, терпеливости Холстомера, которому «не новость страдать для удовольствия других».
- 553 -
Повести «Смерть Ивана Ильича» (1884—1886) принадлежит центральное место в творчестве Толстого 80-х годов.
Тему «Смерти Ивана Ильича» — описание смерти судьи — Толстой определил как описание «простой смерти простого человека» (т. 63, стр. 282). В повести точно воспроизводятся все особенности течения болезни и смерти Ивана Ильича. Картина болезни «до того ясна», что «не может быть и двух мнений по поводу характера заболевания», — писал по поводу «Смерти Ивана Ильича» врач, профессор Лидский.1 Основной смысл и значение повести, однако, не в этой точности описания. Важно другое. Ужас смерти заставляет Ивана Ильича задуматься о смысле прожитой жизни, и он приходит к выводу, что его «приличная, веселая, приятная жизнь» — больший ужас, нежели ужас смерти. Смерть — освобождение от этого ужаса жизни.
Драма сливается в «Смерти Ивана Ильича» с разоблачением, сатирой, так как вся логика повествования раскрывает подлинные, а не случайные, внешние причины страданий Ивана Ильича.
Общественные установления, опутывающие жизнь человека паутиной лицемерия и лжи, вытравляющие из нее всё человеческое, — вот истинная причина драмы Ивана Ильича. В этой глубокой и конкретно-исторической постановке вопроса — источник разоблачительной и обобщающей силы повести, ставшей замечательным произведением мировой реалистической литературы. Недаром В. В. Стасов, восторженно отзываясь о повести, писал Толстому: «...ничего подобного я в жизнь свою не читал. Ни у одного народа, нигде на свете нет такого гениального создания... И я себе сказал: Вот, наконец, настоящее искусство, правда и жизнь настоящая».2 Словом «настоящее» Стасов, безусловно, хотел подчеркнуть воинствующий реализм, обличительную направленность повести «Смерть Ивана Ильича».
В «Смерти Ивана Ильича» поставлена проблема, которая занимает ведущее место в творчестве позднего Толстого: перерождение человека из привилегированных классов, познавшего социальную несправедливость и моральную низость, лживость окружающей его жизни.
По убеждению Толстого, представитель господствующих классов (будь он товарищ прокурора Иван Ильич, купец Брехунов или дворянин Нехлюдов) может начать «истинную жизнь» лишь тогда, когда он осознает, что вся его прошедшая жизнь была «не то».
В обрисовке этого разрыва с привычными взглядами социальной среды со всей резкостью обнаружились «кричащие противоречия» взглядов Толстого. С одной стороны, именно «просветлевший» герой, порвав со своим классом, видит всю фальшь, порочность и жестокость существующих отношений между людьми. С другой — в показе этого «просветления» явственно видна попытка писателя свести глубоко и верно поставленный вопрос — о недопустимости основанного на всеобщей лжи и насилии общественного строя — к необходимости нравственного «воскресения», морального самоусовершенствования, добровольного отказа от привилегированного господского положения. Попытка разрешать социально-политический вопрос только в этическом плане — утопична и глубоко реакционна.
Социально-обличительная направленность и моралистическая тенденция определили характер типизации образов в произведениях, созданных после перелома, в частности, в «Смерти Ивана Ильича».
- 554 -
Главные герои произведений позднего Толстого — Иван Ильич, Позднышев, Иртенев, Брехунов, Нехлюдов — обыкновенные люди. Эту обыкновенность их, обычность их жизни, похожей на жизнь многих людей, писатель многократно подчеркивает. С самого начала повести «Смерть Ивана Ильича» Толстой указывает, что тема ее — описание жизни и смерти обыкновенного человека, каких много, каковы все, всегда, везде. «Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы»; «как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого» (т. 26, стр. 64); «прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная». Иван Ильич — самый обыкновенный, рядовой человек, ничем не выделявшийся из своего круга. Он, как и все чиновники, «очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность»; в отношении к семье, как и все чиновники, он также скоро решил, что «для того, чтобы исполнять свой долг, т. е. вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе» (т. 26, стр. 72, 74). Поведение второстепенных персонажей в повести (Петра Ивановича, Шебека и др.) лишний раз подчеркивает типические черты прошлой (до болезни) жизни самого Ивана Ильича.
И вот такого обычного во всех отношениях человека писатель ставит в драматическое, внешне случайное, «исключительное» положение: Иван Ильич преждевременно и мучительно умирает из-за случайного ушиба. В рассказе «Хозяин и работник» Брехунов замерзает, случайно попав в метель. Так же внешне случайно становится убийцей жены Позднышев. Жизнь князя Нехлюдова становится необычайной после его случайной встречи на суде с жертвой его юношеского увлечения. Эпизод, рассказанный в «После бала», также выглядит внешне случайным. Герой рассказа так и заявляет: «Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я говорю, что все дело в случае» (т. 34, стр. 116).
Исключительное положение, в которое ставятся герои поздних произведений Толстого, необходимо автору для того, чтобы они по-новому осмыслили свою прежнюю жизнь, поняли ее ложь и обман. Ведь не случись с Иваном Ильичом его страшной болезни и смерти, он так и прожил бы до старости «приятно», «легко» и «прилично», а потом спокойно бы умер с сознанием, что он жил так, как следует, ибо делал все с одобрения «наивысше поставленных людей».
Эту невозможность для людей круга Ивана Ильича в обычном состоянии понять не только весь ужас своей бессмысленной, бесцельной жизни, но даже всерьез представить собственную смерть и предсмертные страдания Толстой прекрасно изобразил в эпизоде, когда Петр Иванович, слушая рассказ Прасковьи Федоровны о страданиях Ивана Ильича, вдруг ужаснулся, но очень скоро отогнал мрачные мысли, «как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему» (т. 26, стр. 67).
«Исключительность» положения главного героя произведения не только не препятствует, но способствует трезво реалистическому изображению окружающих его типических обстоятельств.
«Исключительное положение» героя необходимо, однако, художнику не только для раскрытия всех противоречий реальной действительности, но
- 555 -
и для утверждения, что спасение от этих противоречий, от всего социального зла окружающей героя жизни — в нравственном «просветлении». Отсюда своеобразие идейно-художественной структуры произведений Толстого.
В «Смерти Ивана Ильича» отчетливо выявились отличительные особенности композиционного построения поздних произведений Толстого.
Резкая заостренность социально-этического конфликта — основная черта этих произведений. Именно поэтому для их сюжета и композиции характерны драматизм, напряженность. Справедливо замечание Р. Роллана: «Форма драмы овладела в эту пору его <Толстого> творческой мыслью. „Смерть Ивана Ильича“ и „Крейцерова соната“ — это настоящие драмы, внутренне сжатые, сосредоточенные».1
Как при переработке «Холстомера» в 80-е годы Толстой стремился исключить или сократить эпизоды, лишь косвенно связанные с историей Холстомера, так и при работе над «Смертью Ивана Ильича» были опущены все первоначально включенные в повесть эпизоды, не касающиеся самого героя повести (рассказ о смерти отца Ивана Ильича и др.).
Дополнительные эпизоды Толстой вводил при работе над повестью обычно лишь с обличительными целями. Так, устранив главу, в которой изображалось, как вдову Ивана Ильича посетил друг покойного, получающий из ее рук предсмертный дневник ее мужа, Толстой сохранил эпизод с визитом Петра Ивановича к Прасковье Федоровне не только для «вступления, как бы ввода читателя», а главным образом для разоблачения всей обстановки лицемерия и лжи, окружавшей Ивана Ильича. Дополнительные эпизоды и лица, вводимые в повесть с разоблачительными целями, обычно включаются по методу контраста и таким образом органически связываются со всей тканью повествования.
Противопоставление — излюбленный композиционный прием позднего Толстого. Композиция «Смерти Ивана Ильича» целиком построена на контрастах. Петр Иванович и Прасковья Федоровна с их привычной ложью противопоставляются Ивану Ильичу, которого сильнее всего мучила ложь вокруг него и в нем, и Герасиму, единственному человеку, жалевшему больного барина. Мучительному умиранию Ивана Ильича противопоставляется отношение окружающих к его болезни и смерти. Выражение лица мертвого Ивана Ильича противопоставляется игривому взгляду Шварца, который «стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям» (т. 26, стр. 64). Сами описания поступков действующих лиц даются в их контрастном сопоставлении: «Вошла дочь, разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его» (т. 26, стр. 104).
Стремление Толстого при изображении развития человеческого характера показать изменения, часто существенные, происшедшие в нем (Оленин, князь Андрей, Пьер, Наташа, Анна Каренина и др.), в поздний период творчества превращается в показ такого решительного переворота в сознании героя, который не оставляет ничего общего с тем, что было до переворота. Чтобы совершился этот переворот, нужна катастрофа. Именно поэтому катастрофа — необходимое условие композиционного построения всех поздних вещей Толстого. Катастрофа служит тем толчком, от которого пробуждается человек. Пробуждение его длится часто долго, в процессе мучительной борьбы, но завершается всегда «просветлением».
- 556 -
Предистория мало интересует писателя и занимает небольшую часть произведения. Дается эта предистория обычно в авторском кратком пересказе. В центре внимания писателя — душевная жизнь героя, осудившего свою прошлую жизнь, и его взаимоотношения с окружающей средой.
В композиции «Смерти Ивана Ильича», как во всех почти произведениях позднего Толстого, сказалось стремление писателя строить сюжет не в соответствии с последовательным развитием событий, но умышленно нарушая хронологический принцип. «Смерть Ивана Ильича» начинается по существу с конца — описания впечатления, произведенного смертью Ивана Ильича на сослуживцев. («Крейцерова соната» начинается с заявления об убийстве жены, а потом только выясняются причины и обстоятельства убийства; «Воскресение» — со сцены суда, а потом излагаются обстоятельства, приведшие Катюшу Маслову и Нехлюдова в заседание суда.)
Отмеченное композиционное построение — характерная черта художественной манеры именно позднего Толстого. Нарушение последовательности событий позволяет писателю рассказ о предшествующем осветить отблесками картины, рисующей социальные последствия происшедшего. А ведь именно социальные последствия поступков персонажей прежде всего интересуют позднего Толстого, поскольку в центре внимания писателя не столько развитие и формирование характера, сколько определенная общественная ситуация.
Толстой остается в поздних произведениях непревзойденным мастером раскрытия «диалектики души». Непременно присутствующая в каждом из произведений позднего периода этическая оценка происходящей в сознании и поведении героя борьбы свидетельствует не только о сохранении, но и об усилении «чистоты нравственного чувства», которую отмечал Н. Г. Чернышевский, анализируя первые повести и рассказы Толстого.
Однако мастерство психологического анализа приобрело в произведениях позднего Толстого много новых черт.
Мельчайшие подробности, необходимые для точного воспроизведения всего хода переживаний, сменяются теперь показом основных моментов, стадий психического процесса, его опорных точек, по которым можно было бы судить об основном его содержании, его силе и возможном исходе. Именно поэтому психологический анализ в произведениях позднего Толстого, во-первых, сдержаннее, лаконичнее и, во-вторых, драматичнее.
Именно оттого, что только напряженная душевная борьба, происходящая в сознании человека и приводящая его к коренному перелому, интересует позднего Толстого, только основные герои, т. е. один-два персонажа, бывают психологически раскрыты. В других случаях Толстой обращается к психологическим зарисовкам (а не к развернутому анализу) почти исключительно с разоблачительной целью: показать несоответствие внутреннего чувства или мысли с внешним их выражением.
В «Смерти Ивана Ильича» «разговор чувств», невысказываемый разговор, вводится с единственной целью — передать ложь окружающей Ивана Ильича жизни. Лгут все окружающие Ивана Ильича, лжет он сам, потому что трудно нарушить обстановку привычной лжи.
Характерно, как показывает Толстой восприятие известия о смерти Ивана Ильича его сослуживцами. Первой мыслью каждого из них было соображение о возможных перемещениях по службе. Все думают об этом, и никто не говорит. С беспощадностью раскрывает Толстой эту противоположность внутренних соображений и внешних высказываний.
- 557 -
«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, — подумал Петр Иванович. — Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных.
«— Я так и думал, что ему не подняться, — вслух сказал Петр Иванович. — Жалко» (т. 26, стр. 62).
Истолкование взглядов, жестов в «Смерти Ивана Ильича» призвано не объяснить невыразимое словами, а разоблачить ложь не только слов, но и всего поведения, взглядов, жестов.
Изображая общество, где всякий носит маску, писатель раскрывает не столько разнообразие этих масок, сколько общее, типическое в них и подлинную сущность того, что маска прикрывает. Все персонажи повести не живут, не чувствуют, не действуют, а «делают вид». Это всеобщее однообразие лжи, «деланье вида» Толстой разоблачает последовательно и беспощадно на протяжении всей повести. Интересно отметить, что описание «вида»-маски часто заменяет характеристику портрета или сопутствует ей.
Всё человеческое вытравлено в этой среде, где отношения определяются узко эгоистическими интересами. «Как всегда», радуясь, «что умер он, а не они», выражают сослуживцы соболезнование жене умершего.
В изображении Толстого и семейные отношения так же лживы, как и служебные. Детально выписанная сцена разговора Прасковьи Федоровны с Петром Ивановичем с предельной яркостью вскрывает эту ложь. Все художественные детали сцены: борьба Петра Ивановича с пуфом, зацепившееся за резьбу стола кружево, занятость Прасковьи Федоровны соображениями о деньгах, а Петра Ивановича — винтом — призваны разоблачить ложную торжественность обстановки, предшествующей панихиде и похоронам. Задача художника не в противопоставлении величественного акта смерти и житейской суеты, а в показе лжи, мелочности чиновничьего мира, где человеческие отношения подменены лицемерными разговорами, которые тщательно маскируют ложь, корысть, безразличие и даже ненависть друг к другу; срывая маски, Толстой обличает подлинную сущность этих отношений.
Умирающий Иван Ильич только в разговорах с буфетным мужиком Герасимом находил облегчение своим мучениям. Герасим один только жалел умирающего барина, не лгал сам и не заставлял лгать Ивана Ильича. Радость жизни, сила, красота, ловкость Герасима не оскорбляли изможденного болезнью Ивана Ильича, потому что Герасим не притворялся, не лицемерил. Мысль о моральном превосходстве простого народа, характерная для всего творчества Толстого, в «Смерти Ивана Ильича» звучит утверждением: только в народе сохранилось естественное, нравственно чистое отношение к жизни, к людям; в привилегированных же слоях общества, у господ не может быть этих качеств. Беспощадное разоблачение лицемерной морали буржуазно-помещичьего общества, страстная, искренняя, «идущая до конца» критика ее в «Смерти Ивана Ильича» — свидетельство силы Толстого-писателя, который смотрит на жизнь угнетателей с точки зрения угнетенного народа.
16
Все произведения Толстого 80-х годов, такие, как «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Дьявол», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», тематически как будто не связанные друг с другом, объединяются общим творческим заданием анализа и обличения разных сторон
- 558 -
современной писателю действительности. Работая над «Воскресением» и подводя итог предшествующему творчеству, Толстой в дневнике 1891 года записал, что «с „Анны Карениной“, кажется больше 10 лет» он «расчленял, разделял, анализировал» (т. 52, стр. 6).
Вскоре после окончания повести «Смерть Ивана Ильича» Толстой приступил к созданию нового социально-обличительного произведения — «Крейцеровой сонаты». Неправильно было бы рассматривать создание в конце 80-х годов «Крейцеровой сонаты», «Дьявола», статьи «Об отношениях между полами» и других, близких по теме, лишь как следствие особенного интереса Толстого в этот период к вопросам любви. Семейная проблема ставится Толстым как часть большого, общего вопроса — о порочности социальных и этических основ современного ему общества. Со всей беспощадностью Толстой обнажает несостоятельность брака, основанного на купле-продаже. Неудивительно, что церковники, ярые защитники «священных» прав собственности и всех основ эксплуататорского буржуазного государства, с ожесточением набросились на автора «Крейцеровой сонаты», который, отрицая брак, «делает ужасный шаг: он затрогивает понятия и верования народа русского, указанные ему церковью».1
Сделав Позднышева участником исключительных драматических событий, Толстой вкладывает в его уста свои мысли о лжи семейных отношений, основанных на чувственном влечении и обмане.
Драма, происшедшая в жизни Позднышева, привела к тому, что у него «открылись глаза», он «увидал всё совсем в другом свете», «понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидал весь ужас того, что есть» (т. 27, стр. 17).
Основная мысль «Крейцеровой сонаты» сводится к доказательству того, что «в наше время, в нашем обществе», т. е. в обществе привилегированных классов (и даже в крестьянской среде, с болью замечает Толстой), в период развития новых капиталистических отношений, разрушающих старые патриархальные устои, нет семьи. Последовательно и беспощадно обличает Толстой в «Крейцеровой сонате» продажную мораль «господ». В жизни господ, по мнению писателя, судящего с точки зрения труженика-мужика, не может быть красоты, поэзии, так как в ней нет простоты, правды, а всегда — ложь, обман, притворство, мелкие чувства.
История создания повести служит подтверждением того, как от редакции к редакции возрастала социально-обличительная направленность рассказа Позднышева. В первой редакции, например, ничего не говорится о холостой «прилично развратной» жизни героя, нет публицистических инвектив о поощрении разврата старшими и «попечительным правительством», о радости родителей, выдающих дочь за богатого развратника, о том, что «проститутки на короткие сроки — обыкновенно презираемы, проститутки на долгие — обыкновенно уважаемы», о «совершенной физической праздности, разжигающей чувственность», и т. д. Только в последних редакциях появляется рассуждение о браке в привилегированном обществе, как купле-продаже, о «выезжающей в свет» женщине, как о «рабе на базаре» или «приваде в капкане», о венчании, как «поездке в церковь», предоставляющей «особенное условие обладания известной женщиной», так что «выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями» (т. 27,
- 559 -
стр. 28). Толстой восстает против семейных отношений, при которых женщина «всё такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина всё такой же развращенный рабовладелец» (т. 27, стр. 37). Толстой сравнивает подневольное, рабское положение женщины в этих условиях с собственностью на подневольный труд.
По мере развития идейного содержания повести и превращения ее из исповеди героя об измене и убийстве жены в социально-обличительный рассказ о нравах современного общества, в котором отношения Позднышева, его жены и Трухачевского становились лишь типичным примером, художественная форма повести претерпела существенные изменения. Публицистические отступления широко вторгались в рассказ Позднышева, в конечном итоге превратив повесть в своеобразное сочетание художественной новеллы с теоретической статьей. Элемент проповедничества, публицистичности был связан со стремлением Толстого придать рассказу Позднышева обобщающий характер и в то же время был обусловлен желанием писателя во что бы то ни стало выразить свои религиозно-нравственные идеи, обосновать евангельские тексты, поставленные в качестве эпиграфа повести.
Первая половина повести (16 глав) построена как столкновение противоположных мнений; в первых двух главах голоса смешаны, а в последующих звучат два голоса. Наивно-недоумевающий голос слушателя как бы обусловливает, подзадоривает и поддерживает негодующе обличительные инвективы Позднышева. Композиционное построение первой половины повести нарочито схематично: чередование тезисов — вопросов и ответов на них, разъяснений их. Несмотря на содержащиеся в этих главах яркие обобщения, благодаря которым «Крейцерова соната», по выражению Чехова, «до крайности возбуждает мысль»,1 именно здесь с наибольшей силой сказалась слабость Толстого, ограниченность его взглядов. Здесь содержатся нападки на науку вообще, на половую любовь вообще, на развитие техники, рост фабрик, которые представляются Толстому следствием увеличения требуемых женщинами предметов роскоши. Здесь присутствуют бессильные попытки утвердить «идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою», аскетические, утопические призывы «сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться» (т. 27, стр. 30—31) и т. д.
С XVII главы начинается последовательно развивающийся рассказ о семейных отношениях, о Трухачевском, об убийстве, рассказ, в котором психологический анализ играет основную роль.
Мучительная, изнуряющая борьба в сознании Позднышева рисуется во всех ее деталях. Писатель показывает, как в раздвоенности сознания, овладевающей Позднышевым, теряется ощущение подлинно существующего, как герой действует наперекор сознанию, повинуясь каким-то подсознательным побуждениям, рожденным ощущением всеобщей неразрешимой запутанности в отношениях людей друг к другу.
В «Семейном счастье» вторжение в семейные отношения ненужного, легкомысленного человека оканчивается благополучно, без активного вмешательства супруга; в «Анне Карениной» Левину приходится выгнать Васеньку Весловского, чтобы охранить семейные устои; в «Крейцеровой сонате» Позднышев понимает низость душевных качеств Трухачевского, ненужность, даже опасность его и не только не может избавиться от него,
- 560 -
но сам поддерживает дружеские отношения с человеком, который должен разрушить его семейную жизнь.
Этот блестяще психологически разработанный конфликт служит свидетельством совершенной семейной неурядицы, распада семьи и невозможности борьбы за нее, ибо бороться не за что. Ужасные мучения и обман самого себя, раздвоенность сознания, точно не один, а два человека чувствуют, рассуждают, действуют — отличительные черты поведения и переживаний Позднышева, характерного персонажа творчества позднего Толстого.
В сознании рождается «зверь», с которым нет сил бороться, потому что всё гуманное, человеческое вытравлено из отношений людей в той среде, к которой принадлежит Позднышев.
Эта смятенность чувств не обусловлена чертами характера Позднышева, как в свою очередь и не является способом характеристики его личности. Переживания Позднышева — зеркало, которое понадобилось художнику для отражения общей социальной неурядицы. Позднышев же как человек отнюдь не отличается склонностью к рефлексии, его психике не свойственно преобладание бессознательных моментов, наоборот: даже в аффектированном состоянии он действует обдуманно, вполне осознанно.
Контраст логичности рассуждений в состоянии аффекта, во время убийства (гл. XXII) и спутанности, нелогичной смятенности чувств и мыслей, когда герой, оставшись один, стремится понять и не понимает своей жизни, особенно ярко характеризует драматизм переживаний Позднышева.
В драме Позднышева писатель подчеркивает типическое, свойственное всему обществу, пока в нем социальные установления остаются такими, каковы они есть. Поэтому с такой горечью Толстой записал в дневнике 15 января 1890 года: «Думал: по тому случаю, как некоторые люди относятся к Крейцеровой сонате... Им кажется, что это нечто особенный человек, а во мне, мол, нет ничего подобного. Неужели ничего не могут найти? — Нет раскаяния — потому, что нет движения вперед, или нет движения вперед потому, что нет раскаяния» (т. 51, стр. 11).
Трезво оценивая современное общество, Толстой, однако, не знал действительных средств спасения от социального зла, видя единственный выход в личном «раскаянии». Предельно реалистически нарисованной картине семейных отношений Позднышевых противостоят отвлеченно ясные, но безжизненные утопические религиозно-нравственные идеи Толстого, сконцентрированные в «Послесловии» к повести, которое А. П. Чехов справедливо назвал «юродивым».1 В «Крейцеровой сонате», как и в «Смерти Ивана Ильича», глубоко поставленную социальную проблему Толстой переводит в моральную плоскость и приходит к выводу, что предаваться разврату до женитьбы, видеть в женщине предмет наслаждения (а в детях помеху этому наслаждению), предаваться чувственности и в женщине развивать чувственность нравственно дурно. Со всей остротой стремится Толстой развернуть этот нравственный план драмы Позднышевых, тот план, о котором он записал в дневнике 4 июля 1889 года: «Вся драма повести, всё время не выходившая у меня, теперь ясна в голове. Он воспитал ее чувственность. Доктора запретили рожать. Она напитана, наряжена, и все соблазны искусства. Как же ей не пасть. Он должен чувствовать, что он сам довел ее до этого, что он убил ее прежде, когда возненавидел, что он искал предлога и рад был ему» (т. 50, стр. 103).
- 561 -
Л. Н. Толстой в комнате под сводами в Ясной Поляне. Портрет работы И. Е. Репина. 1891.
- 562 -
В полном соответствии с высказанными здесь мыслями Позднышев ополчается против чувственности как основной причины ненависти, возникшей в его семье, требует, чтобы люди стремились к «идеалу добра, достигаемому воздержанием и чистотой».
Справедливо критикуя в «Крейцеровой сонате» буржуазную науку, в частности буржуазную экономию, которая (Мальтус, например) проповедует «воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться» (т. 27, стр. 29), Толстой вместе с тем отрицает целесообразность науки вообще, если она не согласуется с истинами христианского учения.
Провозглашенный в «Крейцеровой сонате» принцип «эмансипации женщины не на курсах и не в палатах, а в спальне» является, по мысли Ленина, одним из свидетельств верности Толстого «идеологии восточного строя, азиатского строя».1 С презрением отзывается Позднышев о ненавистном ему (и Толстому) девизе упадочной буржуазной морали: «Wein, Weiber und Gesang»,2 но сам он не в силах противопоставить этой морали ничего, кроме отвлеченных рассуждений о нравственной чистоте. Отсталое, «азиатское» содержание проповедуемой Позднышевым (и Толстым) морали подчеркивается, в частности, тем, что победителем в споре о браке и свободе любви оказывается в сущности патриархальный старик-купец, «старого завета папаша», заявляющий, что все «глупости от образованья», что «в женщине первое дело страх должен быть» и что «загодя укорачивать надо женский пол» (т. 27, стр. 10, 12). Характерно, что Позднышев не соглашается со стариком, но и не спорит с ним; всю горечь своего сарказма он выливает на комически обрисованную «образованную» даму, защищающую ту самую эмансипацию, которая никак не мирится с азиатским, восточным взглядом на женщину и потому безусловно отрицается Толстым. Позднышев скорее готов согласиться со старозаветными, домостроевскими понятиями старика, нежели с убеждениями эмансипированной дамы.
В промежуток работы над двумя последними редакциями «Крейцеровой сонаты», 10 ноября 1889 года, Толстой «неожиданно стал писать „историю Фредерикса“» (т. 50, стр. 177), как назвал писатель свое новое произведение по имени тульского судебного заседателя Н. Н. Фридрихса, некоторые факты жизни которого легли в основу повести, озаглавленной впоследствии «Дьявол». В 1890 году работа над повестью «Дьявол» была прекращена, не будучи доведенной до конца.
Иртенев, чтобы побороть чувственное влечение к Степаниде, делает всё то, что предлагал Толстой в «Крейцеровой сонате»: усиленно занимается физическим трудом, постится, убеждает себя, что плотская любовь — низменное, недостойное человека чувство. Иртенев «всё это делал, и ему казалось, что он побеждает, но приходило время, полдень, время прежних свиданий и время, когда он ее встретил за травой, и он шел в лес» (т. 27, стр. 507). Драма, возможность благополучного исхода которой была декларирована в «Послесловии к „Крейцеровой сонате“», потрясает своей безысходностью в «Дьяволе».3
- 563 -
Иртеневу представляется порою возможным истинное счастье с крестьянкой Степанидой, но «этого нельзя», по мнению героя повести (и Толстого), потому что счастье это было бы куплено ценой победы чувственного начала, недостойного человека.
В «Дьяволе» не показано «просветление» героя. Правда, повесть осталась незаконченной; можно предположить, что, изобразив во втором варианте конца не самоубийство Иртенева, а убийство им Степаниды, Толстой намерен был привести впоследствии героя к нравственному перерождению. Однако первым и единственным сохранившимся замыслом был тот, что запечатлен в заключительных строках повести. Если Позднышев, просидев в тюрьме 11 месяцев, дожидаясь суда, «обдумал себя и свое прошедшее и понял его», Евгений Иртенев, пробыв «в остроге девять месяцев и в монастыре месяц», «начал пить еще в остроге, продолжал в монастыре и вернулся домой расслабленным, невменяемым алкоголиком». Между тем до болезни это был добрый, благородный человек. Повесть заканчивается авторским рассуждением о том, что «если Евгений Иртенев был душевнобольной тогда, когда он совершил свое преступление, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят» (т. 27, стр. 517). Но этот пессимистический вывод не отвечает на поставленный в повести вопрос, который остается открытым, так как Толстой-философ иного ответа, кроме христианского «просветления», дать не мог, а Толстой-художник, Толстой-реалист не мог, повидимому, это «просветление» изобразить.
17
Особое место в творчестве Толстого 80-х годов занимают «народные рассказы», которые предназначались Толстым для основанного в конце 1884 года книгоиздательства «Посредник», поставившего своей целью распространение доступных для народа книг художественного и научного содержания.
Своеобразие изданий «Посредника» определил сам Толстой в письме к Ф. Ф. Тищенко: «Направление ясно — выражение в художественных образах учения Христа, его 5 заповедей; характер — чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку, и чтоб и тот, и другой заинтересовались, умилились и почувствовали бы себя добрее» (т. 63, стр. 326).
Религиозно-моралистическая направленность «народных рассказов» предопределила и тематику их, и стиль.
Целью произведения являлось не верное изображение жизни, оценка действительности и вскрытие закономерностей ее развития, а описание того, что «должно быть». В рассказах Толстого для народа мнимая, вымышленная жизнь навязывается читателю в качестве примера; в них, по меткому выражению В. Г. Короленко, чувствуется «какой-то самодовольный догматизм человека, ушедшего от мучительных житейских противоречий и теперь тщательно закрывавшего все щели своей наскоро сооруженной часовенки, чтобы до нее не достигали отголоски живой, смятенной, страдающей и противоречивой жизни».1
Предвзятая идея, которую писатель старательно пытается «одеть реальными подробностями» (т. 86, стр. 28), — таково существо всех рассказов
- 564 -
Толстого для народа. Очевидно, что «реальными подробностями» обрисовать ложную, отвлеченную, нежизненную идею невозможно. И потому в этих рассказах непременным элементом сюжета оказываются сверхъестественные явления, всякого рода «чудеса». Действительно, «реальными подробностями» очерчены только те моменты, которые призваны изображать «темные» стороны действительности, противопоставляемые как нечто не должное, не истинно существующее — всякого рода надуманным «светлым», положительным эпизодам. Сила и своеобразие рассказов для народа Толстого, в отличие от аналогичных по тону издававшихся в «Посреднике» рассказов других писателей, состоит в том, что чувство правды жизни, сопутствовавшее всему творчеству великого художника, требовало от него, наперекор основной задаче (изображать не то, что было, а что должно быть), показа реальных сторон действительно существующей жизни. И потому Толстой писал П. И. Бирюкову 7 сентября 1885 года, имея в виду предложение В. Г. Черткова сглаживать изображение темных сторон жизни: «Нельзя и не должно скрывать лжи, неверности и дурное» (т. 63, стр. 283). Следуя этому принципу, Толстой изображает безысходную бедность жизни семьи сапожника Семена («Чем люди живы»), эгоистическую жизнь «хозяйственного мужика» Ильяса («Ильяс»), злоключения сапожника Мартына («Где любовь, там и бог»), неприглядную жизнь крестьян, у которых из-за куриного яйца разгорелась жестокая вражда («Упустишь огонь — не потушишь»), дикую жадность, собственнические инстинкты «выбившегося в люди» Пахома («Много ли человеку земли нужно») и т. д.
В народных рассказах, однако, основное внимание писателя сосредоточено на другом: показе доброго, христианского, «божеского», придающего, по мнению Толстого, подлинный смысл человеческой жизни. Толстой не только заставляет своих героев понять этот христианский смысл жизни, но и действовать, жить в соответствии с христианским идеалом, «для души», «для бога».
Рассказы Толстого отражают, с одной стороны, настроения и чаяния русского патриархального крестьянства, стремившегося избавиться от всех ужасов буржуазной системы, власти денег, войн, мечтавшего о «справедливом» строе, при котором не отнимали бы у бедняка корову ради того, чтобы у Тараса-«брюхана» было побольше денег, чтобы не убивали людей ради достижения корыстолюбивых, захватнических планов Семена-«воина», чтобы в обществе не было тунеядцев («У кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки», «Сказка об Иване-дураке»). С другой стороны — и в наибольшей степени, — эти рассказы являются зеркалом слабых сторон учения Толстого — отсталости, пассивности, непротивленчества патриархального крестьянства. Поэтому в той же «Сказке об Иване-дураке» Толстой пытается доказать, что стоит только царю-дураку Ивану и его народу отказаться от денег, войска, заняться одним крестьянским физическим трудом, как установится та счастливая жизнь, о которой мечтает трудовой народ.
Религиозно-поучительная тенденция является основой в рассказах для народа. Не случайно источником их обычно служит церковно-учительная литература. Стремясь изобразить жизнь, согласную с евангельскими заповедями, писатель не находил материала в самой действительности. Поэтому он обращался к легендарным сюжетам, заимствованным из древней церковной литературы (Прологи и Патерики), в которой жил и действовал тот самый герой-сподвижник, изображался тот «идеальный мир», которые были нужны Толстому для проповеди его религиозно-нравственных идей.
- 565 -
Писатель, беспощадно обличавший в своих «последних произведениях» казенную церковь, которая помогала богачам угнетать бесправный народ, оказался здесь союзником церкви в ее проповеди отказа от борьбы, проповеди «кротости» и «смирения».
Непротивление злу насилием и самоусовершенствование — два основополагающих принципа религиозно-нравственного учения Толстого, как оно сложилось в начале 80-х годов, — становятся основой содержания рассказов, обращенных к народу. И какой бы источник ни использовал в это время художник — древнерусский письменный или легендарный устный, он всегда преобразует этот источник в соответствии с указанными принципами своей философии. Изменяя церковный источник, Толстой убирает из него элементы чудесного, ссылки на божью волю, проявляющуюся в поступках героя, и подчеркивает нравственную силу живущего «во Христе»; искажая фольклорный материал, Толстой настойчиво вносит в него свои мысли о непротивлении злу насилием.
Таким образом, «народные рассказы» Толстого не являются подлинно народными, хотя они и сыграли большую роль в борьбе с недоброкачественной лубочной литературой, распространявшейся и во времена Толстого среди народа.
Неудивительно, что народные сказители, используя для устной передачи рассказы Толстого, уничтожают их религиозно-нравственную тенденциозность, т. е. закономерно очищают те наслоения на фольклорный материал, которые для Толстого были стержнем повествования.
Что касается стиля рассказов Толстого для народа, то высказывавшееся не раз в литературе мнение, будто стиль этот является подлинно «народным» стилем, близким к стилю произведений устного народного творчества,1 также нуждается в пересмотре.
Как по содержанию, так и по особенностям формы «народные рассказы» Толстого — видоизмененные притчи. Как в притчах, в них непременным элементом сюжета являются назидательные чудеса, поучения положительного героя о том, как надо жить. Композиционное построение подчинено задаче раскрытия поучения, которое дается в евангельских текстах эпиграфов и назидательном заключении рассказа.
Именно потому, что рассказы для народа являются по своему жанру притчами, хотя и тщательно часто стилизованными под фольклорный сказ,2 всегда в них в большой степени заметно влияние евангелия, библии, Четьих-Миней, вообще христианской богословской литературы, которую так усиленно изучал Толстой в 80-е годы. Таким образом, религиозно-моралистическое содержание рассказов находится в полном соответствии и единстве с их художественной формой — нереалистических, назидательных притч.
Однако в стиле рассказов для народа Толстого есть черты, которые действительно сближают эти рассказы с произведениями устного народного творчества. Речь идет о языке, которым написаны в основном (за исключением христианских поучительных рассуждений) рассказы.
- 566 -
Простой, выразительный, без примеси какого-либо жаргона, подлинно народный язык, непревзойденным знатоком и мастером которого был Толстой, — такова основа языковой образной системы «народных рассказов».
Толстому свойственно замечательное умение избегать грубо натуралистических приемов воспроизведения крестьянской речи: писатель стремится не к фонетически точной передаче ее особенностей, а к воссозданию в самых общих чертах ее особенного склада, своеобразной структуры. И речи персонажей, и авторский язык (которые почти не отличаются друг от друга) представляют собою разговорный язык тех мужиков, у которых Толстой считал необходимым учиться меткости, характерности слова, с которыми считал необходимым говорить только на этом простом, ярком, а не приглаженном «литературном» языке. 17 октября 1885 года Толстой писал П. И. Бирюкову по поводу предполагавшегося издания «Народного журнала»: «Язык надо бы по всем отделам держать в чистоте — не то, чтобы он был однообразен, а напротив — чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту» (т. 63, стр. 286).
Над простотой, естественностью, меткостью и выразительностью языка своих рассказов для народа Толстой много и настойчиво работал. Требовательность к себе как к писателю, всегда сопутствовавшая творчеству Толстого, возрастала, когда он писал для народа. Он признавался в письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину: «Про себя скажу, что, когда я держу корректуру писаний для нашего круга, я чувствую себя в халате, спокойным и развязным, но когда пишешь то, что будут через год читать миллионы и читать так, как они читают, ставя всякое лыко в строку, на меня находит робость и сомнение» (т. 63, стр. 307).
Неудивительно, что Толстой, высоко ценивший в стиле писателя именно меткость, «характерность» языка, с просьбой о содействии издательству «Посредник» обратился к М. Е. Салтыкову-Щедрину. «...у Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог», — говорил Толстой в 1883 году,1 а в начале декабря 1885 года писал самому М. Е. Салтыкову: «У вас есть всё, что нужно — сжатый сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних, не юмор, а то, что производит веселый смех, и по содержанию — любовь и потому знание истинных интересов жизни народа» (т. 63, стр. 308).2
Кроме «характерности» языка, в рассказах для народа Толстой считал обязательными простоту, сжатость описаний. Чтобы рассказ был понятен, он должен быть безыскусен, прост, поэтому каждая стилистическая деталь вносится в повествование с учётом того, что читателями рассказа будут простые, а слушателями часто неграмотные люди. Толстой призывал помнить об этом всякого пишущего для народа. 17 сентября 1885 года он советовал А. И. Эртелю: «Попытайтесь написать рассказ, имея в виду только читателя из народа... обращаться исключительно к народу очень поучительно и здорово» (т. 63, 284—285).
- 567 -
Это стремление писателя упростить художественную форму, если произведение предназначается для народа, имело два последствия для художественной формы: одно — благотворное, другое — губительное.
Дом Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Фотография. 1908.
Высокое достоинство рассказов — в их простом, сжатом, строгом, чеканном стиле. Говорить художественно и в то же время лаконично, просто — большое искусство, и замечательные образцы именно этого искусства дал Толстой в своих рассказах для народа.
Однако прелесть простоты стиля, экономия художественных средств, которые так высоко ценил Толстой в поздний период творчества и которые считал необходимым условием народной литературы, сочетаются в его рассказах для народа с нарочитым обеднением стиля. И потому некоторые из рассказов Толстого для народа («Три сына», «Кающийся грешник», «Три притчи», «Мудрая девица») являются не художественными произведениями, а сухими назидательными притчами.
Приемы, выработанные в период создания рассказов для народа, составили лишь часть богатейшего разнообразия стиля позднего Толстого, в котором новые требования писателя к искусству соединились с многолетним писательским опытом великого художника. И на этом широком, открытом пути богатого, трезво реалистического, а не узко тенденциозного, примитивного искусства поздний Толстой создал подлинно народные произведения.
Для народного театра в 1886 году Толстой написал драму «Власть тьмы». Преимущество, идейная и художественная сила «Власти тьмы», если сравнить ее с рассказами для народа, заключаются в том, что показ действительной жизни занимает в драме центральное место. «Фабула „Власти тьмы“, — говорил Толстой, — почти целиком взята мною из подлинного уголовного дела, рассматривавшегося в Тульском суде... В деле этом имелось именно такое же, какое приведено и во „Власти тьмы“.
- 568 -
убийство ребенка, прижитого от падчерицы, причем виновник убийства точно так же каялся всенародно на свадьбе этой падчерицы... Отравление мужа было придумано мною, но даже главные фигуры навеяны действительным происшествием» (т. 26, 706).
Появившаяся в печати в 1886 году, когда вся консервативная и либеральная печать подняла шумиху по поводу 25-летней годовщины крестьянского «освобождения», драма прозвучала беспощадным разоблачением лицемерной болтовни о благополучии в русской пореформенной деревне.
В драме отчетливо проходят две основные темы: социальная и этическая. Одна раскрывается в показе действительного положения русской деревни и обобщена в первой части заглавия пьесы — «Власть тьмы». Это старая деревенская тьма и тьма новая, «городская», капиталистическая; под их двойной властью изнывает русская деревня. Развивающиеся в деревне капиталистические отношения приводят к тому, что жизнь и поступки людей начинают определяться одним — заботой о деньгах. О судьбе своего хозяйства и накопленных денег мучительно беспокоится умирающий Петр; о силе «денежек» беспрестанно говорит Матрена; они не дают покоя Анисье, сознающей, что, если у нее не будет денег, не быть ей хозяйкой и выгонят ее из дома; о деньгах жестоко спорят Никита, Анисья и Акулина, так как обладание деньгами дает право на власть над людьми, на беспечную и привольную жизнь. Но власть денег оказывается «властью тьмы». Она водворяет жестокий закон: человек человеку — волк.
Изображенные в драме персонажи — не злодеи, обыкновенные люди, лишь занятые лучшим устройством своих дел. Матрена, например, думает только о благополучии сына Никиты. Она неустанно и деятельно хлопочет, чтобы обеспечить ему безбедную жизнь, и ценой любых преступлений (которые и не кажутся ей преступлениями, а совершенно обычными делами) добивается этого. Огромная сила драматического напряжения и типического обобщения «Власти тьмы» обусловлена именно тем, что всё в пьесе объясняется не индивидуальными чертами характеров персонажей, а всей совокупностью волчьих законов изображаемой среды, где вековые традиции мрака, невежества, «идиотизма деревенской жизни» соединились в пореформенную эпоху с жаждой предпринимательства и наживы.
В пьесе лишь бывалый солдат Митрич как бы со стороны наблюдает происходящую драму и сознаёт, кто виноват в ней. Виновата звериная жизнь, существующий порядок. Испуганную всем совершающимся девочку Анютку он поучает: «Вашей сестре как не изгадиться? Кто вас учит? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность одну. Я хоть немного учен, а кое-что да знаю... Вашей сестры в России большие миллионы, а все как кроты слепые, — ничего не знаете. Как коровью смерть опахивать, привороты всякие, да как под насест ребят носить к курам — это знают... Миллионов сколько баб вас да девок, а все, как звери лесные. Как выросла, так и помрет. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужик — тот хоть в кабаке, а то и в за́мке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что?... Так, как щенята слепые ползают, головами в навоз тычатся... Да и спросить с вас тоже нельзя. Кто вас учит? Только пьяный мужик когда вожжами поучит. Только и ученья. Уж и не знаю, кто за вас отвечать будет». Но когда обеспокоенная девочка в ужасе спрашивает: «А как же быть-то?», Митрич не знает, что ответить, и говорит только: «А так и быть. Завернись с головой да и спи» (т. 26, стр. 220—221).
Однако Толстой-моралист не хочет оставить без ответа страшный вопрос Анютки. По его мнению, с «властью тьмы» можно бороться светом
- 569 -
христианской истины. Глашатаем этой истины и представлен в драме Аким. В его душе живет омерзение к «пакости жизни», окружающей его. С самого начала драмы он пытается образумить сына Никиту. Но Аким — непротивленец, он не способен активно вмешаться в течение событий и потому ничего не противопоставляет развивающемуся «злу».
С образами Акима и Никиты связано развитие этической темы драмы, выраженной в подзаголовке «Коготок увяз — всей птичке пропасть». Через всю пьесу проносит Аким свои косноязычные увещания вспомнить о боге. С самого начала происходит в душе Никиты борьба «добра» и «зла». Щеголь, не любящий работать, он с радостью соглашается на уговоры матери — отказаться от женитьбы на Марине и продолжать сожительство с Анисьей, а после смерти Петра стать хозяином. Став хозяином и обладателем денег, он пьянствует, куражится над Акимом, издевается над Анисьей, совсем перестает работать, наняв работника Митрича. Однако Никита — сын не только Матрены, но и Акима: в нем не заглохла «совесть». И потому уже во втором действии драмы Матрена, подговорив Анисью отравить мужа, предупреждает ее: «Микитке не сказывай про все дела. Он дурашный. Избави бог, узнает про порошки. Он бог знает что сделает. Жалостлив он очень. Он, ведашь, и курицы, бывало, не зарежет. Не сказывай ему. Беда, он того не рассудит» (т. 26, стр. 158). Действительно, когда Никита узнал про отравление Петра, Анисья «опостылела» ему. Никиту трогает предсмертное покаяние Петра, он плачет вместе с ним и «сердито» отказывается искать Петровы деньги.
Покуражившись вдоволь над Анисьей и отцом, он не в силах заглушить угрызений совести. Третье действие драмы кончается его горькой жалобой: «Ох, скучно мне, как скучно!». В четвертом действии конфликт достигает своего кульминационного напряжения: Никита становится убийцей собственного ребенка. И в обоих вариантах действие заканчивается душераздирающим воплем Никиты: «Что ж это?.. Всё пищит! Решился я своей жизни. Решился! Что они со мной сделали?! Куда уйду я?!». Наконец, в пятом действии, не выдержав мучительной душевной борьбы, особенно обострившейся под влиянием окружающего самодовольного веселья и встречи с Мариной, Никита всенародно кается. Этот эпизод, по замыслу автора, и должен доказать правоту проповеди Акима, всесилие христианского учения. В одном из писем к актеру П. М. Свободину, исполнявшему роль Акима, Толстой сообщил, что в этом действии Аким должен «придти в восторг от поступка сына..., оберегать совершающееся торжественно покаяние от вмешательства» (т. 64, стр. 25). Однако вся сцена покаяния Никиты, написанная с изумительным реализмом, выявляет несостоятельность философии Акима. Раскаяние Никиты трогает одного Акима. Все остальные озабочены либо тем, чтобы поскорее составить акт и связать Никиту (урядник и староста), либо тем, чтобы замять дело, «образумить» Никиту, представить его «озорником», болтающим пустое, сошедшим с ума (Матрена, Анисья).
Покаяние Никиты не вносит света в окружающую его «власть тьмы», как в свое время оказался бессильным перед нею и непротивленец Аким. Конфликт, представленный в драме, остается по существу нерешенным.
Пьесу Толстого горячо приветствовали передовые деятели того времени. «Вчера читалась Ваша новая драма у В. Г. Черткова, — писал Толстому И. Е. Репин. — Это такая потрясающая правда, такая беспощадная сила воспроизведения жизни...».1
- 570 -
«Ничего подобного я не читал много, много лет... Что за правда беспредельная, что за глубина, что за сила и красота творчества!» — писал автору «Власти тьмы» В. В. Стасов.1 Передовые деятели театра восторженно отзывались о новом произведении Толстого. В. И. Немирович-Данченко вспоминал о впечатлении, которое произвела на него драма: «Без преувеличения можно сказать, что я дрожал от художественного восторга, от изумительной обрисовки образов и богатейшего языка».2
Бешеной злобой встретили «Власть тьмы» реакционная печать и официальные круги. Охранительная печать по указке обер-прокурора святейшего Синода Победоносцева усилила травлю Толстого. Церковники заявили, что пьеса представляет собой поклеп на русскую деревню и «производит самое тяжелое, подавляющее впечатление».3 Александр III тогда же писал генерал-адъютанту Черевину: «Надо было бы положить конец этому безобразию Л. Толстого, он чисто нигилист и безбожник. Недурно было бы запретить теперь продажу его драмы „Власть тьмы“, довольно он уже успел продать этой мерзости и распространить ее в народе».4
В непосредственной связи с идейным содержанием «Власти тьмы» находится обличительный пафос другой пьесы Толстого — комедии «Плоды просвещения», над которой писатель начал работать в 1886 году, еще не завершив «Власти тьмы». Закончена комедия была пятью годами позже.
В «Плодах просвещения» действие происходит в городе, где по преимуществу и живут те «просвещенные господа», которые начисто ограбили, материально и духовно, трудовой народ деревни, задавленный «властью тьмы». Но сама эта господская культура, оторванная от народа и ненужная ему, паразитическая и бессмысленная, оказывается вздорной и глупой.
С глубокомысленным видом профессор Кругосветлов пытается «научно» обосновать спиритический бред, а когда его стараются образумить, возмущенно сетует: «Да, как еще мы далеки от Европы!» (т. 27, стр. 247). Его речам с восхищением внимают праздные бездельники — отставной поручик гвардии Звездинцев, доктор Сахатов, бывший товарищ министра, «толстая барыня». Как о большой и важной новости, сообщает профессор об «удивительной речи Шмита» на тринадцатом съезде спиритуалистов в Чикаго.
Язвительная насмешка автора «Плодов просвещения» направлена не только против некоторой части русского общества, в 70—80-х годах прошлого века увлекавшейся спиритизмом, но и против всей лженауки, которая служит в буржуазном обществе забавой господствующих классов и оправдывает их паразитическое существование.
Не менее смешна, чем Звездинцев со своей верой в духов, его жена, скептически относящаяся к увлечению мужа спиритизмом, но сама помешавшаяся на мысли о заразе и микробах. Младшее поколение дома Звездинцевых и их друзья не разделяют веры в «спиритичество», но от этого их жизнь не становится более осмысленной, а образование — приносящим пользу. Университетское образование, полученное ими (Вово Звездинцев — кандидат юридических наук, Петрищев — кандидат филологических наук, барон Клинген — кандидат Петербургского университета), не мешает им видеть смысл своей «деятельности» в том, чтобы участвовать в обществах велосипедистов, конских ристалищ, поощрения борзых собак,
- 571 -
устройства ситцевых и коленкоровых балов. Свободное от этой «деятельности» время они посвящают сочинению глупейших шарад, постановкам не только глупых, но и безнравственных спектаклей, игре на «фортепьянах» и бесконечному «жранью», так метко обрисованному кухаркой.
Паразиты, живущие за счет народа, зло осмеяны Толстым в комедии. Они осуждены строгим судом трудового народа. Основной конфликт пьесы и состоит в этом столкновении мужиков, пришедших в барский дом просить о земле, без которой им «надо жизни решиться», сочувствующей и помогающей мужикам прислуги барского дома и самих бар, которым всё безразлично, кроме их обеспеченного паразитического существования и глупых затей. Два мира резко противопоставлены в комедии, и все симпатии Толстого, безусловно, на стороне крестьян, которые через всю пьесу проносят свой вопль о земле. Недаром Толстой резко критически отнесся к постановке комедии на сцене Малого театра, где мужики были представлены в смешном виде плутов и обманщиков.
В «Плодах просвещения» выведены действительные, «подлинные» мужики, реалистическое изображение которых в произведениях Толстого высоко ценил В. И. Ленин. Упорное и настойчивое желание добиться земли, глубокая неприязнь к господам, особенно резко выраженная в речах старого повара, и вместе с тем нерешительность, патриархально-крестьянское отношение к городскому житью вообще и недоверие ко всякому образованию — все эти черты в высшей степени характерны для пореформенного русского крестьянства.
В «Плодах просвещения» выражен горячий протест крестьянских масс против эксплуатации и малоземелья. Эта тема, как и всё противопоставление жизни бар и трудового народа, чрезвычайно близко примыкает к обличительному пафосу романа «Воскресение».
Вместе с тем сам протест звучит в комедии несравненно слабее, чем в «Воскресении», создававшемся под впечатлением страшных картин народной нищеты, увиденных Толстым во время голодовок 90-х годов.
В деятельности Толстого 1891—1894 годов, завершающих первый этап позднего творчества писателя, центральное место принадлежит публицистике. К этому времени относятся широко известные статьи о голоде, которые были горячим откликом Толстого на всенародное бедствие.
Голод 1891—1892 годов явился одним из проявлений крайнего обострения социальных противоречий, особенно резко обозначившихся в России в 90-е годы. В. И. Ленин в 1902 году в статье «Признаки банкротства» писал: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности... С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой...
«Государственный строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться».1
Во время голода 1891—1892 годов Толстой особенно отчетливо увидел глубокие социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы Толстой пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может, что «дело подходит к развязке».
- 572 -
«Какая будет развязка, — писал он 31 мая 1892 года Г. А. Русанову, — не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, — я уверен» (т. 66, стр. 224).
Толстой не увидел пути, который должен был привести к этой «развязке». Не революционная борьба масс за свои права, а добровольный отказ господствующих классов от привилегированного положения представлялся ему средством спасения от всех социальных зол. В этом сказалась слабость Толстого, выразителя взглядов политически отсталого патриархального крестьянства. Но величайшей заслугой писателя остается то, что «он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования».1 Это стихийное чувство протеста многомиллионных масс крестьянства против помещичье-капиталистического гнета, малоземелья, податной зависимости, против темноты и забитости, экономического и политического бесправия с огромной силой выразил Толстой.
Отношение Толстого к средствам борьбы с голодом было крайне сложным и противоречивым. Он был глубоко возмущен лицемерным обсуждением мер помощи народу, ограбленному и доведенному до крайней нужды теми самыми людьми, которые теперь собирались «опекать» своих «меньших братьев». В дневнике он записывает: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно! Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие — высказаться, или страх; но добра нет» (т. 52, стр. 43). Толстой отвергает как нелепую мысль о возможности прокормить народ на пожертвования богатых.
Вместе с тем, всецело в духе своего утопического и реакционного религиозно-нравственного учения, он надеется, что достаточно написать или сделать то, что смогло бы «тронуть сердца богатых» (т. 66, стр. 12), как совершится чудо: отказавшись от своих привилегий, сытые с раскаянием и любовью придут к своим голодным «братьям».
Глубоко сочувствуя народу, Толстой с тревогой следил за тем, что происходило в охваченных голодом деревнях. Положение народа становилось всё более тяжелым и безвыходным, а правительственная и земская помощь неспособна была что-либо изменить.
В сентябре 1891 года Толстой объезжает ряд деревень Тульской и Рязанской губерний и близко знакомится с народной нуждой. Голодных крестьян, у которых нет вдоволь даже хлеба с лебедой, огромное число нищих, развалившиеся дома, отсутствие топлива — всё это рядом с довольством помещичьих усадеб нашел Толстой во всех деревнях. Возвратившись в Ясную Поляну, он начал работать над статьей «О голоде», в которой собирался рассказать подлинную правду обо всем, что видел.
Под впечатлением невыносимых страданий народа Толстой приходит к мысли, что нельзя ждать, пока господа раскаются в своем «грехе». Он убеждается, что в существующих условиях, если не оказать народу помощи, тысячи людей будут умирать от голода и болезней, не возбудив и тени сострадания у господствующих классов. И Толстой решает заняться организацией помощи голодающим. С этой целью он в октябре 1891 года поселяется в имении своего друга И. И. Раевского — Бегичевке Рязанской губернии. Вместе со своими помощниками он устраивает в окрестных деревнях многочисленные столовые для крестьян и их детей, собирает и
- 573 -
распределяет пожертвования, организует медицинскую помощь. «...не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать», — пишет он в это время Н. Н. Ге (т. 66, стр. 81).
Деятельное участие Толстого в помощи голодающим и его статьи этого периода, полные гнева к эксплуататорам и горячей любви к народу, навсегда останутся свидетельством глубокой и кровной связи великого писателя с народом.
Статьи Толстого о голоде разделяются на две группы. К первой группе относятся статьи: «О голоде», «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим», «Голод или не голод?». В них писатель ставит коренные, общие вопросы, возникшие в связи с голодом, показывает во всей неприглядности тяжкую долю народа, с беспощадной резкостью критикует строй насилия и угнетения, выдвигает требования, которые, по его мнению, необходимо удовлетворить, чтобы не было голодовок, постоянной нищеты и вымирания русского крестьянства. Эти статьи представляют наибольший интерес, хотя именно в них со всей остротой проявляются поистине кричащие противоречия взглядов Толстого: с одной стороны, обличение существующего строя, с другой — незнание подлинных путей его изменения, проповедь нравственного совершенствования и непротивления злу насилием.
Другая группа — это статьи «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», отчеты об употреблении пожертвованных денег, которые непосредственно связаны с практической деятельностью Толстого во время голода. В этих статьях писатель рассказывал о своей работе и работе своих помощников по борьбе с голодом и обращался к прогрессивной части русского общества с призывом воспользоваться его опытом. Он горячо отстаивал метод помощи, который считал наиболее действенным, — организацию бесплатных столовых для голодающих крестьян.
В обличительном пафосе статей Толстого о голоде ярко отразились настроения многомиллионного русского крестьянства, у которого «века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости».1
Правда о русской деревне, рассказанная Толстым в статье «О голоде», обличала эксплуататорский строй царской России уже тем, что это была подлинная правда, которую тщательно старались скрыть и консервативные, и либеральные защитники существующих порядков. Толстой показывает в своей статье, что крестьяне доведены хищническим хозяйничанием помещиков и капиталистов до крайней нужды и разорения. Он опровергает выдумку богачей, будто народ голоден оттого, что ленив, любит пьянствовать, или оттого, что не усвоил господской культуры. «Народ голоден оттого, что мы слишком сыты», — утверждал он в своей статье (т. 29, стр. 106). Народ голоден оттого, что его душат малоземелье, подати, солдатчина, что «распределение, производимое законами о приобретении собственности, труде и отношениях сословий, неправильно» (т. 29, стр. 331). Улучшить положение народа можно, по мысли Толстого, лишь тем, чтобы перестать грабить и обманывать его. А взять у господ часть их богатств и раздать голодающим — все равно, что заставить паразита кормить то растение, которым он питается. «Мы, высшие классы, живущие все им, не могущие ступить шагу без него, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное», — восклицает Толстой
- 574 -
(т. 29, стр. 104). Именно эти слова Толстого имел в виду В. И. Ленин, когда в статье «Признаки банкротства» писал: «В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что „паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается“. Это была, действительно, нелепая идея».1
В статье «О голоде» Толстой беспощадно разоблачает лицемерие эксплуататорских классов, которые делают вид, что озабочены голодом, встревожены положением народа, а в действительности более чем равнодушны к народному бедствию и стараются всеми средствами еще сильнее закабалить крестьян. Писатель обнажает подлинную сущность происходящего, показывает, что между эксплуататорами и народом нет иных отношений, кроме отношений господина и раба. Землевладельцы и купцы, говорит Толстой, рады, если им удается дороже продать хлеб и все другие предметы, нужные народу; чиновники рады, если они получают больше жалования, собираемого с голодных; фабриканты рады, если за ничтожную плату приобретают рабочую силу. «Чем дешевле будет работа, т. е. чем беднее будет народ, тем мне лучше, — говорят все люди богатых классов. Какое же у нас может быть сочувствие народу?» — спрашивает Толстой (т. 29, стр. 108).
Однако в статье «О голоде», как и в других произведениях, Толстой высказывает иллюзорную надежду, что господа могут добровольно перестать делать то, что «губит народ», возвратить награбленное, изменить свою жизнь и тем самым разорвать кастовую черту, отделяющую их от народа.
Занимаясь помощью голодающим, Толстой еще больше убедился в том, что причина бедственного положения народа не в неурожае, а в самом строе угнетения меньшинством эксплуататоров огромного большинства трудящегося народа. Подводя итоги всему тому, что он видел во время голода, Толстой в «Заключении к последнему отчету о помощи голодающим» снова указывает, что связь роскоши одних с лишениями и страданиями других очевидна, что народ вымирает от излишка работы и постоянного недостатка пищи.
90-е годы были временем бурного развития в России капитализма и крайнего обнищания народа. О значении этого десятилетия в экономической жизни России В. И. Ленин писал в 1901 году: «Не одно только разорение, а прямое вымирание русского крестьянства идет в последнее десятилетие с поразительной быстротой, и, вероятно, ни одна война, как бы продолжительна и упорна она ни была, не уносила такой массы жертв».2
В 1898 году в России вновь разразился голод. Снова повторилось то, что было в 1891—1893 годах, лишь с той разницей, что царское правительство, напуганное ростом революционного движения, особенно настойчиво пыталось доказать, что голода нет, и усилило репрессии по отношению к тем, кто пытался организовать помощь народу. Голод 1898 года особенно наглядно доказал «одну старую истину», о которой в 1901 году Ленин писал в статье «Борьба с голодающими»: «...полицейское правительство боится всякого соприкосновения с народом сколько-нибудь независимой и честной интеллигенции, боится всякого правдивого и смелого слова, прямо обращенного к народу, подозревает — и подозревает совершенно справедливо, — что одна уже забота о действительном (а не
- 575 -
мнимом) удовлетворении нужды будет равносильна агитации против правительства, ибо народ видит, что частные благотворители искренно хотят ему помочь, а чиновники царя мешают этому, урезывают помощь, уменьшают размеры нужды, затрудняют устройство столовых и т. д.».1
Л. Н. Толстой в лесу.
Рисунок И. Е. Репина. 1891.В статье «Голод или не голод?» (1898) Толстой с негодованием пишет о тех препятствиях, которые чинят представители власти делу помощи голодающим. Столовые нельзя открывать без разрешения губернатора, без соглашения с местным попечительством, без обсуждения вопроса об открытии каждой столовой с земским начальником. Кроме того, было запрещено всем неместным жителям участвовать и помогать в устройстве столовых без разрешения губернатора. Практически всё это означало совершенное запрещение помощи голодающему народу.
Царское правительство и реакционная печать всеми средствами стремились доказать, что голода нет и народ благоденствует, опекаемый «отцами»-помещиками и «батюшкой»-царем. Разоблачая эти утверждения, Толстой пишет в статье «Голод или не голод?»: «...голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается... Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: „Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка“» (т. 29, стр. 224—225).
И Толстой формулирует требования, которые, по его мнению, необходимо выполнить, чтобы прекратились постоянные голодовки русского крестьянства. «...нужно, не говорю уже уважать, — пишет он, — а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно дать ему свободу исповеданья, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, а не произволу земских начальников; нужно дать ему свободу ученья, свободу чтенья, свободу передвижения и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании — разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян» (т. 29, стр. 225).
Именно эти требования выдвинул Толстой и в начале 900-х годов, выступая от имени «большинства людей русского народа», в своем письме
- 576 -
к Николаю II и статье-обращении «Царю и его помощникам». Именно эти требования отражали взгляды и настроения миллионов русского крестьянства накануне первой революции в России. С другой стороны, именно связью с настроениями политически отсталого патриархального крестьянства обусловлен тот факт, что и в 1898 году, и позднее, накануне и во время революции 1905 года, Толстой не знал подлинных путей борьбы за насущные права трудового народа. Поэтому и в статье «Голод или не голод?» он все надежды возлагал на «братское единение людей» независимо от их классовой принадлежности.
Очевидно, насколько наивны и утопичны упования Толстого на «смирение» богатых. Но не в них состоит основное содержание и значение его статей о голоде. Основной смысл и сила этих статей заключаются в беспощадно резком обличении всех порядков самодержавной России. Недаром на статью «О голоде» ссылался В. И. Ленин, недаром цензура запретила ее печатание, и лишь после бесконечных мытарств статью удалось опубликовать, да и то в безобразно изуродованном виде. Недаром с бешеной злобой обрушились на Толстого охранительная печать и все блюстители порядка, когда «Московские ведомости» провокационно перепечатали выдержки из статьи «О голоде» (1891).
«Московские ведомости», орган наиболее реакционных слоев помещиков и духовенства, грубой и откровенной бранью «комментировали» статью Толстого: «Письма гр. Толстого... являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».1 И действительно, хотя Толстой был далек в статье «О голоде» от призывов к революции, объективно статья играла революционизирующую роль. По свидетельству советника при министре иностранных дел В. Н. Ламздорфа, прокламации, захваченные тогда полицией, «находились в прямой связи с мыслями, высказанными Толстым. Это доказало действительную опасность письма. В связи с этим в городе было произведено несколько обысков».2
Газетам было приказано не перепечатывать статью из «Московских ведомостей» и даже не комментировать ее. При дворе стали поговаривать о заточении Толстого в тюрьму Суздальского монастыря или заключении в дом для умалишенных. Министр внутренних дел Дурново, делая доклад Александру III, заявил, что «письмо» Толстого «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям», но, принимая во внимание, что «привлечение в настоящее время графа Толстого к ответственности может повлечь нежелательное смятение в умах», рекомендовал ограничиться предупреждением автору «статей противоправительственного направления».3
Враждебно была встречена правительственными кругами и статья Толстого «Страшный вопрос» (1891). За опубликование ее министр внутренних дел сделал газете «Русские ведомости» предупреждение, как позднее и газете «Русь» за помещение статьи «Голод или не голод?». «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим» было запрещено цензурой и опубликовано лишь в 1895 году за границей.
Однако никакие запреты и преследования не могли заглушить голос Толстого-обличителя. Сознавая свою глубокую правоту защитника угнетенного
- 577 -
многомиллионного народа и обличителя праздных тунеядцев, Толстой писал по поводу шумихи, поднятой вокруг статьи «О голоде» реакционной печатью и в правительственных кругах: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уж 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет... То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещенного и честного во всем мире...» (т. 84, стр. 128).
Кабинет Л. Н. Толстого в Яснополянском доме. Фотография. 1908.
Зимой 1892—1893 года, когда Толстой принимал участие в помощи голодающим крестьянам, был задуман и рассказ «Хозяин и работник».
Превосходное знание деревенского быта, социальных причин бедственного положения народа позволили Толстому создать в этом рассказе глубочайшие по силе типического обобщения образы бездомного Никиты и «хозяйственного» Брехунова. Толстой раскрывает подлинную причину богатства хозяина и нищеты работника. «Василий Андреич платил Никите не 80 руб., сколько стоил такой работник, а рублей 40, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, и по дорогой цене товаром из лавки» (т. 29, стр. 4).
Капиталистическое рабство ложится на плечи трудового народа более тяжким бременем, чем даже крепостное право. Об ужасающем положении крестьянства Толстой, спустя два года по окончании «Хозяина и работника»,
- 578 -
записал в дневнике: «Как Гюливера, привязали мужика волосками к Европе, у нас бечевками. Прежде было рабство — цепь. Она была видна, а теперь волоски. Так опутали его, что он сам защищает своих врагов высасывателей. Ужасно это видеть» (т. 53, стр. 317).
Постоянно обманывая, обирая работника, хозяин не перестает твердить: «Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю» (т. 29, стр. 4). И забитый, приученный рабской жизнью к терпению, крестьянин не протестует, хотя очень хорошо понимает, что Василий Андреич обманывает его. Но он чувствует, что нечего и пытаться раскрыть перед ним этот обман, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают. А другого места нет, да и «хозяева» всегда и везде одинаковы.
Противопоставляя хозяина и работника, эксплуататора и эксплуатируемого, Толстой все симпатии отдает батраку Никите, представителю трудящегося народа.
Никита трудолюбив, ловок и силен в работе. Он работает весело, охотно, бодро. У него «добрый, приятный характер», в обращении с людьми он всегда ласков (характерные для его речи выражения: «душа милая», «голубок»). В противоположность Никите хозяин — грубый, самодовольный и неумный человек.
В дороге Брехунов занят только одним — мыслью о предстоящей выгодной покупке, барышничеством и всё уговаривает Никиту купить никуда не годную лошадь.
В опасности Никита оказывается смелее и сметливее Брехунова, он действует спокойно и уверенно, и хозяин подчиняется его авторитету, что не мешает ему, однако, осуждать «необразованность и глупость мужицкую».
Хищничество и самодовольство Брехунова, прикрытое благовидной маской «мы по чести», беспощадно разоблачаются Толстым, более беспощадно, чем, например, мошенничество купца Рябинина в «Анне Карениной», ибо сам делец стал наглее. Кроме того, Толстой рассматривает теперь последствия «деятельности» таких предпринимателей, как Брехунов, прежде всего с точки зрения судеб многомиллионных масс трудящегося крестьянства. В ярком, сильном, искреннем протесте писателя против Брехунова отразились горечь и обида, невыраженный протест «смиренного» Никиты, всего патриархального крестьянства, обираемого Брехуновыми.
Но как и во всем творчестве Толстого позднего периода, «беспощадная критика капиталистической эксплуатации» сочетается в «Хозяине и работнике» с юродивой проповедью «„непротивления злу“ насилием».1
Писатель стремится доказать в рассказе, что смирение и покорность — естественные, истинно привлекательные, «христианские» качества работника Никиты, и всячески поэтизирует их.
Центральным в рассказе является тот эпизод, когда хозяин и работник, не надеясь найти дорогу, решили заночевать в поле. Возможность смерти во всей ее реальности представилась обоим. Никите мысль о смерти не была «особенно неприятна... потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать» (т. 29, стр. 36). Мысль о смерти не страшна была Никите, по словам Толстого, и оттого, что «он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина,
- 579 -
а что хозяин этот не обидит» (т. 29, стр. 36). Василию Андреичу мысль о смерти показалась страшной.
Толстой, однако, не останавливается на этом противопоставлении. Проповеднику теории нравственного «просветления», ему было необходимо привести Брехунова к той вере, которая была главным источником спокойствия Никиты перед лицом смерти. Как свидетельствуют черновые рукописи, Толстой особенно много трудился именно над этой частью рассказа. В первоначальном наброске, написанном в духе «народных рассказов», «просветление» Брехунова было показано как некое умилительное чудо.
По мере работы над рассказом всё резче очерчивался социальный контраст хозяина и работника, слишком очевидным становилось противоречие реализма первой части рассказа и надуманности, неубедительной декларативности второй. Художник Толстой не мог не почувствовать этого противоречия, и он попытался сгладить его, внеся в «просветление» менее неправдоподобный, чем мгновенное божественное озарение, момент — гуманное желание спасти Никиту. Но и это изменение не спасло и не сделало правдоподобной ложную идею, так как неожиданно пробудившаяся в хозяине жалость к Никите выглядела неубедительно.
В окончательной редакции Толстой намечает реалистическое истолкование этого эпизода: Брехунов, напуганный тем, что остался один в снегу и один, как чернобыльник, мог погибнуть, рад тому, что хоть добрался до саней, видит Никиту, и потому, ложась с ним вместе в сани, надеется на благополучный исход («Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...»). Однако последние минуты Брехунова описаны попрежнему мистически торжественно. Фантастический сон, голос во сне «кого-то», который «зовет» Василия Андреевича, и его радостный ответный возглас: «Иду!», самоотверженное рассуждение: «Жив Никита, значит жив и я» — так и остаются необоснованными.
Самоотверженный поступок Брехунова никак не обусловлен чертами его характера; он понадобился Толстому, чтобы доказать идеалистическую, утопическую идею о возможности для каждого человека «просветиться», познать бога, христианскую любовь ко всем, которая будто бы уничтожает все социальные противоречия, уничтожает преграду между богатым и бедным, делая их «братьями во Христе».
В идейном содержании и форме произведений Толстого 1891—1894, как и 1880-х годов, со всей отчетливостью проявились кричащие противоречия социальных, этических и эстетических взглядов писателя. Обличение господствующих классов сочетается в них с проповедью классового мира на основе добровольного отказа богатых от своих привилегий и непротивления бедных; разоблачение подлой морали грабителей народа — с утверждением нравственного самосовершенствования как единственного средства, способного победить зло социальной действительности; «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок» — с изображением нереальных ситуаций, призванных доказать спасительность и всесилие «христианской любви».
18
Роман «Воскресение» трудно давался Толстому. Первая редакция его (тогда еще «Коневская повесть») была создана в 1889 году. Толстой не был удовлетворен ею прежде всего потому, что не сумел выразить нового взгляда на вещи. Он вновь и вновь обращался к работе над произведением,
- 580 -
которое его всё более захватывало, но всякий раз встречался с новыми и новыми трудностями. Может быть, самая большая из них состояла в столкновении социальной и моралистической тенденций. С одной стороны, ему хотелось выразить в романе новый взгляд на вещи, т. е. изобразить существующие отношения в обществе с точки зрения патриархального крестьянства, а с другой — показать нравственное «воскресение» кающегося дворянина. В ходе работы первая тенденция постепенно брала верх над второй, не вытесняя ее вовсе. В конечном счете Нехлюдов «воскресает», т. е. порывает со своей средой, главным образом под влиянием действительных событий, тех фактов, которые всё более и более убеждали его в том, что прав народ, а не господствующие сословия.
Последний раз Толстой обратился к роману в 1898 году, побуждаемый тем, чтобы гонорар, который он получит за него, передать в фонд помощи духоборам, уезжающим в Канаду от преследований царского правительства. Предназначая гонорар за свое произведение в пользу тех, кого угнетало царское правительство, Толстой, естественно, направил весь свой пафос на обличение последнего.
Трудность работы Толстого над «Воскресением» во многом объясняется тем, что он был одновременно и выразителем интересов и устремлений патриархального крестьянства, и помещиком, юродствующим во Христе. Последняя черта и предопределила то, что героем романа взят Дмитрий Нехлюдов, дворянин. С выбором главного героя связано своеобразие построения романа.
Над «Воскресением» Толстой работал приблизительно десять лет. Начало работы над произведением относится в 1889 году, а закончено оно было лишь в 1899 году. «Воскресение» явилось как бы своеобразным итогом литературной и общественной деятельности писателя почти за целых два десятилетия (начиная с момента создания «Исповеди»), его идейных и нравственных исканий за этот период.
«Воскресение» — одно из величайших созданий Толстого. Художественный гений его достигает здесь той же высоты, на которой он стоит в «Войне и мире» и «Анне Карениной». Последний роман Толстого в то же время — произведение, исполненное глубоких противоречий. Ленинское определение Толстого, как зеркала русской революции, ее сильных и слабых сторон, наилучшим образом подтверждается «Воскресением». Роман этот насыщен революционным гневом многомиллионного крестьянства против существующих форм жизни. В то же время в нем отражено бессилие того же самого крестьянства в его попытках найти выход из создавшегося положения.
«Воскресение» с необыкновенной силой и остротой ставит самые животрепещущие вопросы эпохи, в которую он создавался. То были годы кануна первой русской революции, когда революционная социал-демократия уже пережила «утробный период» развития и выходила на широкую арену деятельности. Толстой остался в стороне от самого передового движения эпохи, более того, он враждебно относился к нему. И при всем том, как гениальный наблюдатель русской жизни, он чувствовал и понимал, что приближается грозная социальная буря, будущие отблески которой озаряют и его последний роман.
Своим духовным обликом Дмитрий Нехлюдов напоминает Константина Левина. О Левине и Нехлюдове можно было бы сказать с известными оговорками, что это одно и то же лицо на разных этапах своей духовной жизни. Собственно, и образ Левина, и образ Нехлюдова отражают взгляды самого Толстого на мир, взятые в их движении и развитии.
- 581 -
Однако Левин — характер, безусловно, автобиографический, его личность и биография во многом, хотя далеко не во всем, совпадают с личностью и биографией Толстого. Жизнь Нехлюдова в сущности почти ничем не напоминает жизни Толстого, а между тем мысли и чувства Нехлюдова не менее близки мыслям и чувствам Толстого 90-х годов, чем мысли и чувства Левина — Толстому 70-х годов. Это различное соотношение образов Левина и Нехлюдова с духовным обликом самого Толстого объясняется различием задач, которые ставились в «Анне Карениной» и в «Воскресении». Пафос «Анны Карениной», той линии романа, которая связана с образом Левина, по преимуществу — в выяснении истины; пафос «Воскресения» преимущественно — в обличении тех, кто живет вопреки этой, теперь уже найденной истине.
Вследствие этого Левин, именно как личность, чрезвычайно занимал Толстого. Ему необходимо было раскрыть закономерность и условия формирования этой личности, ее путь к истине. Для этого Толстой использовал собственный опыт поисков истины, который он лишь и считал правильным путем. Вот те причины, благодаря которым в образе Левина воплощены многие черты личности самого Толстого.
Закономерностям и условиям формирования Дмитрия Нехлюдова Толстой уделяет сравнительно мало внимания. К моменту начала работы над «Воскресением» Толстой уже утвердился на позициях выразителя интересов патриархального крестьянства. Он считал теперь, что истина им найдена и что все усилия надо направить на ее осуществление. Обличение эксплуататорских классов и обслуживающего их общественного и государственного строя становится главенствующей и определяющей чертой литературной и общественной деятельности Толстого. Обличителем выступает и князь Нехлюдов, герой «Воскресения». Нет никакой необходимости доказывать, что гнев Нехлюдова — это гнев самого Толстого. Но сила образа Нехлюдова заключается в том, что Нехлюдов не вообще отрицает современное ему государственное, общественное и экономическое устройство, а всякий раз свое отрицание выводит из практического столкновения с представителями господствующих классов. Широта его жизненных столкновений на коротком отрезке времени исключительна, она не совместима с рамками биографии Толстого.
С другой стороны, в «Воскресении», романе от начала до конца обличительном, всё время ощущается необходимость присутствия автора: он постоянно вмешивается в действие, высказывая от своего собственного имени суждения и замечания. Это также одна из причин того, что образ автора не мог слиться с образом героя.
Проблематика «Воскресения» исключительно широка. В романе поставлены вопросы о классовом неравенстве, о судьбах безземельного, бесправного и нищего крестьянства, о его ненависти к несправедливому общественному строю, о его праве на землю и на свободную жизнь; о причинах разорения городских масс; о функциях всего аппарата дворянско-буржуазного государства; о религии, стоящей на защите интересов эксплуататорских классов. В «Воскресении» отражены настроения многомиллионного русского патриархального крестьянства, его стремление «смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян...».1
- 582 -
Для выяснения особенностей построения романа первостепенное значение имеет образ Нехлюдова.
Образ Нехлюдова занял в романе большое место потому, что через него в значительной степени осуществляется критика господствующих классов и представителей власти дворянско-буржуазного государства. Образ Нехлюдова, человека, порывающего с миром угнетателей и стремящегося соединиться с миром угнетенных, давал писателю возможность провести через весь роман принцип контраста двух миров.
Вопросу формирования и духовного развития личности Нехлюдова в романе из ста двадцати глав посвящено не более десяти, причем эти главы не лежат на главной магистрали развития сюжета.
В этих главах Нехлюдов весьма близок прежним героям Толстого — Оленину, Пьеру Безухову, Андрею Болконскому, Константину Левину. Его сближали с ними, во-первых, положение в обществе; во-вторых, богатая духовная жизнь и стремление к совершенству; в-третьих, острая неудовлетворенность собою, которую они все временами, реже или чаще испытывали.
Таково было состояние Нехлюдова в тот момент, когда он увидел на скамье подсудимых Катюшу Маслову.
«С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл „чисткой души“. Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки» (т. 32, стр. 102).
Нехлюдов — характер движущийся и развивающийся. В «Воскресении», как в «Войне и мире» и «Анне Карениной», достоинство человека из привилегированного сословия определяется степенью его способности противостоять окружающей среде, ее нравам, обычаям и нормам жизни. Нехлюдов довольно рано почувствовал, что условия, в которых он жил, губили его, и он пытался преодолеть их власть над собой. В девятнадцать лет он был честным и благородным юношей, он еще тогда часть принадлежащей ему земли отдал крестьянам. Но через три года он стал «совершенно другим человеком»: «...теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение» (т. 32, стр. 47). Перемена эта с Нехлюдовым произошла потому, что он лишился своей духовной самостоятельности, у него не хватало сил отстоять ее.
При всем том внутренняя, духовная работа никогда не прекращалась в Нехлюдове. Встреча с Катюшей Масловой в зале суда пробудила в нем давно забытую мысль о достижении совершенства.
Когда речь идет о желании и стремлении Нехлюдова усовершенствовать свой нравственный и духовный мир, необходимо иметь в виду два периода в его жизни — до встречи с Катюшей Масловой в суде и после этой встречи. В первом случае желание и стремление Нехлюдова нравственно и духовно усовершенствоваться в основном будет совпадать с такого же рода желанием Пьера Безухова или Константина Левина. Пьер Безухов увидел едва ли не высшую свою цель в том, чтобы согласовать свой взгляд на мир со взглядом Платона Каратаева, Константин Левин — со взглядом Фоканыча. Пьер Безухов и особенно Константин Левин более всего мучились тем, что они как помещики не могли считать свое положение справедливым, и намеревались изменить его, причем так, чтобы у трудового народа не было оснований обвинять их в тунеядстве. Тем же самым мучается и юноша Нехлюдов.
- 583 -
В другом же случае, после встречи Нехлюдова с Катюшей Масловой в суде, его нравственные страдания имели иные причины. Для него теперь отказ от своего богатства в пользу крестьян не был главной трудностью. Главная трудность для него теперь состояла в том, чтобы заслужить прощение у Катюши Масловой, чтобы искупить те грехи, которые он совершил.
Развитие человеческого характера Толстой всегда мыслил как следствие преодоления человеком дурного, отрицательного влияния на него окружающих условий жизни. В противоречиях и борьбе со средой развиваются и духовно растут такие толстовские характеры, как Николенька Иртеньев (автобиографическая трилогия), Нехлюдов («Утро помещика»), Оленин («Казаки»), Пьер Безухов и Андрей Болконский («Война и мир»), Константин Левин («Анна Каренина»). То же самое можно сказать и о герое «Воскресения» — Нехлюдове. Но Нехлюдов идет значительно дальше своих предшественников. Принципы создания образа Нехлюдова существенно отличаются от принципов создания, например, образов Пьера Безухова и даже Константина Левина.
Образ Нехлюдова в первых главах романа дан как явно отрицательный, даже с сатирическим оттенком.
Перелом во взглядах Нехлюдова на мир и на свое место в нем происходит очень быстро, без длительной внутренней подготовки, почти внезапно для него самого. Увидав Катюшу Маслову на суде, Нехлюдов в первую минуту испытал лишь чувство испуга. Он боялся и того, что она может узнать его, и того, что их прежние отношения станут известны членам суда. Сначала у него было только одно желание: остаться не узнанным Катюшей Масловой и скрыться от нее. Но вскоре иное чувство стало овладевать им — это чувство раскаяния и желание загладить свой грех. Этим добрым чувствам, однако, противостояло прежнее, дурное. Нехлюдов подчинялся то одним чувствам и мыслям, то другим, прямо противоположным. Он так и ушел из зала суда, не решив для себя вопроса, как он должен вести себя по отношению к Масловой.
Из зала суда Нехлюдов поехал к Корчагиным, где его ожидали как жениха Мисси Корчагиной. Новый свет, в котором теперь увидел Нехлюдов дом Корчагиных, исходил из зала суда. Нехлюдов ехал к Корчагиным, чтобы развлечься, т. е. освободиться от тех мыслей, которые были возбуждены в нем неожиданной встречей с Катюшей Масловой и всем процессом судебного заседания. Но этого не удалось достигнуть. Картины суда всё время стояли перед ним. И рядом с этими картинами всё в доме Корчагиных представлялось ему неестественным, фальшивым. Он смотрел теперь на всех и на всё, что окружало его, с «осудительным выражением», как замечает Мисси Корчагина. От Корчагиных Нехлюдов направляется домой. Гнев, который он только что обрушивал на головы других, теперь он обрушивает на свою собственную. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно», — думал теперь Нехлюдов (т. 32, стр. 100).
Он вспоминает все недостойные поступки, которые были им совершены. Он вспоминает себя, каким был в 19 лет, и сравнивает с собой, каким он стал к этому, столь знаменательному для него дню.
«Различие между ним, каким он был тогда и каким он был теперь, было огромно: оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности, — теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной,
- 584 -
ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, но даже большей частью и не хотел выходить» (т. 32, стр. 101).
Дома он «вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Мисси, и к Корнею, было отвращение к самому себе» (т. 32, стр. 102). Круг переживаний Нехлюдова, имевших для него чрезвычайно важное значение, завершился в течение одного дня. Утром, увидев в зале судебного заседания Катюшу Маслову, он пережил лишь угрызения совести по поводу своих грехов молодости; вечером решил порвать со всем своим прошлым и начать новую жизнь, женившись на Катюше Масловой.
Из того, что Нехлюдов принимает так быстро столь важное для себя решение, нельзя заключать, что оно было недостаточно продумано им. Вывод, к которому он пришел в один день, был подготовлен предшествующим его развитием. Нехлюдов в зрелом возрасте как бы возвратился к настроениям своих юношеских лет, осмыслил их по-новому и; умудренный опытом жизни, сделал то, чего в юношеские годы сделать не смог.
Крутой поворот в жизни и во взглядах Нехлюдова мотивирован Толстым со всей неопровержимостью и глубиной, свойственной его реализму. При всем том образ Нехлюдова в этом отношении, как и во многих других, строится иначе, нежели образы Пьера Безухова, Андрея Болконского. Константина Левина. При создании этих образов внимание Толстого сосредоточено на самом процессе поисков истины его героями. Создавая же образ Нехлюдова, Толстой не делает предметом изображения длительный процесс борьбы душевных сил Нехлюдова, а вскрывает лишь закономерности его развития и исхода. В результате Толстой нисколько не умаляет власти окружающей среды над Нехлюдовым. Вся история жизни Нехлюдова, как она обрисована в романе, свидетельствует о том, что он был человек сильный в умственном и нравственном отношении и что от него потребовалось напряжение всех сил для того, чтобы он смог противостоять среде. Власть ее над собой Нехлюдов продолжал чувствовать длительное время и после того, как он принял решение бесповоротно порвать с нею.
Так Нехлюдов, проделавший весь огромный путь вместе с арестантами, в Сибири, в гостях у генерала, начальника края, чувствует, что обед в доме генерала был «особенно приятен ему». «...Нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановки, вкусной пищи и легкости и приятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга, как будто всё то, среди чего он жил последнее время, был сон, от которого он проснулся в настоящей действительности» (т. 32, стр. 427).
Нехлюдов постоянно ощущает, что его натура, его человеческое существо как бы расщепляется на два начала — духовное и животное. Наличие в себе животного начала он объясняет дурным, крайне отрицательным влиянием среды. Духовным началом он называет в себе ту силу, которая противостоит среде.
Таким образом, конфликт человека со средой приобрел форму внутреннего конфликта в самой духовной и нравственной природе человека. С одной стороны, это было углублением конфликта, поскольку человек, подобный Нехлюдову, постоянно ощущал в себе то вредное начало, которое воспитала в нем окружающая его среда. С другой — это снижало, притупляло социальную остроту конфликта, поскольку он рассматривался как вечный, изначально присутствующий в человеке.
Путь Нехлюдова к разрыву со средой очень сложен. Понимание того, что люди его круга ведут несправедливую жизнь, зарождается в нем рано.
- 585 -
В юношестве еще он пытался решительно изменить свой образ жизни, но ничего не достиг. Среда подчинила его себе, и он стал ее типичным представителем.
Л. Н. Толстой.
Фотография. 1896.Нехлюдов совершил преступление, погубив жизнь Катюши Масловой. Возрождение Нехлюдова как человека, возрождение в нем духовной жизни начинается с осознания лично им совершенного преступления.
Но Нехлюдов не ограничивается признанием собственной вины, он хочет искупить ее. Главное, что было мучительно для Нехлюдова, это «то, что для того, чтобы помочь угнетенным, он должен становиться на сторону угнетающих, как будто признавая их деятельность законной тем, что обращался к ним с просьбами о том, чтобы они немного, хотя бы по отношению известных лиц, воздержались от своих обычных и вероятно незаметных им самим жестокостей» (т. 32, стр. 253).
Так Нехлюдов оказывается на грани двух миров — мира угнетателей, который вызывал в нем отвращение и с которым он хотел как можно
- 586 -
скорее решительно и навсегда порвать, и мира угнетенных, перед которыми он чувствовал себя безгранично виноватым, всемерно стремясь перед ними искупить свою вину. В этом сущность образа Нехлюдова, и это накладывает отпечаток на всё построение романа, необычайно широкого по охвату событий и необычайно глубоко раскрывающего строй жизни и мира угнетателей и мира угнетенных.
Роман начинается изложением истории жизни Катюши Масловой как жертвы несправедливого общественного строя. Вслед за тем дана характеристика Нехлюдова как типичного представителя этого строя, как непосредственного виновника погубленной жизни Катюши Масловой. После этого идут сцены суда, в которых психологическим центром остаются Нехлюдов и Маслова. Судят Катюшу Маслову, но Нехлюдов, узнав ее и вспомнив, как он виноват перед нею, начинает испытывать такое чувство, будто над ним самим совершается этот суд.
Сцены суда в романе «Воскресение» играют как бы двоякую роль: они с громадной силой реализма характеризуют суд как насквозь лживое и лицемерное учреждение, ставящее своей целью защиту интересов мира угнетателей, а с другой стороны, приобретают для Нехлюдова некое символическое значение — он пришел на суд в качестве одного из судей и ушел из суда, отказавшись дальше участвовать в его заседаниях и решив свою дальнейшую жизнь посвятить искуплению своей вины. Суд как бы символизирует преступность жизни его собственной и его класса.
Катюша Маслова приговорена к каторжным работам. Та цепь несчастий, которая началась для нее после того, как она была соблазнена Нехлюдовым, замкнулась: каторга — последнее звено в цепи угнетения человека.
Переживания Масловой, приговоренной к каторге, обнаруживают и ее крайнюю ненависть к несправедливому общественному строю, который губит таких, как она, и в то же время ее во многом испорченную, извращенную нравственность: так, например, ее ужасно огорчает то, что ей могли вынести такой жестокий приговор те самые мужчины, на которых так сильно всегда действовала ее женская привлекательность.
Маслова прекрасно поняла, для чего Нехлюдов добивается ее согласия выйти за него замуж. Она решительно отказывает Нехлюдову, которого несомненно любила. Для Катюши Нехлюдов, при всех его самых хороших качествах и благих намерениях, остается барином. В самом его предложении выйти за него замуж она видела барскую уловку — снять с себя моральную ответственность за содеянное зло. Если бы Катюша Маслова согласилась стать женой Нехлюдова; это означало бы, что она простила его, а значит и ту среду, к которой он принадлежал. В таком случае ненависть Катюши ко всем людям, сделавшим ей зло, должна была бы угаснуть, ибо брак с Нехлюдовым означал бы для нее вознаграждение за все несчастья, признание восстановленной справедливости.
Толстой показывает, что как представительница мира угнетенных Катюша не могла и не хотела этого сделать. Это привело бы к сглаживанию конфликта между миром угнетенных и миром угнетателей, к утрате социального пафоса романа. Брак Катюши с Нехлюдовым был невозможен еще и потому, что если бы это случилось, Нехлюдов перестал бы чувствовать свою вину за содеянное зло. Сознание своей вины и вины своего класса, стремление искупить вину — неотъемлемое свойство Нехлюдова. Замолить грех для него невозможно. У Нехлюдова нет на это перспективы даже в загробном мире, поскольку он верит в него. Так очевидно и нужно понимать следующие слова Катюши Масловой: «— Уйди от меня.
- 587 -
Я каторжная, а ты князь и нечего тебе тут быть... — Ты мной хочешь спастись... — Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись!» (т. 32, стр. 166).
Приговором суда определяется путь Масловой. Решением жениться на Масловой определил свой путь Нехлюдов.
После того, как Нехлюдовым было принято решение о женитьбе на Масловой, его собственная судьба в значительной степени потеряла самостоятельное значение для развития сюжета и композиции романа, хотя он и в дальнейшем занимает очень большое место в романе. Деятельность Нехлюдова направлена теперь в основном на изменение судьбы Масловой. Для Нехлюдова изменить судьбу Масловой и жениться на ней — это значит искупить свою вину. Несмотря на то, что Маслова отказалась стать его женой, Нехлюдов решил посвятить ей свою жизнь.
Приняв для себя такое важное решение, Нехлюдов пытается до конца уяснить свое собственное отношение к Масловой, а еще больше — отношение Масловой к себе. Маслова же, начиная с первого свидания с Нехлюдовым в тюрьме, старается определить свое отношение к Нехлюдову и в связи с этим свое место в мире. Эта психологическая коллизия составляет основу сюжета второй половины первой части романа.
В духовной биографии Нехлюдова Толстой выразил свое собственное отношение к идеологии и нравственным принципам господствующих классов и в общей форме свой новый взгляд на мир. В образе Катюши Масловой он показал в свете этого нового взгляда, какой может быть и бывает участь человека, принадлежащего к абсолютному большинству нации, угнетенному незначительным меньшинством ее.
Нехлюдов трижды встречается с Масловой до своего отъезда в Петербург и только при последнем свидании он приближается к правильному пониманию отношения к нему Катюши. В конце концов Нехлюдов понял, что в «отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое — хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию» (т. 32, стр. 195).
Отказ Масловой не отделил, а приблизил к ней Нехлюдова. Теперь уже его судьба окончательно подчинялась судьбе Масловой, тогда как при другом исходе дела ее судьба должна была подчиниться его судьбе. Решив заботиться о Масловой и людях ей подобных, Нехлюдов еще крепче связал свою жизнь с жизнью угнетенных и бесправных людей.
Для того чтобы видеться с Масловой, Нехлюдову нужно было встречаться с представителями власти, добиваться от них разрешения на эти свидания, которые сделались для него необходимыми. Нехлюдову открылись новые стороны действительности, его сознание вплотную столкнулось и с миром осужденных и с бюрократическим миром, который вершил судьбами страны. Вопрос об отношении к политическому и государственному строю царской России должен был возникнуть перед Нехлюдовым в результате его наблюдений как над заключенными, так и над представителями губернских, а затем и столичных властей.
Вторая часть романа открывается сценами, рисующими пребывание Нехлюдова в деревне, его встречи с крестьянами принадлежащих ему деревень.
Нехлюдов, решивший так или иначе соединить свою судьбу с кругом Катюши Масловой, должен был сделать шаги в направлении разрыва со своим прежним кругом. Ему предстояло отказаться от своих помещичьих
- 588 -
прав, и он это делает, всё время испытывая колебания и преодолевая их.
Нехлюдов всматривается в народную жизнь и видит в ней многое такое, чего раньше не мог заметить. Описание его поездки в деревню, напоминая «Утро помещика», показывает, насколько серьезно изменились взгляды Толстого на народ. В этом отношении показательна сцена «словесного турнира» между управляющим немцем и крестьянином:
«— А ты научись уважать чужую собственность, — сказал управляющий.
«— Да мы разве не уважаем тебя? — сказал старик. — Нам тебя нельзя не уважать, потому мы у тебя в руках; ты из нас веревки вьёшь.
«— Ну, брат, вас не обидишь; вы бы не обидели.
«— Как же, обидишь! Разбил мне летось морду, так и осталось. С богатыми не судись, видно.
«— А ты делай по закону» (т. 32, стр. 205). Определяя смысл спора, Толстой пишет далее:
«Очевидно, шел словесный турнир, в котором участвующие не понимали хорошенько, зачем и что они говорят. Заметно было только с одной стороны сдерживаемое страхом озлобление, с другой — сознание своего превосходства и власти» (там же).
Во второй части романа, как и в первой, главенствующее место в повествовании принадлежит Нехлюдову, хотя сама по себе его судьба Толстого уже интересует сравнительно мало. Конечно, в плане развития сюжета поездка Нехлюдова в деревню подчинена эволюции его личности, но деревенские сцены очень мало дают нового в этом смысле. Их основное назначение — показать деревню с позиции идеолога патриархального крестьянства. Договорившись обо всем с крестьянами, Нехлюдов уезжает в Петербург. Сюжетно эта поездка оправдана желанием Нехлюдова добиться отмены несправедливого приговора в отношении Масловой. Смысловое назначение петербургских сцен — разоблачить столичную бюрократию.
Принципы сюжетного и композиционного построения «Воскресения» чрезвычайно своеобразны. Отправным пунктом в построении романа являются личные судьбы главных героев — Нехлюдова и Масловой. Однако сюжетная основа романа, всё время сохраняя линию личных судеб Нехлюдова и Масловой, в своем движении расширяется и расширяется, повествование охватывает всё новые и новые стороны действительности, включает всё новую и новую проблематику, вплоть до проблем, связанных с общественным и государственным устройством в стране.
Проблема взаимоотношения характера и среды, непосредственно его окружающей, в «Воскресении» отчасти перерастает, а отчасти сливается с проблемой взаимоотношения человека, а затем народа с государственной властью. Люди из народа, с их великолепными духовными и нравственными качествами, в их тягостном экономическом положении были широко представлены и в прежних романах Толстого. В «Воскресении» центр повествования перемещается на судьбы этих простых людей, причем в своем последнем романе Толстой ставит проблему не только экономического, но и правового положения народа, и судьбу Масловой он берет лишь как показательный пример, как единицу бесчисленной человеческой массы.
Отправляясь в Петербург, Нехлюдов надеется добиться изменения участи Масловой и многих других, но все его надежды терпят крах. В Петербурге ему открылась картина «ужасных историй царствующего зла», окончательно уяснился вопрос об истинном отношении власти к народу:
- 589 -
«...в душе Нехлюдова не было больше дающей отдых темноты незнания. Всё было ясно. Ясно было, что всё то, что считается важным и хорошим, всё это ничтожно или гадко, и что весь этот блеск, вся эта роскошь прикрывает преступления старые, всем привычные, не только не наказуемые, но торжествующие и изукрашенные всею тою прелестью, которую только могут придумать люди» (т. 32, стр. 304).
«Воскресение». Катюша Маслова на суде.
С рисунка Л. О. Пастернака. 1899.Не добившись изменения судьбы Катюши, Нехлюдов оказался перед необходимостью приблизить свою собственную судьбу к судьбе Масловой и того мира, в котором она жила.
Во второй половине второй части романа Нехлюдов значительно углубляет и расширяет свое знакомство с заключенными, готовится последовать за ними в Сибирь. Его убеждение в бесчеловечном отношении властей к народу окончательно закрепляется двумя случаями смерти арестованных.
Если во второй части, преимущественно в петербургских сценах, Толстой показывает действительное отношение власти к народу, то в третьей он попытался рассмотреть истинные взгляды народа на власть дворянства и буржуазии. Эта власть не только не заботится об изменении участи угнетенного народа, но стремится всячески усилить это угнетение. Следовательно, народ сам должен позаботиться об изменении своей участи.
Изображая отношения Нехлюдова к революционерам, Толстой фактически оправдывает их отрицание существующего порядка вещей и соглашается с ними в требовании нового общественно-экономического устройства. Но оправдывая революционеров в одном отношении, Толстой осуждает их в другом: революционную борьбу он объявляет заблуждением, утверждая, что единственным средством достижения правильной организации общества является проповедь нравственного самоусовершенствования каждого человека в отдельности.
В третьей части романа, где перед Толстым встала задача формулирования идеала народа, в наибольшей степени обнаружилась слабость его идеологических позиций.
Нехлюдов начинает сближаться с революционерами в тот момент, когда он, хорошо зная положение народа и отношение к народу властей, мог во многом оправдать революционеров. Отношение Нехлюдова к революционерам выразилось в том, что по его просьбе Маслова была переведена из отделения уголовных в отделение политических; он был уже уверен,
- 590 -
что среда политических окажет на нее благотворное влияние. Затем последовало сближение и самого Нехлюдова с политическими.
Л. Н. Толстой среди крестьян. Картина Н. П. Богданова-Бельского.
1914 (?).Все эти эпизоды введены в роман в последней его редакции. В более ранних редакциях их не было. Даже в редакции 1895 года Нехлюдов женится на Катюше Масловой, приговоренной к каторжным работам, уезжает вместе с ней в Сибирь, откуда они бегут за границу. При дальнейшей работе над романом Толстой значительно углубил образ Катюши. В окончательном тексте подчеркнута ее непримиримость к Нехлюдову как представителю враждебного класса и в то же время показано, как происходит ее «воскресение» под влиянием революционеров, в первую очередь Симонсона. Последний момент свидетельствует, хотел этого Толстой или не хотел, о признании им благотворного воздействия революционной идеологии на забитые и отсталые массы.
В «Воскресении» отражены те кричащие противоречия во взглядах и в позиции Толстого, о которых говорится в статьях Ленина: «Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание
- 591 -
избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости. Историко-экономические условия объясняют и необходимость возникновения революционной борьбы масс и неподготовленность их к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании».1
Л. Н. Толстой на прогулке в Ясной Поляне. Фотография. 1908.
Противоречия, о которых здесь идет речь, наиболее ощутимы в образе Нехлюдова. Поняв, что современный ему общественный и государственный строй в своей основе и во всех своих проявлениях глубоко несправедлив, Нехлюдов направляет свои усилия не на борьбу с ним, а на то, чтобы усовершенствовать свой собственный духовный мир. Он старался себя уверить в том, что всё остальное изменится само собой. Образ Нехлюдова связан с толстовской проповедью непротивления злу насилием.
Роман заканчивается сценой чтения Нехлюдовым евангелия. Евангельский текст как бы примиряет его с общественным злом, которое он уже видел с такой ясностью. Сцена эта была резко осуждена передовыми людьми того времени, в частности Чеховым.
Над последней редакцией романа Толстой работал в обстановке бурного общественного подъема в России. Это был конец 90-х годов, время, когда Горький приступал к созданию такого произведения, как «Фома Гордеев».
Толстой хотел откликнуться своим романом на то, что делалось в жизни. Он стремился сделать главными героями романа простых людей, понимая, что «они — предмет, они положительное» (т. 53, стр. 69).
- 592 -
Что касается представителей господствующих классов, то они, по Толстому, — «тень», «отрицательное» (там же).
«Воскресение» было напечатано в журнале «Нива» за 1899 год с большим числом цензурных изъятий и изменений.
В таком же изуродованном виде вышел роман и отдельным изданием в 1900 году в Петербурге. В том же году В. Г. Чертков выпустил бесцензурное издание романа в Англии.
Критический пафос реализма Толстого в «Воскресении» достиг высшей ступени своего развития. Образ центрального героя, как мы видели, строится здесь на основе новых принципов, подчиненных задаче обличения господствующих классов, общественного и государственного строя, который стоял на защите их интересов. Структура произведения также служит решению указанной задачи. Существенно обогатились в «Воскресении» принципы изображения народа и его представителей, принципы изображения господствующих классов. Одна из особенностей реализма «Воскресения» та, что конфликт, лежащий в основе прежних произведений Толстого, — конфликт лучшего представителя дворянства с окружающей средой, — в последнем его романе оттесняется на задний план, а на центральное место выдвигается конфликт бесправного и угнетенного человека, а затем и всего народа с эксплуататорским строем.
Характерной чертой реализма «Воскресения» является публицистическая тенденция. В последнем своем романе Толстой как бы принимает на себя функции защитника многомиллионных крестьянских масс и обвинителя тех, по вине кого эти массы обречены на рабство и нищету. Именно потому, что Толстой говорит от имени народа, он считает своей прямой обязанностью вмешиваться в описываемые события, давать им прямые социальные оценки.
«Воскресение» — роман с ярко выраженной тенденцией. В связи с этим и художественные средства его имеют резко оценочный характер. В литературе уже отмечалось бросающееся в глаза различие в сценах пробуждения Стивы Облонского и Дмитрия Нехлюдова. Описание барской обстановки кабинета Стивы не включает в себя оценочного момента. Напротив, в описании барской обстановки Дмитрия Нехлюдова оценочный момент играет главную роль: каждая деталь этой обстановки обличает Нехлюдова как человека, живущего за счет народа, его труда.
В «Воскресении» Толстой широко пользуется средствами сатиры, которая по самой своей художественной природе активно направлена против отрицательных явлений действительности.
Роман «Воскресение» — крупнейшее достижение не только Толстого, но и всей литературы критического реализма. Развивая ее принципы с позиций защитника интересов многомиллионного патриархального крестьянства в обстановке бурного общественного подъема, когда на сцену выступил пролетариат, Толстой в романе «Воскресение», особенно в последней его части, выдвинул — хотел он этого или не хотел — тему революции как центральную для русской литературы на грани XIX—XX веков.
19
Период работы над «Воскресением» отмечен напряженным интересом Толстого к теоретическим вопросам искусства. Именно в 90-е и начале 900-х годов Толстой создает все свои значительные произведения на эту тему: предисловие к сочинениям Ги де Мопассана (1893—1894), предисловие
- 593 -
к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова (1894), трактат «Что такое искусство?» (1897—1898), предисловие к роману Вильгельма фон Поленца «Крестьянин» (1901), статью «О Шекспире и о драме» (1903—1904).
Л. Н. Толстой в деревне Ясная Поляна. Фотография. 1908.
Разработка Толстым общих вопросов искусства и литературы явилась прежде всего обобщением многолетнего опыта великого писателя-реалиста, и в этом отношении его теоретические статьи, вместе с многочисленными высказываниями в дневниках, письмах и устных беседах, представляют исключительный интерес. С другой стороны, острое желание Толстого выступить открыто с изложением своих взглядов на искусство было вызвано, безусловно, стремлением писателя утвердить то понимание задач искусства, к которому он пришел в результате пережитого им идейного перелома, перехода на позиции крестьянства. Не случайно так резко противопоставлял сам Толстой свое отношение к писательскому труду раньше и теперь, после перелома в мировоззрении. В дневнике 1891 года он записал: «Первые, прежние мои романы были бессознательное творчество. С Анны Карениной, кажется больше 10 лет, я расчленял, разделял, анализировал; теперь я знаю что́ что́ и могу все смешать опять и работать в этом смешанном» (т. 52, стр. 6).
Принципы воинствующего реализма, требование от искусства служить интересам народа — эти основополагающие черты своей художественной практики Толстой выдвигает и в качестве основных положений эстетики. С этой точки зрения он беспощадно критикует «господское искусство», оторванное от народа, принявшее в конце XIX и начале XX века уродливые формы декадентства и натурализма.
Демократический подъем в среде широких народных масс и явное разложение буржуазного искусства усилили интерес Толстого в 90-е и 900-е годы к общим вопросам искусства.
Чаяния многомиллионных масс русского крестьянства, обреченных в условиях полицейско-самодержавного строя царской России на беспросветную темноту и невежество, отразились в мечте Толстого о народном искусстве, в его страстной критике «лжеискусства», являющегося праздной
- 594 -
забавой эксплуататорских классов, оправдывающего их привилегированное положение. Но именно оттого, что Толстой выражал настроения патриархального крестьянства, столь противоречивой была его эстетическая позиция. Утверждение народного искусства и отрицание образцов классического наследия, якобы ненужных народу; резкая критика безнравственных декадентских и натуралистических писаний, утверждение высокого воспитательного влияния искусства и провозглашение в качестве высшего этического критерия истин христианской религии; страстная борьба за художественное мастерство, ясность, простоту и красоту художественной формы и высокая оценка «общедоступных» примитивов — таковы кричащие противоречия эстетической программы Толстого, нашедшие воплощение во всех его статьях по вопросам литературы и искусства.
Толстой выдвинул и обосновал чрезвычайно важное положение о том, что произведение искусства только тогда хорошо, когда значительно и ново его содержание, совершенна художественная форма и когда художник создает свое произведение «из внутренней потребности», т. е. «вполне правдиво» (т. 30, стр. 213). Эта мысль высказывалась Толстым в разных формах множество раз, наиболее полно сформулирована она в предисловии к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова: «Я давно уже составил себе правило судить о всяком художественном произведении с трех сторон: 1) со стороны содержания — насколько важно и нужно для людей то, что с новой стороны открывается художником, потому что всякое произведение тогда только произведение искусства, когда оно открывает новую сторону жизни; 2) насколько хороша, красива, соответственна содержанию форма произведения и 3) насколько искренно отношение художника к своему предмету, т. е. насколько он верит в то, что он изображает» (т. 29, стр. 213).
Особо следует остановиться на последнем из этих положений с тем, чтобы выяснить, что же разумел Толстой под «искренностью» художника. Это необходимо тем более, что в том же предисловии к рассказам С. Т. Семенова Толстой назвал это условие «самым важным в художественном произведении».
Прежде всего приходится подчеркнуть, что Толстой не мыслил подлинного произведения искусства без того, чтобы оно не удовлетворяло всем трем условиям. Порицая защитников бездарных, антихудожественных произведений, теорию «искусства для искусства», он вместе с тем беспощадно отвергал и тех, кто «искренность» выставлял единственным критерием искусства. В статье «Об искусстве», характеризуя три «ложные теории искусства», Толстой писал: «Третья признает, что всё дело в задушевности, в правдивости, что, как бы ни ничтожно было содержание и несовершенна форма, только бы художник любил то, что он выражает, произведение будет художественно. Эта теория называется теорией реализма» (т. 30, стр. 214). Под «реализмом» здесь имеется в виду несомненно натурализм, столь распространившийся в конце прошлого века на Западе, а также нашедший своих эпигонов и в русской литературе.
В понимании самого Толстого слово «искренность», «правдивость» применительно к произведениям искусства означало нечто, совершенно противоположное точному, буквальному копированию действительности. Известно, с каким сарказмом ополчился он на представителей натурализма. Высмеивая натуралистов, видевших в «списывании с натуры» назначение искусства, Толстой говорил: «Идет мужик — опишут мужика, лежит свинья — ее опишут и т. д. Но разве это искусство? А где же одухотворяющая мысль, делающая бессмертными истинно великие произведения
- 595 -
человеческого ума и сердца... И как легко дается это писание „с натуры“! Набил себе руку — и валяй!».1
Л. Н. Толстой среди крестьян и рабочих.
Фотография. 1909.По Толстому, «искренность» произведения выражается именно в том, что оно бывает проникнуто «одухотворяющей» его мыслью и чувством, дорогими художнику, определяющими его оценку изображаемого. Особенно ясно такое понимание Толстым «искренности» выявляется в его предисловии к сочинениям Мопассана.
Следует оговориться, что для Толстого как писателя была всегда особенно важна этическая оценка изображаемых художником лиц и событий. В этом отношении он следовал в русле традиций всей русской литературы, которая справедливо называлась «совестью» русского общества. Однако в творчестве Толстого эта связь эстетики и этики выражена особенно ярко. Недаром Н. Г. Чернышевский говорил о «чистоте нравственного чувства» как отличительной черте писательского облика Толстого, справедливо предугадывая, что она останется существенной особенностью таланта Толстого, какие бы новые черты ни выявились в нем при дальнейшем развитии. Именно поэтому для Толстого «одухотворяющие» произведение мысль и чувство были выражением нравственного отношения художника к тому, что он изображает, любви к тому, что «добро», и отвращения к тому, что «зло». «Единство самобытного нравственного отношения автора к предмету» является, по мысли Толстого, тем «цементом, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни» (т. 30, стр. 18—19).
Так, оценивая произведения Мопассана, Толстой показывает, как отсутствие правильного, т. е. нравственного, отношения автора к предмету уничтожает искренность и правдивость произведения, делает его «ложным». Субъективно Мопассан, по словам Толстого, обладал «искренностью, т. е. не притворялся, что любит или ненавидит, а точно любил и ненавидел то, что описывал». Однако он не знал «различия между добром и злом, он любил и изображал то, чего не надо было любить и изображать, и не любил, и не изображал того, что надо было любить и изображать» (т. 30, стр. 4—5). Именно поэтому в рассказе Мопассана «Поездка за город» самое событие описано ложно, потому что «описана только одна самая ничтожная сторона предмета: удовольствие, полученное
- 596 -
негодяями» (т. 30, стр. 5). Подобным образом в «Истории деревенской служанки» Мопассан, «очевидно, видит во всех тех рабочих людях, которых он описывает, только животных... и потому от описания его получается неполное, искусственное впечатление» (там же).
И далее Толстой развивает мысль о том, что нельзя «верить» таким произведениям, в которых народ изображается в виде тупых, развратных животных, что, таким образом, объективно эти произведения неискренни, они лишены одухотворяющей мысли и чувства. Читатель только тогда верит в то, что изображено писателем, если «автор знает, кого надо любить, кого ненавидеть» (т. 30, стр. 19). Подлинно «искреннее» отношение Мопассана к изображаемым лицам и событиям Толстой видит в тех его произведениях, где присутствует «правильная», нравственная оценка их: в романе «Жизнь» и большинстве рассказов. Напротив, «на всех романах Мопассана, начиная с „Bel ami“ («Милый друг»), уже лежит... печать поспешности и, главное, выдуманности» (т. 30, стр. 11). По убеждению Толстого, в последних романах Мопассана снижается и реализм, и художественность.
Так проблема «искренности» связывалась в эстетике Толстого с вопросом о правде в искусстве, его нравственном воздействии, о совершенстве художественной формы.
В той же статье Толстой определяет основное свойство художественного таланта — умение видеть вещи в их сущности. «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть» (т. 30, стр. 20). Таким талантом обладал Мопассан. Но талант этот был, по мнению Толстого, ограничен теми ложными представлениями о назначении искусства, которые господствовали в окружавшей писателя литературной среде.
Мысль о разлагающем влиянии на искусство декадентских теорий, затронутая в предисловии к сочинениям Мопассана, становится основной в трактате «Что такое искусство?». Резко критикуя в трактате декадентство и натурализм, Толстой развернул свою положительную программу искусства. Предметом искусства он провозгласил простые, естественные, истинно человеческие чувства простых людей труда, а целью искусства — служение интересам народа.
Здесь содержится и едкая критика Толстым теорий «беспристрастного» искусства, которые прикрывают этой лицемерной маской оправдание бессодержательных произведений, служащих игрушкой для удовлетворения пресыщенных вкусов «господ». Толстой выдвигает свое требование активного, а не безлично-созерцательного отношения к жизни.
Высмеивая извращенность художественной формы в произведениях декадентов, Толстой утверждает простоту, доступность как необходимое условие того, чтобы искусство удовлетворяло своему подлинному назначению — быть одним из средств общения людей между собой. «Наше утонченное, развращенное искусство могло возникнуть только на рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока будет рабство» — исходя из этого тезиса, Толстой строит свою программу подлинного, истинного искусства, искусства будущего. В одной из последних глав трактата, посвященной искусству будущего, Толстой утверждает, что в новых условиях жизни «художниками, производящими искусство, будут тоже не так, как теперь, только те редкие, выбранные из малой части всего народа, люди богатых классов или близких к ним, а все те даровитые люди из всего народа, которые окажутся способными и склонными к художественной деятельности» (т. 30, стр. 180).
- 597 -
В мечтах Толстого об искусстве будущего народ должен был стать и творцом, и ценителем искусства.
Иллюстрация:
«Голод или не голод 1898 года?».
Титульный лист.Но именно оттого, что с понятием «народ» писатель соединял главным образом представление о патриархальном крестьянстве, его определение подлинного искусства было крайне противоречиво и во многом ограничено.
По мнению Толстого, «признаки истинного искусства — новое, ясное и искреннее, доброе». «...искусство нашего времени... должно соединять всех людей, — пишет он в трактате „Что такое искусство?“. — Соединяют же всех людей только два рода чувств: чувства, вытекающие из сознания сыновности богу и братства людей, и чувства самые простые — житейские, но такие, которые доступны всем без исключения людям, как чувства веселья, умиления, бодрости, спокойствия и т. п. Только эти два рода чувств составляют предмет хорошего по содержанию искусства нашего времени» (т. 30, стр. 158).
Упадок искусства от его разрыва с народом Толстой объясняет как упадок от разрыва с религиозным сознанием.
Чтобы искусство распространилось на наибольшее число людей, необходимо, полагает Толстой, чтобы целью искусства стало «добро», единение на основе христианского миропонимания. «Искусство истинное только тогда, когда совпадет внутренне стремление с сознанием исполнения дела божия», — записал Толстой в дневнике 1894 года и повторил эту же мысль в трактате «Что такое искусство?»: «Всегда, во всякое время и во всяком человеческом обществе есть общее всем людям этого общества религиозное сознание того, что хорошо и что дурно, и это-то религиозное сознание и определяет достоинство чувств, передаваемых искусством» (т. 30, стр. 69).
Утверждая, что произведение только тогда хорошо, когда писатель любит в нем «главную основную мысль» и когда произведение имеет «нечто вроде фокуса, т. е. чего-то такого, к чему сходятся все лучи или от чего исходят»,1 «в зависимости от которого развиваются лица, характеры, события», Толстой пытается обосновать мысль о религиозно-нравственном отношении автора к изображаемому, как «фокусе» произведения.
- 598 -
Религиозные заблуждения отсталого, забитого русского крестьянина предопределили, таким образом, слабость не только социально-этических, но и эстетических взглядов Толстого, отрицание им, исходя из ложной идеи о необходимости христианского искусства, классического наследства (в том числе произведений Шекспира) и, с другой стороны, неумеренное восхваление произведений более слабых художественно, но зато проникнутых «христианским» отношением к жизни.
Однако при всей противоречивости эстетических взглядов Толстого в его статьях об искусстве много положений, которые составляют неотъемлемую основу эстетики реализма. Именно они сближают Толстого с передовыми деятелями и теоретиками искусства и литературы его времени, в частности с революционными демократами. Именно они, являясь обобщением опыта критического реализма, творчески воспринимаются в новых исторических условиях писателями современности.
20
Основной пафос произведений, созданных Толстым накануне революции 1905 года, — борьба с самодержавным деспотизмом, всеми порядками помещичье-буржуазной России, с одной стороны, и утверждение деятельной жизни во всех ее бесчисленных проявлениях, даже если она порой и противоречила религиозно-нравственному учению Толстого, в основе своей пассивному и аскетическому, — с другой. Наибольший интерес в этом плане представляют, помимо «Воскресения», повести «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат» и пьеса «Живой труп».
Тема «Отца Сергия», над которым Толстой работал в 1890, 1891, 1895 и 1898 годах, сюжетно не связанная с «Воскресением», связана с ним идейно. Мысль о губительности испепеляющей человека стихии чувственной любви, не согретой духовной близостью, развитая в «Крейцеровой сонате», «Дьяволе», «Воскресении», сочетается в «Отце Сергии» с темой о борьбе со «славой людской». Характерно, что развита эта тема на истории жизни монаха, «сподвижника». Пафос повести — в страстной критике ухода от жизни, монастырского затворничества.
В дневнике 1889 года Толстой записал: «Да, монашеская жизнь имеет много хорошего: главное то, что устранены соблазны и занято время безвредными молитвами. Это прекрасно, но отчего бы не занять время трудом прокормления себя и других, свойственным человеку» (т. 50, стр. 195). Ту же мысль, но еще в более заостренной форме Толстой развил в дневнике 28 февраля 1890 года, давая характеристику оптинских старцев: «Горе их, что они живут чужим трудом. Это святые, воспитанные рабством» (т. 51, стр. 23).
С большой любовью рисуя в повести «Отец Сергий» замечательно сильную личность Касатского, Толстой разоблачает идею монастырского «жития», ухода от жизни под предлогом спасения от соблазнов: соблазны остаются, приобретая особенно уродливые, неестественные формы.
Верный своему религиозно-нравственному учению, Толстой в конце повести заставляет принять это учение и отца Сергия, «просветленного» и умиленного примером покорной Пашеньки. Жизнь Пашеньки, несмотря на ряд присутствующих в описании ее глубоко реалистических подробностей, изображена нарочито тенденциозно. Смирение и покорность, характеризующие ее, превращены Толстым в философию жизни; правильная мысль — о недопустимости запираться в монастырских стенах, а жить с людьми и для людей оборачивается в конце повести проповедью
- 599 -
смирения, непротивленства. На пути христиански деятельной любви к людям, на пути смирения и покорности писатель заставляет отца Сергия найти «истинного бога». Но конец повести, где представлен преображенный Сергий — странник именем христовым, вял и мало выразителен.
Силу и смысл повести составляет не этот юродивый конец, а страстное разоблачение лжи монастырской жизни, и в этическом плане, и особенно в социальном — разоблачение паразитического, наполненного самыми мирскими, корыстными интересами существования. В этом разоблачении «святых, воспитанных рабством», состоит сила Толстого, преимущество его повести перед соответствующими страницами «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского, который с восхищением, как идеал, живописует религиозное спокойствие старца Зосимы.1
В повести много автобиографических моментов, особенно там, где говорится о сомнениях отца Сергия в боге.
В этих описаниях явно чувствуются сомнения самого писателя, о которых Горький с изумительным проникновением в сущность «веры» Толстого писал: «Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда...
«С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения „двух медведей в одной берлоге“».2
Действительно, в дневниках Толстого можно найти мысли, которых он «боится», узнать о моментах, когда оказываются недействительными те «духовные лекарства», которые заготовлены в его «аптеке». Подобно Сергию, Толстой отметил в дневнике 26 декабря 1901 года: «Одно полное спасение была бы любовь к бессмертному, к богу. Возможна ли она?» (т. 54, стр. 116), а 2 февраля 1904 года признавался себе: «...как трудно жить религиозно, т. е. для бога, независимо от своих склонностей и славы людской» (т. 55, стр. 12).
И хотя Толстой заставляет Сергия в конце повести сделаться «толстовцем», самый призыв вернуться к жизни, делать в ней свое дело несомненно отражает атмосферу общественного возбуждения в период подготовки первой русской революции.
Еще больший интерес для раскрытия творческой эволюции писателя накануне первой русской революции представляет драма «Живой труп».
Как известно, основой сюжета драмы послужили обстоятельства судебного дела супругов Гимер, сообщенные Толстому в 1897 году председателем Московского окружного суда Н. В. Давыдовым. Тогда же у Толстого возникло желание написать драму, но к самой работе он приступил лишь в начале 1900 года и, не завершив ее, оставил в октябре того же года.
Самыми привлекательными чертами рисует писатель героя драмы Федора Протасова, ему поручает высказать свои собственные взгляды, обличающие буржуазное государство, суд, семейные отношения. Пассивный, не способный к активному делу человек, пьяница, кутила, из-за своей слабости разбивающий семью, наделен самыми привлекательными чертами потому, что в нем жива «совесть», не позволяющая ему служить,
- 600 -
участвовать в комедии бракоразводного процесса, потому что ему «стыдно, всё стыдно» и он понимает, что всё «не то».
Тема любви, семейных отношений переводится в «Живом трупе» в плоскость вопроса о несправедливом общественном строе. Любовь поэтическая, чистая, отношения, которых «не стыдно», могут быть лишь с цыганкой Машей, бедной и безразлично относящейся к богатству, но всей душой отдающейся своему свободному, искреннему чувству.
Эта социальная постановка проблемы нравственного, характерная для творчества позднего Толстого, заставила писателя оправдать Протасова, который «не дурной, а напротив, удивительный человек, несмотря на его слабости». Он добр, ласков со всеми, но «лгать и делать все эти гадости» не может, не может «служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь», ему было это «противно». «Разрушать эту пакость» он не может, потому что «для этого надо быть героем», а он — не герой. Остается третье: «Забыться — пить, гулять, петь», что он и делает. И по мнению писателя, лучше это «третье», чем превратиться в бездушную машину, получающую «20 числа по двугривенному за пакость», или даже в «честного, твердого, воздержного и просто добродетельного» Виктора Каренина. Толстой оправдывает Федю, несмотря на его пьянство и «беспутства».
Конфликт Феди Протасова с официальными установлениями закона и церкви напоминает драму Анны Карениной.
Подобно Анне, Федор Протасов разрушает семью, много раз говорит, что он никудышный, падший, гадкий человек (Анна про себя: «Я гадкая, преступная женщина»), и в то же время он, как и Анна, «всех обворожил»; как Анна, он не выносит лжи, среди которой способны жить окружающие его; и, наконец, как Анна, кончает жизнь самоубийством. Виктор Каренин в свою очередь напоминает некоторыми чертами Алексея Александровича Каренина: высокое служебное положение, покойная холодность чувств, приверженность религиозным основам официальной церкви, служебная честность.
Толстой-моралист привнес и в сюжет, и в развязку своей драмы типичные для его поздних произведений черты: Федя в конце испытывает «просветление», радостное чувство от сознания того, что, убив себя, сделал добро другим: Лизе и Каренину (этого мотива нет в «Анне Карениной»), но, как и в романе, самоубийство Феди звучит приговором строю, в котором доброму, нравственно требовательному, правдивому человеку нет места. В «Живом трупе» социальный конфликт еще более резко заострен: Федя, в отличие от Анны, выступает открыто и прямо с гневным обличением социальных порядков. Писатель оправдывает Федю, потому что он, хоть и пассивно (по Толстому, это самое лучшее), но протестует против социальной несправедливости и лжи. Именно поэтому нравственные симпатии писателя всецело принадлежат разрушающему семью Феде, хотя он, как и другие герои произведений, созданных Толстым накануне и в период первой русской революции, своим поведением и нарушает догму толстовского учения.
Не менее удивительным на первый взгляд, чем оправдание в «Живом трупе» Феди Протасова, является полное самого глубокого сочувствия изображение в повести «Хаджи-Мурат» (1896—1904) горца Хаджи-Мурата, с его непреклонной жизнестойкостью и активностью борца, всеми средствами и преимущественно «насилием» отстаивающего свою жизнь.
Верный исторической правде, Толстой не изображает Хаджи-Мурата народным героем: он показывает в повести, что в своей борьбе с русскими,
- 601 -
а потом Шамилем Хаджи-Мурат руководствовался личными интересами: властолюбием, слепой жаждой мести, корыстью. Однако писателя интересует больше другая сторона в личности Хаджи-Мурата — его незаурядные человеческие качества: жажда жизни, смелость, решительность, предприимчивость, глубокая любовь к семье, детская непосредственность и добродушие, соединенные с гордым сознанием своего достоинства. Подлинным возвеличением жизненной энергии и силы является изображение смерти Хаджи-Мурата, перекликающееся с изумительной песней о джигите Гамзате и с поэтическим описанием красоты и мощи никому не покоряющегося татарника-репья. Пафос утверждения жизни, деятельности, борьбы «до последнего» проходит через всю повесть, составляя основу ее оптимистического звучания. В «Хаджи-Мурате», как и во всех произведениях Толстого позднего периода, резко очерчены два противопоставленные друг другу лагеря: народ, русские солдаты и горцы, с одной стороны, и деспоты Николай I и Шамиль с их окружением, — с другой.
Горячее сочувствие народным страданиям, ненависть к угнетателям народа, художественное чутье гениального писателя позволили Толстому понять и изобразить в «Хаджи-Мурате» историческую правду, вопреки всем официальным историографам, сочинениями которых пользовался писатель при работе над повестью: «собачья жизнь» крепостных слуг, смерть Авдеева, разоренные аулы, гибель Хаджи-Мурата — звенья одной цепи, узел которой — в оловянных глазах Николая I, его самодержавном деспотизме и деспотических устремлениях Шамиля, который из личных, корыстных интересов разжигает ненависть горцев к русским. Писатель соблюдает историческую и социальную правду, когда изображает Николая I и Шамиля как порождение одного явления — феодального деспотизма. Главы повести, посвященные Николаю и Шамилю, построены на резко обличительном сопоставлении этих двух деспотов, с которых срываются «все и всяческие маски». Толстой нарочито подчеркивает сходство Николая и Шамиля: показное величие и внутреннее ничтожество, желание представиться аскетом и совершенная моральная распущенность, игра в великодушие и потрясающая жестокость.
В резком противоречии с духом своего религиозно-нравственного учения, по которому деспотов, виновников всех страданий, испытываемых людьми, можно и должно «жалеть» (т. 53, стр. 179), относясь к ним как к заблудшим братьям, Толстой в своей творческой практике, в повести «Хаджи-Мурат» в частности, обличает жестокость, тупоумное самодовольство, лживость Николая и Шамиля, не пробуждая к ним никакой жалости.
Толстой показывает в «Хаджи-Мурате», как огнем и мечом насаждался среди народов Кавказа мюридизм, разжигалась ненависть к русским. Коварством и убийством добился власти над Аварией Гамзат. Выразительной поговоркой характеризует его действия Хаджи-Мурат: «Перелез передними ногами, перелезай и задними» (т. 35, стр. 57). Не удивительно, что когда Гамзат был убит, «весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили» (там же). Еще более жесток преемник Гамзата — Шамиль. Горцы подчиняются ему только из страха и под влиянием сознательно разжигаемого среди них религиозного фанатизма. Зная намерение Хаджи-Мурата перейти к русским, не только семья его кунака Садо помогает ему, но и жители аула, несмотря на приказ Шамиля задержать Хаджи-Мурата, лишь «для очистки себя перед Шамилем» делают вид, что хотят задержать его. А жители кумыцкого аула, питавшие, по словам автора, большое уважение к Хаджи-Мурату, много раз приезжали в русское укрепление, где он находился, и вступали
- 602 -
в открытые столкновения с кумыцкими князьями, ненавидевшими Хаджи-Мурата.
В повести отчетливо проводится мысль о возможности и необходимости единения горцев и русских. «А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие... Право, совсем как российские», — с восторгом говорит Авдеев о посланцах Хаджи-Мурата (т. 35, стр. 16). Сам Хаджи-Мурат, лучшие из его мюридов вызывают симпатию и у офицеров Бутлера, Лорис-Меликова, и у простой русской женщины Марьи Дмитриевны.
Образы русских солдат, горцев, людей труда, с их жизнью, исполненной лишений и страданий, рисуются Толстым с глубоким сочувствием. Им свойственны доброта, отзывчивость, самоотвержение, высокое сознание долга. С другой стороны, в изображении высшего офицерства, светских кругов, тупоумных и бездеятельных генералов, наместника Кавказа Воронцова и больше всего — Николая I видны нескрываемая авторская ирония и резкое обличение.
Ограниченность патриархальной идеологии, выразителем которой был Толстой, сказалась в повести в «патриархальном» взгляде на исторические события, в антиисторическом отношении к войне на Кавказе.
Подлинная историческая точка зрения состоит в том, что присоединение Кавказа к России имело прогрессивное значение, и потому организованная Шамилем, при поддержке Турции и Англии, «священная война» газават была реакционно-феодальным движением; поскольку, однако, присоединение Кавказа осуществлялось в процессе жестоких колониальных войн царизма, постольку движение горцев против этого порабощения было неизбежным и оправданным.
Для Толстого такой исторический подход к изображенным им событиям был немыслим, потому он рассуждает в «Хаджи-Мурате» отвлеченно, с точки зрения вечных начал нравственности, вечных истин религии. Толстой с отвлеченной этической точки зрения осуждает войну как войну вообще, власть как власть вообще.
Страстный, искренний, беспощадный протест против военного деспотизма и незнание, неумение указать пути для борьбы с ним ярко сказались в писавшемся Толстым одновременно с «Хаджи-Муратом» рассказе «После бала». Задуманный 9 июня 1903 года как «рассказ о бале и сквозь строй», 6 августа 1903 года он был начерно написан и вскоре отложен, оставшись незаконченным.
Тема жестокости военной службы в условиях царского режима настолько сильно и постоянно волновала Толстого, что замысел рассказа сразу, во всех своих деталях вырисовался в творческом воображении писателя. В дневнике 18 июня 1903 года записано: «В еврейский сборник: веселый бал в Казани, влюблен в Корейшу, красавицу, дочь воинского начальника — поляка, танцую с нею; её красавец старик-отец ласково берет её и идет мазурку. И на утро после влюбленной бессонной ночи звуки барабана и сквозь строй гонит татарина, и воинский начальник велит больней бить. (Очень бы хорошо)» (т. 54, стр. 178).
Не случайно, что в период назревания и во время первой русской революции Толстого глубоко волновала история декабристского движения и время царствования Николая I.
Начиная с 1904 года, Толстой усиленно читает материалы о Николае I и декабристах, ищет знакомств с людьми, каким-нибудь образом связанных с декабристским движением.
Мысль написать о декабристах занимала Толстого давно. Показательно, что желание написать произведение о декабристах овладевало
- 603 -
его творческим сознанием неоднократно и всякий раз в условиях революционно-демократического подъема: в 1860, 1877—1878 и 1904—1905 годах.
Перемены, происшедшие в мировоззрении Толстого в поздний период творчества, внесли новые черты в его отношение к теме декабристов. Основное, новое и важное, было в период кануна революции 1905 года то, что Толстой намерен был резко осудить Николая I, его самодержавный деспотизм, противопоставить ему декабристов, «лучших русских людей» (как назвал их писатель в черновых рукописях «Хаджи-Мурата»), всем жертвовавших ради идеи справедливого общественного устройства. Однако от подлинной социально-исторической постановки вопроса Толстой был далек и в 1904 году. Тема декабристов решалась и теперь, как и в ранний период творчества, преимущественно в этическом плане.
Роман о декабристах, как и прежде, остался в 1904—1905 годах не написанным. Свое представление о средствах борьбы с социальным неустройством жизни Толстой попытался изложить в другом произведении, создававшемся также накануне революции, — «Фальшивом купоне» (работа над повестью прекращена, не будучи доведенной до конца, в 1904 году). Сюжет «Фальшивого купона» Толстой намеревался в значительной части развить в «Воскресении». Повесть органически связана с романом, так как ставит тот же вопрос: как возникают уголовные преступления и как им можно противодействовать?
Замысел повести возник в 1886 году как «история поддельного купона: откуда он взялся и как разносилось зло и как пресеклось» (т. 36, стр. 558). 12 июня 1898 года в связи с работой над повестью в дневнике Толстого записано: «Непротивление злу не только потому важно, что человеку должно для себя, для достижения совершенства любви, поступать так, но еще и потому, что только одно непротивление прекращает зло, поглощая его в себе, нейтрализует его, не позволяет ему идти дальше, как оно неизбежно идет, как передача движения упругими шарами, если только нет той силы, которая поглощает его. Деятельное христианство не в том, чтобы делать, творить христианство, а в том, чтобы поглощать зло. Рассказ Купон очень хочется дописать» (т. 53, стр. 197).
В этом тенденциозном направлении и развивается сюжет повести: маленькое зло, наталкиваясь на сопротивление, насилие, растет, как снежный ком, достигает огромных размеров и, вдруг неожиданно столкнувшись с «непротивлением злу», начинает таять. Все в повести: сюжет, композиция, образы, художественные средства — подчинено этой тенденциозной идее автора.
С глубоким соблюдением жизненной правды показывает Толстой зарождение «зла» из-за денег. Писатель включает ряд реалистических деталей в изображение нарастающего «зла». Однако в целом картина как нарастания, так и особенно исчезновения его нарочито тенденциозна. Недаром вплоть до последних редакций сохранялись в повести в качестве действующих лиц черти, воплощавшие зло. И в окончательной редакции рассказ поражает схематизмом, разбросанностью своего построения, нечеткостью, условностью характеров персонажей и особенно их перерождения.
Нравственное усовершенствование, «выпрямление» на основе христианской любви — тот путь, который предлагает Толстой в борьбе с социальным злом и по которому ведет в «Фальшивом купоне» и крестьянина Степана Пелагеюшкина, убийцу многих правых и виноватых; и палача Махоркина, отказывающегося в конце повести исполнять свои жестокие
- 604 -
обязанности; и богатую девушку Лизу Еропкину, заявляющую родителям, что она не может пользоваться доходами от имения; и фальшивомонетчика Махина, который подделкой купона некогда положил начало злу; и жену убитого крестьянами Петра Николаевича, в которой чувство мести заменяется желанием простить мужиков; и старца, который после исповеди Лизы Еропкиной оставляет тяготившую его монастырскую жизнь и становится затворником, проповедником, уличающим «себя и весь мир», и за это попадает в Суздальский монастырь; и Василия, который, убежав из тюрьмы, перестает пить, а деньги, украденные у купца, раздает бедным невестам; и Прокофия, и настоятеля монастыря, и коменданта Суздальского монастыря Михаила, и Евгения Михайловича с женой, и Митю Смоковникова. Не покаялся один человек — царь, но и в том сильно заговорила совесть, и он «в первый раз стал думать об ответственности, которая лежала на нем», и все слова старичка, который «громил всех» и «приписывал необходимость казни дурному правлению», вспомнились ему (т. 36, стр. 49).
О необходимом и возможном результате этих раздумий «царя батюшки» рассказал Толстой в повести «Посмертные записки старца Федора Кузмича», над которой работал в период наступления революции, в 1905 году.
Художественное своеобразие повестей и рассказов, созданных Толстым в начале 900-х годов, отмечено некоторыми общими чертами, отличающими их не только от произведений раннего периода, но и от повестей 80-х годов и романа «Воскресение».
В 1897 году, заканчивая работу над трактатом «Что такое искусство?», Толстой записал в дневнике: «Моя работа над „Искусством“ многое уяснила мне». И затем замечал, что если ему придется «писать художественные вещи — они будут совсем другие. И писать их будет и легче и труднее» (т. 53, стр. 169).
Последнюю фразу записи следует, повидимому, понимать так: уяснив при работе над своими статьями об искусстве, что единственным предметом изображения и ценителем искусства является народ, для которого и о котором радостно писать, художник сделал свой труд более радостным, «легким». Сознавая же, что читателей из народа больше и требования их к искусству иные, более строгие, нежели требования интеллигенции, Толстой предполагал, что ему «труднее» будет создавать свои новые произведения.
Произведения Толстого 80—90-х годов как бы делятся на две группы: в одних, предназначенных для «интеллигентных читателей», преобладает психологический анализ; другие («народные рассказы») отличаются лаконизмом описаний и элементарной художественной формой.
В произведениях, созданных после 1900 года, происходит синтез двух указанных линий. Создается некий новый тип произведения, с предельно строгой художественной формой, лаконичной в описаниях, четкой и резкой в лепке характеров, построенной на драматическом развитии действия, но с присутствием в ней, в видоизмененном сравнительно с прежней манерой виде, психологического анализа, подчиненного задаче обрисовки характера.
Работая над «Фальшивым купоном», Толстой не случайно отметил в дневнике: «Пишу очень небрежно, но интересует меня тем, что выясняется новая форма, очень sobre»1 (т. 54, стр. 202).
- 605 -
Большой роман представлялся в этот период Толстому отжившей художественной формой. 25 сентября 1906 года он писал И. Ф. Наживину: «Я давно уже думал, что эта форма отжила, — не вообще отжила, а отжила как нечто важное. Если мне есть что сказать, то не стану я описывать гостиную, закат солнца и т. п. Как забава, не вредная для себя и для других, — да. Я люблю эту забаву. Но прежде на это смотрел как на что-то важное. Это кончилось» (т. 76, стр. 203).
Экономия художественных средств, сжатость сюжета, стремительное драматическое развитие действия, лаконизм психологического анализа — отличительные черты таких произведений, как «Живой труп», «Алёша Горшок», «Хаджи-Мурат», «За что?», «Корней Васильев».
21
Отношение Толстого к революции 1905—1907 годов было сложным; столь же сложным было и ее воздействие на творчество писателя.
Напряженная политическая обстановка, оживленное общественное движение, демонстрации, протесты, забастовки, волнения среди крестьян, предшествовавшие революции, привлекали внимание Толстого к политике.
8 апреля 1901 года он писал дочери М. Л. Оболенской: «Я очень занят современностью, кажется, что в ней есть и вечное» (т. 73, стр. 57). 16 января 1902 года он заканчивает гневное письмо Николаю II, не желая умереть, не высказав того, что думает о его деятельности, считая себя обязанным предъявить царю требования, которые необходимо, по мнению Толстого, осуществить. Он призывает царя «дать народу возможность высказать свои желания и нужды», освободив его от «тех исключительных законов, которые ставят его в положение пария», обеспечить «свободу передвижения, свободу обучения и свободу исповедания веры» (т. 73, стр. 188) и, главное, уничтожить частную земельную собственность. Как «наивный крестьянин», Толстой надеется, что царь способен осуществить эти требования, добровольно разрушить то, на чем покоится его власть. В то же время Толстой неустанно продолжает обличать основы существующих социальных порядков. «...обличать богатых в их неправде и открывать бедным обман, в котором их держат» — единственное, что, по мнению самого писателя, он имеет право и должен делать (т. 54, стр. 52). «Главное, надо стараться разрушить постоянно поддерживаемый правительством обман, что все, что оно делает, оно делает для порядка, для блага подданных. Все, что оно делает, оно и делает или для себя (грабит покоренных) или для того, чтобы leur donner le change1 и уверить их, что оно делает это для них», — записывает Толстой в дневнике 1901 года (т. 54, стр. 83) и не устает разоблачать этот «обман» и в своих художественных, и в публицистических произведениях.
Свои «идеалы» и моралистические рассуждения о «смысле жизни» Толстой теперь то и дело называет в дневнике «философским бредом».
В трактате «Царство божие внутри вас» (1890—1893) Толстой уже высказывал симпатию актам насилия, совершенным крестьянами в защите от усмирителей, подавляющих крестьянские волнения. Теперь, в 1902 году, он проявляет большой интерес к терроризму. «Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, — писал Короленко, — что когда ему <Толстому> передали о последнем покушении на Лауница, то он сделал нетерпеливое движение
- 606 -
и сказал с досадой: — И, наверное, опять промахнулся».1 По поводу убийства Сипягина Толстой говорил: «И все-таки не могу сказать: это нецелесообразно».
А услышав рассказы о крестьянах, самовольно отнимающих землю у помещиков, сказал: «И молодцы!.. Мужик берётся прямо за то, что для него всего важнее».2
Однако и в эти годы Толстой не понимал значения революционной борьбы, разгоравшейся среди рабочего класса, крестьян и передовой части русской интеллигенции.
С наивностью патриархального крестьянина Толстой в легенде «Восстановление ада и разрушение его» (1902) утверждает, что социализм — это «дьявол», который вместе со своими помощниками, другими крупными и мелкими дьяволами (церковь, наука, искусство, технический прогресс, культура, книгопечатание и др.), служит властителю ада Вельзевулу, ибо «во имя самого высокого общественного устройства жизни людей он возбуждает вражду сословий» (т. 34, стр. 115).
В связи с нарастанием революционного движения всё более обострялись противоречия во взглядах Толстого: апология «восточной неподвижности» патриархального крестьянства и революционные симпатии писателя, учение о непротивлении и сочувствие революционерам, проповедь аполитизма и жадный интерес к совершающимся событиям (например, к русско-японской войне).
Противоречия эти обусловили поведение писателя и в 1905—1906 годах, время разгара революционных событий.
Ко времени наступления революции Толстой не верил в то, что можно улучшить положение народа путем правительственных реформ. Еще в 1903 году он записал в своем дневнике: «Обращаются к царю, советуя ему сделать то-то и то-то для общего блага. И я делал это. От него ждут помощи, действий, а он сам чуть держится. Все равно, как человеку, который еле-еле руками, зубами держится за сук над пропастью, советовать помочь поднять бревно на стену» (т. 54, стр. 188). С едким сарказмом относился Толстой к либеральным предложениям и мероприятиям, зная, что это или пустая болтовня, или обман народа посредством сговора господствующих классов с правительством. «Я во всей этой революции, — писал он 18 октября 1905 года В. В. Стасову, — состою в звании, добро- и самовольно принятом на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую» (т. 76, стр. 45).
Именно в соответствии с этим заявлением отнесся Толстой к крестьянским волнениям, расправе крестьян с помещиками, самовольному захвату ими земель. М. С. Сухотин вспоминает: «Лев Николаевич, подготовленный всем своим прошлым критически относиться к интеллигенции, легко поддавался на неодобрение революционного движения, происходившего в городах. Но при этом интересно отметить, что когда разговор касался той жакерии, которая начинала вспыхивать то здесь, то там по деревням, Л. Н. либо молчал, либо утверждал, что всё это преувеличено, либо направлял всю силу своей блистательной диалектики и несокрушимой логики на то, чтобы обелить обожаемый им народ, чтобы извинить его теми экономическими несправедливостями и правительственными неправдами,
- 607 -
среди которых ему приходится тянуть свою трудовую тяжелую лямку».1 Именно так (в соответствии с цитированным выше заявлением В. В. Стасову) отнесся Толстой к манифесту 17 октября, прочтя который, сказал: «В нем ничего нет для народа».2
«Отлучен». Карикатура Л. Фейнингера.
«Lustige Blätter», 1901, № 17.Ряд высказываний Толстого свидетельствует о его понимании неизбежности революции. Например, 30 ноября 1905 года Толстой писал В. В. Стасову: «События совершаются с необыкновенной быстротой и правильностью. Быть недовольным тем, что творится, всё равно, что быть недовольным осенью и зимою, не думая о той весне, к которой они нас приближают» (т. 76, стр. 59); 6 июля 1905 года — Э. Кросби: «...я твердо убежден, что эта революция будет иметь для человечества более значительные и благотворные результаты, чем Великая французская революция» (т. 76, стр. 5); 1 августа 1906 года — Т. А. Кузминской: «Надо не печалиться, а радоваться, что мы дожили до такого важного времени» (т. 76, стр. 185).
И всё-таки факт остается фактом: Толстой отстранился от революции, не понял ее действительного значения, призывал народ не принимать участия в революционном движении.
Справедливо критикуя европейские буржуазные революции, Толстой не мог понять исторического своеобразия русской буржуазно-демократической и предстоявшей русскому народу в недалеком будущем социалистической революции.
В то же время Толстой не мог не заметить, что русское крестьянство идет не тем путем, который он хотел бы указать ему. Это противоречие положительной программы Толстого и действительной жизни было источником мучительной душевной драмы писателя; оно объясняет пессимистический тон его многих высказываний, художественных произведений и статей, особенно после 1906 года.
Резко отрицательное отношение к деспотизму, жестоко подавляющему всё живое, человеческое, подлинно высокое и героическое, Толстой высказал
- 608 -
с особенной яркостью в 1906 году в рассказе «За что?». Рассказ касается истории подавления польского восстания 1830 года. Полякам, боровшимся не за насильственное свержение власти, а за свою независимость, боровшимся из-за того, «что они хотели быть тем, чем родились, — поляками»,1 писатель сочувствовал, так как считал, что хотя «насилие» ни к чему хорошему повести не может, однако всякий человек должен отстаивать свою свободу и независимость от тупой, развращенной, жестокой власти. Поэтому деятели польского национально-освободительного движения были безусловно оправданы Толстым, когда он создавал рассказ «За что?».
Как бы нарочито отказываясь признать, что его идея пассивного сопротивления утопична и не определяет смысла польского вооруженного восстания, Толстой с глубоким сочувствием и подлинным восхищением рисует образ Мигурского, принимавшего участие в восстании. Сосланный после подавления восстания солдатом в линейный батальон в Уральск, Мигурский писал оттуда, что «он рад тому, что ему пришлось пострадать за отчизну, что он не отчаивается в том святом деле, за которое он отдал часть своей жизни и готов отдать остаток её, и что если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же» (т. 14, стр. 185). Вместе с Альбиной писатель страдает за то, что Мигурский, «герой, идеал человека, должен был вытягиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться» (т. 14, стр. 190); вместе с нею испытывает «чувство оскорбленной гордости при виде её героя-мужа, униженного перед теми грубыми, дикими людьми, которые держали его теперь в своей власти» (т. 14, стр. 202). Гневное обличение «царя и его помощников», заточающих в тюрьмы, ссылающих в Сибирь лучших людей, борцов с деспотизмом, было ответом Толстого на подавление русской революции, было частичным осуществлением давно волновавшей писателя темы о декабристах.
Еще в 1902 году он писал своей дочери Т. Л. Сухотиной: «Несомненно, что как во времена декабристов лучшие люди из дворян были там и были изъяты из обращения, так и теперь лучшие люди из этих self made men2 лучшие изъяты; а худшие, Боголеповы, Зверевы и т. п., царствуют и разносят свой яд в обществе» (т. 73, стр. 323—324). Противопоставлением лучших и отвратительных людей, самый отвратительный из которых Николай I, заканчивается рассказ «За что?».
В рассказе «За что?» затронут еще один глубоко волновавший Толстого вопрос: развращение подданных жестокой, безнравственной властью, которая, внушая им рабское повиновение, делает их невольными участниками дурных дел.
Эту тему иллюстрирует образ казака Данилы Лифанова, добродушного уральца, «с необыкновенно ясными и добрыми голубыми глазами». Лифанов провожал Мигурских по повелению начальства и узнал, что в ящике тарантаса спрятан Мигурский. Лифанов «строго держался присяги» и «на то, что ему поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание» (т. 14, стр. 201). Не ведая, что творит, он донес в полицию, что полячки, которые ему поручены, вместо мертвых везут какого-то живого человека в ящике.
С изумительным реализмом изображает Толстой пробуждение искры сознания в казаке, наблюдавшем сцену ареста Мигурского и отчаяния
- 609 -
Альбины: «Казак Данило Лифанов во все это время стоял у колёс тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то на Альбину, то себе на ноги.
Когда Мигурского увели, оставшийся один Трезорка, махая хвостиком, стал ласкаться к нему. Он привык к нему во время дороги. Казак вдруг отслонился от тарантаса, сорвал с себя шапку, швырнул ее изо всех сил наземь, откинул ногой от себя Трезорку и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил всё, что было у него и на нем, и только на другую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучившем его вопросе: хорошо ли он сделал, донеся начальству о полячкином муже в ящике?» (т. 14, стр. 203).
Полное самого искреннего сочувствия изображение героев, любящих и отстаивающих подлинную, свободную человеческую жизнь, — то новое, что привнесла создавшаяся в России революционная ситуация в творчество позднего Толстого.
Однако в гораздо большей степени в творчестве Толстого 1905—1906 годов нашло отражение его неприятие революции, революционных методов борьбы.
Это отрицательное отношение писателя к активной революционной деятельности со всей отчетливостью выявилось в рассказе «Божеское и человеческое» (1903—1906).
Сюжет о юноше-революционере, познавшем и принявшем в тюремном заключении мудрость евангелия и бесстрашно встретившем смерть, давно волновал Толстого.
Историю нравственного перерождения революционера, оказавшегося в заключении, Толстой пытался представить как доказательство правильности своей идеи отказа от активной борьбы во имя нравственного самоусовершенствования.
В «Божеском и человеческом» сказалось не только отрицание, но и непонимание Толстым революции, в частности существа спора марксистов с народниками. Утверждение «божеского», доброго, пассивного, евангельского и отрицание «человеческого», злого, активного, революционного — вот чем отвечал Толстой в своем рассказе на разгорающуюся революцию.
В конце 1905 года, в самый разгар революционных событий, Толстой работает над «Посмертными записками старца Федора Кузмича», желая противопоставить творящимся «жестокостям» единственный возможный, по его мнению, «добрый» выход: царь, ужаснувшись тех преступлений, которые совершаются по его воле, добровольно отказывается от власти и делает целью жизни служение богу, смирение и нравственное самоусовершенствование.
Писатель, всегда с поразительной требовательностью следивший в своих произведениях за соблюдением исторической правды (достаточно вспомнить многочисленные свидетельства о работе над «Войной и миром» и «Хаджи-Муратом»), на этот раз решил «написать историю Александра I с точки зрения Кузмича, как бы он ее написал»1.
Узнав о несостоятельности легенды о тожестве Александра и старца Федора Кузмича, Толстой писал: «Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козмича, легенда остается
- 610 -
во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли удосужусь продолжать» (т. 36, стр. 586).
Продолжать «Записки» Толстой действительно не стал, остановившись в воспоминаниях Федора Кузмича на раннем детстве Александра I. Описание всей жизни Александра с точки зрения Кузмича, вероятно, было бы и невозможно: так много приходилось бы допускать погрешностей против исторической правды.
В повести есть ряд замечательно сильных художественных описаний: экзекуция Струменского, образ Екатерины II, придворные интриги вокруг маленького Александра, но основная мысль повести и основное ее содержание подчинены доказательству религиозно-нравственного учения Толстого. Многие страницы повести, особенно рассуждения Александра I и Федора Кузмича, представляют прямые совпадения с «Исповедью» и дневниковыми записями самого Толстого, в которых он излагал свои христианские убеждения.
Любовь, всепрощение — вот что спасает от всех зол, пытается доказать Толстой и в рассказе «Корней Васильев» (1905).
Рассказ захватывает драматизмом своих положений, поражает четкостью и строгостью в обрисовке характеров персонажей, однако является произведением глубоко тенденциозным, написанным в духе толстовского учения. Умиление перед старческим смирением, отречением Корнея Васильева от всего личного, «эгоистичного», «юродство во Христе» составляют пафос, основное содержание рассказа. Моральное «просветление», моральная кара — главное в жизни человека, думает Толстой в эту пору, в 1905 году, как и в 1886 году, когда он оканчивал легенду Костомарова «Сорок лет».
22
Огромные сдвиги, происшедшие в сознании русского трудового народа вследствие революционных событий 1905—1907 годов, не остались не замеченными Толстым. В Ясную Поляну приходили теперь крестьяне, для которых, по словам самого писателя, «недаром прошла революция». В очерке 1909 года «Бродячие люди» Толстой сочувственно говорил о бездомных, лишенных земли и хлеба, нищенствующих, но протестующих бедняках: «Эти люди видят в богатых, не как обыкновенные старинные нищие, людей, спасающих свою душу милостыней, а разбойников, грабителей, пьющих кровь рабочего народа; очень часто такого рода нищий сам не работает и всячески избегает работы, но во имя рабочего народа считает себя не только в праве, но обязанным ненавидеть грабителей народа, т. е. богатых, и ненавидит их всей силой своей нужды» (т. 38, стр. 8—9).
«...эта армия Стеньки и Емельки все больше и больше разрастается», — заключает Толстой (т. 38, стр. 11). «Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидал несправедливость своего положения. Это — сказка о царе в новом платье. Ребенком, который сказал то, что есть, что царь голый, была революция», — записал Толстой в дневнике 11 марта 1910 года (т. 58, стр. 24).
Пробуждение революционного сознания в крестьянстве, вовлечение его в революционную деятельность — тема рассказов «Кто убийцы? Павел Кудряш» (1908—1909), «Иеромонах Илиодор»1 (1909), очерка «Бродячие люди» (1909), второго варианта повести «Нет в мире виноватых» (1910).
- 611 -
С глубоким сочувствием относится Толстой к зарождению у Павлуши или Евдокима мысли о несправедливости окружающей их жизни, сознанию своего угнетенного положения, возможности и необходимости бороться с ним. С возмущением говорит писатель о бедности, забитости угнетенного народа, с ненавистью и гневом пишет об эксплуататорах — землевладельцах, которые «не переставая грабят тысячи людей на миллионы» (т. 57, стр. 86) (см. очерки «Сон», «Три дня в деревне» и др.).
Иллюстрация:
«Не могу молчать». Титульный лист. 1908.
В ноябре 1909 года Толстой писал Т. Л. Сухотиной: «Мне думается, что вопрос о несправедливости земельного рабства и о необходимости освобождения от него стоит теперь на той же степени сознания его, на которой стоял вопрос крепостного права в 50-ых годах: такое же сознательное возмущение народа, живо сознающего совершаемую над ним несправедливость, такое же сознание этой несправедливости в редких лучших представителях богатых классов и такое же грубое, отчасти неумышленное, отчасти умышленное непонимание вопроса в правительстве» (т. 80, стр. 178).
В произведениях Толстого 1907—1910 годов предстает непреклонный и мужественный обличитель, деятельность которого вызывала страх и смятение в среде реакционеров.
Толстой считал своим долгом писателя бороться со всеми темными силами реакции и не обращал внимания на присылаемые ему от черносотенцев письма с грубыми ругательствами и даже угрозами убийства, если он не «исправится» до установленного ими срока. В 1908 году, возмущенный смертными казнями, Толстой пишет гневный памфлет «Не могу молчать».
В своих публицистических статьях и художественных произведениях последних лет жизни Толстой смело и неустанно обличает основы существующих порядков, будучи уверен, что долго они продержаться уже не могут.
В условиях, когда порабощение народа, жестокость и произвол реакции дошли до невиданных размеров, а народ осознал несправедливость существующего строя и готовился к новой борьбе с ним, Толстому становилось всё более ясным, что «выбора нет людям нашего времени: или наверное
- 612 -
гибнуть, продолжая настоящую жизнь, или de fond en comble1 изменить ее» (т. 57, стр. 46).
Но как строить новую жизнь? Кто способен построить ее? Все мучительные попытки Толстого разрешить эти вопросы оказались тщетными, идущими вразрез с действительным разрешением их в процессе исторического развития.
Л. Н. Толстой и Николай II. Карикатура
неизвестного художника. 1900-е годы.В окружавшей писателя действительности крестьяне, осознавшие несправедливость социальной жизни и необходимость бороться с нею, примыкали к революционному движению, как это сделали Павел Бурылин и Матвеев, изображенные в рассказе «Павел Кудряш» (и драматическом изложении той же темы, под заглавием «Павлуша»). С подлинным реализмом изображает Толстой своих героев, с восторгом отдающихся революционной деятельности, не задумывающихся о трудностях и опасностях, ждущих их на этом пути.
Но считая положительным фактом пробуждение у крестьян мысли о несправедливом общественном устройстве, Толстой отрицательно относится к их «заблуждению» — надежде в революционной борьбе добиться справедливого социального строя. Он резко осуждает революционеров-руководителей за то, что они, будто бы пользуясь наивностью и доверчивостью крестьян, «развращают» их, ведя не по пути пассивного сопротивления, как хотел бы Толстой, а по пути насильственного свержения существующего общественного строя. И Толстой осуждает Павла Кудряша за то, что он отказался от деревенской жизни и усвоил «недобрые» взгляды, которые писатель (искажая их) безусловно порицает.
В период, когда проповедь непротивления, пассивности, квиетизма ссылкой на «неподвижные восточные народы» становилась всё более неоправданной, ибо начало XX века ознаменовано рядом революций в странах Востока, Толстой вновь и вновь обращал свой взор к наиболее отсталым чертам патриархальной идеологии как единственным средствам спасения от «безумия мира».
Моральное самосовершенствование — единственное, что предлагает Толстой в качестве нового рецепта спасения человечества в таких своих
- 613 -
произведениях, как рассказы «Разговор с прохожим» (1909), «Большая Медведица» (1909), «Нечаянно» (1910), серия рассказов, объединенных заглавием «Детская мудрость» (1909—1910), комедия «От ней все качества» (1910).
Как бы не замечая разгоравшейся в России ожесточенной классовой борьбы, Толстой в 1907 году пишет прозаическое переложение стихотворения В. Гюго «Les pauvre gens» («Бедные люди»), в котором утверждает красоту и нравственную высоту любовных, добрососедских отношений «бедных людей» друг к другу, а переводя рассказ Гюго «La guerre civile» («Гражданская война»), противопоставляет классовой борьбе «силу детства», пробуждающую любовь в сердцах «ожесточившихся» людей.
Главное, по мнению Толстого, не гражданские войны, не борьба бедных и богачей, а те любовные, добрые, «христианские» чувства жалости, прощения, которые могут возникнуть в любом самом жестоком человеке, если с ним обойтись любовно. Реакционный смысл этого утверждения, исторически особенно вредный после подавления русской буржуазно-демократической революции и собирания сил к будущим боям, утверждения, которое Толстой с особенной настойчивостью в это время пропагандирует, очевиден.
Именно этой идеей всепрощения, любви, независимо от классовой принадлежности людей, проникнут рассказ 1910 года «Ходынка». Страшная катастрофа, случившаяся в 1896 году во время торжеств по случаю коронации Николая II, ужаснула и возмутила Толстого еще тогда, когда он только что узнал о ней. 28 мая 1896 года в дневнике записано: «Страшное событие в Москве, погибель 3000. Я как-то не могу, как должно, отозваться» (т. 53, стр. 96). Несколько раз приходила Толстому мысль написать о страшной ходынской катастрофе, и вот в 1910 году был написан рассказ, в котором самая «погибель 3000» представлена как нечто неважное в сравнении с умиленными чувствами, охватившими рабочего Емельяна оттого, что он спас чуть было не задавленную толпой богатую девушку, княжну Рину Голицыну.
Можно думать, что сам Толстой понимал и слабость рассказа, и искажение и обеднение в нем темы ходынской катастрофы; во всяком случае в дневнике 25 февраля 1910 года Толстой отметил: «Написал целый рассказ Ходынка — очень плохо» (т. 58, стр. 20), а 4 марта того же года говорил А. Б. Гольденвейзеру: «Я написал рассказ, но даже не дал переписывать. Стыдно лгать. Крестьянин, если прочтет, спросит: „Это точно так все было?“».1
В последние годы жизни Толстой работает над большой повестью — «Нет в мире виноватых». У него возникает желание создать художественное произведение, в котором «можно всё высказать, облегчить себя, никого не осуждая», созревает замысел, которому он дает это в высшей степени характерное заглавие — «Нет в мире виноватых».
Противопоставление бедных и эксплуатирующих их богатых — основное содержание повести. В написанных началах всех трех вариантов чувствуется напряженная социально-политическая обстановка того времени, в которое создавалась повесть. Писатель считает необходимым четко и детально обрисовать не только социальное происхождение, но и политические убеждения своих героев. В то же время в повести сделана попытка на каждый персонаж смотреть «изнутри», понять его и оправдать; все правы, никто не виноват: по-своему «не виноват» либерал Порхунов и его друзья;
- 614 -
консерватор, председатель земской управы, и доктор, «демократ, чуть не революционер»; «не виноват» революционер террорист Неустроев, хотя Толстому симпатичнее его друг, сельский учитель, по-толстовски религиозный Соловьев; «не виновата» и Александра Николаевна, жена Порхунова, мать семерых детей, полюбившая учителя своих детей, революционера Неустроева.
Барская жизнь Александра Ивановича Волгина и всех господ резко противопоставлена в третьем варианте повести жизни безграмотного мальчонка-пастуха, крестьянина Митрия Сударикова и всех крестьян. Но писатель стремится изобразить этот контраст со всем возможным беспристрастием, чтобы не вызвать чувства ненависти к угнетателям, ибо оказывается, существуют «смягчающие вину обстоятельства, сложные условия прошедшего, которые делают почти невменяемым большинство людей властвующих классов» (т. 38, стр. 246).
Толстому кажется необходимым осуществить теперь замысел, о котором он думал в течение многих лет: «представить себе внутреннюю жизнь каждого отдельного человека» (т. 54, стр. 140), «заглянуть в душу людскую». В 1908 году этот замысел выливается в рассуждение, что «виноватых нет». «Как этот председатель суда, который подписывает приговор, как этот палач, который вешает, как они естественно были приведены к этому положению, так же естественно, как мы теперь тут сидим и пьем чай, в то время, как многие зябнут и мокнут».1 Понятно, что писатель, которого постоянно терзало «мучительное чувство бедности... унижения, забитости народа», который не мог переносить «французские языки и теннис» рядом с голодными, раздетыми, измученными работой рабами, оставил незаконченной свою повесть «Нет в мире виноватых». «...сейчас не могу писать. Нет спокойствия», — говорил он 26 сентября 1910 года В. Ф. Булгакову и М. А. Шмидт.2
Противоречивость позиции Толстого с предельной яркостью раскрывается и в написанном в 1909 году докладе, который писатель намерен был прочитать на конгрессе мира в Стокгольме.
В условиях бешеной подготовки империалистических стран к войне Толстой смело и неустанно обличает милитаризм. «...войны американцев и англичан среди мира, в котором осуждают войну уж гимназисты, — ужасны», — записал он в дневнике 8 января 1900 года (т. 54, стр. 8).
Трезвый наблюдатель буржуазного строя, Толстой понимал, что бесполезно в борьбе с войнами ждать помощи от правительств, существование которых обусловлено полицейским государственным строем. За поддержкой в борьбе с милитаризмом Толстой справедливо призывал обращаться к народам всего мира.
Но протестуя против милитаризма, обрекающего на смерть тысячи людей ради защиты интересов собственников, Толстой не видел подлинных средств борьбы с милитаризмом и проповедовал пассивное сопротивление в форме отказа от военной службы.
Таким образом, и после революционных событий 1905—1907 годов, в значительной мере уже расходясь с идеями и настроениями русского крестьянства, которое, сознательно или стихийно примыкая к революционному движению, переставало быть патриархальным, Толстой продолжал проповедовать непротивление злу насилием, нравственное самоусовершенствование
- 615 -
как «единственное средство» избавления от зла и несправедливости существующего строя. В эти годы, когда русский народ уже прочно встал на путь массовой революционной борьбы, толстовская проповедь непротивления злу всё более становилась символом старой, отошедшей в прошлое патриархальной России.
Л. Н. Толстой.
Фотография. 1906.Именно после 1905—1907 годов особенно часто звучат в рассуждениях Толстого мотивы отчаяния, пессимизма, созревает настойчивое желание «пострадать», вызвать против себя гонения, уйти из дома, умереть.
В дневнике, записи которого отражают сокровенные размышления писателя, возникают сомнения в истинности выношенного десятилетиями учения о «всеобщей любви» и непротивлении.
Так, под воздействием дошедшего до предела возмущения социальной несправедливостью существующих общественных отношений, неуверенности в том, что непротивление, христианская любовь могут изменить эти отношения, и неумения найти и принять действительные средства переустройства мира созревает твердое намерение уйти из Ясной Поляны. Уход из Ясной Поляны, таким образом, — не только вызов Толстого-протестанта, но и свидетельство поражения «толстовца».
- 616 -
Чрезвычайно характерно, однако, что самый «уход» мыслился Толстым как окончательный отказ от «барских» условий жизни и приход к народу, к тем людям, с которыми в помещичье-капиталистической России «обращались, как с скотиной», но которые, по глубокому убеждению Толстого, «одни делают жизнь и историю».
Могила Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Фотография. 1940.
7 ноября 1910 года, после непродолжительной тяжелой болезни, на станции Астапово (ныне «Лев Толстой») Л. Н. Толстой скончался.
*
Отразив целую эпоху в истории страны, творчество Л. Н. Толстого явилось как бы итогом развития русской классической литературы за всё столетие. Толстой умножил ее мировую славу.
В период, когда развернулась его деятельность, русская литература приобрела невиданную популярность в странах Западной Европы, во всем мире. Толстой достиг такой силы в изображении человеческого
- 617 -
характера, какой до этого не удалось достигнуть ни одному писателю. Он сумел установить связь между глубоко личными переживаниями человека и теми вопросами, которые волнуют всё человечество, — вернее было бы сказать, что эти вопросы он сумел сделать личными переживаниями человеческой личности. Чтобы это стало ясно, достаточно напомнить такие образы, как Андрей Болконский, Пьер Безухов, Константин Левин, Дмитрий Нехлюдов. Вот почему интерес к Толстому стал всеобщим.
Л. Н. Толстой.
Фотография. 1907.Значение Толстого для русского народа и русской литературы исключительно. Об этом со всей ясностью сказано в статьях Ленина, в частности в статье-некрологе «Л. Н. Толстой». По словам Горького, пускай и допустившего преувеличение, Толстой сказал почти столько же, сколько вся остальная русская литература. «Историческое значение работы Толстого, — писал Горький, — уже теперь понимается как итог всего пережитого русским обществом за весь XIX век, и книги его останутся в веках, как памятник упорного труда, сделанного гением; его книги — документальное изложение всех исканий, которые предприняла в XIX веке личность сильная,
- 618 -
в целях найти себе в истории России место и дело».1 Свою статью-лекцию о Толстом Горький закончил словами: «Не зная Толстого — нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком».2
Толстой — ближайший предшественник Горького, основоположника социалистического реализма. Роль толстовских традиций в творческом развитии Горького еще недостаточно выяснена, но ясно одно — она очень велика. Толстой является учителем для советских писателей, начавших свою деятельность после Октябрьской революции.
Имя Толстого и его наследие — гордость нашего народа, гордость национальной культуры.
Сноски1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 179.
2 Там же, т. 16, стр. 293.
3 Там же, стр. 301.
1 М. Горький. История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, стр. 296.
2 «Литературное наследство», кн. 37—38, М., 1939, стр. 139—140.
1 Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 46, Гослитиздат, М. — Л., 1934, стр. 29. В дальнейшем цитируется это издание (тт. 1—87 и сл., 1928—1934 и сл.). Ссылки на другие источники отовариваются особо.
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1944, стр. 427. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XVI, 1939—1953).
1 Показательно, что при восторженном отношении к Толстому вообще, Анненков дал отрицательную оценку повести «Утро помещика», назвав ее «вещью довольно посредственной» (Письмо Е. Я. Колбасина к Тургеневу. «Тургенев и круг „Современника“», Изд. «Academia», М. — Л., 1930, стр. 298).
1 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. X, Гослитиздат, 1952, стр. 284.
1 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, СПб., 1865, стр. 256.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30.
1 См. Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 60, стр. 375.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 31.
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, М., 1935, стр. 330.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30.
1 С. А. Толстая. Дневники, 1860—1891. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928, стр. 31.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 301.
2 Там же.
1 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1913, стр. 109.
1 См. Ученые записки Московского городского педагогического института имени В. П. Потемкина, 1954, т. 43, стр. 191—220.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 297.
2 Там же, т. 15, стр. 180.
3 Там же, т. 16, стр. 294.
4 Там же, стр. 295.
5 Там же, т. 15, стр. 183.
1 В. Г. Короленко. Великий пилигрим. Собрание сочинений, т. 8, М., 1955, стр. 124—125.
2 В 1895 году, после четырехлетнего перерыва, Толстой возобновил работу над «Воскресением», решительно изменив самый замысел романа.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 85.
2 Там же, т. 15, стр. 185.
3 Там же. т. 17, стр. 33.
1 Р. Роллан. Жизнь Толстого. 1923, стр. 70.
1 Показательно, что в 1892 году отдельное издание «Холстомера» было разрешено лишь с пропусками мест, в которых автор высказывает «тенденциозные мысли о частной собственности» (Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 473).
1 А. Т. Лидский. Смерть, болезнь и врач в художественных произведениях Л. Н. Толстого. «Русская клиника», 1929, т. XI, № 57, стр. 8.
2 Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, 1878—1906. Л., 1929, стр. 74.
1 Р. Роллан. Жизнь Толстого. 1923, стр. 97.
1 А. Л. «Крейцерова соната» и ее учение. Против гр. Л. Н. Толстого. СПб., 1892, стр. 11.
1 А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XV, Гослитиздат, М., 1949, стр. 16.
1 А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XV, 1949, стр. 241.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 31.
2 «Вино, женщины и песня» (немецк.).
3 Можно предполагать, что именно это противоречие с высказанными в «Крейцеровой сонате» и особенно в «Послесловии» к ней мыслями, которыми писатель очень дорожил, удерживало его от решения публиковать «Дьявол». Повидимому, под непосредственным ощущением слабости и неубедительности «Послесловия к „Крейцеровой сонате“» и художественной силы и убедительности «Дьявола» Толстой писал 15 октября 1890 года В. Г. Черткову: «Я последнее время стал не любить эти красноречивые общие заключения» (т. 87, стр. 48).
1 В. Г. Короленко, Собрание сочинений, т. 8, стр. 130—131.
1 Так рассматривают стиль «народных рассказов», например, П. Н. Сакулин в статье «Трудовая эстетика» (сборник «Эстетика Толстого», М., 1929), Л. Мышковская, когда утверждает, что «народные рассказы по форме — „продолжение народного безыскусственного эпоса“» («Литературная учеба», 1935, № 9, стр. 45) и др.
2 Моменты стилизации под фольклорные произведения присутствуют почти в каждом «народном рассказе» Толстого, особенно же в «сказках»: троичность, зачин («жил в селе», «жил в городе» и т. п.), концовка («И стали жить-поживать», «И стал он жить-поживать, добро наживать, а худо проживать») и т. д.
1 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну 24—25 августа 1883 г. «Толстовский ежегодник 1912 г.», стр. 77.
2 Однако именно потому, что М. Е. Салтыкову-Щедрину было в высшей степени свойственно «знание истинных интересов жизни народа», а вся деятельность «Посредника» шла вразрез этим требованиям, ни один из данных Щедриным новых рассказов в «Посреднике» напечатан не был. 19 марта 1887 года В. Г. Чертков писал Толстому: «Щедрин прислал нам несколько своих вещиц... Во всех почти его рассказах, подходящих сколько-нибудь к нашей цели, есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он говорит, что всю вещь написал именно для этого места, и никак не соглашается на пропуск» (т. 63, стр. 309).
1 И. Е. Репин и Л. Н. Толстой, т. I. Изд. «Искусство», 1949, стр. 13.
1 Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, стр. 76.
2 В. И. Немирович-Данченко. Из прошлого, 1936, стр. 357.
3 «Московские церковные ведомости», 1887, № 10.
4 «Красный архив», 1922, № 1, стр. 417.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 66—67.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293—294.
1 Там же, т. 15, стр. 183.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 67.
2 Там же, т. 5, стр. 231.
1 Там же, т. 5, стр. 216—217.
1 Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 462.
2 В. Н. Ламздорф. Дневник. Изд. «Academia», М. — Л., 1934, стр. 261.
3 Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 465.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 185.
1 «Литературное наследство», кн. 37—38, стр. 422.
1 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, I, М., 1922, стр. 38.
1 Любопытно, что и Толстой, и Достоевский свое знание монастырской жизни почерпнули из одного источника: посещения Оптиной пустыни и бесед с жившим там старцем Амвросием.
2 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 14, Гослитиздат, М., 1951, стр. 253, 261.
1 Трезвая, простая (франц.).
1 Расквитаться (франц.).
1 В. Г. Короленко, Собрание сочинений, т. 8, стр. 139.
2 Там же, стр. 140.
1 Летописи Государственного Литературного музея, кн. 12, «Л. Н. Толстой», т. II, М., 1948, стр. 146.
2 Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 675.
1 Л. Н. Толстой, Собрание сочинений в четырнадцати томах, т. 14, Гослитиздат, М., 1953, стр. 192. Цитаты из рассказа «За что?» даются по этому изданию.
2 Самостоятельно выбившихся на дорогу людей (англ.).
1 Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 23 августа 1905 года. Цитируется по книге: Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 671.
1 Если судить по сохранившемуся конспекту этого незаконченного рассказа.
1 Сверху донизу (франц.).
1 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II, 1923, стр. 7.
1 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. Изд. «Посредник», М., 1912, стр. 140.
2 В. Ф. Булгаков. Лев Толстой в последний год его жизни. Изд. «Задруга», М., 1920, стр. 318.
1 М. Горький, История русской литературы, стр. 295.
2 Там же, стр. 296.