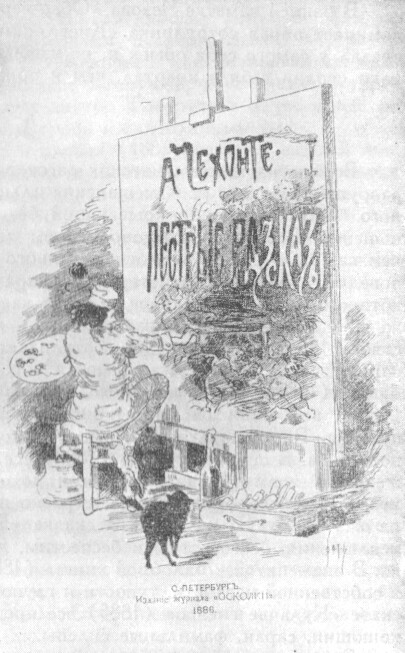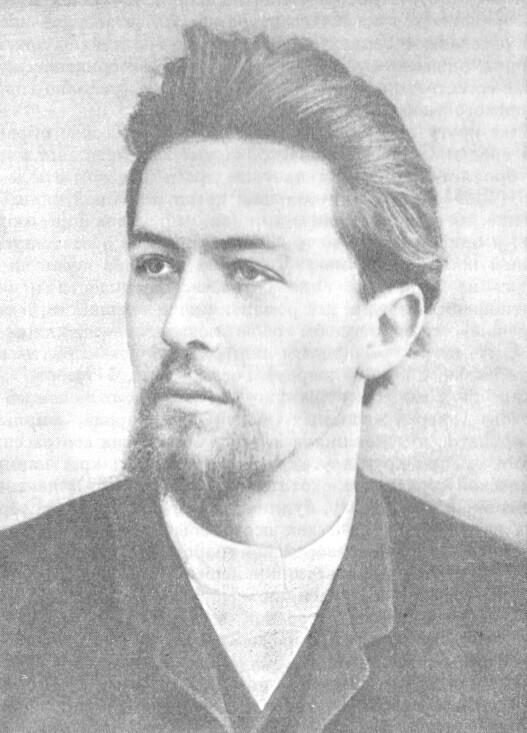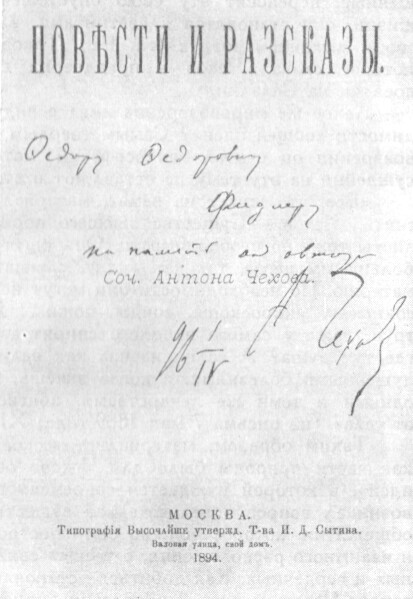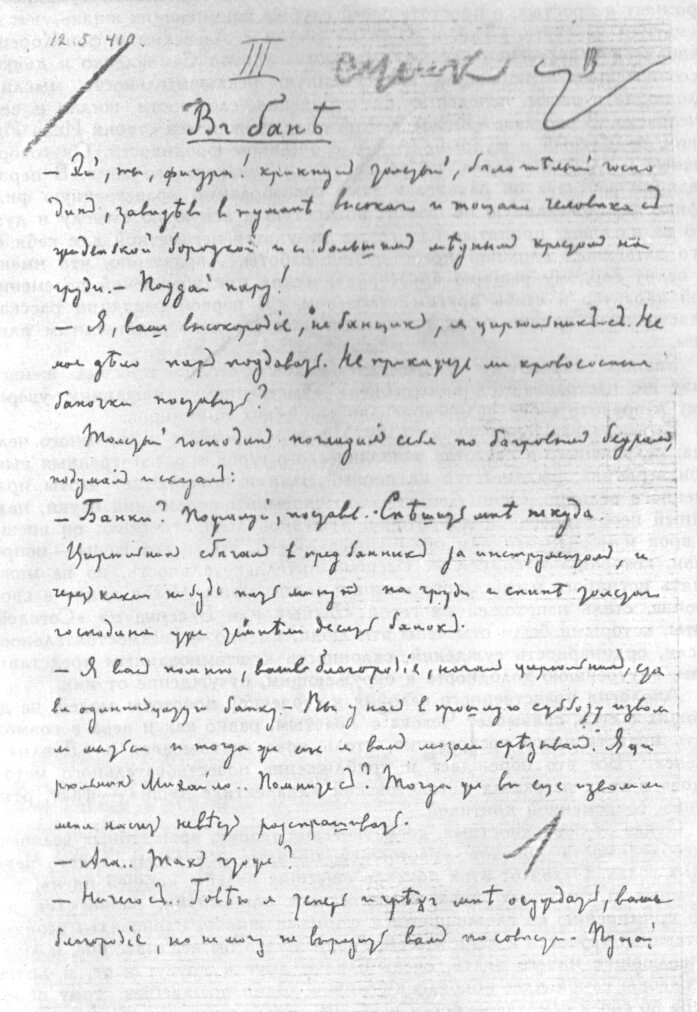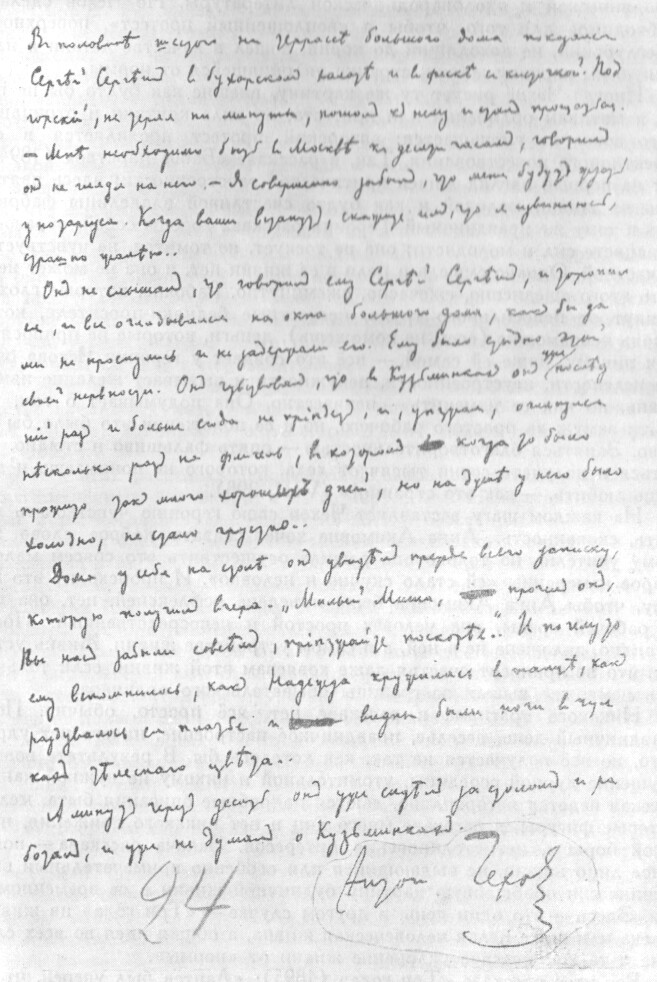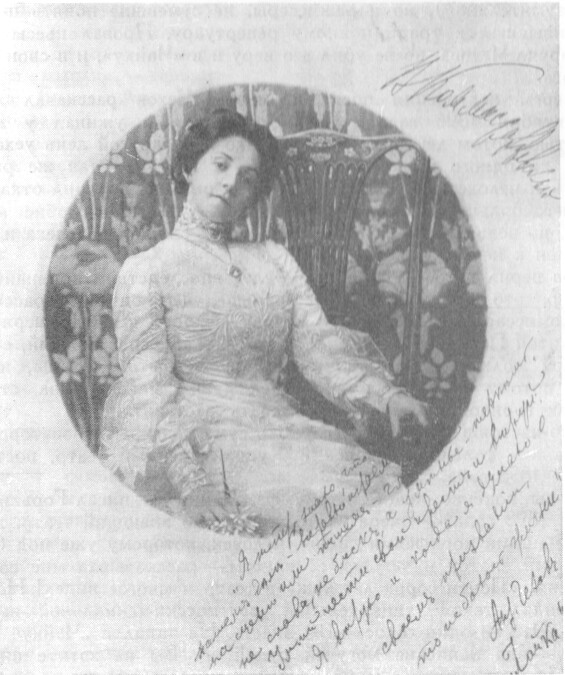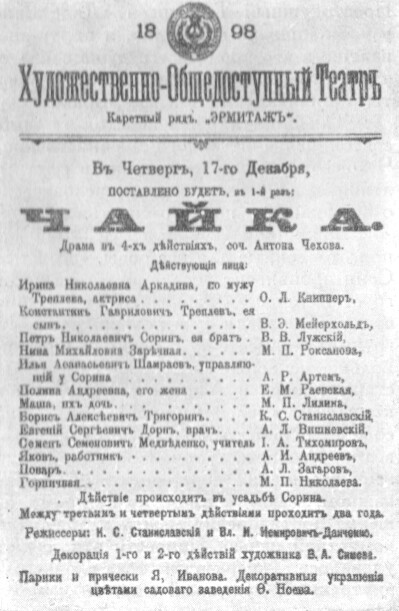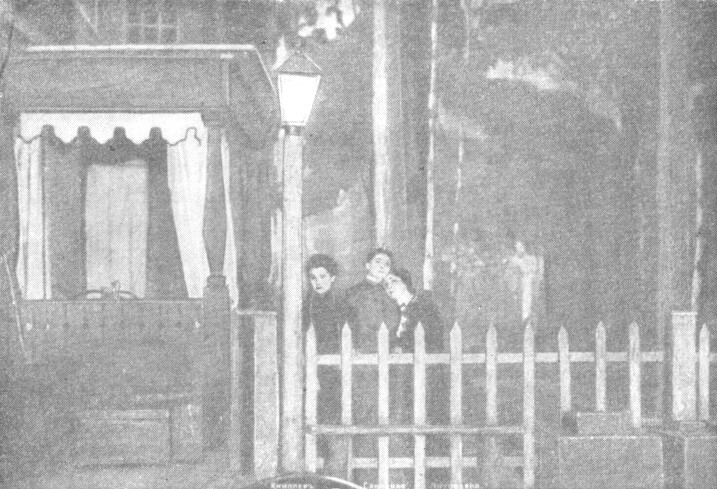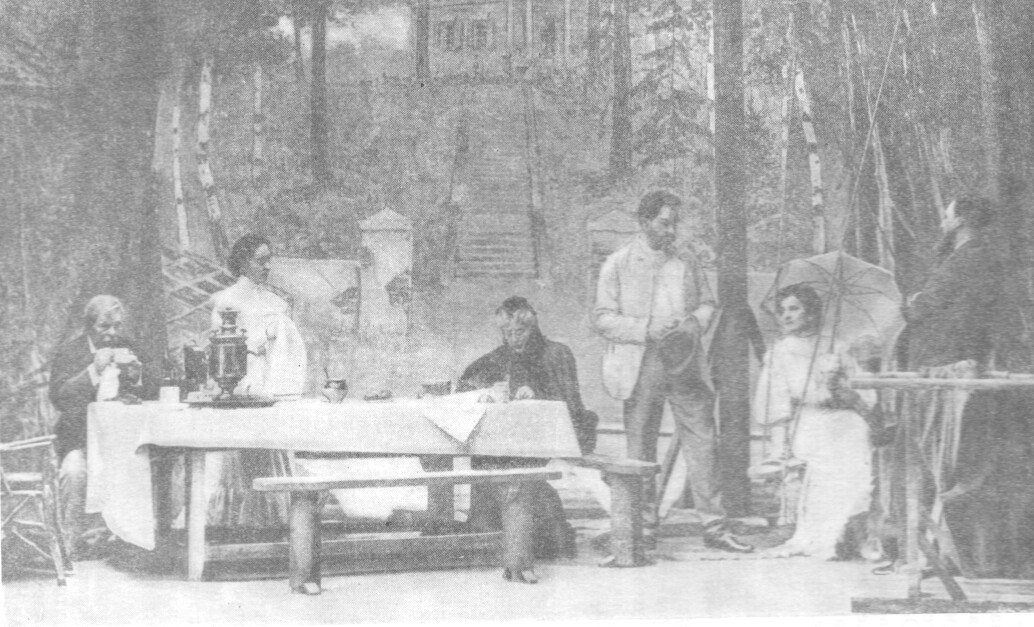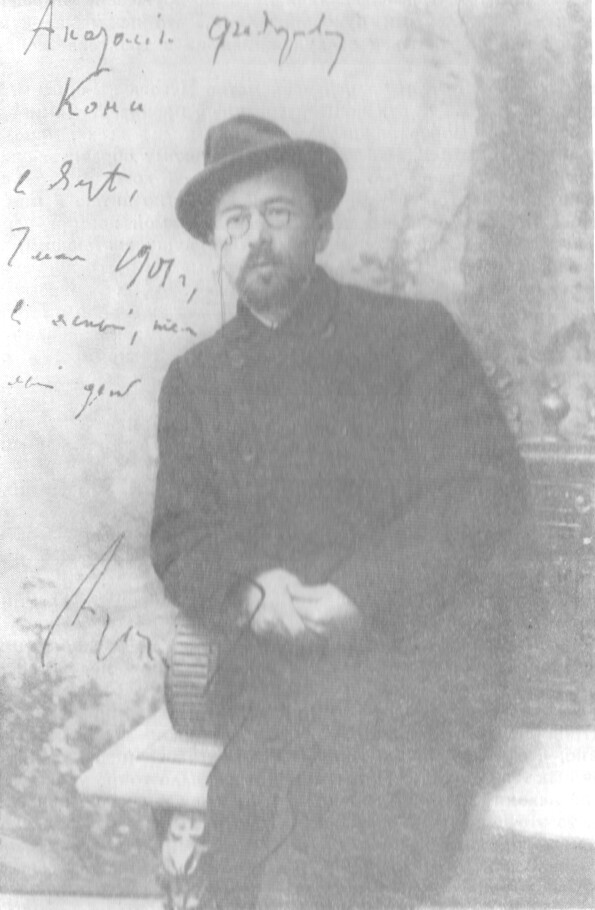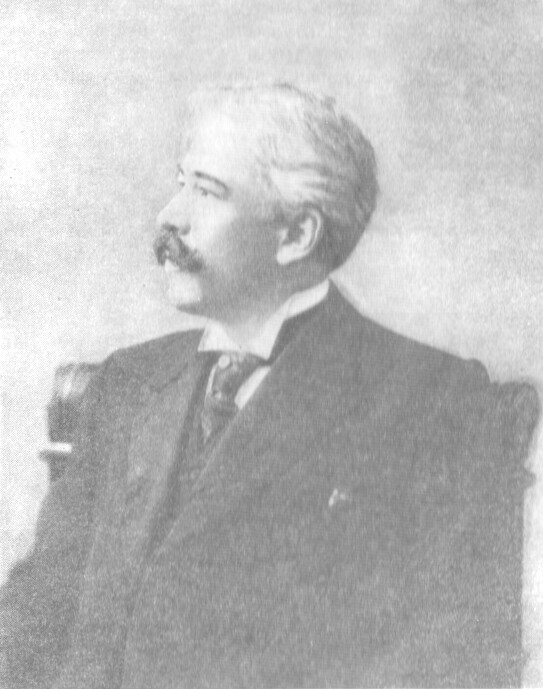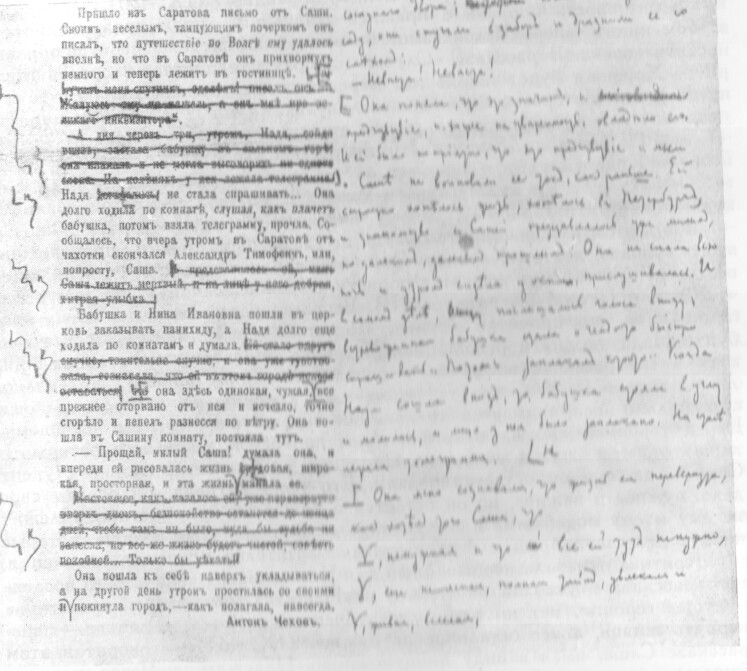- 345 -
ЧЕХОВ
- 346 -
- 347 -
Чехов вошел в историю русской литературы как художник-новатор, как замечательный представитель критического реализма конца XIX века, как один из его великих мастеров и завершителей. По силе отрицания он может быть сопоставлен с такими могучими критиками буржуазно-помещичьего строя, как Лев Толстой и Салтыков-Щедрин. По свидетельству М. И. Калинина, передовые читатели, современники Чехова, смотрели на него как на одного из учителей жизни. «Это были властители дум, — говорил М. И. Калинин. — Взять хотя бы таких людей, как Чернышевский, Салтыков-Щедрин, а потом наши современники — Короленко, Лев Толстой с его критическим отношением к действительности, дальше — Чехов, который ободрял нас, вселял непримиримую ненависть к деспотизму, к полицейщине».1 Передовые современники ценили в Чехове его изумительное знание разнообразных сторон русской действительности, его любовь к родной стране, к ее природе, ее народу, его веру в грядущее торжество правды и справедливости. Еще при жизни Чехова М. Горький проникновенно говорил о том, что Чехов — это «один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый, — друг, любящий ее, сострадающий ей во всем».2 Восхищаясь силой чеховского реализма, способностью Чехова понимать сложность жизни, видеть «жизнь такою, какова она есть — отдельные жизни, как нити, а все вместе — как огромный страшно спутанный клубок», М. Горький, прямой наследник Чехова, уже в конце XIX столетия ясно почувствовал долговечность созданных им ценностей. Россия, предсказал Горький, «долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который все понимает».3
Творчество Чехова, отразившее с исключительной широтой русскую жизнь его времени, имеет непреходящую познавательную и эстетическую ценность. Оно помогает воспитанию народа, борьбе со всеми пережитками старого мира, изображенного Чеховым с такой силой реалистического обличения. Оно ценно для нас и глубокой верой в неизбежность победы всех лучших человеческих стремлений, верой в неизбежность наступления новой, счастливой жизни, пути обретения которой великий писатель хотя и не знал, но мечтой о которой проникнуты его произведения.
- 348 -
1
Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января 1860 года в Таганроге. Род Чеховых ведет свое начало из Воронежской губернии, как об этом сообщил сам А. П. Чехов в одном из писем к А. И. Эртелю. Дед и отец Чехова были крепостными помещика Черткова, отца В. Г. Черткова, друга и секретаря Л. Н. Толстого. Дед Чехова, Егор Чехов, человек недюжинных способностей и твердого характера, выкупился на волю за большие деньги, скопленные им за много лет. После этого он поступил на службу к графине Платовой в ее имения — степные слободы Крепкую и Княжую и дослужился там до должности управляющего. В этих степных слободах в ранней юности не раз бывал будущий писатель отчасти как гость у своего деда, отчасти как работник у него же. Эти поездки в степные места отразились впоследствии в нескольких рассказах Чехова.
Ко времени рождения Антона Павловича отец его, Павел Егорович, был в Таганроге владельцем бакалейной лавочки. Павел Егорович придерживался суровых и патриархальных методов воспитания. Работать приходилось много и трудно; подзатыльники, порка — всё это было привычным и узаконенным явлением. Вместе с тем Павел Егорович не был лишен умственных интересов и даже некоторой образованности, он наизусть читал Кольцова, рисовал и играл на скрипке.
Семи лет от роду Чехов был определен в греческую школу, где пробыл два года. Павлу Егоровичу приходилось вести дела с местными греками, он стремился к тому, чтобы сыновья Николай и Антон, которых он думал определить по торговой части, знали греческий язык. Вот почему Чехов попал в это учебное заведение, где, по словам его биографа, брата Александра, «обучались, главным образом, дети шкиперов, дрягилей, матросов, мелких маклеров, греков-ремесленников и вообще низшего ранга». Учили там совершенно безграмотные учителя, а родители отдавали обычно в эту школу своих детей, как пишет тот же биограф, «не столько для обогащения ума книжной наукой, сколько для того, чтобы они (дети) не баловались и не мешали дома».1
В 1869 году Чехов поступил в таганрогскую классическую гимназию. Это была обычная провинциальная казенная гимназия, о которой можно себе составить представление по рассказу Чехова «Человек в футляре». Инспектор этой гимназии А. Ф. Дьяконов послужил прототипом для Беликова. Законоучитель протоиерей Покровский дал Чехову шутливое прозвище Чехонте, которое стало его литературным псевдонимом.
Уже в гимназические годы Чехов производил впечатление богато одаренного юноши. Учитель русского языка обращал на него всегда особенное внимание, а товарищи любили его увлекательные рассказы, в которых явственно пробивались юмористические нотки. Дар рассказчика укреплялся у Чехова семейными впечатлениями. Его мать и тетка славились как большие мастерицы рассказывать про старину, и Чехов с охотой и любовью слушал их рассказы о крепостном праве, о бомбардировке Таганрога в севастопольскую кампанию и о том, как его мать маленькой девочкой совершила трудное и увлекательное путешествие из Шуи в Таганрог. Соученики Чехова по таганрогской гимназии вспоминают, что молодой Антон Павлович поражал их прекрасным знанием славянских
- 349 -
текстов, в дружеских беседах он пересыпал свою речь славянскими изречениями.
Подлинной страстью Чехова-гимназиста был театр. В таганрогской труппе было немало даровитых провинциальных актеров, и Чехов был постоянным посетителем театрального райка. Так как гимназистам ходить в театр не разрешалось, то ему, как и некоторым другим гимназистам, из любви к театру приходилось подаваться на хитрости и прибегать к переодеванию и даже гримировке. Вообще, как свидетельствуют его братья и друзья юности, Чехов обладал незаурядным дарованием актера и импровизатора.
В помещичьем амбаре в семье одного из гимназических товарищей Чехова устраивались в Таганроге любительские спектакли, в которых Чехов был одним из самых талантливых актеров, причем случалось ему мастерски исполнять и женские роли. Неистощим был Чехов и в импровизациях, которые разыгрывались в семейном кругу. По рассказам братьев известна сценка «поставления во диаконы», в которой Чехов, изображая сельского дьячка, старческим дребезжащим голосом пел «ирмосы, кондаки и богородичны на все восемь гласов». Вспоминают мемуаристы и о гротескной сценке, изображавшей чудеса хирургии; Чехов уморительно представлял в ней зубного врача, извлекавшего каминными щипцами больной зуб у пациента, вопившего от нестерпимой боли. Юный Чехов был также бесконечно изобретателен в шутливом передразнивании, подражании, в иматации ученых лекций, в составлении шутливых писем. Его первое печатное произведение «Письмо к ученому соседу» воспроизводило, по семейным преданиям, одну из таких юмористических лекций.
Круг чтения молодого Чехова восстановить с полной определенностью невозможно. Он сам о книгах, читанных в детстве, ничего не рассказывал, молчат об этом и мемуаристы. Письма его известны только с 16-летнего возраста; в первом же письме мы находим данные, свидетельствующие о хорошей начитанности Чехова-подростка и о самостоятельности его литературных суждений. В письме к младшему брату Михаилу Чехов иронизирует над тем, что Бичер-Стоу выжала из глаз Михаила слезы, и советует ему прочитать полного Дон-Кихота, «сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром», рекомендует старшим братьям прочитать речь Тургенева о Гамлете и Дон-Кихоте и сдержанно аттестует «Фрегат Палладу» Гончарова как «нескучное путешествие».1
По свидетельству друзей детства Чехова, будущий писатель в ученические годы не проявлял живого интереса к политическим вопросам и революционному движению 70-х годов. Здесь сказалось влияние того социального круга, в котором рос и вращался Чехов, круга косного, далекого от широких интересов и запросов общественно-политической борьбы. Характерно, однако, что даже не будучи вдохновлен непосредственно политическими идеями и настроениями, молодой Чехов больно и остро чувствовал серость, тесноту и непорядочность окружавшей его мещанской обстановки. Жизненные несовершенства и социальное зло предстало перед ним тогда еще не в форме вопиющей несправедливости, а в виде житейских мелочей бытового характера. Первые толчки к самостоятельной мысли и к критике существующего порядка вещей он получал не столько
- 350 -
от картин социальных контрастов или политического угнетения, сколько от однообразных впечатлений мещанской жизни, мелочной, скудной радостями, наполненной мелкими дрязгами и недоразумениями, отмеченной тяжелой печатью оскорбительной нравственной нечистоплотности, неуважением к человеческой личности. «Для него еще в юности „борьба за существование“ развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба..., — писал М. Горький. — Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного».1
В 1876 году отец Чехова, торговые дела которого пошатнулись, вынужден был закрыть свою лавочку и переехать в Москву, где к тому времени находились его старшие сыновья. Антон Павлович остался в Таганроге без семьи вместе с братом Иваном. Для Чехова наступили особенно трудные времена. Ему приходилось учиться и одновременно зарабатывать на жизнь не только для себя, но и для отчаянно нуждавшейся семьи. Он продолжал жить в доме, который был для него родным, но теперь перешел в чужие руки. За угол, который отвел Чехову новый хозяин дома, Чехов должен был бесплатно заниматься с его племянником. Кроме того, ему приходилось искать для себя и другие грошовые уроки, почти всё свободное от занятий время уходило на репетиторство. Этот период нужды и лишений способствовал в то же время развитию у Чехова чувства независимости и собственного достоинства. Он не только сам высоко ценит человеческое достоинство, но стремится привить это и своему младшему брату Михаилу. «Не нравится мне одно, — пишет он ему, — зачем ты величаешь особу свою „ничтожным и незаметным братишкой“. Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек. Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность» (XIII, 29).
В 1879 году Чехов окончил гимназию и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Он очень серьезно занялся медициной, не менее серьезно, чем литературной деятельностью, начало которой (1880 год) совпадает с первым годом его студенчества.
«Не сомневаюсь, — писал он впоследствии, — занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач... Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно, — предпочитал не писать вовсе» (XVIII, 243—244).
Естественные науки, повидимому, сыграли очень важную роль в формировании взглядов Чехова на жизнь. В студенческие годы Чехов задумал даже писать работу на тему «История полового авторитета», в которой с естественнонаучной точки зрения думал осветить женский вопрос. Необходимость равенства полов Чехов собирался тогда аргументировать тем, что «сама природа не терпит неравенства».
- 351 -
Естественные науки способствовали созреванию у Чехова высокого представления о жизни, формированию идеала естественного человека, с разнообразными интеллектуальными задатками, homo sapiens в высшем значении слова. В свете этих взглядов и настроений Чехова становится понятной позднейшая его декларация: «Моя святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода...» (XIV, 177).
Легко представить себе также, насколько противоестественными должны были казаться Чехову смешные в своей уродливости формы повседневного быта, досадные и глупые проявления бытовой непорядочности.
В 1884 году Чехов окончил университет. К этому времени он был уже писателем, заметным сотрудником юмористических изданий. В 1880 году он дебютировал «Письмом к ученому соседу» в журнале «Стрекоза», печатался он также в журналах «Будильник», «Зритель», «Мирской толк», «Москва», «Свет и тени», «Спутник». С 1882 года начинается сотрудничество Чехова в «Осколках», лучшем юмористическом журнале того времени, выделявшемся на общем сером фоне безидейной юмористической журналистики 80-х годов своим относительно прогрессивным направлением. Работу в этом журнале и близкое общение с его редактором Н. А. Лейкиным Чехов считал важным фактом своей писательской биографии.
2
Литературная деятельность Чехова развернулась в тот исторический период, когда закончилась революционная ситуация 70-х годов и в стране надолго воцарилась свирепая реакция. После 1 марта 1881 года остатки революционных народнических организаций подвергались систематическому разгрому.
Либеральное общество ограничивалось робкими просьбами, ходатайствами, петициями. В самом народничестве прежние революционные традиции меркли и тускнели, наступал период либерального народничества с его бескрылым прожектерством, с теорией «малых дел», с «аптечками» и «библиотечками».
В журнале «Неделя», органе вылинявшего и переродившегося народничества, раздавались призывы отказаться от наследства 60-х годов, от идей революционных просветителей. Призывы к «примирению с жизнью и отказу от широких задач» повторялись в «Неделе» из номера в номер. Присмиревшие обыватели охотно подхватывали эти серенькие мыслишки, оправдывавшие их трусость и прикрывавшие их покорность лицемерными словами об «идеалах», о «служении народу», о любви к ближнему.
Победа партии самодержавия, разгул полицейщины, торжество «охранителей порядка», бессилие и рабская трусость либеральных обывателей — всё это наложило тяжелый отпечаток на русскую жизнь 80-х годов. Важно учесть к тому же, что реакция праздновала свою победу в условиях укрепления в России новых, буржуазных отношений. В эту пору наряду с реакционным помещиком равноправным хозяином положения стал сытый буржуа-мещанин, аполитичный, довольный своим утробным существованием, ограниченный и наглый. Против этих «героев времени» — охранителей порядка, чиновников по должности и в душе, против обезличенных обывателей, против самодовольных и тупых мещан — было направлено раннее юмористическое творчество Чехова.
- 352 -
Тем самым произведения Чехова (хотя он этого и не сознавал) уже тогда объективно способствовали той борьбе с существовавшими общественными порядками, которая никогда, в том числе и в этот реакционный период, не прекращалась передовыми людьми России.
В юмористических рассказах Антоши Чехонте были показаны типические обстоятельства русской жизни периода победы реакции, торжества мещанства и обывательской пошлости.
Ранние юмористические произведения Чехова далеко не однородны по своему художественному достоинству. Наряду с превосходными юмористическими рассказами встречаются сценки и очерки, сливающиеся с общим бесцветным фоном тогдашней юмористики, попадаются неостроумные каламбуры и разного рода «мелочишки», написанные исключительно ради заработка, в погоне за печатными строчками. Однако при всей разнородности и неравноценности ранних опытов Чехова в них явственно проступают черты, придающие своеобразие облику Антоши Чехонте.
Обращает на себя внимание и то, что общий склад современной ему жизни, изображаемой Чеховым в ранних юмористических рассказах, предстает как нечто дикое, первобытное, дремучее, а хозяева этой жизни и люди, ею воспитанные (помещики, купцы, чиновники, мещане), оказываются едва ли не похожими на животных. Уже в первом рассказе «Письмо к ученому соседу» (1880) выведен дикий помещик, взгляды и понятия которого представляют смесь грубого искательства и простодушной наглости. В рассказе того же года «За двумя зайцами погонишься» все действующие лица — майор Щелколобов, майорша, писарь Иван Павлович — не люди, а какие-то человекоподобные существа. Их переживания — это не человеческие страсти, а нечто совершенно первобытное, вызывающее чувство презрительного удивления.
Во многих рассказах Чехов сравнивает своих героев с животными, кладя это сравнение в основу характеристики персонажа. Так, в рассказе «Папаша» (1880) сам папаша — «толстый и круглый, как жук», мамаша — «тонкая, как голландская сельдь», это всё люди без морали, без человеческих понятий, находящиеся вне норм человеческой жизни, только условно именуемые людьми. Об этом прямо сказано в рассказе «За яблочки» (1880): «Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров» (I, 83).
Сценка 1881 года «В вагоне» разработана Чеховым почти как зоологический этюд. Кондукторы, контролеры, «зайцы», старый селадон, хорошенькая барыня из породы «само собой разумеется» — это именно породы человекоподобных зверей, живущие и действующие в соответствующей обстановке: кругом тьма, храп, сопенье, пыхтенье, чавканье.
«Жиндаррр!!! Жиндаррр!!! — кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры...» (I, 116).
В рассказе 1882 года «Который из трех?» героиня определена Чеховым как «молодая, хорошенькая, развратная гадина», а в рассказе 1883 года «Баран и барышня» герой рассказа — «милостивый государь» характеризуется именно названием животного, данным в заглавии. В очерке того же года «Двое в одном» чиновник рассуждает о Гамбетте, произносит тирады о свободе, ломается, капризничает, придирается, но, увидев своего начальника, моментально становится смирен, ничтожен, отвратительно жалок. «Верь после этого жалким физиономиям этих хамелеонов!» —
- 353 -
думает начальник, повидимому, мало чем отличающийся от своего подчиненного (II, 105). В 1884 году в рассказе «Хамелеон», где, кстати сказать, кроме главного героя — хамелеона Очумелова, — фигурирует еще персонаж по фамилии Хрюкин, тема утраты человеком человеческих свойств достигает у Чехова высшего развития и приобретает характер широкого и острого сатирического обобщения. Хамелеонство, мгновенные изменения в поведении и самочувствовании, молниеносные переходы от самодурства к холопству — такова наиболее общая и важная черта, превращающая под пером Чехова человека в существо, достойное одного лишь презрительного смеха. Становясь прислужником сильных мира сего, теряя свою независимость, делаясь холопом и притеснителем одновременно, человек теряет свои человеческие свойства и превращается в хамелеона.
Иллюстрация:
«Сказки Мельпомены», сборник рассказов
А. П. Чехова. 1884. Обложка.Объект чеховского юмора и юмористический метод автора с особой наглядностью выясняется в его рассказе 1885 года «Циник», первоначально называвшемся «Звери». Первоначальное заглавие указывало на объект чеховского юмора, последующее наименование намекало на своеобразие авторского подхода к изображаемому. «Циник», показывающий публике зверей в зоологическом саду, «объясняет» обитателей зверинца по новому, ему одному принадлежащему способу: он с «циническим» презрением вышучивает зверей, смирившихся с неволей и утративших свои природные свойства.
«Выпусти его, — говорит он о льве, — так он опять в клетку придет. Примирился. Хо-хо-хо». К дикой кошке он обращается с аналогичной тирадой: «Что снуешь? Ведь не выйдешь отсюда! Издохнешь, не выйдешь! Да еще привыкнешь, примиришься! Мало того, что привыкнешь, но еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь!». «Дрянь животное! — аттестует он обезьяну. — Знаю, что вот ненавидит нас, рада бы, кажется, в клочки разорвать, а улыбается, лижет руки! Холуйская натура!».
Зрители возмущаются, запрещают «цинику» мучить зверей «разными этими... шутками», выходят из зверинца злые, взбудораженные, но потом
- 354 -
опять идут туда: «Им опять хочется его задирательного дерущего холодом вдоль спины цинизма» (IV, 463—464, 466).
«Задирательным» смехом смеется и сам Чехов.
«Выходите на улицу и глядите на ряженых, — обращается он к читателям в рассказе «Ряженые» (1886). — Вот, солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то, нарядившееся человеком. Это „что-то“ толсто, обрюзгло и плешиво» (IV, 567). В итоге этого «задирательного» объяснения ряженое «что-то» оказывается свиньей, и дальнейшие объяснения ведутся в том же духе.
В этой же связи появляются в раннем творчестве Чехова шуточные классификации его человекоподобных героев, к которым автор подходит как бы с научной меркой, то сортируя их по темпераментам (рассказ «Темпераменты — по последним выводам науки», 1881), то определяя внешние простейшие проявления жизни любого из них в разные периоды их физиологического существования («Жизнь в вопросах и восклицаниях», 1882), то выясняя, как ведут себя при одинаковых обстоятельствах представители разных профессий («Роман доктора», «Роман репортера», «Роман адвоката», 1883).
Очень часто комический эффект достигается у Чехова тем, что человек целиком исчерпывается своей профессией, должностью или общественным положением. «... меня, человека, переделали в кассира», — говорит герой рассказа «Исповедь», и дальше «человек» в нем исчезает, и герой начинает вести себя по тому шаблону, который связывается с понятием кассира.
В рассказе «Не в духе» (1884) весь комизм заключается в том, что в дурном расположении духа находится становой пристав, не человек, а именно пристав. Стихи Пушкина он воспринимает, как пристав, сердится он также, как пристав, и, как пристав, придирается к сыну. В рассказе «Упразднили» (1885) упразднение чина прапорщика лишает человека душевного равновесия и охоты жить: он весь состоит из своего чина и, кроме чина, ничего за душой не имеет. Равным образом и в упомянутой выше маленькой юмористической трилогии «Роман доктора», «Роман репортера» и «Роман адвоката» вся юмористическая соль состоит в том, что там взяты в определенной ситуации не люди, а как бы персонифицированные профессии. Точно так же в известном рассказе «Смерть чиновника» (1883) погибает от избытка холопских чувств не человек, а именно холоп, чиновник в душе, и потому повествование о его смерти приобретает комический характер.
Высшего развития этот мотив достигает в «Унтере Пришибееве» (1885), где человек исчерпывается самой постыдной профессией — профессией доносчика и добровольного охранителя порядка. Унтер Пришибеев — это социальный тип большого общественно-политического значения, в нем отразились самые гнусные черты самодержавного деспотизма и полицейщины, тупой, бессмысленной, мелочной. Это образ, в значительной мере родственный герою «Будки» Глеба Успенского — Мымрецову с его девизом «тащить и не пущать».
В «Унтере Пришибееве» достигает полной ясности важная особенность раннего чеховского творчества: его юмор направлен не только против сильных, богатых и властвующих, не только против хозяев положения. Унтер Пришибеев — человек маленький, пришибленный, и тем не менее он выступает как фигура, ненавистная Чехову. То же мы видели и в упомянутом выше рассказе «Двое в одном», где душа хамелеона оказалась в теле маленького чиновника.
- 355 -
«Но ради аллаха! Брось ты, сделай милость, своих угнетенных коллежских регистраторов! — писал Чехов своему брату Александру 4 января 1886 года. — Неужели ты нюхом не чуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту?» (XIII, 156). Сам Чехов эту тему бросил очень решительно. Больше того, во многих своих рассказах раннего периода он стремился показать, что «угнетенные коллежские регистраторы», рабски угодничая перед своими угнетателями, теряют свое человеческое достоинство и право на сочувствие.
В одном из самых ранних рассказов Чехова «Суд» (1881) повествуется о том, как лавочник в присутствии свидетелей и жандарма сечет своего взрослого сына, ошибочно обвиненного в краже денег. При этом Чехов вовсе не хочет возбудить сочувствия к невинно наказанному герою, который после порки выпивает водки, «поднимает вверх свой синий носик и богатырем выходит из избы» (I, 125).
В рассказе «Торжество победителя» (1883) Чехов показывает, что самодурство и холопство — явления единые по своей сущности. Чиновник, маленький, задавленный, притесняемый, войдя в силу, сам становится притеснителем, к тому же гнусно злопамятным.
В рассказе «Маска» (1884) наглый и пьяный самодур-богач ничуть не хуже обижаемых им трусливых обывателей; напротив, юмор Чехова против холопствующих интеллигентов направляется с еще большей силой, потому что в них проглядывают особенно ненавистные для Чехова черты подлой хамелеонской обезличенности.
Иной раз обезличенность обывателей выступает у Чехова без оттенка угодничества и хамелеонства, но и в этом случае его юмор не становится мягче и терпимее. «Размазни» и «тряпки» так же достойны презрительного смеха, как «бараны» и «мастодонты», как хамелеоны или просто ненастоящие люди («ряженые»).
Сотрудник газеты попадает в унизительное положение на вечере у коммерции советника и не находит в себе силы, чтобы с достоинством выйти из этого положения, мучительность которого остро чувствует сам. Он понимает непристойность своего поведения, но тряпичная душа не может не унижаться. Рассказ этот называется «Тряпка» (1885). А в рассказе «Размазня» (1888) Чехов с публицистической прямотой обнажает одну из причин своего отказа от темы «угнетенных коллежских регистраторов»: «Отчего вы не протестуете? — возмущенно спрашивает рассказчик гувернантку, позволяющую безнаказанно обсчитывать себя. — Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?» (II, 156).
Впрочем, Чехов смеялся над такими людьми не только за тряпичность их натуры и за отсутствие протеста, но и за их низменность, за то, что по умственным и нравственным качествам своим многие из них не отличаются от господ положения, за то, что человек в них так же уступил свое место чину, состоянию, профессии, как и у сильных мира сего. Так, в рассказе «Толстый и тонкий» (первая редакция) оба антагониста одинаково смешны, потому что в равной мере представляют собою персонификацию чина, один — высшего, другой — низшего. В этом смысле коллежский регистратор в рассказах Чехова равен тайному советнику.
Словом, в юмористических рассказах молодого Чехова доктор, репортер или адвокат ничуть не выше частного пристава, мелкий чиновник — «мелюзга» и пешка — ничуть не лучше превосходительного туза, интеллигентный человек с рабьей душой не лучше самодура-купца, «хамелеон», пусть даже униженный, не лучше «торжествующей свиньи», «размазни» не лучше тех пиявок, которые пользуются их слабостью.
- 356 -
Гражданские мотивы чеховского юмора не были оценены и поняты сразу, его отрицание казалось иной раз беспредметным, а его «задирательный» юмор — самодовлеющим, ни на что в особенности не направленным и потому безобидным. Эту версию поддерживали иной раз и демократически настроенные критики, в глазах которых Чехов проигрывал прежде всего по сравнению с Салтыковым-Щедриным, приучившим читателей к «свирепому юмору», подчиненному определенной социально-политической программе. У Чехова такой четкой политической программы не было, особенно в 80-х годах. Он был силен непосредственностью, максимализмом требований, ярким гуманизмом, в основе которого лежало представление о совершенном человеке, с его умом, талантом, вдохновением и свободой. Его отрицание было широко и смело, но оно не опиралось на социальный анализ отрицаемых явлений, при всей широте и смелости.
В этом Чехов отличался от Щедрина, но многое у Щедрина было ему близко и родственно. Чехову была близка щедринская тема премудрых пескарей и благонамеренных зайцев, аналогичная его юмористической трактовке тряпичных натур; щедринский метод гротеска представлял некоторое соответствие чеховской манере изображения обезличенных людей; самый жанр юмористической сказки, расцветавший под пером Щедрина одновременно с чеховскими рассказами, открывал широкие возможности для юмористических обобщений, к которым стремился молодой Чехов. Неудивительно, что Чехов учитывал опыт щедринской сатиры, восхищался Щедриным и нередко подражал ему. В щедринском духе выдержана сценка 1884 года «Молодой человек», передающая разговор сотрудника юмористических журналов Упрямова с благонамеренным Правдолюбовым. Правдолюбов упрекает своего собеседника за легкомысленные рисунки.
«Правдолюбов. — Кто это в мышеловке?
«Упрямов. — Это тайный советник Россицкий; на крючке каченное сало...
«Правдолюбов (при слове «сало» облизывается). — Тайный советник... (краснеет за человечество). — Так молод и так испорчен...» (III, 185) и т. д.
Не менее явственно слышатся щедринские интонации в сказке «Самообольщение» (1884), повествующей о том, как участковый пристав, кичившийся силой воли, был посрамлен стариком брандмейстером, указавшим гордецу-приставу на свободно лежащую в шкатулке лавочника десятирублевку.
«Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.
«— Да! сказал он. — Теперь понимаю!
«И с тех пор он уже никогда не кичился своей силой» (III, 224).
В 1885 году появляется у Чехова сценка «Свистуны», герои которой — помещики, восхищающиеся по-славянофильски народом, — несомненно ведут свою родословную от щедринских пустоплясов. Показывая на пастуха Фильку, один из свистунов крепостнической школы восклицает совсем в духе щедринских персонажей: «Взять хоть этого дурня... В плечах — косая сажень! Грудища — словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит... Дерзай, Филька! Бди! Не отступай от своего! Крепко держись! Ежели кто будет говорить тебе
- 357 -
что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай... Ты сильнее, лучше! Мы тебе подражать должны!» (IV, 374). В фельетоне того же года «Мнения по поводу шляпной катастрофы» в числе прочих суждений по мелкому злободневно бытовому поводу приводится и суждение щедринского Иудушки.
«Пестрые рассказы», сборник рассказов
А. П. Чехова. 1886. Обложка.В 1886 году в письме к Лейкину Чехов восхищается сказкой Щедрина «Праздный разговор». «Прочтите в субботнем (15 февраля) № „Русских ведомостей“, — писал он, — сказку Щедрина. Прелестная штучка. Получите удовольствие и руками разведете от удивления: по смелости эта сказка совсем анахронизм!» (XIII, 175). Характерно, что именно эта сказка привлекла особенное внимание Чехова: в ней речь идет о совершенной ненужности губернатора и прочих чиновников, высших и низших, для нормальной жизни обывателя. Воздействию сказок Щедрина следует приписать появление у Чехова и таких шуточных сказок и басен в прозе с гротескными ситуациями, гиперболическими фигурами, животными персонажами, как «Два газетчика» (неправдоподобный рассказ), «Бумажник» (басня в прозе) или «Рыбье дело» (густой трактат по жидкому вопросу). Некоторые образы и ситуации этого «трактата» прямо восходят к щедринским сказкам. Например, щука, «когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, ...говорит: „Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься“»; карась «сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука», приговаривая при этом: «Денно и нощно должны мы быть готовы, чтобы угодить госпоже щуке... Без ихних благодеяниев...». В особенности же характерен голавль, «рыбий интеллигент». Он состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бранит щук, но тем не менее поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькою необходимостью, потребностью времени. Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит:
«— Ничего не поделаешь, батенька! Не созрели еще пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?» (IV, 304, 305).
- 358 -
В ранней заметке Чехова «Обер-верхи» (1883) щедринских героев напоминает образ сотрудника «Киевлянина», который в припадке сомнения сделал у самого себя обыск и, не нашедши ничего предосудительного, всё-таки сводил себя в квартал, чем и обнаружил «верх благонамеренности».
3
Во многих юмористических рассказах 80-х годов Чехов безжалостно разрушает разного рода мещанские иллюзии, снимая тонкий покров условного благообразия, прикрывающий безобразную сущность житейских отношений. Всё скверно в современном мещанском строе жизни и всё не то, чем кажется, — это лейтмотив длинного ряда его рассказов-шуток. В «Исповеди» (1883) все действующие лица безнадежно подлы: и сам герой, которого из человека «переделали в кассира», и его родители, и брат, и жена, и сослуживцы, и начальники, и знакомые. В «Единственном средстве» (1883), где опять Чехов откликается на модную тему воровства кассиров, все до одного оказываются ворами. В шутке «Случаи mania grandiosa» (1883) все помешанные, кто на чем. В очерке «Темною ночью» (1883) все одинаково преступно эгоистичны — от ямщика до инженера-путейца. В рассказе «На магнетическом сеансе» (1883) все одинаково подкупны. В сценке «Ушла» (1883) все казнокрады и лицемеры: молодая женщина возмущается нечистыми доходами своих знакомых, но, узнав, что на этом же фундаменте построено и благополучие ее мужа, уходит от него... в другую комнату. В сказке «Верба» (1883) все чиновники, без исключения, бессовестны и бесчестны, даже убийца совестливее и честнее их. В знаменитой «Жалобной книге» (1884) все жалобщики расписываются в собственной наглости, тупости и глупости, каждый на свой манер. В рассказе «Кулачье гнездо» (1885) всё продается, всё отдается в наем: дачи, конюшни, сараи, фамильные склепы.
Защищая свой сатирический метод, Чехов обрушивается против литературного приукрашивания действительности, против шаблонных образов благородных, возвышенных героев и героинь. Некоторые эпизоды из произведений литературных корифеев используются у него при этом в пародийном плане. Так, в «Загадочной натуре» (1883) молодой писатель Вольдемар с видом глубокого психолога задумывается над душевными «терзаниями» женщины, собирающейся перейти от одного богатого старика к другому. «Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около браслета. — Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал» (I, 29).
В «Шведской спичке», пародируя уголовный роман, основанный на психологических тонкостях, он вновь, как бы невзначай, упоминает имя Достоевского. Ощутительный намек на «Преступление и наказание» появляется в финале «Драмы на охоте».1
Для Чехова это прежде всего борьба с литературными иллюзиями о жизни и людях. В рассказе «Цветы запоздалые» (1882) носительницей этих иллюзий является княжна Маруся, напоминающая, по словам самого
- 359 -
автора, наивную и хорошенькую героиню английских романов. Для нее весь мир населен литературными шаблонами, и сквозь дымку литературных иллюзий она воспринимает всё окружающее в идеализированном виде. Ее брат, негодяй, пьяница и «дурандас» Егорушка, в ее глазах — тургеневский Рудин, а черствый карьерист-доктор Топорков — нечто вроде романтического героя с возвышенной натурой и озлобленным умом.
Герой рассказа «Слова, слова и слова» (1883) говорит падшей женщине возвышенные речи; она потрясена и готова увидеть в нем благородного героя читанного ею романа, но нет, это иллюзия — он такой, как все, он не больше, чем «честный развратник».
Героиня рассказа «Дачница» (1884) в годы учения веровала, что за институтскими стенами «кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники» (III, 230). Жизнь разбивает эти литературные романтические иллюзии, «священный ужас» перед мужчинами, навеянный книжными представлениями, обещал ей больше, чем дала реальная действительность. В рассказе «Из воспоминаний идеалиста» (1885) терпит крушение наивная, сентиментальная доверчивость глуповатого «идеалиста»: героиня его дачного романа оказывается одной из тех «хорошеньких, развратных гадин», которых так любил рисовать Чехов в пору своей борьбы с литературными и житейскими обманами. Добрая и возвышенно настроенная вдова предводителя «облагораживает» общество, насаждая трезвость: на традиционном поминальном обеде она не подает гостям горячительных напитков. Однако гости приносят свои бутылки и тайком напиваются. В трогательном письме к подруге предводительша описывает в идиллических тонах поминальный обед, объясняя в нем бурное поведение гостей их взволнованностью («У предводительши», 1885). Это письмо, по содержанию и стилю, — образец литературных иллюзий о жизни.
Не верьте бескорыстной растроганности «сытых гусей», как бы говорит Чехов, — они просто пьяны. Не ищите в этой среде «загадочных натур», — загадок никаких нет, всё объясняется очень просто и грубо прозаично. Не ищите Раскольниковых там, где нужно видеть просто грязных и ничтожных негодяев. Не наделяйте званием «идеалистов» людей с тряпичной душой. Так, в рассказе «Живой товар» (1882) человек, который по внешним данным облика и поведения может сойти за благородного энтузиаста и безупречно честного идеалиста, оказывается жалким, слабовольным, безнадежно скучным существом, а его антагонист, сребролюбец, продающий за деньги жену, человек недалекий и грубоватый, выглядит не лучше, но и не хуже своего партнера. Автор смотрит на них обоих, так же как и на героиню их романа (третье лицо классического треугольника), насмешливым взглядом, свободным от литературных предвзятостей. В рассказе «Начальник станции» (1883) в комическом стиле подана традиционно литературная коллизия оскорбленного мужа, неверной жены и ее любовника: муж, примирившийся с неверностями жены, требует от ее любовников денежной платы. На этом же принципе построен, хотя и без элемента комизма, уголовный роман Чехова «Драма на охоте». Взяв традиционную форму, предполагающую контрасты благородства и подлости, чистоты и преступности, Чехов наполняет ее почти сплошь низкими фигурами.
Чехов говорит о том, что в мире, основанном на чинах и деньгах, нет ни невинных страдальцев, ни оскорбленных мужей, ни добродетельных чиновников, ни признательных друзей. Нет даже добрых стремлений изменить
- 360 -
собственную жизнь, сделать ее чище, лучше, порядочнее. А если такие стремления появляются, они остаются бесплодными. В рассказе «Конь и трепетная лань» (1885) жена мелкого репортера мечтает о «чистенькой» жизни и о маленьком счастье, но этим мечтам не суждено осуществиться. Актеры преисполняются добрых намерений и готовятся изменить свою грязную, запойную жизнь, но всё лопается из-за их безалаберности и бесхарактерности («После бенефиса», 1885). Жизнь каждого отдельного человека изменить не так легко, как это представляется по романам, и Чехов к числу прочих «возвышающих обманов» литературы прибавляет и успокоительную коллизию «воскресенья».
4
В связи с этими рассказами либеральная и народническая критика упрекала Чехова в отсутствии у него положительных идеалов, в том, что он знает один только низменный, пошлый мир, смеется над ним своим «задирательным» смехом, но в то же время как бы не допускает возможности иной жизни. К таким заключениям не давали повода ни юмористические рассказы 80-х годов, в которых, как и у Гоголя, честным положительным героем был смех, ни другие произведения Чехова той же поры, в которых положительные идеалы писателя были прямо выражены и даже имели своих носителей.
Своеобразие чеховской позиции заключалось между прочим в том, что он, суровый и злой разоблачитель всяческой литературной «романтики», в молодые годы сам иногда становился на путь создания романтических образов, явно противопоставленных отвергаемому миру обывательской пошлости. В 1882 году он написал «Ненужную победу», романтическую повесть с благородными графами, ослепительными куртизанками, странствующими певцами, с традиционными контрастами бесшабашного благородства и благоразумной низости. По сравнению с рассказами, о которых шла речь выше, в «Ненужной победе» перед нами совсем иной мир: большие люди, большие страсти, резкие столкновения, социальные конфликты, — жизнь, богатая действием и событиями. Мелодраматические элементы сюжета и стиля настолько густо насыщают повесть, что невольно возникает предположение о ее пародийном характере. Однако для пародии здесь недостает карикатурности, нарочитости, подчеркнутой ироничности тона. Пародии здесь нет, но есть известная стилизация, есть условная манера изображения, при которой бытовые детали служат не для создания реалистического колорита, а прежде всего для экзотической яркости красок, и, что самое интересное, есть в этой повести апофеоз сильных людей и благородных натур.
В такой прямой и резкой форме этот апофеоз больше у Чехова не повторяется, но в смягченных формах мотив благородства, скрытого в человеческой натуре, возникает у него не раз. Рассказ «Он и она» (1882), вошедший в сборник «Сказки Мельпомены» (1884), также дает просвет в иной мир и намекает на возможность иных людей и отношений. Основной мотив рассказа — это противоречие между видимым, внешним обликом человека и скрытым, внутренним его миром. «Внешний» человек грязен, скверен, нравственно и физически неопрятен; «внутренний» человек — интересен, значителен и чист. Она, знаменитая певица, — в быту мелочная, отталкивающая театральная дива. «Она не хочет знать отечества, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов. Она богата, но не помогает бедным, у нее нет сердца» (I, 365). Он, ее
- 361 -
муж, — некрасив и несимпатичен, день и ночь пьян, он — лентяй, он только и делает, что пьет, ест и спит; наконец, он беззастенчиво обирает богатую жену. Но в существе своем — она велика в своем искусстве, на сцене. «Она понимает всё: и любовь и ненависть, и человеческую душу...» (там же). Он беззаветно любит благородное искусство своей жены, он глубоко правдив, не боится людей и презирает ложь. «Неправда!» — это его любимое восклицание. «Какая женщина устоит против блеска глаз, с которым произносится это слово. Я люблю это слово, и этот блеск, и эту судорогу на лице. Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово...» (I, 367).
А. П. Чехов.
Фотография. 1888.В непосредственной связи с рассказом «Он и она» находится и этюд Чехова «Два скандала» (1882), где опять развертывается знакомая нам тема преображения человека в лучшие минуты жизни, в моменты творческого подъема, когда благородная, истинно человеческая страсть отодвигает на задний план грязь и грубость бытовых отношений. То же и в рассказе
- 362 -
«Барон» (1882), в котором ничтожный и смешной опустившийся старик облагораживается в глазах автора своей беззаветной преданностью театру. Эти рассказы о людях скрытого благородства души, о героях, противостоящих низменному миру его бытовых юмористических произведений, так же естественно входят в романтическое (условно говоря) русло раннего чеховского творчества.
К тому же кругу явлений относятся и романтические образы из простонародной среды: Осип в юношеской драме без названия и его перевоплощение — бродяга Мерик в одноактном драматическом этюде «На большой дороге» (1885). Это люди большой тоски и буйной силы, в них живет стремление к подвигу, они — циники, презирающие людей за их ничтожность, и одновременно мечтатели, тоскующие о настоящем человеке и справедливой жизни. Они могут спокойно зарезать человека и в то же время выходят из себя при виде человеческой низости и бессердечия в людских отношениях. В них всё романтично: и внешность, и поступки, и чувства, и речь. «Эх, силищу бы свою показать, — восклицает бродяга Мерик... — С... ветром бы эфтим померяться! Не сорвать ему двери, а я ежели что, кабак с корнем вырву! Тоска!» (XI, 449).
В середине 80-х годов к этим фигурам буйных отщепенцев присоединяется у Чехова галерея «вольных людей» из народа, мирных бродяг, мечтателей, артистов и художников в душе. Во многих его рассказах перед нами проходят, сменяя друг друга, необычные люди: крестьянин, одержимый артистической страстью к охоте («Он понял», 1883); человек вольной жизни, неспособный к тусклому, будничному прозябанию («Егерь», 1885); художник из народа, живущий как все в обычное время и вдохновенно перерождающийся в период творческой работы («Художество», 1886); философ, тоскующий в предчувствии погибели мира и земной красоты («Свирель», 1887); другой бесприютный старик-бродяга, влюбленный в красоту земли, мечтатель и ребенок в душе, поэтически проникший в тайны и загадки природы («День за городом», 1886). Всё это люди внутренне свободные, артистически изящные, по-своему мудрые и даже ученые, только «учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и травы» (V, 310—311).
Эта группа рассказов образует как бы чеховские «Записки охотника», возникшие не без влияния Тургенева. Тургеневские «Певцы» ожили в чеховском «Художестве»: оба рассказа объединены основной темой и аналогичной трактовкой ее — художественный подъем в редкие минуты жизни и разительное падение артиста из народа в обыденном существовании. Чеховская «Свирель» представляет собою своеобразную вариацию на мотив «Касьяна с Красивой Мечи». И тут, и там охотник с ружьем и собакой встречается со странным, диковинным стариком, необычной наружности, со своеобразной речью и самобытной философией. В обоих рассказах пейзажный фон облачного дня, зной и духота. Но у Тургенева это — зной полного жизни летнего дня, цветущая природа, волшебная панорама летнего неба, лучезарный воздух, трепещущее лепетание листвы. В гармонии с этим фоном развертывается гуманная философия Касьяна, в уста которого вкладывает автор гимн жизни. У Чехова же рассказ строится контрастно по отношению к Тургеневу: дождливый гнилой день позднего лета, всё предвещает ненастные дни осени, тоскливые звуки свирели, несчастные люди; дисгармония, беспорядок в природе, в мире. И на этом фоне — в речах чеховского философа из народа тоскливое предчувствие
- 363 -
близкой погибели мира. Чехов таким образом сознательно разрушает тургеневскую идиллию, но не отказывается от тургеневского любования силою и глубиной духа человека из народа. Ликующий «философ» Тургенева и тоскующий «философ» Чехова одинаково полно и страстно любят красоту божьего мира; в этом герой Чехова не уступает своему предшественнику. «Жалко! — вздохнул он <герой «Свирели»> после некоторого молчания. И, боже, как жалко! Оно, конечно, божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — все ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо!» (VI, 252—253).
Тургеневские бродяги и непоседы — Калиныч, Степушка (из «Малиновой воды») и Касьян с Красивой Мечи — по самым основным чертам своего облика соответствуют названным выше чеховским бесприютным и непоседливым вольным счастливцам. Тургеневский Ефрем из «Поездки в Полесье» своим буйным озорством и воровскими повадками, своей удалью и бесшабашным цинизмом отразился у Чехова в образе Осипа из драмы без названия, где он (Осип), кстати сказать, противопоставлен эпигонам тургеневских интеллигентов. С рассказом Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» связан рассказ Чехова «Талант» (1886). Бездарный художник, живущий на хлебах у своей тетки, в рассказе Тургенева и столь же бесталанный и ленивый художник, ожидающий денег от тетки, в рассказе Чехова — родные братья. Они одинаково неопрятны физически и нравственно, одинаково влюблены в себя и свой мнимый талант, одинаково невежественны и нелюбознательны, даже одинаково неотразимы для девиц. Сходен в обоих рассказах и тон автора, как бы читающего своему герою презрительное нравоучение. Наконец, как у Тургенева истинная цена его художника выясняется при сопоставлении с такими людьми, как, например, Яков Турок, так и чеховский «Талант» обнаруживает истинную свою цену при сравнении с такими, рядом с ним созданными образами, как герой «Художества». Так же как у Тургенева, в рассказах Чехова мы находим контрастное сопоставление гуманной жизни людей из народа, людей поэтического склада души с несправедливой и убогой жизненной прозой существователей.
Мир простых людей, их нравственный облик, их духовные запросы — всё это выступает в творчестве Чехова как особая, возвышенная стихия, противостоящая отрицаемому низменному миру и несущая в себе авторское «утверждение», выражающая декларируемую автором «норму» правильного, отношения человека к миру. В этом нельзя не видеть одно из самых ярких проявлений демократизма молодого Чехова.
В своей упорной и последовательной борьбе против искажения человеческого облика в условиях мещанского строя жизни, привычного и устоявшегося, Чехов обращается в середине 80-х годов к теме прозрения человека под влиянием резкого толчка, внезапно обрушившейся беды, неожиданного, острого горя. В ряде рассказов описывается, как несчастье мгновенно выводит человека из привычной, будничной сферы, облагораживает его, воскрешает в нем глубоко запрятанное человеческое начало.
В 1886 году был опубликован «Рассказ без конца», автор назвал его сценкой, но по тону и стилю это — притча, басня, прямое поучение, наглядно и нарочито выражающее авторскую мысль. Молодой человек, изнемогший под ударами судьбы, в глубоком горе решает покончить самоубийством,
- 364 -
и тогда он становится истинно человечен. Но самоубийство не удается, проходит год, и мы видим недавнего страдальца попрежнему веселым, развязным и фатоватым. «Жаль мне почему-то его прошлых страданий, — говорит автор, — жаль всего того, что я и сам перечувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то...» (IV, 533). Автор потерял пробудившегося человека, его герой вступил в обычную, старую жизненную колею мещанского благополучия, и в этом своем привычном облике он вполне может стать персонажем сатирического рассказа. «Превратно все на свете, и смешна эта превратность! — говорит герой рассказа автору. — Широкое поле для юмористики!.. Загни-ка, брат, юмористический конец!» (IV, 533).
В рассказе «Волк» (первоначально «Водобоязнь», 1886) человек в беде, в состоянии нервного потрясения восхищает автора и читателя силой, мужеством, уменьем бороться за жизнь, и его горе, даже его смертельный страх возбуждает глубокое сочувствие. Но стоило наступить благополучию — всё забыто, и тот же некогда мужественный и сильный в своих страданиях человек становится грубо эгоистичным и мелочным обывателем. Впоследствии автор отбросил эту концовку, но первоначально, нужно думать, в ней заключалась суть рассказа, его мораль и поучение.
В рассказе «Тоска» (1886) извозчик, рассказывающий лошади о своем горе, является единственным нормальным человеком среди окружающего его мира. Он одинок не потому, что он единственный несчастный в кругу равнодушных счастливцев, а потому, что среди благополучных обывателей, утративших подлинно человеческий облик (какими изображены, например, его седоки, едущие в веселый дом), он единственное существо, в котором горе разбудило человека.
Пробуждая человека, горе заставляет его порой переоценить всю прожитую жизнь. Музыкант-неудачник, опустившийся до положения тапера, забавляющего гостей на купеческих свадьбах, внезапно под влиянием нанесенного ему оскорбления задумывается над жизнью, своей и себе подобных, и... впадает в истерику, еще сам не понимая, что с ним происходит («Тапер»). Этот микроскопически мелкий, почти клинический эпизод для Чехова важен как симптом начинающегося возрождения человека. Автор при этом очень далек от каких бы то ни было идиллических мечтаний. Скорее всего новую жизнь таперу начать не удастся, но Чехов довольствуется и самым фактом очеловечения его героя.
Чехов не отрицает возможности полного и глубокого возрождения человека под влиянием постигшего его несчастья, вплоть до коренного изменения самой его жизни и всего нравственного существа, но никогда не скрывает трудности и сложности этого процесса. В обширном рассказе 1886 года «Тяжелые люди» (первая редакция) отвратительная семейная ссора между двумя тяжелыми людьми — отцом и сыном — заканчивается бедой: по несчастной случайности тяжелый удар отцовского кулака обрушивается не на сына, а на его мать, и вся эта сцена вызывает нравственный кризис в душе сына, студента Петра. «...Петр, глядя на отца, понял, что тяжкое испытание, пережитое ими, не прошло бесследно для них обоих. Чувствовались уже новые отношения, мир, забвение прошлого» (V, 482). «Бывают в жизни отдельных людей несчастья, например, смерть близкого, суд, тяжелая болезнь, которая резко, почти органически изменяет в человеке характер, привычки и даже мировоззрение» (V, 482), — говорит Чехов в этом рассказе, но заканчивает его не картиной новых, изменившихся отношений между героями, а только предчувствием этих новых отношений — предчувствием, возникшим в душе одного из них.
- 365 -
Наиболее широкий смысл среди произведений, разрабатывающих эту тему пробуждения и возрождения человека, имеет рассказ «Горе» (1885). Герой рассказа — человек с артистической душой, это один из тех природных художников, к которым влекло Чехова в ту пору. Его-то и подвергает автор жестокому испытанию горем. «Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу» (IV, 91) — так начинается рассказ, и в этом зачине соединяются самые значительные для Чехова мотивы: мотив артистической души, по самой природе своей способной к пробуждению, и мотив внезапного душевного толчка, способствующего пробуждению. Естественно, что эффект должен при этих обстоятельствах получиться сильный. «Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить» (IV, 93). Артистические мечты о портсигарчике из карельской березы и отличных крокетных шарах, «самых заграничных», которые он может выточить для доктора, сплетаются с простыми и в примитивности своей особенно значительными думами о неправильно прожитой жизни, и вся эта цепь мыслей завершается самым простым и потому именно самым глубоким итогом, единственно важным для человека: «Жить бы сызнова... — думает токарь». В этом же рассказе, наиболее глубоком из всех произведений этого рода, Чехов с полной ясностью показывает, что его цель не в создании иллюзии легкой возможности для человека изменить свою жизнь. Одно только зарождение мысли о необходимости такого изменения есть уже великое завоевание человека, а изменить жизнь чеховскому герою не удастся никогда: «токарю — аминь».
Примечательно, что в этом рассказе, выдержанном в юмористических тонах, характер чеховского юмора существенно меняется. Жестокий юмор его ранних рассказов, юмор полного отрицания уступает место юмору лирическому, при котором автор не стремится противопоставить себя предмету юмористического изображения. А именно к такому безусловному противопоставлению писателя-юмориста предмету своего изображения стремился Чехов в рассказах, написанных в столь характерной для него «задирательной» манере. В этом именно видел он ранее свою особую задачу как юмориста. В феврале 1883 года Чехов писал своему брату Александру по поводу одного из юмористических рассказов своего корреспондента: «Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются, ноют, толкут воду... Ни одного дельного слова, а одно только благодушие! А писал ты не для читателя... Писал, потому что тебе приятна эта болтовня. А опиши ты обед, как ели, что ели, какая кухарка, как пошл твой герой, довольный своим ленивым счастьем, как пошла твоя героиня, как она смешна в своей любви к этому подвязанному салфеткой, сытому, объевшемуся гусю...» (XIII, 48).
В этой своеобразной декларации Чехов предъявляет юмористическому писателю требование отделить себя незримой чертой от изображаемого им пошлого мира «объевшихся гусей». Когда автор не исполняет этого, его юмор становится благодушным, а он сам делается как бы одним из тех, кого изображает. По мнению писателя, юморист должен находиться в одном лагере не со своими мещанскими персонажами, а с читателем. Так именно и поступал Чехов в своих юмористических рассказах: он смотрел на своих героев взглядом человека, бесконечно от них далекого и потому способного увидеть в них те качества сытых гусей, баранов, мастодонтов и ихтиозавров, которые не может увидеть благодушный взгляд.
- 366 -
В рассказах, подобных «Горю», в юморе Чехова возникает и сочувствие герою, хотя «благодушие» попрежнему отсутствует, так как черты идиллии изгнаны из его рассказа совершенно.
5
Лирический юмор особенно ярко расцветает в рассказах Чехова о детях. Детское сознание, детский взгляд на мир так же привлекают Чехова, как сознание людей из народа с их непосредственным, поэтическим и мудрым, «естественным» отношением к жизни. Всё то мелкое, ненужное, оскорбительное для человека, к чему притерпелись взрослые люди, в чем они видят привычную и неизбежную форму жизни и отношений между людьми, становится странным и ненатуральным для маленького человека. Кухарка «женится», и ее муж сразу после венца заявляет права на её свободу. «Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг, ни с того, ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность» («Кухарка женится», 1885, IV, 53).
Ребенок отправляется на прогулку, и мир раскрывается его наивному взору в первозданной яркости, свежести, увлекательности и блеске. В рассказе «Дома» (1887) условная и сухая прямолинейность выработанных публичной жизнью моральных представлений выясняется при первом же столкновении с наивными и чистыми детскими понятиями о справедливости и красоте. Жизнь в этом рассказе делится на две сферы. В одной — геометрически расчерченные линии, безрадостные и неглубокие принципы, внешние схемы: это та официальная гражданская жизнь, которой живет справедливый и умный прокурор, отец маленького героя, вне дома, в обществе. Другая сфера — это сложный, изящный и поэтический мир его сына. Между этими мирами непроходимая стена. Ни одно из самых элементарных представлений официального, внешнего мира не имеет смысла в мире домашнем, детском.
«— Например, у Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук, и мы, то-есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда. У тебя есть лошадки и картинки... Ведь я их не беру? Может быть, я и хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои!
«— Возьми, если хочешь! — сказал Сережа, подняв брови. — Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего... Пусть себе стоит!» (VI, 92).
Так на протяжении всего рассказа разбиваются попытки установить контакт между взаимно отрицающими друг друга мирами.
«Не так я ему объясняю! — подумал прокурор. — Не то! Совсем не то!» (VI, 92). По общему смыслу и духу рассказа это «не то» относится прежде всего к понятиям и представлениям официальным, публичным, гражданским, потому что мерилом ценностей в рассказе является детский ум и детское сердце. Из всех интеллектуальных ценностей, которыми располагает прокурор, к сознанию его сына находит доступ только сказка, т. е. наивно мудрое искусство, и в этом тоже заключен глубокий смысл. Наивное сознание ребенка и высокая «наивность» художника — вот «норма», всё, что вне этого, то ниже нормы, то достойно осмеяния. Маленький Алеша впервые сталкивается с ложью, привычной спутницей взрослых и серьезных людей. Для них — это «житейская мелочь» (так называется рассказ, 1886), для него — это большое и отвратительное событие. «Он дрожал, заикался, плакал; это он первый раз в жизни лицом к лицу так
- 367 -
грубо столкнулся с ложью; ранее же он не знал, что на этом свете, кроме сладких груш, пирожков и дорогих часов, существует еще многое другое, чему нет названия на детском языке» (V, 176).
В других рассказах этого цикла («Детвора», «Событие», «Ванька») Чехов также заставляет своих маленьких героев возвращать событиям и явлениям обыденной жизни их подлинный смысл и значение. Так, карточная игра только у детей приобретает характер игры, а не стяжательства; жестокость социального строя проясняется через бесхитростный рассказ маленького Ваньки Жукова, а событие в природе («кошка ощенилась», и собака съела котят) является событием только для детей.
В своей апелляции к детскому, «естественному» сознанию Чехов сближается с Л. Толстым, который в эти же годы охотно ставил ребенка в положение судьи взрослых людей и образца для них. Вспомним рассказ Толстого «Девчонки умнее стариков» с его финальной евангельской сентенцией: «Аще не будете как дети, не войдете в царство небесное». Чехов о «царстве небесном» не заботился ни в то время, ни раньше, ни позже, но детская тема у Толстого не могла не привлекать его, как не могло не быть ему близко толстовское противопоставление официальной жизни миру домашнему, семейному, частному. Чехов находился под воздействием Толстого несколько лет, хотя многое в философии Толстого было, ему чуждо и в эти годы.1
Детской теме посвящена и знаменитая «Степь», справедливо признанная переломным произведением в творчестве Чехова. «Степь» была предназначена Чеховым для журнала «Северный вестник». Написать крупную по размеру повесть и поместить ее в толстом журнале советовал Чехову Короленко. «С Вашего дружеского совета, — писал ему Чехов в 1888 году, — я начал маленькую повестушку для „Северного вестника“. Для почина взялся описать степь, степных людей и то, что я пережил в степи» (XIV, 11).
В конце 80-х годов у Чехова всё явственнее ощущается недовольство теми печатными органами, в которых он сотрудничал. Ему хочется расстаться с этими маленькими журнальчиками, он мечтает о серьезных журналах, о больших жанрах. В январе 1887 года он пишет брату Ал. П. Чехову: «С этим Квазимодо <Лейкиным> у меня разладица. Я отказался от добавочных и аккуратного писания, а он шлет мне слезно-генеральские письма, обвиняя меня в плохой подписке, в измене, двуличии и проч. Брешет, что получает письма от подписчиков с вопросом: отчего Чехонте не пишет?.. Рад бы вовсе не работать в „Осколках“, так как мне мелочь опротивела. Хочется работать покрупнее, или вовсе не работать» (XIII, 265—266).
Чехов мечтает о «большой» литературе и несправедливо сурово оценивает в это время всю свою предыдущую литературную деятельность.
«Если опять говорить по совести, — читаем мы в его письме к Суворину от 27 октября 1888 года, — то я еще не начинал своей литературной деятельности, хотя и получил премию. У меня в голове томятся сюжеты
- 368 -
для пяти повестей и двух романов... Все, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать и что писал бы с восторгом. Для меня безразлично — писать ли „Именины“, или „Огни“, или водевиль, или письмо к приятелю, — все это скучно, машинально, вяло, и мне бывает досадно за того критика, который придает значение, например, „Огням“, мне кажется, что я его обманываю своими произведениями, как обманываю многих своим серьезным или веселым не в меру лицом... Мне не нравится, что я имею успех; те сюжеты, которые сидят в голове, досадливо ревнуют к уже написанному; обидно, что чепуха уже сделана, а хорошее валяется в складе, как книжный хлам» (XIV, 209). И дальше Чехов сам признается, что может быть слишком сурово оценил свое творчество: «Конечно, в этом вопле много преувеличенного, многое мне только кажется, но доля правды есть, и большая доля».
В «Степи» (1888) Чехов выходит на простор широкого повествования, не расставаясь в то же время с художественным принципом своих миниатюр. Он создает как бы серию маленьких очерков, объединенных общей темой («Степь») и фигурой героя — ребенка. В отличие от предшествующих детских рассказов, здесь в сознании ребенка отражается не какой-либо единичный случай, а целый калейдоскоп лиц и событий будничной жизни, русская природа, безграничная степь, русская жизнь в разнообразных ее проявлениях, сама Россия, с ее людьми и порядками, с ее дурным и хорошим. В данном случае сознание ребенка для Чехова — своеобразное зеркало, в котором отражаются ясно и просто, наивно и непосредственно русская жизнь, ее облик и смысл. Степь томится и тоскует, грезит о богатырях, которые некогда бродили по ее просторам и были ей подстать и которых нет сейчас больше. Сейчас по степи «кружит» другой богатырь — богач Варламов, олицетворение деловой сухости и загадочной денежной власти, перед мощью которого склоняются все: и купец, и священник, и объездчик, и даже богатая и красивая графиня Драницкая. Есть в этой степи и другой богатырь — озорник Дымов, чьи силы могли бы пригодиться, по замыслу Чехова, для революции, но так как революции в России нет и, думалось тогда Чехову, долго не будет, то силы этого богатыря умрут неиспользованными и приведут их тоскующего обладателя в острог.
Рядом с этими богатырями по степному простору бродят простые люди, даровитые и бесцветные, умные и глупые, несчастные и счастливые; они тоскуют о прошлом, мечтательно идеализируют его, не знают цены своему настоящему и своим возможностям. Такова у Чехова «суровая родина» с ее скудной жизнью и безграничными стихиями и силами, ожидающими своего певца. Всё это раскрывается детскому взору Егорушки и честно формулируется его детскими словами, например: «Как скучно и неудобно быть мужиком».
Выступая как бы от лица своего героя-ребенка, Чехов развертывает своеобразную цепь суждений, оценок и живописных картин. Без этой установки на восприятие ребенка немыслимы были бы такие пейзажные зарисовки, как прославленное описание грозы, восхищавшее Горького необычностью и новизной.
«Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо» (VII, 91). «...вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно!» (VII, 92).
- 369 -
Чехов не приписывает ни этих слов, ни этих мыслей Егорушке, но без него как центрального лица такие описания сразу стали бы вычурными и неестественными. Образ Егорушки не искусственно и внешне сцепляет мозаику отдельных эпизодов повести, он органически цементирует их, являясь носителем самых важных идей и впечатлений, навеваемых степью. С его простыми мыслями может слить свое настроение автор, как мог бы он присоединиться к оценкам и суждениям иного носителя «нормы» из тех, о которых говорилось выше. Зато явно скептически относится Чехов к интеллигентным обывателям с их поверхностными взглядами, заимствованными из популярных брошюр и журналов.
Откровенное осуждение любого способа жить и думать по шаблонам направлений и группировок 80-х годов находим мы у Чехова в рассказе «Именины» (1888). В этом рассказе и консервативные, и либеральные рассуждения трактуются как бессознательная ложь, как трусость и лень мысли, как «слова, слова, слова», идущие мимо жизни и не схватывающие ее сути. А главный смысл и интерес человеческой жизни сосредоточен для Чехова в этом рассказе на личном, интимном, семейном, на отношениях между мужем и женой, на ожидании рождения «маленького человека». В этом рассказе Чехов ближе, чем где бы то ни было, подходит к Толстому, он даже перенимает толстовский повествовательный стиль и метод «диалектики души» вплоть до приемов, уже не раз испытанных Толстым.
«Ольга Михайловна ненавидела теперь в муже именно его затылок, барский, красиво подстриженный, лоснящийся, и ей казалось, что раньше она не замечала у мужа этого затылка». А. Плещеев указал на это место рассказа как на прямое подражание Толстому, и Чехов впоследствии изъял его. Но всех следов влияния толстовского стиля он устранить не мог. Вот, например, один из многочисленных «толстовских» эпизодов, характерный и для окончательной редакции: «Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы, — не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который по ее мнению был несправедлив» (VII, 141).
Нет сомнения, что Чехов был очень сильно захвачен толстовским строем мысли как по форме, так и по содержанию. Он сознательно опирался на Толстого в своем стремлении найти общеобязательный критерий для суждения о жизни вообще, русской жизни в частности. Он не последовал за Толстым в поисках этого критерия ни в область толстовской религии, ни в область его непротивленчества, хотя и требовал к нему серьезного и объективного, научного отношения (см. рассказ «Хорошие люди», 1886).
Несомненно, однако, что Чехов в 80-х годах разделял с Толстым его отчуждение от политики. Это не значит, впрочем, что человек политической мысли и страсти был тем самым осужден Чеховым. Его филиппики против политически мыслящих людей адресованы прежде всего эпигонам и подражателям, затвердившим механически и бесстрастно чужие формулы 60-х годов, ставшие для них суррогатами живой мысли. «Это полинявшая недеятельная бездарность, узурпирующая 60-е годы», — писал он Плещееву по поводу одного из героев рассказа «Именины». «Шестидесятые годы — это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его значит опошлять его» (XIV, 184, 185).
Больше того, еще до «Иванова» и «Именин», в рассказе «На пути» (1886) Чехов с глубоким сочувствием изобразил человека, вся жизнь которого ушла на служение общественно-политической идее, человека рудинской
- 370 -
складки. Характерно, что этот герой в глазах Чехова тот же ребенок по чистоте души, та же артистическая натура, т. е. тип человека, противостоящего обывательскому, мещанскому обществу. В герое «На пути» Чехова привлекает «способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства», которые «природа вложила в русского человека». Особенно дорогую цену приобретали люди этого рода при сопоставлении с теми их современниками, в которых воплотилось «бессилие души, неспособность воспринять глубоко красоту, ранняя старость», как, например, Огнев, герой рассказа «Верочка» (1887).
Вместе с тем «политическая невоспитанность» давала себя знать в творчестве Чехова 80-х годов. Характерным ее проявлением явилось его осуждение сословной вражды и ненависти, заметно сказавшееся в рассказе «Враги» (1887). Два одинаково несчастных человека начинают ненавидеть друг друга из-за того, что один из них — плебей, а другой — аристократ, и это для Чехова несправедливо и недостойно человеческого сердца. Чехов наделяет своего плебея, доктора Кирилова, чертами, ставящими его значительно выше пошловатого помещика Абогина, самое несчастье которого имеет оттенок тривиальности (от него сбежала жена). И тем не менее озлобление Кирилова против Абогина, как хочет показать Чехов, отдает «тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество» (VI, 38).
Отдав в 80-х годах известную дань отчуждению от политики, Чехов воспринял от Толстого его идеал «естественности» и простоты, хотя значительно расширил его пределы. Выше говорилось уже о том, что в это понятие естественности и непосредственной правды включалась, например, реакция на мир человека артистической души, что было совершенно чуждо Толстому. В «Именинах» с психологической глубиной воспроизводится самочувствие больного человека, самим физическим состоянием своим поставленного вне привычной и шаблонной жизненной колеи. При этом не нравственная сторона болезни интересует Чехова, ему важно испробовать еще один способ, при помощи которого можно было бы изъять человека из привычной обывательской среды и заставить его взглянуть на окружающее извне, как бы со стороны. Оказывается, что взгляд больного человека приобретает особую зоркость и обостренную чуткость не только к крупной, но и к мелкой, даже мельчайшей фальши, лжи, непорядочности и уродливости в отношениях между людьми, в самом строе жизни, в бытовом ее укладе; даже ничтожные, почти незаметные шероховатости в мыслях, поступках, словах, в одежде — в чем угодно — задевают нервы больного человека и заставляют их реагировать на все эти шероховатости с остротой и резкостью, недоступной нормальному, здоровому человеку с неизбежно притупившейся чувствительностью.
Именно в болезненном состоянии героиня «Именин» становится обличительницей лжи и фальши, коренящейся в общественных взглядах эпигонствующих обывателей; во время болезни ощущает она нестерпимую непорядочность мельчайших бытовых фактов, мимо которых в нормальном состоянии человек проходит с полным равнодушием.
Чехову-врачу необыкновенно важно также и то, что короткий период выздоровления от тяжкой болезни дает человеку возможность с огромной силой почувствовать ценность бытия и значительность самых простых радостей жизни. Так, поручик Климов в рассказе «Тиф» (1887), оправившись от болезни, испытывает «ощущение бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан
- 371 -
и впервые увидел мир... Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным, великим» (VI, 109).
Этот пронизывающий взгляд больного или выздоравливающего человека сливается с авторским взглядом, и перед читателем вырисовывается утверждаемая автором норма отношения к миру «естественного», «первого» человека, свободного от бытовых и социальных условностей и предрассудков, характерных для современного общественного строя.
Трактуя болезнь как своего рода прозрение, Чехов однажды изобразил внезапное прозрение, нравственный кризис как своеобразную душевную «болезнь». В рассказе «Припадок» (1888), возникшем, как известно, под воздействием Гаршина, Чехов воспроизвел гаршинскую схему психологического рассказа: столкновение интеллигентного человека с внезапно поражающим его вопиющим фактом социального зла, тяжкий нравственный кризис, заболевание совести. Подобно Гаршину, Чехов в этом рассказе передает свой голос больному герою, позволяет ему возвести единичный факт социальной неправды в символ мирового зла, делает его безапелляционным судьей изъеденного этим злом общественного строя, принимает его трагическое отношение к миру как этическую норму.
Таковы разнообразные формы выражения положительного идеала в творчестве Чехова 80-х годов. Герой романтический, вольный человек из народа, художественная натура, ребенок, человек, разбуженный несчастьем — в образах людей такого типа отражаются разные стороны чеховского идеала; если сюда же прибавить смех как положительное и честное лицо юмористических произведений Чехова, то перечень прямых носителей авторской «нормы» на этом можно считать исчерпанным.
6
К тому времени, когда созданы были рассмотренные выше рассказы, литературная репутация Чехова вполне и окончательно укрепилась.
Уже в 1883 году Чехов подготовил к печати сборник своих рассказов под заглавием «На досуге», но книга не увидела света, повидимому, из-за материальных затруднений. В 1884 году вышел первый сборник Чехова «Сказки Мельпомены», почти не замеченный критикой. Зато сборник 1886 года «Пестрые рассказы» был уже воспринят как значительное литературное событие, хотя сам автор видел в нем лишь «беспорядочный сброд студенческих работишек, общипанных цензурой и редакторами юмористических изданий». Вскоре после выхода этого сборника Чехов был приглашен А. Сувориным в «Новое время» и на долгие годы стал его постоянным сотрудником.
Работа в «Новом времени» была для Чехова в материальном отношении гораздо более выгодна, чем сотрудничество в других изданиях, и Чехов несомненно ценил эту сторону дела. Репутация газеты как реакционного органа была ему хорошо известна, Чехов был чужд ее направлению и не раз возмущался «каторжными» писаниями Жителя (Незлобина-Дьякова) и Буренина. В то же время Чехов считал себя вправе помещать в газете свои рассказы, не сливающиеся с ее направлением, и видел даже некоторую заслугу в том, что место, занимаемое его рассказами, хоть отчасти уменьшает число газетных столбцов, отводимых под фельетоны нововременских публицистов. К «Новому времени» привязывали Чехова и
- 372 -
дружеские отношения, которые завязал с ним А. Суворин, видевший в молодом и популярном беллетристе капитальную опору своего издания. Многие демократически настроенные литераторы справедливо осуждали Чехова за его связь с газетой Суворина. В письме (1887 года) к брату Александру Павловичу Чехов не без горечи заметил однажды: «Меня чуть ли не обливают презрением за сотрудничество в „Новом времени“» (XIII, 285).
В марте 1886 года в литературной жизни Чехова произошло важное событие: к нему обратился с письмом Д. В. Григорович, внимательно следивший за работой начинающего писателя, в котором он признал громадный талант. Письмо Григоровича содержало в себе настойчивый совет уважать этот талант, развивать его и чуждаться срочной литературной работы. Письмо произвело на Чехова большое, сильное впечатление. Признание маститого писателя, корифея тургеневского поколения, значило для Чехова несравнимо больше, чем похвала газетной критики. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, — писал Чехов в ответном письме Григоровичу, — поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенно люди глядят на таких избранников, как Вы; можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно — гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду» (XIII, 191).
До Григоровича аналогичные советы давал Чехову Короленко: он и Гаршин были из числа тех немногих сверстников Чехова, которые ценили его талант и возлагали на него большие надежды. Через два с половиной года после письма Григоровича последовало и официальное признание литературных заслуг Чехова. В декабре 1888 года Академия Наук присудила ему половинную Пушкинскую премию за сборник «В сумерках», вышедший в августе 1887 года. Искренная радость Чехова, вызванная этим событием, была несколько омрачена завистью его коллег из числа сотрудников юмористических журналов, и Чехов расценивал такое отношение к себе не только как несправедливость, но и как неблагодарность: он не раз говорил о том, что своей премией проложил «маленьким литераторам» путь в большую литературу.
К тому же 1888 году относится дебют Чехова в толстом журнале. В № 3 «Северного вестника» появилась чеховская «Степь», за ней последовали «Именины», и Чехов тем самым окончательно вступил в большую литературу. В «Северном вестнике» сотрудничали Михайловский, Глеб Успенский, Короленко; Чехов, таким образом, вошел в новую литературную среду.
Впрочем, никаких особенных изменений в литературной биографии Чехова этот факт не вызвал. С Короленко он был знаком и раньше, с Успенским близких отношений у него не завязалось. Попытки Михайловского воздействовать на Чехова не имели успеха; народническая догматика ни в то время, ни позже не вызывала у Чехова никаких симпатий. К тому же Михайловский отверг чеховский художественный метод, считая его едва ли не бесцельным. По поводу «Степи» Михайловский писал Чехову: «Читая, я точно видел силача, который идет по дороге, сам не зная куда и зачем, так, кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая о ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет, все с одинаковой
- 373 -
легкостью и даже разницы между этими действиями не чувствует...» (VII, 524).
Отсюда недалеко было до оскорбительных лживых толков о мнимой «беспринципности» Чехова, которые распространялись в либеральных и народнических кружках, а порой проникали и в печать. Так, в мартовской книжке «Русской мысли» за 1890 год Чехов наравне с Ясинским был назван «жрецом беспринципного писания». Прочитав эти строки, глубоко оскорбленный Чехов сразу же послал гневное письмо редактору этого журнала В. М. Лаврову.
«Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом, я никогда не был, — писал Чехов.
«Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно бы выбросил за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно... Обвинение Ваше — клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырубишь топором... Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно» (XV, 52).
Неудовлетворенность Чехова господствовавшими в то время литературными кружками и журнальными партиями еще больше усилила его стремление прямо и непосредственно обратиться к изучению русской жизни. Он использовал всякую представлявшуюся ему возможность познакомиться с интересными русскими людьми и с новыми, ранее не известными ему краями.
Лето 1888 года писатель провел на Украине, в имении Лука, принадлежавшем знакомым семьи Чеховых Линтваревым. Культурная семья Линтваревых чрезвычайно заинтересовала Чехова и казалась ему даже достойной изучения. В особенности сильное впечатление произвела на него старшая дочь Линтваревых, «женщина-врач — гордость всей семьи, и, как величают ее мужики, святая». К жизни и быту украинских крестьян Чехов присматривался с особенным интересом. В одном из писем он сообщает, например: «Хохлы страстные рыболовы. Я уже со многими знаком и учусь у них премудрости. Вчера в день св. Николая хохлы ездили по Пслу в лодках и играли на скрипках. А какие разговоры! Их передать нельзя, надо послушать» (XIV, 107—108). Из Луки Чехов выезжал в Полтавскую губернию, побывал в Сорочинцах, и его письма той поры переполнены описаниями новых мест, новых пейзажей и людей разных сословий и состояний. В имении Линтваревых вместе с Чеховым гостил известный народнический экономист В. В. Воронцов; знакомство с ним укрепило скептическое отношение Чехова к людям этого рода. «Человечина угнетен сухою умственностью, — писал он о Воронцове, — и насквозь протух чужими мыслями, но по всем видимостям малый добрый, несчастный и чистый в своих намерениях» (XIV, 131).
Тем же летом ездил Чехов в Феодосию, а затем на Кавказ и в Закавказье. Эта южная поездка вызвала новый приток впечатлений. В Севастополе, а затем в Ялте ему прежде всего бросилась в глаза «бедность русского человека», с одной стороны, а с другой — «рожи бездельников» — «богачей с жаждой грошовых впечатлений». В Феодосии Чехов свел знакомство с Айвазовским, который показался ему человеком недалеким,
- 374 -
но сложным и достойным внимания. «В себе одном, — писал Чехов, — он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло... Знаком с султанами, шахами и эмирами. Писал вместе с Глинкою „Руслана и Людмилу“. Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал» (XIV, 136—137).
Во время путешествия Чехов был очарован Военно-грузинской дорогой. «Это сплошная поэзия, не дорога, а чудный фантастический рассказ, написанный демоном, который влюблен в Тамару» (из письма к Н. Лейкину от 12 августа 1888 года; XIV, 146).
Итоги этого путешествия Чехов оценил так: «Впечатления новые, резкие, до того резкие, что все пережитое представляется мне теперь сновидением» (из письма А. Н. Плещееву от 13 августа 1888 года; XIV, 149). Собирался Чехов побывать в Персии и Бухаре, но этому плану не суждено было осуществиться.
Здесь мы подходим к важной черте личности Чехова — его страсти к путешествиям. Практическое изучение родной страны и чужих земель имело в его глазах самодовлеющую и громадную ценность. В 1888 году Чехов поместил некролог Н. М. Пржевальского, представляющий собой гимн путешествиям и путешественникам: «Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки... делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу».
«В наше больное время, — писал он далее, — когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце» (VII, 476, 477). Таких подвижников он видел прежде всего в людях, подобных Пржевальскому, людях «подвига, веры и ясно осознанной цели». Смысл жизни великих путешественников, говорил Чехов, «их подвиги, цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка». Деятели, подобные Пржевальскому, доказывают существование людей иного порядка, чем «скептики, мистики, психопаты, иезуиты, философы, либералы и консерваторы».
Этот восторженный отзыв о путешественнике и путешествиях гармонирует с очень многими и важными чертами в рассмотренных выше произведениях Чехова и очень многое объясняет в его жизни и творчестве. Недоверие к людям «ярлыка и штампа», жажда подвига, патриотического и гуманного, цель и смысл которого были бы ясны и понятны всем людям, даже детям, — всё это отразилось в размышлениях Чехова о Пржевальском. В свете этих чеховских идей нагляднее становится и смысл «Степи», и значение его рассказа «Мальчики», юные герои которого мечтают о дальних странствиях. «Изнеженный десятилетний мальчик-гимназист мечтает бежать в Америку или Африку, совершать подвиги — это шалость, но не простая, — писал Чехов в той же некрологической статье. — Это слабые симптомы той доброкачественной заразы, какая неминуемо распространяется на земле от подвига» (VII, 476—477). Быть может, гимназист, мечтавший о путешествиях и назвавший себя «Монтигомо-Ястребиный Коготь, вождь непобедимых», представлялся Чехову будущим Пржевальским, одним из тех людей, которым суждено вытеснить с русской земли скептиков и психопатов, либералов и консерваторов.
Проясняет эта маленькая статья и важный эпизод в биографии Чехова — его путешествие на Сахалин. Мысль об этом путешествии начала
- 375 -
томить писателя в конце 80-х годов; им овладела в ту пору загадочная для окружающих «mania sachalinosa». Почему Чехов предпринял далекое и трудное путешествие и почему он избрал именно Сахалин — этого он не объяснил нигде с достаточной полнотой: ни в письмах, ни в путевых очерках, ни в книге о Сахалине.
Непосредственным толчком к путешествию послужила смерть брата Чехова, художника Николая Павловича, очевидно, оказавшаяся для Чехова одним из тех несчастий, которые, как писал он в своих рассказах, вызывают в человеке нравственный толчок, выводящий его из привычной жизненной колеи. После смерти Николая Павловича (лето 1889 года) Чехов, как свидетельствуют мемуаристы, вдруг сразу переменился, затосковал и вскоре после похорон стал думать о путешествии. Можно предположить, что чтение лекций по уголовному праву, которым в то время занимался его брат Михаил, вызвало интерес к Сахалину как месту ссылки. В письмах к друзьям и знакомым Чехов объяснял цель поездки на Сахалин иногда совсем просто как стремление «пожить полгода не так, как жил до сих пор» (письмо И. Щеглову), иногда как желание заплатить старый долг медицине, а заодно многое узнать и при этом испытать необычайные переживания.
«Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек, вольный и подневольный... мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников — и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей» (XV, 30). Интерес Чехова к Сахалину приобретает, таким образом, общественно-политический смысл, и стремления писателя идут в русле радикальных традиций русской демократической интеллигенции. Однако, очевидно, сам Чехов иначе понимал свою задачу. «Нет у меня планов ни гумбольдтовских, ни даже кеннановских», — говорил он. Перед его взором стояли ученые, исследователи, путешественники, люди вроде Пржевальского: «Не дальше как 25—30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что бог дурно создал человека» (XV, 29).
Готовился Чехов к поездке на Сахалин именно как исследователь. Он читал научную литературу о Сахалине, делал выписки по геологии, метеорологии и этнографии и начал даже писать «историю вопроса». Его очерки о Сахалине содержат ссылки на специальные исследования, как книга А. М. Никольского «Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных», на книги по тюрьмоведению, на экономические работы, на описания путешествий. Нет сомнения в том, что если даже конкретные цели поездки и ее возможные результаты были не совсем ясны Чехову, то во всяком случае путешествие на Сахалин представлялось ему важным шагом общественно-патриотического характера и необходимой для всей его дальнейшей деятельности школой изучения русской жизни.
В апреле 1890 года Чехов через Ярославль, Казань, Пермь и Тюмень выехал на Сахалин. Он совершил трудное путешествие до Тихого океана, проделав в весеннюю распутицу на лошадях четыре с половиной тысячи верст, и в конце июля приехал на Сахалин. В течение трех месяцев Чехов внимательно изучал остров, знакомясь с жизнью каторжных и поселенцев. По его собственным словам, он видел на Сахалине решительно всё, кроме смертной казни. Между прочим Чехов произвел поголовную перепись
- 376 -
всего сахалинского населения и составил около 10 тысяч статистических карточек. Научно-исследовательская задача поездки была, таким образом, осуществлена. В октябре Чехов двинулся в обратный путь. Он побывал в Индии, на Цейлоне, проехал Суэцкий канал и в конце декабря вернулся в Москву.
Результатами поездки Чехов был глубоко удовлетворен. Сибирь поразила его своей дикой и величественной красотой. «Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистощимый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость», — писал Чехов в путевых очерках «Из Сибири» (X, 368). Чехов предсказывал Сибири великое будущее, в этих же очерках он говорит: «На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов... Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!» (X, 368—369). В пути он встретил множество интересных людей, в особенности поразило его Приамурье: «Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная... И красиво, и просторно, и свободно, и тепло, Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России» (XV, 121).
Важное значение имели для Чехова встречи с населяющими Россию людьми нерусской национальности и живое общение с ними. Чехов с теплотой и сердечностью отзывается о татарах, китайцах; с восхищением характеризует он в своих путевых письмах своеобразный тип коренного сибирского крестьянина. «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! — восклицает он. — Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей» (из письма к М. П. Чеховой от 14—16 мая 1890 года; XV, 77).
Нечего и говорить, что наряду с такими впечатлениями Чехов вынес из своей поездки на Сахалин немало впечатлений грустных и тяжелых. Бездушие чиновников, которым вверена жизнь каторжных и ссыльных, административный произвол властей, апатия и равнодушие среднего интеллигентного человека, отсутствие в нем истинного патриотизма — всё это делает жизнь людей не такой, какая она могла и должна бы быть. Таковы были итоги сахалинской поездки, представлявшейся Чехову бесконечно важным и значительным этапом его духовного роста. «Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!» — восклицал он в письме к Суворину от 17 декабря 1890 года (XV, 136). В результате своей поездки Чехов почувствовал себя как бы возмужавшим.
Эта гражданская возмужалость Чехова, разумеется, не может рассматриваться только как следствие сахалинского путешествия, она должна быть поставлена в связь прежде всего с общими условиями социально-политической жизни России. В конце 80-х годов обнаружились симптомы близкого конца реакционного периода. Общественное оживление нарастало всё более и более с тем, чтобы в середине 90-х годов перейти во всенародный подъем.
Во второй половине 90-х годов значительно усиливается рабочее движение, которое будит всю страну. Быстро растут стачки как в столицах, так и в провинции. Их размах оставляет далеко позади все прежние вспышки русского стачечного движения. Растет возбуждение и в крестьянстве. В середине 90-х годов увеличивается число крестьянских «бунтов» и «сопротивлений властям». Наблюдаются даже случаи вооруженных нападений
- 377 -
крестьян на помещичьи экономии и стихийного захвата помещичьих земель. Всё это завершается массовым аграрным движением 1902 года и последующих лет.
Подъем народных масс вызвал также новую активность в среде революционной интеллигенции и в либеральных кругах общества. В 1893 году возникла политическая группа «Народное право», которая ставила своей задачей объединение всех оппозиционных и революционных сил для борьбы против самодержавия. Она пыталась направить недовольство населения на путь нелегальной борьбы. Группа просуществовала недолго и не успела сыграть сколько-нибудь заметной роли в жизни страны. Однако стремления народоправцев выдвинуть общедемократические задачи, свободные от народнического утопизма, стремление сблизиться с широкими слоями населения, а не с одной только интеллигенцией, было прогрессивно и знаменательно как первая попытка образования политической группировки с широкой оппозиционной программой.
Господство народнической идеологии в среде демократической интеллигенции в это время было решительно подорвано. Русский революционный марксизм осуществил в 90-х годах идейный разгром народничества, тормозившего распространение и укрепление марксизма на русской почве. В. И. Ленин говорил о том, что в годы 1894—1898 «Социал-демократия появляется на свет божий, как общественное движение, как подъем народных масс, как политическая партия».1
Чехов, как известно, стоял в стороне и от политической партии пролетариата, и от других политических группировок его времени, но общее оживление русской жизни не прошло для него бесследно. Об этом говорит его возросшая неудовлетворенность сложившимся общественным строем, его стремление выйти за пределы узких литературных интересов, глубже изучить русскую жизнь. Это стремление и привело к сахалинской поездке, явившейся заметной вехой в его идейном развитии. Важное значение имело для Чехова и его путешествие по Западной Европе в марте — апреле 1891 года.
Впервые столкнулся Чехов в Европе с буржуазно-демократическим строем и сразу же сочувственно откликнулся на такие вполне новые для него явления, как бесцензурная русская печать за границей, на прогрессивные, по сравнению с самодержавным произволом, порядки и обычаи. Вместе с тем не укрылись от Чехова и пошлые стороны буржуазной цивилизации и пресловутого европейского комфорта. «И, боже ты мой господи, до какой степени презренна и мерзка эта жизнь с ее артишоками, пальмами, запахом померанцев! — писал он из Ниццы в апреле 1891 года. — Я люблю роскошь и богатство, но здешняя рулеточная роскошь производит на меня впечатление роскошного ватер-клозета. В воздухе висит что-то такое, что, Вы чувствуете, оскорбляет вашу порядочность, опошляет природу, шум моря, луну» (XV, 191). Любопытно также, что Чехов, восхищенный старинным итальянским искусством и архитектурой, остался совершенно равнодушен к современной французской живописи. Посетив выставку картин в Парижском Салоне, он отметил: «...русские художники гораздо серьезнее французских. В сравнении со здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан король» (из письма 21 апреля 1891 года к М. П. Чеховой; XV, 194). Первое впечатление оказалось крепким и устойчивым: такие же оценки европейской жизни встречаем мы у Чехова и во время его последующих поездок по Европе в 1894 и 1897 годах.
- 378 -
Стремление выйти из узких рамок литературной жизни не оставило Чехова и после Сахалина. «Ах, подруженьки, как скучно! — писал Чехов в октябре 1891 года. — Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке... Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь...» (XV, 255).
В 1891 году Чехов принял деятельное участие в борьбе с голодом, организовав сбор пожертвований и скупку лошадей для безлошадных крестьян голодающих местностей. Для этой цели Чехов выезжал в Нижегородскую губернию, наиболее пострадавшую от голода.
В 1892 году жизнь Чехова «на Малой Дмитровке» закончилась: он приобрел имение Мелихово в Серпуховском уезде Московской губернии. Жизнь в Мелихове (1892—1898) составила целый период в деятельности писателя. Здесь были созданы самые зрелые его произведения, в том числе «Чайка». Мелихову обязан Чехов и материалами для своих деревенских рассказов, в особенности для «Мужиков» (1897).
Установление живой связи с крестьянским населением Чехов ценил очень высоко. С удовлетворением писал он Л. А. Авиловой в 1899 году: «С мужиками я живу мирно, у меня никогда ничего не крадут, и старухи, когда я прохожу по деревне, улыбаются или крестятся. Я всем, кроме детей, говорю вы, никогда не кричу, но главное, что устроило наши добрые отношения, — это медицина» (XVIII, 106).
В самом деле профессия врача очень пригодилась Чехову в Мелихове. В 1892 году он работал по борьбе с холерой и даже заведовал холерным участком, да и в обычное время нередко лечил крестьян. Впрочем, не одна медицина сблизила Чехова с крестьянами. Избегая шумихи и помпы и никогда не становясь в позу филантропа, Чехов в качестве мелиховского «помещика» («ленд-лорда», как он в шутку себя называл) постоянно заботился о быте крестьян. За время пребывания в Мелихове он провел шоссе я построил три школы. Эта сторона мелиховской жизни, видимо, увлекала его, и о своих достижениях он сообщал друзьям с чувством скромной гордости, опасаясь одного — как бы сведения о «маленьком кусочке» его общественной деятельности не были раздуты досужими газетчиками.
С 1893 года Чехов начал печататься в «Русской мысли» и «Русских ведомостях». После кратковременного сотрудничества в «Северном вестнике» это был новый шаг к сближению Чехова с большой журналистикой
7
В годы 1888—1889 в литературной работе Чехова намечается некоторый перелом, в творчестве этих лет подводятся итоги передуманному и возникают новые мотивы. Ясные симптомы этого перелома сказываются прежде всего в пьесе «Леший» (1888—1889), в рассказах «Княгиня» (1889) и «Скучная история» (1889).
Общая тема, которая объединяет названные столь не похожие друг на друга произведения, — это неразумный и антигуманный характер отношений между людьми, свидетельствующий о ненормальности всего общественного устройства. Люди господствующих сословий лишены снисходительности к ближним и дальним, в их личных отношениях нет справедливости. Люди интеллигентные, которые, казалось бы, должны быть справедливы и объективны, на деле охотнее верят злу, чем добру, и не видят дальше своего носа (слова Хрущова в «Лешем»), они подозрительны,
- 379 -
«к каждому человеку подходят боком, смотрят на него искоса и ищут в нем народника, психопата, фразера — все, что угодно, но только не человека!» (XI, 397). О ненависти к человеку людей богатых и знатных говорит в своей обличительной речи доктор из рассказа «Княгиня»: «То-есть главное — это нелюбовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам... одним словом, ко всему, что составляет человека» (VII, 215). Характерно для Чехова и то, что его умный и справедливый доктор, произносящий обличительные слова, тоже не на высоте положения: в роли прокурора он тотчас же становится груб, жесток, мелочен и придирчив, что и сам сознает с великим огорчением.
«Повести и рассказы» А. П. Чехова. 1894.
Титульный лист. С дарственной надписью
Ф. Ф. Фидлеру.В «Скучной истории» трагическое ощущение неразумности самого характера связей между людьми достигает особого напряжения. Старый почтенный человек, проживший большую и полезную людям жизнь, на пороге смерти оказывается в полном одиночестве, как и герой повести А. Толстого «Смерть Ивана Ильича», вслед за которой была написана чеховская повесть. Герой Толстого прожил жизнь бесполезную, ничтожную, паразитическую, и в этом источник его трагедии. Чехов видоизменяет толстовскую ситуацию: герой «Скучной истории» прошел содержательный и интересный жизненный путь, а результат оказался тот же самый. Он тоскливо замечает исчезновение всех точек соприкосновения с семьей, с коллегами, с любимой воспитанницей. Иных он перестает любить (жена и дочь), иных начинает ненавидеть (жених дочери), других продолжает любить, но любовью безрадостной, не приносящей счастья (Катя). Герой Чехова начинает понимать, что положить предел бессмысленной и безрадостной разрозненности людей, придать смысл и цель жизни каждого человека и всех людей может только «общая идея — бог живого человека». «...осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас», — писал Чехов в 1888 году (XIV, 242). Эти же слова могут быть отнесены и к «Скучной истории»: Чехов настойчиво подчеркивает в этом рассказе, что не жизнь сама по себе тягостна и ужасна в его глазах, а именно «жизнь без определенного мировоззрения». Когда люди, идейно опустошенные,
- 380 -
переносят эту свою опустошенность на всю окружающую их жизнь, они становятся клеветниками, злобными жабами, отравляющими своим дыханием воздух (гл. III). Таково то действительно новое слово, которое сказал Чехов в преддверии своей «возмужалости», накануне поездки на Сахалин.
Какое же мировоззрение имел в виду Чехов, когда говорил о необходимости «общей идеи»? Самым твердым фундаментом современного мировоззрения он считал философский материализм. Его многочисленные суждения на эту тему не оставляют в этом никакого сомнения.
«Все, что живет на земле, материалистично по необходимости..., — считал Чехов. — Существа высшего порядка, мыслящие люди — материалисты тоже по необходимости. Они ищут истину в материи, ибо искать ее больше им негде, так как видят, слышат и ощущают они одну только материю. По необходимости они могут искать истину только там, где пригодны их микроскопы, зонды, ножи... Я думаю, что когда вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста необходимо явится вопрос: где тут душа? А если знаешь, как велико сходство между телесными и душевными болезнями, и когда знаешь, что те и другие болезни лечатся одними и теми же лекарствами, поневоле захочешь не отделять душу от тела» (из письма 7 мая 1889 года; XIV, 360).
Таким образом, материалистическое понимание природы и человека как части природы было для Чехова обязательной основой той «общей идеи», в которой нуждается современное человечество. Но тут же сразу возникал вопрос о человеке как существе общественном, о человеческом общежитии, которое должно быть построено на началах доброго согласия и взаимного расположения, о тесных связях между людьми, связях разумных и сердечных. Как добиться установления этих связей? Ответа на этот вопрос Чехов не знал и откровенно признавался в этом. Ни «каторжные» публицисты «Нового времени», ни «копченые сиги» из «Русской мысли», ни «вумные политико-экономические фигуры» вроде Воронцова такого ответа не дадут — это было Чехову совершенно ясно. Его политическая наивность в данном случае выражалась в том, что все современные ему идейно-общественные группы и партии были почти равны для него и он не видел между ними существенных социальных различий. Его политическая прозорливость сказалась в твердом убеждении, что ответ должен быть построен совершенно заново, на научном фундаменте и совсем другими людьми.
Себя к этим людям Чехов не причислял, равно как и других писателей своего поколения. Об этом говорят известные слова в письме от 25 ноября 1892 года: «Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь... Да, я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов и т. п.» (XV, 446—447). Чехов считал, что эта болезнь не случайна, что она исторически обусловлена как некое переходное состояние и уже в этом смысле «болезнь сия, надо полагать, имеет скрытые от нас хорошие цели и послана недаром...» (XV, 447). При этом он решительно отвергал всякие призывы из суворинского лагеря считать свой недостаток достоинством, «уверовать» в жизнь, какова она есть, и отказаться от поисков высших целей. «Кто искренне думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях „вся наша беда“, тому остается кушать, пить, спать, или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука». О себе же
- 381 -
самом Чехов заявил совершенно решительно: «...эти цели я считаю необходимыми и охотно бы пошел искать их» (XV, 450—451).
А. П. Чехов.
Портрет работы Н. И. Кравченко. 1895.Отправляясь на эти поиски, Чехов уносил с собой твердое убеждение в том, что «высшие цели» безусловно необходимы, что пока еще их у него нет и что все прежние догматические ответы и решения должны быть подвергнуты сомнению.
В повести «Дуэль», написанной сразу после Сахалина (1891), Чехов формулирует эту мысль, это настроение определенно и резко: «Никто не знает настоящей правды» (VII, 427). Не знает ее эпигон «лишних людей» Лаевский; больше того, он кокетничает этим незнанием, прикрывая жалкий паразитизм своего существования мишурой обветшалых гамлетических фраз. Не знает настоящей правды и его противник — фон-Корен,
- 382 -
жестокий и самоуверенный человек, оправдывающий свою жестокость реакционной, человеконенавистнической теорией социального дарвинизма. «Никто не знает настоящей правды», но даже слепому ясно, что жизнь нуждается в обновлении. Нигде прежде у Чехова не звучал с такой страстностью его призыв к каждому человеку осознать необходимость этого обновления. Чехов наносит здесь жестокие удары дурному гамлетизму своего героя и заставляет его пережить настроение пушкинских стихов «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю»; большой отрывок из стихотворения Пушкина он помещает в качестве эпиграфа к главе, предшествующей развязке. Он заставляет фон-Корена, казалось бы незыблемо убежденного в правоте своих человеконенавлстнических идей, с сокрушением признаться в том, что «никто не знает настоящей правды», а бескостного скептика Лаевского он приводит к мысли о том, что «жажда правды и упрямая воля гонят <людей> вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...» (VII, 429). Так в этой повести оба героя меняют свое отношение к жизни, к ее «высшим целям» в правильном, по мысли Чехова, направлении.
Прямую параллель к «Дуэли» представляет собою рассказ «Жена» (1892). Перед героем рассказа также возникает необходимость изменить жизнь, переменить характер, стать другим человеком, отказаться от гордой уверенности в своей непогрешимости. Как и в «Дуэли», убеждение в безупречности своих догм приводит героя к отчуждению от людей, к жестокости и даже ненависти к людям. Как и в «Дуэли», герой переживает нравственное воскресение, разрушая предубеждения окружающих, уверенных в невозможности перерождения человека, казалось бы окончательно закосневшего в своих пороках.
Эта же тема ограниченной самоуверенности, приносящей зло окружающим, разрабатывается в рассказе «Соседи» (1892). Его главный персонаж, либеральный тупица Власич, опять-таки «фанатически верил в необыкновенную честность и непогрешимость своего мышления», ясный признак того, что «в его волнениях и страданиях да и во всей его жизни» нет «ни ближайших, ни отдаленных высших целей» (VIII, 99). Совершенный антипод герою «Жены», человеку властного характера и консервативных взглядов, либеральный по убеждениям и вялый по темпераменту, Власич по нравственным достоинствам равен своему антиподу. И тут, и там — тупая, ограниченная самоуверенность, воздвигающая непроходимую стену предубеждений между людьми, разбивающая чужие жизни и сеющая несчастья кругом себя.
И тут, и там речь идет не о принципах и убеждениях, самостоятельно продуманных и завоеванных ценою нравственной борьбы, а о принятых на веру взглядах, полученных по наследству и обратившихся в своего рода привычный умственный халат.
Необоснованная претензия на знание «настоящей правды» свойственна не только образованному кругу. В рассказе «Бабы» (1891) мещанин Матвей Саввич так же думает, что знает о жизни всё; он человек «умственный», поступает не иначе как по строгим принципам старозаветной морали, по «писанию», он так же субъективно честен и так же жесток, эгоистичен и страшен для окружающих своей отчужденностью от настоящей жизни с ее сложными коллизиями. В кривом зеркале его сознания внешний мир отражается упрощенно; сложные движения чужого сердца не умещаются в ею душе, и он так же нравственно глух и нем, как и родственные ему герои из образованного класса.
- 383 -
«В бане». Наборная рукопись А. П. Чехова. 1898.
- 384 -
Осуждение догматиков, жестоких и тупых, не понимающих сложности жизни, приводит Чехова к апологии людей бессознательной гуманности, скромных и простых, в простоте своей глубже понимающих жизнь, чем все догматики на свете. Так, в «Дуэли» рядом с Лаевским и фон-Кореном становятся нравственно чистые простаки — доктор Самойленко и дьякон, бессознательно отрицающие антигуманную исключительность мысли и исходящие в своем поведении из ощущения сложности жизни и веры в человека. В рассказе «Жена» в этой роли появляется старик Иван Иванович, правдивый и мудрый, хотя и с оттенком юродивости. Он говорит важные и глубокие слова, не придавая им никакого значения. В первой редакции рассказа он развивает даже своеобразную нравственную философию, парадоксальную по форме, но чистую и ясную по смыслу и духу. Это не взгляды, принятые на веру, а результат незаметной для себя самого затаенной, сложной нравственной работы. Характерно, что именно он велит гордому рыцарю аристократических предубеждений переменить свой характер и стать другим человеком. В первой редакции рассказа нравственный кризис героя происходит под его непосредственным влиянием.
Равным образом и в рассказе «Бабы» сердца простых женщин сразу же настраиваются враждебно к «умственному» мещанину, уверенному в правоте своих человеконенавистнических принципов.
В рассказе «Попрыгунья» (1892) фигура простого и скромного человека, мелькавшего в качестве эпизодического героя в рассмотренных выше произведениях, выдвигается на первый план и приобретает черты нравственного величия. Осип Дымов — это скромный подвижник науки, наделенный необыкновенной добротой и душевной деликатностью; он внешне не ярок и не заметен для ординарных людей, вроде его жены — попрыгуньи, которая претендует на высшую интеллектуальность, но не может понять истинного и скромного величия своего мужа. Чехов видит в своей героине, столь непохожей на героя «Жены» или Власича из «Соседей», черты, которыми были отмечены эти люди, именно — несамостоятельность мысли, ординарность суждений, склонность к штампованным представлениям, внутреннюю холодность к окружающим, отчуждение от них.
Апология нравственного величия и сердечной простоты людей, не думающих о себе, связывает Чехова с Толстым, равно как и вера в возможность нравственного воскресения, столь ярко сказавшаяся в «Дуэли» и «Жене». Всё это порождает и приближение повествовательного метода Чехова в этих рассказах к толстовской «диалектике души» — факт, отмеченный современной критикой.
Отказ от поверхностных, догматических теорий, враждебных человеку, и необходимость поисков «настоящей правды» — к этому зовет Чехов в 90-х годах. Отказ от этих поисков «высших целей», «общей идеи», т. е. разумных и гуманных форм человеческого общежития, равносилен для него примирению со сложившимися формами жизни, равносилен эгоизму, умственной трусости и лени мысли. Люди, будто бы всё знающие, и люди, не желающие ничего знать, очень близки друг к другу: и те, и другие враждебны самой идее обновления жизни. Одни враждебны этому обновлению по своей самоуверенности и всезнайству, другие — по своей смиренности и пассивности, а итог получается один и тот же. Поэтому естественным дополнением рассказов о тупых догматиках служат у Чехова рассказы о людях, одержимых нравственной «ленью, факирством, сонной одурью». Этими словами охарактеризована у Чехова в «Палате № 6» (1892) философия доктора Рагина, апостола самоуглубления и покоя.
- 385 -
А. П. Чехов.
Фотография. 1898.«Палата № 6» — одно из высших достижений творчества Чехова 90-х годов. В этом рассказе Чехов создал типически обобщенную картину жизни России в условиях самодержавного деспотизма, в условиях буржуазно-помещичьего строя. Сумасшедший дом и рядом с ним каменная стена тюрьмы — вот реалистический символ, выражающий самую сущность социального строя России 90-х годов. Устами безумца, томящегося в отвратительной палате № 6, Чехов говорил о «человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников» (VIII, 110).
Жертвой тупости, эгоизма и насилия является в рассказе больной Громов, умный и чуткий человек, с болезненной остротой почувствовавший невозможность жить в обществе, лишенном высших интересов и элементарной справедливости. Жертвой несправедливого и тупого уклада жизни является и доктор Рагин, умный, мыслящий и гуманный. Он также кончает свои дни в страшной и смрадной палате № 6, загнанный сюда условиями уродливой социальной действительности. И вместе с тем Рагин предстает
- 386 -
перед нами не только как жертва, но и как человек страшно виновный. Философия пассивности и инертности, теория самоуглубления, равнодушие к формам человеческого общества — всё это делает его невольным помощником хозяев современной жизни с ее насилием, несправедливостью и эгоизмом. Философия Рагина и ему подобных помогает подлецам и насильникам превращать жизнь в нечто среднее между тюрьмой и сумасшедшим домом, она представляет собою подлинное безумие, по зловредности своей далеко оставляющее позади сумасшествие безвредных сидельцев палаты № 6. В философских спорах между доктором Рагиным и благородным безумцем, проповедующим активную вражду к насилию, правда на стороне последнего. Вредны всякие теории, отрицающие необходимость изменения жизни, эгоистичны и враждебны человеку идейные системы, заменяющие искание «высших целей» всякими философскими суррогатами, оправдывающими пассивное примирение с мерзостями жизни. Таков смысл «Палаты № 6».
Таков же смысл рассказа «В ссылке» (1892); в роли убежденного фаталиста здесь выступает простой человек, но от этого дело не меняется. Его жалкое примирение с жизнью ненавистно Чехову, как ненавистно оно и другому человеку из народа — татарину, которого писатель заставляет произнести полные гнева слова: «Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит ты не живой, а камень, глина!» (VIII, 87).
Вновь, как мы видим, обобщает Чехов свое отрицание фаталистического отказа от «высших целей», проверяя свою мысль на людях различных сословий и общественных положений. В одном случае действие развертывается в интеллигентной среде, в другом — среди простых людей, но в обоих случаях рассказ строится по одной схеме: столкновение фаталиста с желчным и озлобленным противником фаталистических взглядов, причем в этом столкновении сторонник активного отношения к жизни оказывается нравственным победителем.
Этот круг вопросов занимает Чехова и в «Рассказе неизвестного человека» (1893), главным героем которого является народник-террорист, разочаровавшийся в революционной борьбе, человек внутренне опустошенный, безидейный, жалкий. Выбор такого героя свидетельствует о большой социальной чуткости Чехова. Многочисленные факты ренегатства среди переродившихся народников давали жизненный материал для такого рода образов. «Неизвестный человек», потерявший веру, становится рядом с другим героем, которого он некогда считал своим врагом за его принадлежность к миру гонителей, за холодный цинизм и озлобленное презрение к всякой идейности. Оба героя оказываются в одной цене. Оба они — и бездушный циник, и бывший революционер — одинаково осуждены автором. Они оба повинны в смерти женщины, верившей сперва одному, потом — другому. Обманутая обоими героями, женщина начинает догадываться о «настоящей правде» жизни: «Смысл жизни только в одном — в борьбе. Наступить каблуком на подлую змеиную голову и чтобы она — крак! Вот в чем смысл. В этом одном, или же вовсе нет смысла» (VIII, 235—236). Такая прямая формула «смысла жизни» появляется в творчестве Чехова впервые. Значение этой формулы не тускнеет оттого, что героиня, к ней пришедшая, не находит в себе силы осуществить ее: Зинаида Федоровна гибнет, никем не поддержанная, и это воспринимается читателем как доказательство нравственной вины неизвестного человека, а не как свидетельство ложности самой идеи. Идея остается не опороченной Чеховым. Во всяком случае мысль о неизбежности непримиримой
- 387 -
борьбы ясно вставала перед Чеховым в процессе поисков «высших целей» и «настоящей правды».
Мотив ищущей жизненных целей женской натуры, бьющейся в кругу людей, бессильных ей помочь, повторен Чеховым в рассказе «Володя большой и Володя маленький» (1893). «Вы меня презираете и если б вы знали, как я страдаю от этого! — сказала она <героиня рассказа Софья Львовна>, нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит. — А если бы вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь! Я с восторгом думаю об этом, — проговорила она и в самом деле прослезилась от восторга. — Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни» (VIII, 260). Но ей не суждено найти эту цель, как не суждено это было и героине «Рассказа неизвестного человека». Она также погибает никем не поддержанная: ее обманул маленький циник Володя маленький и ее обманывает ушедшая в монастырь подруга Ольга. Володя маленький на вопрос о смысле ее душевных тревог и волнений отвечает: «Тарарабумбия», а «Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что все это ничего, все пройдет и бог простит» (VIII, 262).
8
Под влиянием исторических изменений в жизни России 90-х годов, под влиянием общественного оживления у Чехова, как мы видели, усиливается недовольство современной жизнью, не только отдельными, наиболее резкими ее пороками, а всем общественным строем в целом, в любых его проявлениях, крупных и мелких.
В 1889 году Чехов писал Плещееву: «...цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем» (XIV, 339).
Общественные условия 90-х годов прояснили для Чехова самый характер, самую сущность отклонения от «нормы». Это понятие теперь уточняется и расширяется у Чехова. Отклонением от нормы он начинает считать не только вопиющие, бросающиеся в глаза факты социального зла, прямое бесчестие или прямую ложь в отношениях между людьми. Отклонение от нормы может быть микроскопично, едва определимо простым глазом, совершенно буднично, и тем не менее оно должно быть отмечено и показано именно как отклонение от нормы, как ее нарушение. Вопиющие факты социального зла и неправды, резкие, определенные, общеизвестные — это не единственный показатель ненормальности жизни, это только частный случай, такой же, как тысячи других, менее заметных, труднее ощутимых. Художник на то и художник, чтобы видеть то, чего не дано видеть рядовому наблюдателю. Однажды, рассуждая о требованиях воспитанности, Чехов заметил, что настоящие люди «болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом» (из письма к Н. Чехову, 1886; XIII, 196). Это требование чеховской этики становится теперь коренным принципом его эстетики.
Логика развития творчества Чехова проясняется сопоставлением трех его взаимно связанных произведений: «Осенью» (1883), «На большой дороге» (1885) и «Воры» (1890).
В первом рассказе появляется опустившийся несчастный человек, чья жизнь безнадежно испорчена вопиющей и циничной несправедливостью, совершенной над ним. Всё дело здесь именно в самом факте грубой несправедливости;
- 388 -
констатацией этого факта автор и ограничивается, ничего не противопоставляя жизненной грязи и цинизму. Во втором произведении сохраняется вся сюжетная ситуация первого, но в качестве противовеса грязной и низкой жизни появляется романтический бродяга Мерик, негодующий против лжи и несправедливости, готовый к мести за поруганную человечность.
Характерно, что Чехов здесь сводит лицом к лицу жертву, преступника и мстителя и заставляет громко звучать голос романтического протеста. В третьем произведении, характерном для 90-х годов, всё резко меняется: образ Мерика теряет прежние романтические очертания, он не протестант и не человек возвышенного строя души; он введен в рассказ не ради протеста против вопиющих нарушений обыденной жизни, а для того, чтобы возбудить сомнение в законности самого обыденного уклада, ничем не нарушенного. Место кричащей несправедливости заступил обычный порядок вещей в обществе, который давно сложился и не скоро кончится. Ненормально такое положение, при котором вольным человеком оказывается конокрад, а люди, не выходящие за пределы ординара, ведут жизнь серую, однообразную, презренную и тошную.
Ощущение ненормальности обычного порядка вещей Чехов доводит в рассказе «Воры» до особенной простоты и силы, точно стремясь воспроизвести взгляд на современное общество как бы человека с другой планеты, который, сколько бы ни старался, органически не в состоянии постигнуть целесообразности чуждых для него порядков и отношений. При этом ценность подобных настроений измеряется не нравственными достоинствами переживающего их человека, а только тем, насколько он связан путами привычных отношений; чем связь слабее, тем ближе человек к уразумению ненормальности сложившегося порядка вещей. Это же ощущение ненормальности составляет содержание рассказа «Гусев» (1890). На палубе парохода, в далеком плавании, вдали от родины умирают больные солдаты и матросы, которых военные доктора обманом сдали на пароход, чтобы не возиться с ними. Среди них — бессрочно отпускной рядовой Гусев, бессмысленно проведший пять лет на Дальнем Востоке в денщиках. В первом классе — чистая публика, которая и не подозревает о том, что делается на палубе. Картина, нарисованная Чеховым, создает впечатление всеобщей бессмыслицы: бессмысленная жизнь, бессмысленная смерть, неясные, путаные мысли, жестокие люди, суровое море, свирепые акулы. «Неизвестно для чего шумят высокие волны... У моря нет ни смысла, ни жалости... У парохода тоже бессмысленное и жестокое выражение» (VII, 309—310). Впрочем, есть на свете и добрые, сердечные люди, море тоже бывает ласковым и прекрасным, в конце рассказа оно приобретает такие цвета, «какие на человеческом языке и назвать трудно». Но эта красота природы не снимает общего впечатления бессмысленно искалеченного бытия: авторскому взору открыто, что в то самое время, когда море блещет невиданной красотой, мертвого Гусева в морской глубине ест ленивая акула.
Не нарушает общей картины и фигура протестующего человека, введенная в рассказ. На первый взгляд это как будто величественное воплощение протестующего разума. «Я живу сознательно, я все вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и все понимаю. Я воплощенный протест» (VII, 306). Так думает о себе этот человек, но автор думает о нем иначе. Этот человек видит и понимает только явные проявления насилия, лицемерия, воровства, бессердечия, но он не видит бессмысленности и жестокости всего современного жизненного уклада в целом. Он справедлив, но не глубок, этот «воплощенный протест». Авторский протест
- 389 -
«У знакомых». Наборная рукопись А. П. Чехова. 1898.
- 390 -
неизмеримо шире и глубже. Не отдели себя автор от этого своего героя незримой чертой, получился бы рядовой обличительный рассказ в духе народнической и околонароднической литературы. Но Чехов сделал всё необходимое для того, чтобы и «воплощенный протест», поверхностный и неглубокий, не доходящий до корня, вошел в качестве детали в нарисованную им картину жизни, странно уклонившейся от нормы.
Иногда Чехов рисует ту же картину, внешне как будто бы не прибегая к мотивам обличения или протеста, но сила критики и отрицания от этого вовсе не уменьшается: авторский протест проявляется в форме объективного повествования. Так, в рассказе «Бабье царство» (1894) сюжет на первый взгляд лишен критической заостренности; здесь взят один день из жизни молодой и как будто счастливой владелицы фабрики, и день к тому же праздничный. Героиня рассказа хороша собой, образованна, в расцвете сил и молодости; она не тоскует, не томится, не чувствует себя несчастной. Однако смысла и цели в ее жизни нет, и она не может не ощущать этого ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Рабочие, которые глохнут и слепнут от непосильного труда, несчастные бедняки-просители, которым помочь невозможно (всем не поможешь), деньги, которые не приносят счастья никому, даже ей самой, — всё это создает у героини Чехова ощущение нелепости, неустроенности, ненужности и вызывает желание изменить жизнь, но как ее изменить — неизвестно. Она подумывает о том, чтобы выйти замуж за простого рабочего, но в ее положении это было бы фальшиво. Заняться благотворительностью — опять фальшиво и стыдно. «Кормиться и получать сотни тысяч от дела, которого не понимаешь и не можешь любить, — как это странно!» (VIII, 298).
На каждом шагу заставляет Чехов свою героиню чувствовать неловкость, скованность. Анна Акимовна хочет сказать доброе слово заводскому учителю, но только она решила осуществить это совсем маленькое доброе намерение, «ей стало скучно и неловко». И происходит это не потому, чтобы Анна Акимовна была изъедена рефлексией, нет, она вышла из рабочей среды, она человек простой и непосредственный. Причина, очевидно, заложена не в ней, а в самом устройстве жизни. Жизнь устроена так, что не приносит счастья даже хозяевам этой жизни, если только они хоть немножко вышли за границы обывательского ординара.
Никакого трагизма в рассказе нет, всё просто, обычно. Показан праздничный день, веселье, праздничное настроение, ничего нет удручающего, но всё получается не так, как хотелось бы. В результате возникает ощущение дурной середины, утомительной и никому не нужной канители. Рассказ ведется неторопливо, даются подробные описания быта, мелькают бытовые фигуры, в рассказе много лиц и нет никакого движения, нет никакой борьбы, нет столкновения интересов. Задача рассказа — показать самое лицо жизни, не выдающийся или особенно примечательный эпизод, а типически обобщенную картину будничной жизни в ее временном течении. Здесь — это один день, в другом случае — «Три года» из жизни человека или даже целая человеческая жизнь, а общая идея во всех случаях одна и та же: нелепое уклонение жизни от «нормы».
Вот итог рассказа «Три года» (1895): «Лаптев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежала душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба; он представлял себе, как он мало-помалу свыкнется со своим положением, мало-помалу войдет в роль главы торговой фирмы, начнет тупеть, стариться и, в конце концов, умрет, как вообще умирают обыватели, дрянно, кисло, нагоняя тоску на окружающих» (VIII, 471). И точно так же, как в «Бабьем царстве», рядом с таким итогом
- 391 -
развертывается сознание необходимости иной жизни и одновременно ощущение невозможности пробиться к ней.
В «Скрипке Ротшильда» умирающий мастеровой подводит итоги целой жизни, и, как всегда в таких случаях, когда речь идет о простом человеке, Чехов находит для своего героя слова необыкновенной простоты и мудрой значительности, слова, с особенной ясностью передающие недоумение перед нормальным порядком «пропащей, убыточной жизни». «Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу?». «...зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?» (VIII, 342, 343). Ответить на эти слова невозможно, невозможно даже задать эти вопросы людям, потому что в «нормальности» своей они их и не поймут и только искусство на своем особом, необычном языке может задавать людям такие загадки. Когда Ротшильд пытается на скрипке передать мелодию, аккомпанировавшую предсмертным мыслям Якова, «то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: „Ваххх...“» (VIII, 344). И в «Бабьем царстве» Анна Акимовна под влиянием искусства начинает думать так же просто, как Яков, «о том, что так жить нельзя, что нет надобности жить дурно, если можно жить прекрасно» (VIII, 323).
Во всех этих рассказах ненормальной оказывается сама норма современных жизненных отношений, а не ее нарушение. Ненормально такое состояние мира, когда величие уходит из жизни и остается только в мечтах маниаков, когда экстаз становится уделом психических больных, а психически здоровые люди заболевают болезнью еще более страшной, потому что незаметной, именно — ординарностью. Это тема «Черного монаха» (1894). Когда Коврин был болен и видел галлюцинации, он был возвышен, возбужден, оригинален и счастлив. Он верил в себя, в свою науку, в свою необыкновенность, он был готов отдать все идее и «умереть для общего блага». Перед ним раскрывалась истинная «норма» жизни: «Разве радость сверхъестественное чувство? — говорил ему черный монах. — Разве она не должна быть нормальным состоянием человека?» (VIII, 285). Когда же он выздоровел, он стал капризен, мелочен, неблагороден, он мог бы стать ординарным профессором, рядовым и посредственным, в его жизнь вошли «мелкие дрязги» и затопили ее. Ненормальным оказывается то, что люди, свыкшиеся с современным строем жизни, считают нормальным, — эта тема лежит также в основе «Палаты № 6», но в сущности она налицо не только в тех рассказах, где прямо дана; она чувствуется во всем творчестве Чехова.
Страшно то, что в изображаемой Чеховым жизни считается вовсе не страшным, — таково другое выражение той же чеховской темы, той же основной его мысли. «Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться», — говорит Силин, герой рассказа «Страх» (1892). «Да, голубчик мой, — вздохнул он, — если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных, житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного» (VIII, 165, 166). Под влиянием этого страха безвестный герой рассказа заболевает «боязнью жизни». Но сам по себе этот страх не является состоянием патологическим. Напротив, по Чехову, это скорее естественная реакция на ненормальность жизни. «Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился
- 392 -
и мне, — говорит рассказчик в финале повествования. — Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают»(VIII, 172). Характерно здесь чеховское словосочетание «странно и страшно»; более обычный комплекс «странно и смешно» был широко использован Чеховым в начальном периоде его творчества.
В этом рассказе страшным для повествователя оказывается некое событие, правда, вполне обычное для людей его круга, но всё-таки событие — супружеская измена. Гораздо существеннее и показательнее для Чехова такие положения, когда страх внушают не жизненные трагедии, а житейские идиллии. В рассказе «Учитель словесности» молодой человек счастливо женился, и жизнь его потекла безмятежно и идиллично. В 1889 году, когда рассказ был задуман, Чехов такой идиллией его и закончил. Уже и тогда это было для него не ко времени, а впоследствии стало и совершенно невозможным. Вернувшись к рассказу в 1894 году; он уже не пощадил своих «провинциальных свинок» и безжалостно разрушил созданную ранее идиллию. Жизнь молодого человека именно благодаря ее безмятежности заполнилась «мелочами» и «пустяками», превратилась в ординарное паразитическое прозябание: перед ним встали очертания другого мира, наполненного борьбой, тревогами и достижениями; идиллия завершилась записью в дневнике: «Где я, боже мой? Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» (VIII, 372).
В рассказе «Ионыч» (1898) именно на примере счастливой семьи Туркиных особенно ясно становится, что страшны не внезапные, резкие перемены и повороты в человеческой судьбе, страшно только одно: жизнь, которая совсем не меняется, в которой ничего не происходит, в которой человек всегда равен себе; при этом счастливый домашний очаг в обывательской среде оказывается первичной, простейшей ячейкой такой именно жизни. «Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и попрежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы попрежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре» (IX, 303). Это и есть, по Чехову, безысходно страшная жизненная ситуация.
Эту сторону творчества Чехова с глубоким сочувствием отметил Горький. «Его врагом была пошлость, — писал Горький, — он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском...».1
9
В марте 1892 года Чехов писал из Мелихова: «Труд рабочего обесценен почти до нуля, и потому мне очень хорошо. Я начинаю понимать прелесть капитализма... если б я платил за труд хотя четверть того, что получаю за свой досуг, то мне в один месяц пришлось бы вылететь в трубу...» (XV, 340). Эти слова написаны в шутливом тоне, однако вопрос о «прелестях» капитализма интересовал Чехова в 90-х годах не на шутку. Глубокий отклик, который получили в творчестве Чехова процессы,
- 393 -
связанные с развитием капитализма в конце XIX века, еще раз свидетельствует о полной несостоятельности всякого рода утверждений о равнодушии писателя к важным общественным темам. Ненормальный и страшный строй жизни начинает осознаваться Чеховым как строй капиталистический, обрекающий массы народа на тяжелый, нищенски оплачиваемый физический труд и предоставляющий неограниченный досуг хозяевам положения. При этом народные массы, подавляемые трудом, влачат жалкую жизнь, лишенную интеллектуальных интересов, интеллигентные труженики (врачи, учителя) изнемогают в трудной и скучной борьбе с нуждой, а люди обеспеченные, если в них сохранилась совесть и живая душа, расплачиваются за свой досуг непомерно дорогой ценой: постоянным ощущением собственной ненужности, мучительной фальши своего положения и внутренней опустошенностью. Богатство само по себе не может дать человеку счастья, об этом Чехов говорит в «Бабьем царстве», «Трех годах»; не может дать счастья и средний буржуазно-помещичий паразитический комфорт, вроде того, от которого захотелось «бежать сейчас же» учителю словесности. Чехова не интересуют ограниченные и своекорыстные защитники «прелестей капитализма». Не считая их людьми, он их просто устраняет из своего анализа жизненных бед и зол, поэтому капиталистический строй предстает перед ним как воплощенная ненормальность, страшная своей полной и совершенной бессмысленностью. В своем анализе жизни, порожденной капиталистическим строем отношений, Чехов, разумеется, далек от понимания социально-экономических процессов, вызывающих к жизни капиталистический строй, далек он и от понимания сущности капитализма как социально-экономической системы, вырабатывающей силы для борьбы с ней, для ее преодоления. Он не отрицает закономерности этого строя, чем выгодно отличается от народников разных толков, но он и не исходит в своем анализе капитализма из вопросов исторической закономерности. В основе чеховского протеста против капитализма лежит смутное, но острое ощущение ненормальности всего строя жизни, порожденного капитализмом, неопределенный, но сильный демократизм, соответствующий положению и сознанию тех слоев общества, которые В. И. Ленин определял как «недовольные, раздраженные, озлобленные, неопределенно-революционные элементы».1 В своем отвращении к капитализму они также исходили не из социально-политических теорий, а из непосредственного ощущения тяжести, несправедливости и неразумности сложившейся жизненной нормы.
Поэтому в произведениях Чехова 90-х годов, посвященных критике капитализма, заметно проглядывают утопические черты, а фигура человека, исповедующего утопические взгляды, выдвигается даже в иных его рассказах на первый план. Таков, например, художник, от лица которого ведется повествование в «Доме с мезонином» (1896). Он мечтает о полном освобождении человека от физического труда, грубого, тяжелого и унизительного; в качестве ближайшей меры, которая должна подготовить радикальное исцеление человечества, он проповедует обязательность физического труда одинаково для богатых и бедных, равномерное распределение его тяжестей, и от этого одного ожидает великих и благих последствий: «Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов
- 394 -
в день» (IX, 97). Очевидно, что этот художник не является полным выразителем взглядов автора (введение прямых рупоров авторской положительной мысли вообще не в манере Чехова), очевидно, что Чехов не разделяет его гордого признания людей искусства «высшими существами» и вообще не считает его, как и никого другого, счастливым обладателем «настоящей правды». Однако вполне очевидно, что этот герой, по Чехову, ближе к «настоящей правде», чем рядовые представители либерального общества, вроде его идейной противницы Лиды, не видящей ничего дальше своих аптечек и библиотечек, которыми она в качестве земской деятельницы думает существенно улучшить положение народа. Художник — герой рассказа — видит яснее и глубже, он понимает, что либеральные полумеры не способны разрубить ту великую цепь, которой опутан народ. «Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам мое убеждение», — говорит он, обращаясь к самоуверенным сторонникам полезных полумер (IX, 96). Он понимает также, что великая цепь, опутавшая народ, опутала и его самого, так как в современных условиях люди искусства работают «для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок» (IX, 99). В этой повести Чехов выступает, таким образом, с резкой критикой либеральных народников 80-х годов. Отвергая все их начинания в духе теории «малых дел», Чехов вместе с тем не может указать тот правильный путь, по которому должна идти передовая интеллигенция. Это опять-таки одно из свидетельств того, что отклонения от «нормы» он обнаруживает безошибочно, но сама «норма» ему не ясна.
Сродни художнику из «Дома с мезонином» герой рассказа «Моя жизнь» (1896), Мисаил Полознев. Он тоже понимает основное зло современной жизни как капиталистическую форму порабощения народа. «Крепостного права нет, — говорит он, — зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же, как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утонченные формы, по крайней мере, умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае» (IX, 132).
Так же, как и герой «Дома с мезонином», Мисаил Полознев верит в спасительность физического труда и даже становится простым рабочим. Рассказ ведется от его имени, и это дает Чехову возможность взглянуть на современную жизнь снизу, «с изнанки», как говорит его герой. Новый угол зрения дает возможность увидеть неожиданные вещи в давно привычном кругу. Обнаруживается, что, с точки зрения рабочего, люди из общества, даже вполне респектабельные и приличные, оказываются повинны в тех бедствиях, которые обступили со всех сторон простого человека, что все они «бога забыли», все участвуют во лжи, на которой построен справедливый с виду порядок, к ним ко всем относится укоризненный афоризм старого маляра, рабочего-философа: «Тля ест траву, ржа — железо... А лжа душу...». К ним же обращено и его пророческое обличение: «Горе, горе сытым, горе сильным, горе заимодавцам! Не видать им царствия небесного» (IX, 183). Такое восприятие капиталистического мира возможно, как хочет показать Чехов в этом рассказе, только с высоты взгляда рабочего, мастерового люда. На эту высоту не способны подняться даже крестьяне, замученные и обезличенные тяжким трудом, но и в их отношении к жизни есть нечто важное и ценное, чего
- 395 -
нет у людей обеспеченных, у богатых и сильных. При всей своей отсталости мужик верит, «что главное на земле — правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость» (IX, 167).
Только редкие и необычные люди из общества способны приблизиться к этой «правде» простого народа. «...неинтересно и неприятно быть богатым..., надо устраивать себе жизнь как-нибудь по иному..., а та жизнь, какая была до сих пор, ничего не стоит» (IX, 139, 141). Характерно, что последние два афоризма принадлежат женщине с артистической душой.
Чехов заставляет своего героя и его временную спутницу Марию Викторовну пройти через опыт либерального культуртрегерства, в результате которого в артистическом сознании Марии Викторовны рождается резко отрицательное отношение ко всяческим либеральным паллиативам, выраженное в тонах резких и определенных: «Тут нужны другие способы борьбы, сильные, смелые, скорые! Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной деятельности и старайся действовать сразу на массу!» (IX, 170). Чехов не верит в способность своей героини следовать собственному рецепту (она возвращается к сильным и богатым), но всем ходом повествования, историей своих героев, картинами жизни так называемого культурного общества, символическим образом бойни, введенным в рассказ и как бы воплощающим современный капиталистический строй, — словом, всем тоном и содержанием рассказа он показывает естественность и возможность взгляда, высказанного героиней, и неизбежность появления людей, для которых эти взгляды станут программой жизни. Чехов постоянно подчеркивает, что великая цепь, опутавшая народ при капитализме, ничуть не легче для людей, чем крепостнический гнет и другие виды порабощения человека. Пришли новые времена, изменились общественные формы, а неразумность и несправедливость общественного устройства осталась такой же, какой она была в старину, во времена Батыя, о которых вспоминает герой «Моей жизни». В глухих уголках России попрежнему хозяйничают дикие печенеги (рассказ «Печенег», 1897), почти в полной неприкосновенности сохраняются крепостнические порядки («В родном углу», 1897). Герой рассказа «Студент» (1894), Иван Великопольский, проходя по деревне, думает о том, что «такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета» (VIII, 346).
Эти слова многое проясняют и в рассказе «Мужики» (1897), где опять перед нами, точно в далекие времена, невежество, грязь, первобытная дикость, «лютая бедность». Ничего не изменилось в существе человеческих отношений: то же разделение мира на бедных и богатых, то же равнодушие сытых, та же приниженность голодных, та же разобщенность людей и те же силы разобщения: религия («Убийство», 1895), сословная вражда («В усадьбе», 1894), неискоренимое недоверие простого народа к добрым побуждениям господ («Новая дача»).
Поэтому тема капитализма в конце 90-х годов переходит у Чехова в более общую и всеохватывающую тему ненастоящей, неправильно сложившейся жизни, сливается с этой темой. Жизнь современного общества становится для Чехова только новейшим вариантом нелепого жизненного устройства, обездолившего людей, разобщившего их и в то же время насильственно их связавшего такими связями, в установлении которых их добрая воля не участвовала.
- 396 -
В рассказе «Случай из практики» (1898) доктор Королев отправляется лечить дочь фабриканта, которая, как оказывается, больна только от сознания ненормальности и ненужности собственного существования. Между тем она неповинна в своем общественном положении, она так же не выбирала для себя положения наследницы фабричных корпусов и рабочих бараков, как не выбирали своего положения и ее рабочие. И вместе с тем она не может не чувствовать своей ответственности за ту систему отношений, участницей которой она является волею какой-то стихийной, вне ее лежащей силы. Эта сила разобщила ее с рабочими и в то же время связала с ними настолько прочно, что разорвать эту связь невозможно. Она могла бы, положим, бросить всё и уйти, как ей советует доктор, она могла бы таким образом спасти себя, но общее положение от этого не изменилось бы ни на йоту. В этой нелепости стихийно участвуют и рабочие, которые живут скудно и нездорово, работают тяжело и много, и никто от этого не становится счастливее.
Чехову кажется, что эта нелепость скрыта от политиков и теоретиков, имеющих дело с общими законами и равнодушных к их будничным, повседневным проявлениям, в то время как жизнь каждого человека только из этих повседневных дел и складывается.
«Тут недоразумение, конечно... — думал он <герой рассказа>, глядя на багровые окна... Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку» (IX, 309, 310—311).
Алогизм («недоразумение», «ошибка», «логическая несообразность»), доходящий до фантастики («дьявол», «неведомая сила»), — вот что раскрывается Чехову в обыденной жизни современного капиталистического общества.
Рассуждая так, Чехов, как и его герой, выступает в качестве просветителя, отрицающего современный уклад жизни во имя нормальных потребностей нормального человека. В этой связи интересно вспомнить близкие по духу и смыслу слова Чернышевского, сказанные задолго до Чехова в «Антропологическом принципе в философии»: «... только то, что полезно для человека вообще, признается за истинное добро; всякое уклонение понятий известного народа или сословия от этой нормы составляет ошибку, галлюцинацию...».1
Иногда «ошибка», «логическая несообразность» обыденной жизни представляется Чехову в форме фантастической несообразности сна. В рассказе «По делам службы» (1899) следователь Лыжин видит во сне, как два несчастных человека, с которыми его случайно столкнула судьба, старик-«цокай» и самоубийца Лесницкий идут в метель, поддерживая друг друга, и поют, точно в театре: «Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу...
- 397 -
Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей... У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем... Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон!» (IX, 354). Но именно в этой смутной нелепице сна раскрывается Чехову и его герою нелепое могущество всё той же «неведомой силы», которая связала всех людей невидимой связью и заставляет почему-то каждого человека чувствовать вину и ответственность за тот строй человеческих отношений, который сложился без его вины и помимо его воли.
Иногда алогизм обыденной жизни выражается у Чехова в том, что люди у него начинают действовать точно без участия сознания, не как существа, а как человекоподобные манекены. Так изображена драка отца и сына Лычковых в «Новой даче» (1899).
«Он поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и все стукали друг друга по головам...» (IX, 340).
То, что предполагает исступление, страсть, движение, совершается бесстрастно, монотонно («и опять ударил, и опять по голове»), почти без движения («Лычков-отец даже не покачнулся»). И чтобы не оставить никакого сомнения в том, каков смысл этого способа изображения человеческих действий, Чехов заключает свое описание такой фразой: «И это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру».
Обыденную жизнь Чехов показывает настолько «ненастоящей», настолько невозможной, что вольно или невольно пронизывает свои описания ощущением непосредственной близости жизни иной, настоящей, наполненной смыслом и радостью. Жизнь могла бы стать такой, если бы не все эти «ошибки» и «недоразумения», которые не могут же быть вечны, раз они не больше, чем «логические несообразности», но которые страшны своей неизменностью и прочностью.
Герои рассказов Чехова 90-х годов часто живут как бы в предчувствии близкого счастья. Достаточно какого-нибудь толчка, чтобы это предчувствие пробудилось и стало почти реальным ощущением. Таким толчком часто являются впечатления от природы. Героине рассказа «В родном углу» (1897) «этот простор, это красивое спокойствие степи говорили..., что счастье близко и уже пожалуй есть» (IX, 235). И вместе с тем рядом с этим ощущением живет другое: «Прекрасная природа, грезы, музыка говорят одно, а действительная жизнь другое» (IX, 243). Так в рассказах Чехова уживаются рядом эти два ощущения: прочности неправды и горя и близости правды и счастья, причем иной раз перевешивает одно, другой раз — другое. В рассказе «На подводе» (1897) перевешивает второе ощущение, но они оба даны в теснейшей связи. Здесь, как и всюду у позднего Чехова, «вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце» (IX, 247). И вместе с тем небольшой и случайный толчок в виде мгновенно мелькнувшего воспоминания детства выводит наружу затаенный строй совсем иных чувств и мыслей: «чувство радости и счастья вдруг охватило ее». Марья Васильевна «вообразила счастье, какого никогда не было... и казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится ее счастье, ее торжество» (IX, 251).
В классически стройной форме тема двух течений жизни, двух потоков чувств разработана была Чеховым несколькими годами ранее, чем упомянутые выше рассказы, именно в «Студенте» (1894), который Чехов
- 398 -
любил больше всех своих произведений. В этом рассказе возможность и даже неизбежность правды и радости получает у Чехова как бы естественнонаучное обоснование. С тех пор как существует чувствующий и мыслящий человек, в его жизни бывали хотя бы редкие проблески красоты и правды, хотя бы намеки на эти проблески. Раз появившись, эти элементы жизни не могут исчезнуть вовсе, так как в природе ничего не пропадает, все явления связаны неразрывной цепью одно с другим, и «прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого» (VIII, 348). Поэтому человеческое сознание, даже не искушенное знанием научных истин, не может не откликаться на воспоминания о проблесках правды в прошлом и о былой красоте. Иван Великопольский понял, ощутил это, и «чувство молодости, здоровья, силы... и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла» (VIII, 348).
Итак, чем более противоестественной и нереальной изображается жизнь в рассказах Чехова 90-х годов, тем явственнее начинает пробиваться в этих рассказах ощущение близости жизни иной, исполненной «красоты и правды» и раскрывающей людям ясно видимую связь всех явлений. Герои Чехова начинают догадываться о реальной близости новой жизни и в то же время ясно понимают, как трудно к ней пробиться, несмотря на ее близость. Это ощущение тонкой, но страшно прочной перегородки, отделяющей мир сущего от мира должного, составляет главное содержание рассказа «Дама с собачкой» (1898). «Как освободиться от этих невыносимых пут? Как? как? — спрашивал он <Гуров>, хватая себя за голову. — Как? И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается» (IX, 372).
Во многих произведениях Чехова 90-х годов своеобразно отразились общественные условия эпохи, когда уже ощущалась близость обновления жизни, но пути этого обновления для многих были еще неясны и туманны.
Мы видели, что, применяя свой художественный принцип, Чехов перевертывал обычные представления о страшном и нестрашном, о нормальном и ненормальном, о трагедии и идиллии. Точно так же и обычные представления о пессимизме и оптимизме Чехов меняет настолько, что эти понятия в их противопоставленности становятся неприложимыми к его творчеству. В самом деле, чем резче становится в его рассказах критическое изображение отрицательных сторон жизни, тем ярче просвечивают в них оптимистические надежды и предчувствия.
По поводу «Дамы с собачкой» Горький писал в январе 1900 года Чехову: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм... Дальше Вас никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого незначительного Вашего рассказа — все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И — главное — все кажется не простым, т. е. не правдивым... Да, так вот, — реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к чорту!
«Право же настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было бы выше ее, лучше, красивее».1
- 399 -
Горьковская формула «Вы убиваете реализм» обозначает, в сущности говоря, нечто прямо противоположное тому, что она значит по своему внешнему смыслу. Говоря «Вы убиваете реализм», Горький проводит мысль о том, что Чехов перестраивает реализм и тем самым дает ему новую жизнь.
В своих статьях о Чехове («Литературные заметки. По поводу нового рассказа А. П. Чехова „В овраге“» 1900 года и «А. П. Чехов» 1905—1923 годов) Горький с большой полнотой и убедительностью определил также, в чем именно заключалась реформа реализма, произведенная Чеховым.
«Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни», — пишет Горький («А. П. Чехов»).1 И действительно, в чеховском суде над жизнью анализ «мелочей», анализ «арифметический» имел решающее значение. Этот метод анализа, введенный еще Гоголем, Чехов развил и усовершенствовал. Он научился преследовать социальное зло не только в резких его формах, но и в незаметных мельчайших проявлениях, в самых затаенных уголках. Благодаря этому методу каждый единичный будничный факт становился под его пером необходимым и достаточным материалом для суждения обо всем строе жизни. Чтобы признать современное устройство мира нереальным и непереносимым, Чехову, в отличие от Гаршина, например, не было необходимости показывать, как рабочего бьют железным молотом по груди («Художники») и этим «убивать спокойствие» читателей; Чехов научился «убивать спокойствие» более простыми средствами; чтобы добиться этого, Чехову достаточно показать, что рабочие живут скудно, спят в непроветриваемых помещениях, вынуждены трудиться для богачей. Чехов уменьшил единицу наблюдения и благодаря этому увеличил обобщающую и критическую силу каждой своей зарисовки. «Надо смотреть в корень и искать в каждом явлении причину всех причин» (VIII, 247) — такова общая формула его реализма.
Горький не утверждает, что Чехов ввел этот принцип в литературу, он говорит лишь о том, что Чехов довел этот принцип до высшей ясности и тонкости. В самом деле, художественное умозаключение от простейшего к сложному — это метод всего реалистического искусства. На почве этого метода описание нескольких недель из жизни молодого человека становится повествованием о поворотном моменте в политической жизни страны («Отцы и дети» Тургенева). Тургенев берет в своем романе единичный факт из области общественно-идеологической жизни человека и возводит его к политической жизни целой страны. Чехов поступает подобным же образом, но только он усложняет и утончает этот принцип: он берет мельчайший, микроскопический, но типический факт из сферы быта и возводит его ко всему строю человеческих отношений во всем мире.
«Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины».2
«Он не говорит нового, — в другом месте писал о Чехове Горький, — но то, что он говорит, выходит у него потрясающе убедительно и просто, до ужаса просто и ясно, неопровержимо верно».3 «Он не говорит нового» — это значит, по смыслу статьи Горького, что чеховские темы и оценки современной жизни в конце концов те же, что и у других мастеров русского
- 400 -
реализма, но только Чехов применяет другой метод художественной «аргументации»: как естествоиспытатель по одной кости восстанавливает целый скелет животного, так Чехов по каждой мельчайшей шероховатости быта может сделать заключение о целом строе социальных отношений, может нарисовать картину «наполовину испорченной» жизни.
«Он не говорит нового» еще и в том смысле, что свою работу восстановления общей картины жизни по одной ее мельчайшей детали он повторяет и заново проделывает в каждом своем рассказе. Рассказы Чехова поэтому как бы дополняют друг друга, друг на друга нанизываются. Чехов поступает так же, как героиня его драмы «Иванов» — Саша Лебедева, которая говорила всё время одно и то же: «Ах, господа! Все вы не то, не то, не то!.. На вас глядя, мухи мрут и лампы начинают коптеть. Не то, не то!.. Тысячу раз я вам говорила и всегда буду говорить, что все вы не то, не то, не то!..» (XI, 37).
Эти черты чеховского реализма определили и особенности его языка, его повествовательного слога.
Говоря о Чехове как стилисте, Горький поставил его в один ряд с Пушкиным и Тургеневым.1 Действительно, в языке Чехова явственно различимы традиции Пушкина и Тургенева. Для чеховского языка одинаково характерны и та «прелесть нагой простоты», которую Пушкин считал высшим законом прозаической речи, и тургеневская лиричность и музыкальность, тяготеющие к стилю стихотворений в прозе. Своеобразное сочетание этих двух элементов и образует характерную особенность художественной речи Чехова.
Спокойная ясность повествовательного тона Чехова приводила в изумление его современников, а у противников Чехова вызывала негодование. Многие критики говорили о бездушном отношении Чехова к людям, о безразличии его к добру и злу, о его бесстрастии и хладнокровии. На самом же деле в ровности и спокойствии чеховского тона отражалось не равнодушие, а мудрое понимание, что житейские «мелочи» так же важны и существенны, как тяжелые драмы жизни, что и то, и другое является проявлением ненормального устройства человеческих отношений. Чехов в каждой житейской «мелочи» умел вскрыть ее типическое содержание и потому не чувствовал потребности говорить о мелких несообразностях иным тоном, чем о бросающихся в глаза резких выражениях социального зла. Что Чехов говорил одинаковым тоном о больших и малых вещах, что он не делал принципиального различия между крупными и «мелкими» явлениями и событиями — это было уже давно замечено критикой и еще в начале 90-х годов вызвало раздражение Михайловского.
Характерно, что именно эту черту чеховского повествования отметил и Горький, разумеется, отметил ее с глубоким сочувствием, видя ее неразрывную связь со всей системой реализма Чехова. «...речь его, — писал Горький по поводу рассказа «В овраге», — всегда облечена в удивительно красивую и тоже до наивности простую форму, и эта форма еще усиливает значение речи».2
Действительно, во многих рассказах речь Чехова становится простой до «наивности». Одинаково ровным, эпическим тоном рассказывает он о мелочах быта, о повседневных делах людей и о потрясающих жизненных драмах — например, о зверском убийстве ребенка в рассказе «В овраге».
«Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.
- 401 -
«После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо».
«Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой» (IX, 406).
Никакого проявления авторской взволнованности, никакого психологического анализа материнского горя или душевного состояния убийцы, минимум эмоциональных подробностей, спокойная конструкция фразы, рассчитанная на точную передачу событий в их последовательности («сказавши это», «после этого» и т. п.), удивительная простота в синтаксической связи предложений, напоминающая старинные тексты («и не верилось», «и на дворе») — всё это образует ощущение простоты, доходящей до особой, мудрой «наивности».
«Наивность» чеховской речи, которую так проницательно подметил Горький, связана еще и с тем, что Чехов нередко как бы передает свой голос простому, наивному человеку. Иной раз это ребенок, как в «Степи», иной раз это человек из народа, как в очень многих рассказах Чехова, иной раз это интеллигентный человек с чистым сердцем, остро чувствующий ненормальность мира.
Многие писатели пользуются приемом несобственно-прямой речи для более глубокого раскрытия внутреннего мира героя и приближения его к читателю. У Чехова этот прием имеет другое назначение. Чехов как бы солидаризуется со своим героем в самом главном, в самом важном для человека и потому сливает свою речь с внутренней речью героя. В рассказе «Горе» (1885) читаем: «И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете все быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уже готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она умерла» (IV, 94). Здесь внутренняя речь героя вполне выражает мысль и настроение автора. В «наивности» своей токарь Григорий Петров размышляет о коренных вопросах жизни: о том, как она уродливо сложилась, о том, что нужно жить иначе. «Жить бы сызнова», — думает токарь, и так же думает автор.
На фоне простого повествования, иной раз вполне прозаического, будничного, огромное впечатление производят лирические взлеты автора, своеобразные стихотворения в прозе, выражающие предвосхищение иной жизни: «Мне страшно хочется... чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный» (VIII, 226). Или «...как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью» (IX, 400).
10
Новизна реалистического метода Чехова с большой силой сказалась в его рассказах о деревне. Писатели-народники, отчасти и Лев Толстой, подходили к изображению деревни с надеждой увидеть там некие высшие моральные «устои», противостоящие общему строю современной жизни. Чехов же подошел к изображению деревни со своей обычной меркой, чтобы показать, что в деревне, как всюду, действуют одни и те же законы испорченной жизни, что и там господствуют «пустяки и мелочи», что и там жизнь противоестественна и нелепа до фантастичности и что там,
- 402 -
как всюду, неизбежны предчувствия счастья и полного обновления испорченной жизни.
В рассказах «Мужики» (1897) и «В овраге» (1900) Чехов показал разорение деревни, отданной, как говорил В. И. Ленин в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции», «на поток и разграбление капиталу и фиску»,1 он показал расслоение деревни, выделение кулачества, эксплуатирующего массу деревенского населения. В этом отношении он примкнул к своим предшественникам — Гл. Успенскому, Л. Толстому и народническим писателям 70—80-х годов. Своеобразие же Чехова заключалось в том, что, в отличие от своих предшественников, он придал этим фактам такое же значение, как и другим фактам и обстоятельствам, делающим современную жизнь в любом ее круге неразумной, странной и «убыточной», и не выделял их особо. Он ввел деревенское неустройство в русло общего несправедливого, жестокого общественного уклада.
Крестьяне по своим нравственным понятиям не выше, а, быть может, еще ниже своих городских собратьев, да и странно было бы ожидать, чтобы люди, задавленные нуждой больше других, жили бы совершенно по-иному. Их также подчинил своей тупой власти сложившийся обиход, вплоть до традиционного чаепития, ставшего в глазах Чехова как бы одним из типических выражений житейской обиходной непорядочности. Только крестьяне проделывают это в специфически деревенских формах.
«По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала» (IX, 200).
В этом маленьком эпизоде Чехов видит отражение всего уклада деревенской жизни с ее специфически деревенской лютой нуждой (суп из селедочной головки) и общей для всех пошлостью бытовых форм (традиционное, чуть ли не ритуальное чаепитие).
Подобно тому, как при изображении городской жизни Чехов часто с недоумением останавливался на привычном для всех, узаконенном пустословии, так при изображении деревенской жизни с тем же удивлением указывает он на столь же привычное и узаконенное деревенское сквернословие.
«Ее <Ольгу> удивляло, что брань слышалась непрерывно, и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели» (IX, 201).
Словом, всё то же и всё не то, чем могло и должно было бы быть, — вот что говорит Чехов о деревенской жизни и так же, как и в других своих рассказах, с деревней не связанных, он вводит мотив близости счастья и ожидания иной, «прекрасной жизни», резко контрастной тому, что представляет собою жизнь нынешняя, изображенная в рассказе. Кругом чудится «очарование счастья», но стоит только оглянуться на деревню, как это очарование исчезает в одно мгновенье. «Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься!» (IX, 197). Словами «какое прекрасное утро» Чехов и ограничивается, создавая картину природы в «Мужиках». Здесь, как и вообще в своем творчестве, он не дает развернутого пейзажа, а говорит о нем в нескольких словах, стремясь только подчеркнуть красоту и величие природы, контрастирующей с низменностью и убожеством жизни людей. Отказ от развернутого изображения природы —
- 403 -
сознательный принцип его эстетики. В феврале 1893 года, говоря в одном из писем о Тургеневе, Чехов замечает: «Описания природы хороши, но... чувствую, что мы уже отвыкаем от описания такого рода и что нужно что-то другое» (XVI, 32). При помощи пейзажа Чехову и нужно было прежде всего передать ощущение реальной возможности «прекрасной жизни на этом свете», как он это и делает в «Мужиках».
Примитивность форм деревенской жизни еще яснее подчеркивает в этом рассказе уклонение жизни от «нормы», и поэтому каждый намек на приближение к норме начинает походить на некое чудо, на сказочное явление. Когда в рассказе «В овраге» кроткая Липа несет ночью из больницы умершего младенца и встречные крестьяне жалостливо глядят на нее и говорят ей простые человеческие слова, она принимает этих крестьян за святых, и они не удивляются такому предположению, а лишь простодушно поправляют ее: «Нет, мы из Фирсанова». И в этот момент опять наступает характерное для Чехова преображение действительности, предвещающее «очарование счастья», которое опять-таки «в одно мгновение» исчезает на глазах у читателя.
Простая жизнь, простые люди, примитивные и ясные отношения между ними, бо́льшая наглядность жизненных несообразностей дали Чехову возможность выразить свое ощущение глубокой неестественности существующего уклада и неизбежности иной жизни с особенной очевидностью и простотой. Именно в этом заключался для Чехова главный интерес и особая значительность деревенской темы, а вовсе не в том, чтобы противопоставить жизнь деревни как низшую по своему типу жизни города как высшей. В таком именно смысле пытались истолковать «Мужиков» Чехова легальные марксисты, прежде всего П. Б. Струве, представлявший в своих статьях Чехова почти что своим единомышленником, апологетом капиталистического города. Чехов, разумеется, от этого был очень далек, и если городская семья Николая Чикильдеева ужасается скудости деревенской жизни и этим как бы возвышается над ней, то это происходит только потому, что несправедливость и непорядочность деревенской жизни по примитивности своих форм более очевидна, чем какая-либо другая, а вовсе не потому, что она по типу своему ниже городской. Деревенские формы жизни в глазах Чехова — только наиболее наглядное выражение сущности современного жизненного уклада. Изображая кулацкое гнездо («В овраге»), Чехов далек поэтому от обычного для народнической литературы дешевого морализирования: он понимает, что кулачество появилось в результате сложных и запутанных общественных отношений, сложившихся независимо от воли людей.
В деревне, показывает Чехов в своих рассказах, растет глухая вражда, и в душах крестьян накапливается тяжелая злоба против врагов крестьянского мира — чиновников, господ и деревенских богатеев. «Чтоб их ро́зорвало!» — восклицает солдатка Фекла о девушках из господского сословия. Когда из избы Чикильдеевых выносят отобранный за недоимки самовар, бабка, свирепая и страшная, бежит за уносящими и, задыхаясь от злобы, кричит, как настоящая бунтовщица: «Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитеся!» (IX, 214). Во время свадебного гулянья по адресу кулаков Цибукиных несутся возгласы: «Насосались нашей крови, ироды, нет на вас погибели!» (IX, 389). Но и этого рода факты также представляли собой для Чехова лишь симптом испорченной жизни, а не залог ее возможного изменения. Задача изобразить жизнь в виде «огромного, страшно спутанного клубка» преобладала у Чехова над задачей найти силы и средства, которые могли бы этот клубок распутать.
- 404 -
11
Новаторские черты в реализме Чехова, ясно сказавшиеся в его повествовательной прозе, проявились также и в драматургии. К драме Чехов обратился еще в юношеские годы. Известно, что он написал большую пьесу «Безотцовщина», не дошедшую до нас под этим названием. Сохранилась также другая пьеса без заглавия, тематически, повидимому, связанная с «Безотцовщиной». Проблема «отцов и детей», очевидно, составлявшая главное содержание «Безотцовщины», входит составной частью и в пьесу без названия. Там содержатся намеки на столкновение двух поколений: Платонов порвал с отцом; Трилецкий-сын презрительно третирует своего идеалиста-отца, и только сын кулака Венгеровича не противопоставляет себя старшему поколению. Но основное содержание юношеской драмы развертывается в стороне от темы «отцов и детей». В центре драмы — новое поколение, представленное Платоновым, поколение, опустившееся, безвольное и социально ущербное, растратившее свои силы в болтовне и любовных похождениях. По характеру своему это драма традиционного типа, с традиционным героем, персонифицирующим целое поколение, к тому же в ней ясно сказывается влияние на молодого Чехова мелодраматических эффектов.
Новаторские черты вырисовываются, однако, и в этой юношеской пьесе, они сказываются прежде всего в новых принципах ведения действия. Диалоги, воспроизводящие повседневную, бытовую, домашнюю, так сказать «комнатную» речь, рассчитанные на впечатление полной жизненности без театральных условностей, звучат дерзким вызовом узаконенным принципам театральной, препарированной речи, основанной на сцеплении реплик, специально отобранных к тому же для развития сюжета и искусно обслуживающих потребности драматического движения. С этим новаторским заданием юный Чехов явно не совладал: увлекшись разработкой подчеркнуто «ненужных» для театрального действия разговоров, он создал пьесу настолько громоздкую и неуклюжую, что представление ее на сцене оказалось физически невозможным; ее нужно было бы играть примерно три вечера.
Во второй половине 80-х годов Чехов написал ряд водевилей, точнее — одноактных комедий, по идейному содержанию и характеру комизма перекликающихся с его юмористическими рассказами, а иногда и по сюжету восходящих к ним. В водевилях и шутках проявилось блестящее мастерство Чехова-драматурга и его новаторские устремления.
В одноактных комедиях Чехова, таких, как «Медведь» (1888) и «Предложение» (1888), всё стремится к развязке, всё находится в движении, каждое ружье стреляет, по выражению самого Чехова. Известны требования, которые он ставил водевилю и которые осуществил полнее всего именно в названных пьесах: «1) сплошная путаница, 2) каждая рожа должна быть характером и говорить своим языком, 3) отсутствие длиннот, 4) непрерывное движение» (1887). Второе требование — требование бытовой характерности — шло вразрез с водевильной традицией, как она сложилась к 80-м годам, Чехов же осуществлял его неуклонно и этим обновлял одряхлевший и измельчавший жанр сценической шутки. Характерно, что в дальнейшем Чехов начинает отказываться и от своего четвертого требования — непрерывности движения. В более серьезных его комедиях, вроде «Свадьбы» (1889—1890) и отчасти «Юбилея» (1891), стремительность действия уже слабеет, появляются «длинноты», речи действующих лиц больше служат целям характеристики среды, чем развитию сюжета, традиционная
- 405 -
водевильная театральность терпит явный ущерб, а в монологе «О вреде табака» (2-я редакция) сходит на нет. Так, стремясь внести и в водевиль жизнь в ее будничном течении, а не в специально избранных необычных эпизодах, Чехов вольно или невольно начал разрушать даже такую твердыню чистой театральности, как водевиль.
Однако подлинное новаторство Чехова-драматурга проявилось не в комедиях-шутках, а в пьесах с серьезной общественно-политической тематикой, во главе которых стоит знаменитая драма «Иванов» (1887). В «Иванове» Чехов возвращается к герою, напоминающему Платонова из пьесы без названия, к типу «лишнего человека» 80-х годов. Точнее, в «Иванове» выведены два общественных типа, характерных для этого времени: один — разочарованный «нытик», разъеденный специфическим «гамлетизмом» 80-х годов, другой — честный эпигон шестидесятников, и оба отвергнуты. Один осужден за дряблость натуры, за «рыхлый мозг», другой — за «деревянную честность»; оба они, по-своему, люди искренние и порядочные, и тем не менее ни один из них не выдерживает испытания жизнью, им обоим чуждо трудное искусство непосредственного и самобытного отношения к ее сложностям и загадкам. Приведенные выше слова Саши Лебедевой «Ах, господа! Все вы не то, не то, не то!..» могут быть отнесены одинаково к Иванову и Львову, хотя сказаны и не по их адресу. В финальной сцене Саша говорит резкие слова осуждения обоим антагонистам, и для Чехова эти слова имеют силу окончательного приговора. Нужно, правда, отметить, что Чехов с большей снисходительностью относится к Иванову, чем к Львову, потому что Иванов сумел сам осудить и казнить себя. За это, хотя и условное, предпочтение Чехову пришлось выслушать справедливые упреки демократической критики и тенденциозные похвалы правого лагеря. Но, разумеется, не в установлении оттенка в отношениях к Иванову и Львову главный смысл пьесы, а в осуждении того и другого, как людей ненастоящих, живущих безрадостной жизнью и мыслящих по шаблону.
В письме к Суворину от 30 декабря 1888 года Чехов подробно останавливается на этой пьесе и дает такую оценку своим героям: «Иванов, дворянин, университетский человек, ничем не замечательный; натура легко возбуждающаяся, горячая, сильно склонная к увлечениям, честная и прямая...» (XIV, 268).
Бесплодность прожитой Ивановым жизни Чехов объясняет отчасти условиями русской социальной действительности, но вместе с тем он не снимает с героя его личной вины за бесполезно прожитую жизнь, за то, что он «едва дожил до 30—35 лет, как начинает уж чувствовать утомление и скуку» (XIV, 269). Чехов подчеркивает также, что всякие рациональные хозяйства, либеральные речи и письма никогда не выведут человека на дорогу настоящей общественной деятельности, которая могла бы заполнить жизнь, сделать ее осмысленной и полезной. Еще более сурово судит Чехов в этом же письме о Львове: «Все, что похоже на широту взгляда или на непосредственность чувства, чуждо Львову. Это олицетворенный шаблон, ходячая тенденция» (XIV, 271).
В «Иванове» Чехов отказался от излишеств своей ранней драматургической поэтики, он сконцентрировал действие вокруг главного героя, именем которого названа пьеса, строго отобрал элементы бытовой речи в пропорциях, необходимых для развития действия, и этим преодолел юношескую неудачу. В «Иванове» намечаются уже новые сценические черты, появляется особая тонкость и сложность в изображении внутреннего мира персонажей, возникают художественные особенности, предвещающие
- 406 -
поэтику новой драмы, которую Чехову еще предстояло разработать. Диалог в «Иванове» иногда строится таким образом, что действующие лица с трудом поддерживают реплики своих собеседников и в это время как бы прислушиваются к тому, что происходит в их душевной глубине.
Так, в первом действии Анна Петровна разговаривает с доктором Львовым, задает ему вопросы, поддерживает внешний разговор, но почти не слушает собеседника и думает вслух о своем. Львов произносит одну из своих обличительных тирад; Анна Петровна, не вникая в смысл его слов, воспринимает только горячность тона, напоминающую ей интонации Иванова, некогда пленившие ее:
«Анна Петровна (смеется). Вот точно так же и он когда-то говорил... Точь-в-точь... Но у него глаза большие, и, бывало, как он начнет говорить о чем-нибудь горячо, так они как угли... Говорите, говорите!..» (XI, 29).
Львов, махнув рукой, обрывает разговор; Анна Петровна, отвлекшись от дорогих воспоминаний, так некстати возникших, реагирует уже на прямой смысл сказанных Львовым слов, и разговор только тогда вступает в обычную театральную колею и то ненадолго. Анна Петровна после паузы задает Львову вопрос, ничем не связанный с темой их беседы, возникший по какой-то случайной ассоциации мыслей: «Доктор, а братьев у вас нет?», и после его ответа: «Нет», — плачет, точно именно это слово причинило ей боль.
С внешне немотивированными словами иной раз идут рядом внешне немотивированные действия. В последнем акте граф Шабельский внезапно начинает рыдать. Его собеседник Лебедев только что сказал ему несколько резких слов, и можно было бы подумать, что Шабельский плачет от нанесенной ему обиды. Так понимает дело простодушный Лебедев, так и полагалось бы понимать по законам старой сценичности. Но дело не в этом, Шабельский плачет оттого, что он вдруг вспомнил умершую Сарру, а это воспоминание подействовало на него так сильно потому, что сплелось с ощущением собственного одиночества, ненужности, заброшенности, непоправимо испорченной жизни. Этот эпизод предвещает опять-таки характерную для зрелой драматургии Чехова новаторскую поэтику скрытых душевных движений, внезапно прорывающихся наружу.
В следующем драматическом опыте, в «Лешем» (1889), Чехов ставит перед собой задачу указать выход из того состояния жизненной неустроенности и всеобщего разброда, о котором он говорил в своих рассказах и пьесах. В этой пьесе ясно сказалось воздействие на Чехова идей Л. Толстого, его критики современного строя и его доктрины совести и всеобщей любви.
С одной стороны, Чехов сурово осуждает в этой пьесе хозяев современной жизни, людей состоятельных и образованных, за то, что они безжалостно губят радость и красоту человеческого существования. «...все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется; точно так вы безрассудно губите человека, и скоро по вашей милости на земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собой... Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга», — говорит Чехов словами Елены Андреевны («Леший», XI, 385—386).
С другой стороны, Чехов взывает к милосердию и осуждает своих героев за то, что в них мало любви и взаимного доверия. Так, умная и добрая Соня смотрит на всех окружающих недоверчивым, подозрительным взглядом. Незаурядный и интересный Хрущов, безукоризненно честный
- 407 -
и поэтически возвышенный в своей бескорыстной страсти к лесам, резко и грубо судит о людях и преследует несчастного Егора Петровича оскорбительными подозрениями.
Как же выйти из этого ненормального состояния, как сделать жизнь осмысленной и человечной? В «Лешем» Чехов дает на этот вопрос утопический, наивный ответ: люди должны понять противоестественность сложившихся между ними отношений, и всё сразу же примет иной вид; стоит только захотеть, и люди обретут утерянную человечность в личных отношениях: Елена Андреевна примирится с мужем, а тот поймет свою вину перед ней (второй вариант развязки «Лешего»); Соня перестанет смотреть на людей подозрительными глазами и соединится с Хрущовым; Хрущов перестанет видеть в людях злые побуждения и помирится с оскорбленной им Еленой Андреевной, а та с сердечной простотой протянет ему руку и забудет прежние обиды. Добрый Вафля получит все основания беспрерывно восклицать: «Это восхитительно!». Толчком к такой метаморфозе может послужить одно из тех несчастий, которые изменяют жизнь и мировоззрение человека (в данном случае — это самоубийство Егора Петровича).
Разумеется, такой ответ Чехова вполне и надолго удовлетворить не мог; он мог иметь для него только временное значение.
Отразив лишь временный эпизод в идейных поисках Чехова, пьеса «Леший» сыграла, однако, важную роль в развитии чеховского драматургического метода. Чехов усилил в «Лешем» новаторские черты и сделал заметный шаг к изменению самого типа пьесы. Прежде всего он вернулся к тому принципу ведения диалога, который был так широко и неумеренно использован в юношеской драме без названия. Речи и разговоры, необходимые для развития действия и для характеристики персонажей, в частности для их психологического самораскрытия, возникают в «Лешем» на равных правах с разговорами «случайными», «домашними». Это создает впечатление пестрого течения обыденной жизни, а не какого-либо значительного, специально избранного жизненного эпизода. Так, в 1-м действии Войницкий в разговоре с гостями в доме Желтухина обрисовывает свои взаимоотношения с профессором и его молодой женой, что и служит экспозицией действия. Но этот его рассказ вклинивается незаметно и без всякого нажима в общую застольную беседу, для этой экспозиции совершенно ненужную.
«Войницкий (Дядину): Вафля, отрежь-ка мне ветчины.
«Дядин: С особенным удовольствием. Прекрасная ветчина. Одно из волшебств „Тысячи и одной ночи“. (Режет). Я тебе, Жорженька, отрежу по всем правилам искусства. Бетховен и Шекспир так не умели резать. Только вот ножик тупой. (Точит нож о нож).
«Желтухин (вздрагивая): Вввв!.. Оставь, Вафля! Я не могу этого!
«Орловский: Рассказывайте же, Егор Петрович. Что у вас дома делается?
«Войницкий: Ничего не делается.
«Орловский: Что нового?
«Войницкий: Ничего. Все старо...» (XI, 370—371).
И далее следуют слова, вводящие зрителя в курс действия и подготовляющие появление Серебряковых.
Так, рисуя подчеркнуто будничные бытовые эпизоды, на первый взгляд совсем незначительные, заполненные пустяками, Чехов показывает бытовой колорит эпохи, воссоздает типические обстоятельства современного жизненного строя, в условиях которого думают, действуют и страдают его
- 408 -
герои. Задача Чехова не столько в том, чтобы рассказать историю этих героев, сколько в том, чтобы показать общий характер взаимоотношений между людьми. Поэтому роль главных персонажей значительно меняется по сравнению с пьесами старого типа. Правда, в «Лешем» Чехов еще не вполне расстается с фигурой центрального героя. В этом качестве выступает Хрущов («Леший»), но он далеко не имеет той господствующей роли, как, например, Платонов в юношеской драме или Иванов в пьесе, названной его именем.
Именем «лешего» новая пьеса названа бесспорно с меньшим основанием, чем предшествовавшая ей драма именем Иванова. Однако главная новизна в обрисовке Хрущова заключается не в его равноправном положении в кругу нескольких других персонажей, а в том, что он не укладывается в рамки известных и отстоявшихся типов; это человек, которого нельзя отнести к какому-либо привычному разряду людей. Чехов предвидит, что его новый герой может быть воспринят по-старинке, как один из старых типов, как персонаж, которого можно охарактеризовать каким-либо привычным социально-психологическим термином, и на протяжении всей пьесы настойчиво полемизирует с таким возможным истолкованием этого образа. Соня пытается отнести Хрущова к какой-либо из известных ей категорий, примеривая к нему то кличку «народника», то «фразера», и ни одна из них к нему не подходит; сам Хрущов решительно отвергает попытку приклеить к нему традиционный ярлык. Хрущов иронизирует над Соней, подходящей к нему с предвзятыми мерками, и вместе с Хрущовым сам автор иронизирует над своей героиней, заставляя ее упорствовать в стремлении понять «лешего» в духе привычного шаблона. «Он прекрасно говорит, — размышляет Соня, — но кто поручится мне, что это не фразерство? Он постоянно думает и говорит только о своих лесах, сажает деревья... Это хорошо, но ведь очень может быть, что это психопатия...» (XI, 398).
Человек сложен, говорит Чехов, он не укладывается в рамки нескольких затвердевших театральных амплуа, как не укладывается он в рамки нескольких прямолинейных и условных формул, в которые пытаются втиснуть всё многообразие человека либеральные публицисты с их рутинным мышлением и поверхностным взглядом на мир. Нужно внимательно разобраться во внутреннем мире человека, изучить его до мелочей, не ограничиваясь распределением людей по полочкам. Точно так же Чехов стремится к тому, чтобы та жизненная обстановка, в условиях которой живут современные люди, была изображена не в общих чертах, а глубоко и всесторонне, в крупных и мелких ее проявлениях.
Чехов стремился к тому, чтобы в искусстве жизнь была отражена в мельчайших, как бы случайных деталях, из совокупности которых должна возникнуть типическая картина жизненного уклада.
Стремление Чехова к воссозданию прежде всего типических обстоятельств жизни было замечено современной критикой. Так, рецензент «Театра и жизни», сравнивая «Лешего» с «Ивановым», писал: «По внутреннему содержанию своему „Иванов“ много ниже „Лешего“. Там — известный тип, тут целое общество, зараженное „повальной болезнью“» (1889, № 439). Отмечено было и связанное с этим изменение роли главного героя. С. Васильев в «Московских ведомостях» сетовал на Чехова за то, что тот «как будто опасается заняться одним лицом более нежели остальными: все действующие лица находятся на одной плоскости».1
- 409 -
А. Плещеев в письме к Чехову от 24 марта 1890 года также укорял драматурга в том, что «Леший» «не есть вовсе центральное лицо и неизвестно почему комедия названа его именем».1 Что касается необычной на сцене непринужденности разговоров, как бы «случайных», «домашних», то об этом писали почти все рецензенты, чаще всего с недоумением и осуждением.
Упомянутый выше С. Васильев с удивлением указывал на то, что все персонажи «неудержимо говорят, говорят все время, без умолку, не стесняясь, по-домашнему, только и делают, что говорят, говорят, все, что взбредет им на ум».
В журнале «Артист» эта особенность чеховского диалога была также замечена и также неодобрительно оценена: все «казусы» комедии, отмечал рецензент, «переплетены в массу семейных разговоров, крайне длинных и утомительных».2
Между тем все знали уже пьесы Островского, где действующие лица тоже говорят, «не стесняясь, по-домашнему». Но у Островского самая эта домашняя речь наделена чертами бытовой характерности. При помощи речи героев, хотя и простой, но резко своеобразной, блещущей яркими красками социальных диалектов, драматург создавал выразительные жанровые картины и сцены. Поэтому смысл и назначение домашних разговоров его героев сразу становились ясны зрителям. У Чехова не было таких заданий, как у Островского, поступки и разговоры его героев казались непривычными в своей простоте, доведенной до того предела, когда театр уже как бы переставал быть театром.
В литературе не раз отмечалось, что предшественником Чехова в области психологической драмы был Тургенев. В его комедиях, в особенности в «Месяце в деревне», сценический реализм достиг больших высот.
Сюжеты Тургенева просты, близки к жизни, герои его пьес — обыденные люди, их действия естественны, а разговоры непринужденны. В пьесах Тургенева люди часто говорят о самом обыкновенном, а в репликах отражаются их скрытые мысли и чувства, которые зритель должен был угадывать. Всё это уже предвещало чеховскую драматургию.
Однако между пьесами Чехова и Тургенева было существенное отличие, даже противоречие. Пьесы Тургенева при всей их сюжетной простоте насыщены внутренним движением. В них развертываются сложные психологические конфликты. Люди, изощренно эгоистические, запутавшиеся в собственных душевных тонкостях, нередко вступают в борьбу с людьми противоположного психического склада и друг с другом. Поэтому обыкновенный застольный разговор может у Тургенева незаметно перейти в тончайшую пикировку. Герои тургеневских пьес (Горский в «Где тонко, там и рвется», Ракитин и Наталья Петровна в «Месяце в деревне») ведут мастерски рассчитанную игру, обманывают своих противников, разгадывают их хитрые ходы, иногда одерживают победы, иногда терпят поражения, но всегда находятся в состоянии борьбы. Таким образом, внутреннее движение не ослабевает у Тургенева на всем протяжении пьесы.
У Чехова не было ни словесных поединков, ни той острой психологической борьбы, которая характерна для пьес Тургенева, в особенности для «Месяца в деревне», произведения с наибольшей ясностью выражающего
- 410 -
тенденции тургеневской драматургии. Внимательно учтя тургеневский опыт разработки психологической драмы, Чехов еще больше приблизил театр к жизни в ее обычном будничном течении. Дело не в том, что в его пьесах нет событий, они есть, даже резко драматические, как, например, самоубийства. Но не эти эпизоды в центре внимания, не вокруг них сосредоточено действие. Напротив, у Чехова больше всего захватывают зрителя те эпизоды, в которых как будто ничего не происходит. Это поразило современников и породило разговоры о том, что Чехов не хочет знать законов драмы. Толки эти были так единодушны, что на несколько лет отбили у Чехова охоту к серьезной драматургии.
Когда после значительного перерыва Чехов в середине 90-х годов, в период той идейной «возмужалости», о которой шла речь выше, вновь обратился к большой драме («Чайка»), перед ним в соответствии с общим характером его взглядов и настроений той поры встала задача перенести на подмостки прочно укрепившееся у него представление о коренной испорченности жизни, о ее запутанности и сложности, о необходимости ее обновления, а также о том, что пути этого обновления найти нелегко, потому что, как думалось Чехову, «никто не знает настоящей правды».
В основе «Чайки» лежит любовная история, обычная и простая до банальности, и в рамках этой подчеркнуто простой любовной истории обнаруживается необозримая сложность жизни, которая не может быть сведена к простому поучению, к дидактическому тезису. Все действующие лица — совершенно обыкновенные люди, и хорошие, и плохие одновременно, интересные и в то же время заурядные, не положительные и не отрицательные в обычном литературном или театральном смысле этого понятия. Все они счастливы и несчастны, все удачливы и все неудачники, каждый по-своему.
Треплев несомненно талантлив и чуток, но в то же время он несправедлив и завистлив; он считает себя новатором и сам видит в себе черты рутинера, он пробивает себе дорогу в литературу и всё-таки оказывается неудачником. Его антагонист Тригорин в соотношении с ищущим новых путей Треплевым может показаться ограниченным и самодовольным защитником обветшалых форм и течений в искусстве, в нем и в самом деле есть черты эпигона, но вместе с тем он оказывается требовательным и умным художником, он много и хорошо думает о коренных задачах искусства и предъявляет себе как писателю такие же строгие и важные требования, какие предъявлял себе Чехов. Аркадина как будто мелкая, тщеславная женщина, скуповатая, завистливая, поглощенная собой и своей славой, и в то же время ее страсть к театру возвышенна и благородна; при всем своем эгоизме она сердечно и просто относится к людям, нежно любит сына, которого беспрерывно обижает, и искренно сочувствует своему брату.
Так же, как характеры людей, сложны и запутаны при всей простоте и ординарности человеческие судьбы. Тригорин обманул молодую девушку, причинил ей большое страдание, но это же страдание вывело ее на большую жизненную дорогу с борьбой, неудачами и достижениями. Ее жизнь загублена и в то же время жизнь открыта перед ней, справится ли она с жизненной борьбой или погибнет, как Треплев, — это решит будущее. Точно так же остается неизвестным, справится ли Маша со своей безнадежной любовью к Треплеву (она надеется на это) или же после смерти Треплева ее жизнь будет окончательно изломана. Всё это должна разрешить сама жизнь, и Чехов не говорит от ее лица. Он только показывает, насколько современная жизнь сложна и трагична в своей запутанности.
- 411 -
Жизнь продолжается за пределами чеховской пьесы, и действие остается как бы незавершенным.
В. Ф. Комиссаржевская.
Фотография. 1890-е годы. С автографом.А. Ф. Кони, в числе немногих положительно оценивший «Чайку», в письме к Чехову специально отметил в качестве самой существенной особенности пьесы тот факт, что она «прерывается внезапно, оставляя зрителя самого дорисовывать себе будущее». «Так кончаются, — писал он, — или лучше сказать, обрываются эпические произведения».1 Это же, очевидно, чувствовал и сам Чехов, когда сказал о «Чайке»: «Вышла повесть».
Непонятое тогда новаторство «Чайки» привело к тому, что на первом представлении 17 октября 1896 года в Александринском театре в Петербурге она провалилась, даже несмотря на то, что в пьесе были заняты лучшие артистические силы: Комиссаржевская, Варламов, Давыдов и другие. В этом были виноваты не только актеры, все в основном плохо игравшие
- 412 -
(за исключением Комиссаржевской, о которой Чехов говорил, что «она играет изумительно»), но и режиссеры, не сумевшие понять пьесу, публика, привыкшая к традиционному репертуару. Провал пьесы в Петербурге огорчил Чехова, но не убил его веру и в «Чайку», и в свои силы как драматурга.
О своем настроении после премьеры Чехов рассказал в письме от 22 октября 1896 года: «После спектакля я ужинал у Романова, честь-честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, не издав ни одного жалобного звука... Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение, получил отказ и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему...» (XVI, 370).
Чехов верил в то, что «Чайка» будет впоследствии признана. И действительно, это произошло даже раньше, чем он мог рассчитывать. В. Ф. Комиссаржевская писала Чехову вскоре: «Сейчас вернулась из театра. Антон Павлович, голубчик, наша взяла! Успех полный, единодушный, какой должен был быть и не мог не быть!.. Ваша, нет, наша „Чайка“, потому что я срослась с ней душой навек, жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит».1
Но по-настоящему полно и глубоко сумел раскрыть новаторскую сущность «Чайки» только Московский Художественный театр, поставивший ее в конце 1898 года.
«Ну, вы, конечно, знаете о триумфе „Чайки“, — писал Горький Чехову в декабре 1898 года. — Вчера некто, прекрасно знающий театр, знакомый со всеми нашими корифеями сцены, человек, которому уже под 60 лет, — очень тонкий знаток и человек со вкусом — рассказывал мне со слезами от волнения: «Почти сорок лет хожу в театр и многое видел! Но никогда еще не видал такой удивительной еретически-гениальной вещи, как „Чайка“». Это не один голос — Вы знаете. Не видал я „Чайку“ на сцене, но читал, — она написана могучей рукой! А Вы не хотите писать для театра?!».2
Чехов вернулся к работе для театра, обогащенный опытом «Чайки», и следующая его пьеса была дальнейшим крупным шагом в развитии его драматургии.
В «Дяде Ване» (1897) Чехов еще более усиливает ощущение неустроенности жизни. По словам Горького, пьеса Чехова вызывает чувство «страха за людей, за нашу бесцветную, нищенскую жизнь».3 «Слушая Вашу пьесу, — писал Горький Чехову, — думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей и о многом другом, коренном и важном».4 Жизнь даровитых и скромных людей, достойных счастья, ушла на служение напыщенной бездарности, и этого уже ничем поправить нельзя; лучшие годы дяди Вани прошли даром, без смысла и цели. Кроткая и добрая Соня никогда не добьется личного счастья, а человек, ею любимый, доктор Астров, обладающий всеми задатками недюжинной натуры, опускается в уездной глуши, становится провинциальным чудаком, даже не без оттенка пошлости. Красота Елены
- 413 -
Андреевны не приносит счастья ни ей самой, ни другим людям. «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», — говорит Астров, а Елена Андреевна этим требованиям удовлетворить не может. Она живет праздной жизнью. «А праздная жизнь не может быть чистою». Все герои пьесы несчастны, за исключением бездарного Серебрякова и благоговеющей перед ним «старой галки» — либеральной барыни Марьи Васильевны. Все стремятся к счастью, мечтают о красоте жизни, много думают о ней и все с тоскою и отчаянием убеждаются, что счастья нет.
Программа первого представления пьесы
А. П. Чехова «Чайка» в Московском
Художественном театре. 1898.На протяжении всей пьесы герои Чехова погружены в размышления о самом важном: о счастье личном и общем, о неустроенности жизни, и это прорывается через те обычные слова, которые они произносят. Елена Андреевна рассуждает вслух о возможном браке Сони с Астровым, но эти слова не выражают ее затаенных мыслей. «Нет, это не то, не то», — перебивает она себя. Оказывается, что она думала в это время о своем собственном увлечении Астровым. Когда же она произносит слова об этом своем увлечении, в них опять чувствуется другая, более широкая мысль о полном счастье, о вольной жизни. «Улететь бы вольной птицей от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров, забыть, что все вы существуете на свете...» (XI, 221).
Соня взывает к своему отцу о милосердии, напоминает ему о том, что она с дядей Ваней работала на него «все ночи, все ночи», но за этим простым смыслом житейских слов и упреков вновь стоит более значительное содержание, которое она сформулировать не в состоянии. Этот более важный смысл ее слов относится опять-таки к иной жизни, с иными отношениями между людьми. «Я говорю не то, не то я говорю, но ты должен понять нас, папа» (XI, 230). Профессор Серебряков этого понять не в состоянии, но зритель новой чеховской пьесы должен это понять.
Такое же значение имеют иной раз и поступки чеховских героев, вроде выстрела Войницкого. Он сделал явно «не то», что ему самому нужно было, но это «надо понять» как выражение тоски, злобы, недовольства собой, как ощущение глубокого разлада между жизнью, какова она есть и какой могла и должна была бы быть. В «Трех сестрах» сестры мечтают о переезде в Москву, а на самом деле речь идет, разумеется, не
- 414 -
о перемене места жительства, а об изменении самого жизненного уклада. Простодушный Телегин в «Дяде Ване» говорит о том, что «давненько у нас лапши не готовили», и вдруг внезапно врываются в его речь созревавшие в это время в его душе слова о самом важном для него: «Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду я деревней, а лавочник мне вслед: „Эй, ты, приживал!“ И так мне горько стало» (XI, 232).
Так причудливый переход от самого мелкого к самому большому, от совсем незначительного к единственно важному подчеркивает, что герои Чехова постоянно погружены в смутные и неясные, но глубокие размышления о сущности жизни и человеческих отношений, о своем несчастье и о возможности полного счастья для человека.
Войницкий (в третьем действии) обещает принести Елене Андреевне приготовленные для нее розы, «осенние, грустные розы», и уходит за ними. Соня произносит последние слова дяди Вани («осенние розы, прелестные грустные розы»); вырывая их из контекста, она говорит эти слова, как стихи, и, возведя их в поэтическое достоинство, под музыку этих слов погружается вместе с Еленой Андреевной в размышление, внешне никак больше не выраженное. А знаменитая фраза Астрова в последнем действии о жаре в Африке служит лучшим примером выражения сложного комплекса мыслей и чувств при помощи любых слов, внешне совсем бессодержательных. Раньше (в юношеской драме, в «Иванове») герои Чехова вели разговоры, с точки зрения условной театральности «ненужные», не выражавшие их внутреннего мира. Теперь они стали говорить о самом важном, самом нужном, но не прямо, а косвенно. Так Чехов нашел разрешение противоречия между условно-театральными диалогами и домашней комнатной речью. Привести эти две стихии в равновесие ему прежде не удавалось. Теперь в «не тех» словах, т. е. в словах, косвенно выражающих внутренний, душевный мир, он нашел необходимое ему равновесие и тем завершил художественную систему новой драмы. «На-днях смотрел „Дядю Ваню“, — писал Чехову Горький в ноябре 1898 года, — смотрел и — плакал, как баба, хотя я человек далеко не нервный, пришел домой оглушенный, измятый Вашей пьесой, написал Вам длинное письмо и — порвал его. Не скажешь хорошо и ясно того, что вызывает эта пьеса в душе, но я чувствовал, глядя на ее героев: как будто меня перепиливают тупой пилой. Ходят зубцы ее прямо по сердцу, и сердце сжимается под ними, стонет, рвется. Для меня — это страшная вещь, Ваш „Дядя Ваня“ — это совершенно новый вид драматического искусства...».1
В «Трех сестрах» (1900—1901) продолжается та же тема «о жизни, принесенной в жертву идолу», о «вторжении красоты в нищенскую жизнь людей», о неизбежности изменения мира. В «Трех сестрах» уже раздаются слова о «здоровой, сильной буре, которая идет, уже близка», но эти героические слова произносит совсем не героический человек. Люди интеллигентные, мыслящие, в новой пьесе Чехова попрежнему бездеятельны, пассивны и не способны к изменению жизни, к борьбе за это изменение. Жизнь течет обычной чередой, разбивая мечты о счастье. Торжествуют «шершавые животные», как Наташа и Протопопов, а люди, подобные Вершинину или сестрам Прозоровым, оказываются побежденными грубой силой мещанства, но, полные великих предчувствий, они не теряют веры в лучшее будущее родной страны. С тревогой и волнением они думают и говорят о личном счастье в соотношении с общим смыслом жизни. Тузенбах убежден в том, что жизнь не имеет общего смысла, она следует своим
- 415 -
таинственным законам, которых человек изменить не может; он должен довольствоваться только своим личным счастьем, которое представляет для него единственную радость, реально существующую во все времена. Вершинин, напротив, говорит о недостижимости личного счастья для людей его времени и мечтает о счастье грядущих поколений: «И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье — это удел наших далеких потомков» (XI, 266—267). Его же поддерживает Маша, тоже не принимающая личного счастья вне общего смысла жизни: «Или знать для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава». Характерно, что в этом споре сторонник эгоистически понятой идеи личного счастья одновременно отстаивает и мысль о неизменности жизни. «Не то, что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была» (XI, 266). А его противники, возражая ему, говорят о необходимости и неизбежности коренных перемен. При всем своем жертвенном пессимизме они яснее чувствуют, куда идет жизнь. Правда, они только говорят о грядущих переменах, сами же они не в состоянии ничего сделать даже для изменения личной жизни, и в этом их трагедия. Они много и хорошо говорят о труде, но и труд для них не целесообразная деятельность, направленная на изменение мира, а некая жертва, которую они готовы принести неведомому и далекому будущему. Мечты, предчувствия, раздумья, надежды героев и в новой пьесе Чехова не всегда выражаются непосредственно и прямо. Сказать ясно и прямо о самом важном чеховские герои не могут отчасти из-за стыдливой деликатности, отчасти потому, что их мысли и чувства не поддаются логическому определению.
Дача А. П. Чехова в Ялте.
Принцип косвенного выражения сложного душевного мира героев достигает в «Трех сестрах» еще большего развития. В «Трех сестрах», как
- 416 -
и вообще в последних пьесах Чехова, люди часто уходят в себя, в свои мысли, скрытые за словами, явно для них посторонними и случайными. Так, Ирина в «Трех сестрах» задумчиво повторяет фразу, только что вычитанную в газете Чебутыкиным («Бальзак венчался в Бердичеве»), вкладывая в эту нелепую фразу какой-то ей одной понятный смысл. В «Вишневом саде» один из самых лирических эпизодов пьесы разработан таким необыкновенным способом: находящиеся на сцене персонажи самым прозаическим образом и вместе с тем с глубокой значительностью называют то, что они сейчас видят:
«Любовь Андреевна (задумчиво). Епиходов идет.
«Аня (задумчиво). Епиходов идет.
«Гаев. Солнце село, господа.
«Трофимов. Да» (XI, 334).
Погруженные в себя, герои чеховских пьес часто не реагируют на слова своих собеседников и как бы не слушают их, но вместе с тем они всё-таки чутко понимают друг друга, потому что, каждый по-своему, они думают об одном и том же — о смысле жизни, личной и общей. Вся поэтика чеховской драмы основана на том, что людям не нужно говорить в унисон, чтобы понимать друг друга. В последних пьесах Чехова бытовые темы возникают и потухают, перебивая одна другую, образуя пестрый, беспорядочный и как бы случайный поток внешней жизни. В этот бытовой поток из «подводного течения» пьесы врываются лирические возгласы, объяснения в любви, разговоры о смысле жизни, слова о счастье. В «Трех сестрах», в 3-м действии, сестры говорят каждая о своем, плача, перебивая и почти не слушая одна другую, но все они говорят о самом важном, и это одно ведет их к взаимному пониманию, самому сердечному и трогательному. Приходит брат Андрей и произносит заранее приготовленную «официальную» речь в оправдание Наташи, и тогда сестры действительно не слушают его, безошибочно понимая, что эта речь не выражает истинного существа его затаенных мыслей. Когда же эти мысли прорываются, он сам говорит о том, что его не следовало слушать: «Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте...». Значит, при внешней разобщенности чеховские герои в этой сцене глубоко и тонко понимают друг друга.
Это взаимное понимание персонажей чеховских пьес делает возможным внезапные разливы «подводного течения» в финале «Дяди Вани» и «Трех сестер». Тогда исчезают бытовые речи, пропадают недомолвки, паузы и слова — заместители скрытых чувств. Скрытое становится явным, и люди начинают говорить о прошлом и будущем счастье, о близости обновления мира, о наступающем конце житейских несообразностей. Эти монологи подчеркнуто литературны, декламационны. Течение пьесы прерывается, и люди полным голосом говорят о том, что раньше на протяжении всей пьесы выражалось намеками, недомолвками и паузами.
Новаторская драматургия Чехова, явившаяся продолжением традиций классической русской драматургии, равно противостояла театру символизма с его отрешенностью от жизни, реакционной проповедью «мифотворчества», культом узко личных переживаний. Драматургия Чехова, безгранично расширившая возможности раскрытия психологии людей, их внутреннего мира, воспроизводила переживания героев как типические, тем самым глубоко развертывая конфликты, возникавшие в действительности.
В драматических произведениях Чехов создал большое обобщение современной ему жизни, отразив ее общий тон и характер, ее уклад, ее повседневность, ее течение. Тема «Чайки», «Дяди Вани», «Трех сестер» в сущности
- 417 -
одна и та же: нескладная, убыточная жизнь, сознание невозможности жить попрежнему, бессилие изменить эту жизнь и предчувствие неизбежности, даже близости жизни иной. Одинаковы и герои этих пьес: они хороши и дурны одновременно, временами они возвышенны, глубоки и в то же время способны легко опускаться. Они невинные жертвы обстоятельств и в то же время они повинны в том, что легко и без борьбы склоняются перед силой житейских отношений.
«Три сестры». О. Л. Книппер-Чехова в роли
Маши. Московский Художественный
театр. 1902.Чехов осуждает своих героев за эту пассивность, за склонность мириться с обстоятельствами и собственным бессилием. Горький подчеркивал неоднократно эту черту в отношении Чехова к своим героям. «Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:
«— Скверно вы живете, господа».1
И чем яснее герои Чехова осознают, что они живут скверно, чем ярче расцветает у них предчувствие жизни иной, с иными отношениями и иными людьми, тем ближе они становятся автору. При всех своих слабостях, герои чеховских пьес — это люди предчувствий и ожиданий. Какова будет та жизнь, неизбежность наступления которой они чувствуют, — об этом драматург предоставляет делать заключение от обратного самим зрителям.
Чехов предъявил своему зрителю, а значит, и театру большие требования. Зритель должен был понять, о чем говорят герои Чехова в то время, когда они произносят ничего не значащие слова, и о чем они думают, когда молчат или когда не слушают друг друга. Чтобы это стало возможным, театр должен был дать почувствовать зрителям, что наряду с той жизнью, течение которой они видят на сцене, равноправной героиней чеховской пьесы является жизнь предчувствуемая, ожидаемая, которой
- 418 -
они не видят вовсе и которая, однако, так же реальна, как и жизнь, протекающая на сцене. Словом, театр должен был от настоящего перекинуть мосты в будущее. Это сумел сделать Московский Художественный театр. К. С. Станиславский понял, что в чеховской драматургии речь идет не только о Вершинине, Астрове и Прозорове, а и «о том Человеке, которому нужны не три аршина земли, а весь земной шар» и «о новой прекрасной жизни, для создания которой нам надо еще двести, триста, тысячу лет работать, трудиться в поте лица, страдать».1
«Три сестры». Сцена IV акта. Московский Художественный театр. 1902.
Таковы особенности драмы Чехова, как она сложилась в конце 90-х годов и в начале нового века. В «Вишневом саде» чеховская драма дополнилась новыми чертами.
12
Вторая половина 90-х годов и начало нового века ознаменовались в жизни Чехова некоторыми событиями и фактами, вносящими новые важные черты в его биографию.
В начале 1895 года 114 ученых, писателей и публицистов Петербурга и Москвы подали новому государю (Николаю II) петицию о стеснениях печати. Эта петиция была составлена в решительных тонах и начиналась с заявления о том, что «профессия литературная» поставлена в Российской империи «вне правосудия». «Мы, писатели, или совсем лишены возможности путем печати служить своему отечеству, как нам велит совесть и долг, или же вне законного обвинения и законной защиты, без следствия
- 419 -
«Дядя Ваня». Сцена I акта. Московский Художественный театр. 1899.
- 420 -
и суда, претерпеваем кары, доходящие даже до прекращения целых изданий».1 Подписи к этому прошению приложены были в алфавитном порядке с тем, чтобы нельзя было обнаружить «зачинщиков» в случае, если подача вызовет полицейские преследования. В числе подписавших петицию значилось и имя Чехова.2 Участие в прямой оппозиционной демонстрации — факт для Чехова необычный и, разумеется, не лишенный знаменательности.
Об оживлении политически оппозиционных настроений Чехова свидетельствовало и его отношение к нашумевшему в свое время во Франции и далеко за ее пределами делу капитана французской армии Дрейфуса, несправедливо обвиненного французской реакционно-антисемитской кликой в государственной измене. В защиту Дрейфуса выступил Эмиль Золя со страстным памфлетом «Я обвиняю», в котором доказывал виновность военного министерства, французского генерального штаба, а также и суда, незаконно приговорившего Дрейфуса за мнимую измену к пожизненной ссылке. Золя за это выступление был привлечен к суду и обвинен в оскорблении власти. Французские реакционеры обрушили на знаменитого писателя целый поток лживых и клеветнических измышлений, а к французским реакционерам присоединились и их русские собратья, причем особенно усердствовало в преследовании Золя суворинское «Новое время». Чехов, находившийся тогда во Франции, внимательно следил за делом Дрейфуса и пришел к твердому убеждению в его полной невиновности. Выступление Золя вызвало в нем горячее восхищение, а поведение «Нового времени» он воспринял как проявление вопиющей и разнузданно-грубой реакционности. «...Новое Время, — писал он брату 5 февраля 1899 года, — производит отвратительное впечатление. Телеграмм из Парижа нельзя читать без омерзения, это не телеграммы, а чистейший подлог и мошенничество... Это не газета, а зверинец, это стая голодных, кусающих друг друга за хвосты шакалов, это чорт знает что!» (XVIII, 64—65).
Решительное осуждение позиции «Нового времени» высказал Чехов и в письмах к Суворину. Суворин писал о том, что Золя не к лицу роль Вольтера. Чехов возразил на это: «Да, Золя не Вольтер, и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек в том, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мультановских язычников и спас их от каторги». «И какой бы ни был приговор, — писал Чехов 6 февраля 1898 года о суде над Золя, — Золя все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость и умрет он с покойной, или по крайней мере облегченной совестью» (XVII, 229). В этих последних словах Чехова, обращенных к старику Суворину, можно видеть прямой укор своему корреспонденту, прямой намек на то, что его старость не может быть признана «хорошей» и его совесть не будет покойна перед лицом смерти.
После этого объяснения отношения Чехова с Сувориным окончательно разладились. «Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что он любит военных, — не хочу, потому что все это мне уже давно наскучило», — писал Чехов своему брату Александру 23 февраля 1898 года (XVII, 235). Дружба Суворина потеряла для Чехова отныне всякую цену. Что касается сотрудничества в «Новом времени», то оно прекратилось еще раньше.
- 421 -
А. П. Чехов.
Фотография. 1901. С дарственной надписью А. Ф. Кони.
- 422 -
1898 год принес Чехову блестящий триумф его «Чайки» в Московском Художественном театре. Теперь писатель был вполне вознагражден за прежнюю неудачу пьесы. Он крепко связал свою судьбу драматурга с Художественным театром и завязал интимно-дружеские отношения с его актерами и замечательными руководителями, что не мешало, впрочем, Чехову иной раз расходиться с «художниками» в трактовке собственных пьес.
В том же 1898 году началось знакомство Чехова с Горьким, знакомство сначала заочное. Чехов, заинтересованный произведениями Горького, просил В. С. Миролюбова, издателя «Журнала для всех», прислать ему книги молодого писателя. Это дало повод Горькому обратиться к Чехову с письмом. «Собственно говоря, — писал он, — я хотел бы объясниться Вам в искреннейшей горячей любви, кою безответно питаю к Вам со времен младых ногтей моих, я хотел бы выразить мой восторг перед удивительным талантом Вашим, тоскливым и за душу хватающим, трагическим и нежным, всегда таким красивым, тонким».1 С этого времени между Чеховым и Горьким началась переписка. Чехов ответил Горькому на одно из его писем этой поры (конца 1898 года) таким суждением о его таланте: «Вы спрашиваете, какого я мнения о Ваших рассказах... Талант несомненный и при том настоящий, большой талант. Например, в рассказе „В степи“ он выразился с необыкновенной силой, и меня даже зависть взяла, что это не я написал. Вы художник, умный человек. Вы чувствуете превосходно. Вы пластичны, т. е. когда изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками. Это настоящее искусство. Вот Вам мое мнение, и я очень рад, что могу высказать Вам его. Я, повторяю, очень рад, и если бы мы познакомились и поговорили час другой, то Вы убедились бы, как я высоко Вас ценю и какие надежды возлагаю на Ваше дарование» (XVII, 375). В следующем году в Ялте писатели впервые встретились и их отношения стали сердечными и близкими. С именем Горького связано громкое общественное выступление Чехова.
В 1900 году Чехов был избран почетным членом Академии Наук, в 1902 году этой же чести был удостоен Горький. Чехов сообщил это известие Горькому и первый поздравил его. Однако по распоряжению царя избрание Горького было объявлено Академией Наук недействительным, и Чехов, вместе с Короленко, в знак протеста вернул свой академический диплом. В заявлении Чехова на имя президента Академии великого князя Константина Константиновича были такие строки: «...в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст. выборы признаются недействительными; причем было точно указано, что это извещение исходит от Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признал выборы недействительными — такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог... И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно покорнейше просить Ваше Императорское Высочество о сложении с меня звания почетного академика» (XIX, стр. 324). Отказ Чехова от академического звания был воспринят как протест передового писателя против самодержавного произвола.
В 1901 году Чехов женился на артистке Московского Художественного театра Ольге Леонардовне Книппер, но из-за жестокой чахотки, первые симптомы которой обнаружились у него еще в 1884 году, вынужден
- 423 -
был жить в разлуке с женой: она была связана с Москвой, Чехов же по совету врачей должен был поселиться в Ялте. На ялтинский период падает большая работа Чехова по подготовке собрания своих сочинений. В 1899 году он продал свои сочинения А. Ф. Марксу и по 1901 год занят был отбором своих произведений и тщательной стилистической обработкой многих своих вещей, в особенности ранних.
К. С. Станиславский.
Фотография. 1901.Исторические события, свидетелем которых был Чехов в последние годы жизни, глубоко захватили его. Русско-японская война и начавшееся революционное брожение в стране вызывали у Чехова такой страстный интерес, такое напряженное внимание, что многие добрые его знакомые не узнавали в нем прежнего Чехова. С. Елпатьевский рассказывает в своих воспоминаниях, как весной 1904 года Чехов восторженно расспрашивал его «не о литераторах и не о свежих литературных новостях, которыми всегда преимущественно интересовался, — а о том, что говорилось и чувствовалось на Пироговском съезде врачей в Петербурге, о том, что делается в союзе „Освобождение“, какое настроение в передовых общественных кругах Москвы и Петербурга, когда и как ждут падения старого строя и какие
- 424 -
меры к тому принимаются». Сравнивая всё это с прежними настроениями Чехова, Елпатьевский вспоминает, «как быстро уставал и как скучал он так недавно от разговоров на политические темы, как называл меня оптимистом, когда я начинал говорить ему о глубоком сдвиге, о коренном изменении мыслей и чувства в низших и средних слоях населения. Теперь выходило, что я скептик, и не я его, а он меня убеждал, что все скоро, очень скоро образуется...».1
«По мере того, как сгущалась атмосфера и дело приближалось к революции, — свидетельствует о Чехове К. Станиславский, — он становился все более решительным».
«В художественной литературе конца прошлого и начала нынешнего века он один из первых почувствовал неизбежность революции», — писал Станиславский в 1925 году и продолжал далее: «Человек, который задолго предчувствовал многое из того, что теперь совершилось, сумел бы понять все, предсказанное им».2
Но Чехову не удалось дожить до революционных событий. 2 июля 1904 года он умер вдали от родины, на немецком курорте Баденвейлер, куда за три недели до смерти приехал на лечение. 9 июля Чехов был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
13
Новые общественные настроения, обозначившиеся у Чехова в конце 90-х годов и в начале XX столетия, сказались и в его творчестве. В этом отношении особенный интерес представляет группа рассказов 1898 года: «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви», своеобразная чеховская трилогия, объединенная не сюжетно, а фигурами собеседников, рассказывающих друг другу о различных жизненных случаях, имеющих общий смысл.
Вся трилогия проникнута единой мыслью: «Нет, больше жить так невозможно».
Больше так жить невозможно прежде всего потому, что люди лишены свободы и элементарных человеческих прав. Люди боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте, устраивать домашние спектакли, есть скоромное — боятся всего, живут в судорожном страхе. Образ Беликова показывал, что реакционная сила, угнетающая людей, мелка и низменна, труслива и умственно убога. Человек в калошах и с зонтиком держит в подчинении целый город, и его тлетворное влияние основано только на силе страха самих повинующихся. Это род гипноза, стоит только сбросить его, и жизнь изменит свои формы. В «Человеке в футляре» Чехов, вскрывая сущность реакции, как бы обращается к людям с призывом к неповиновению, и это новая черта его творчества. «Видеть и слышать, как лгут... и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена — нет, больше жить так невозможно!» (IX, 265). Чехов говорит об активном сопротивлении угнетателям, взывает к гражданскому мужеству и заставляет
- 425 -
своих героев произносить такие решительные, жесткие, как будто нечеховские слова: «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие» (IX, 264).
Вл. И. Немирович-Данченко.
Фотография. 1900-е годы.Такой же характер приобретает и чеховское повествование в «Крыжовнике». Опять рассказывается частный и мелкий случай, опять о человеке в футляре, другом и более безобидном, а выводы формулируются очень широкие, с яркой социально-политической окраской и с прямыми призывами к возмущению.
«Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился» (IX, 273).
Как в «Человеке в футляре», так и в «Крыжовнике» сила социально-политического зла основана на молчаливой покорности угнетенных и несчастных, покорности, доходящей до гипнотической зачарованности сложившимся порядком и узаконенными формами жизни: «...несчастные несут свое бремя молча... Это общий гипноз». Тот же самый человек, который в «Человеке в футляре» сказал о необходимости похоронить беликовых, произносит аналогичные слова и здесь, только в еще более решительном тоне: «Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких
- 426 -
соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам, или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!» (IX, 274).
Так формулируется — впервые с такой ясностью у Чехова — отказ от идеи «естественных» изменений и утверждается необходимость немедленных и решительных исторических действий. Важно также и то, что у героев Чехова эти идеи появляются не как импульсивный порыв, не как юношеское увлечение, а как мысли зрелые, глубоко продуманные и выстраданные, явившиеся в результате отказа от шаблонного либерального постепенства. «Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать?» (IX, 274). Так сам Чехов подчеркивает, что тот строй мыслей и чувств, который появился в трилогии, представляет собою нечто принципиально новое, отличное от того, что было раньше.
Что же мешает людям вступить на путь коренного изменения жизни? Приверженность к личному счастью, к эгоистическому довольству. «Счастья нет и не должно его быть, — говорит Иван Иванович, призывающий к немедленным переменам, — а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом» (IX, 274). Вопрос социально-политический переходит в этическую плоскость, и этот этический аспект всё той же великой проблемы изменения жизни разрабатывается в третьей части чеховской трилогии — в рассказе «О любви». Там оказывается, что и в любви стремление к личному счастью не может служить прочной основой человеческого поведения даже в том случае, если это стремление лишено грубо эгоистического смысла, даже если оно принимает форму самой чистой заинтересованности в личном счастье другого существа. Третий рассказчик, введенный в трилогию, — Алехин боялся нарушить счастливое течение жизни близких ему людей и тем вернее составил несчастье свое собственное и Анны Алексеевны, в которую он был влюблен. Равным образом и Анну Алексеевну мучил вопрос, принесет ли ее любовь счастье Алехину, не осложнит ли она его жизнь, и без того тяжелую, и это, как оказывается, также было ошибкой и невольной уступкой сложившемуся строю человеческих отношений, основанных на одной только заботе о личном счастье, своем собственном или, что почти то же самое, на заботе о счастье близких себе людей.
Как у Ивана Ивановича в «Крыжовнике» наступил кризис, приведший его к переоценке своих социально-политических догм, устарелых и консервативных, так у Алехина в рассказе «О любви» тоже наступает кризис, приводящий его к отказу от моральных подпорок той же консервативной системы взглядов и чувств. «Я понял, — говорит он, — что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе» (IX, 284). Боязнь несчастий ведет к высшему и самому полному несчастью — к неизменности
- 427 -
жизни, к застою, к футлярному существованию. Боязнь перемен — такова основа всего современного зла.
«Невеста». Корректура второй редакции с правкой А. П. Чехова. Конец мая — начало
июня 1903 года.Радостный мотив близкого изменения жизни, назревающего обновления звучит и в одном из последних рассказов Чехова «Архиерей» (1902). На первый взгляд это обычный чеховский грустный рассказ о нескладной жизни недюжинного одаренного человека, которого «мелкое и ненужное угнетало... своею массою». Однако традиционная чеховская тема разработана в этом рассказе необычно: действие происходит на пасху, в праздник воскресенья, на фоне радостного пейзажа, когда «все было кругом приветливо, молодо, так близко, все — и деревня, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда» (IX, 417). Преосвященный Петр на протяжении рассказа много раз смеется и плачет от радости и с умилением воскрешает в своем воображении трогательные картины детства. Кругом много печального, тяжелого, и строптивый отец Сысой имеет полное основание восклицать: «Не ндравится мне это!», а между тем весь рассказ проникнут праздничным настроением, и, умирая, много думавший и переживший человек видит обновление своей жизни. Ему чудится, «что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая
- 428 -
палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!» (IX, 430).
Возможность порвать с прежней жизнью и «идти куда угодно» — в этом видит теперь Чехов самое большое благо и даже первую обязанность человека. В рассказе «Случай из практики» доктор Королев говорит: «Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть.
«— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.
«— Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут.
«— Куда уйдут?
«— Куда?.. Да куда угодно, — сказал Королев и засмеялся. Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку» (IX, 313—314).
Но в этом рассказе никто никуда не уходит: ни Лиза, ни проповедник этого «ухода» доктор Королев. Зато в последнем рассказе Чехова «Невеста» (1903) героиня решается порвать с прежней жизнью, бросает всё и «уходит» в Петербург, на курсы. В. Вересаев рассказывает в своих воспоминаниях, что, прочитав «Невесту» в корректуре, он понял рассказ так, будто Надя уходит в революцию. Чехов не опроверг такого понимания, хотя в его рассказе об уходе в революцию прямо ничего не сказано. Дело, однако, в том, что у Чехова уход героини из дома, ее разрыв с прошлым воспринимается только как первый шаг на пути к новому. Перед героиней Чехова открываются широкие жизненные просторы, и даже тот, кто был ее учителем и толкнул ее на новый путь, — студент Саша, — даже и он остается позади. Его роль сыграна, он сделал свое дело, нужное и важное, но он остается в прошлом; будущее принадлежит не ему и ему подобным, а его ученице и другим новым людям, которые пойдут дальше добрых и бескорыстных мечтателей прошлого поколения.
Критика отметила необычайный для Чехова мажорный тон его последнего рассказа и указала на то, что в «Невесте» нет никакой тревоги за будущее героини, нет ни одного скептического штриха. «Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно» (IX, 444), — говорит в этом рассказе Саша, имея в виду личную жизнь Надежды, а Чехов придает этим словам широкий и общий смысл. Таковы новые ноты, зазвучавшие в последнем чеховском рассказе.
Эти новые настроения пронизывают и последнюю пьесу Чехова «Вишневый сад». На первый взгляд это опять-таки обычная чеховская пьеса, дающая картину нелепой, нескладной жизни. Нелепости, крупные и мелкие, начинаются сразу после поднятия занавеса и проходят через всё действие. Лопахин приехал встречать гостей и проспал поезд. Появляется Епиходов — «двадцать два несчастья», это уже воплощенная нелепость. Из реплик Ани выясняется нелепая жизнь Раневской в недавнем прошлом: одна, в Париже, среди чужих людей, какой-то патер, кругом неуютно, накурено. Входит Шарлотта с нелепыми словами: «Моя собака и орехи кушает». Обрисовываются странные, нелепые отношения Вари с Лопахиным: «Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, все как сон». Следует сцена, выясняющая совершенную неразбериху в хозяйственных делах и детскую беспомощность владельцев вишневого сада. Затем Гаев произносит нелепую речь, обращенную к шкапу.
Однако специфика «Вишневого сада» заключается не в этом. В отличие от всех предшествующих пьес Чехова, в «Вишневом саде» все эти образы нелепой и несчастливой жизни характеризуют не современную жизнь вообще, а жизнь определенного исторического периода, уже закончившегося, изжитого. «Вишневый сад» рисует не устойчивый образ жизни, а ее
- 429 -
историческое движение. Впервые появляется в чеховской пьесе четкая схема сменяющихся социальных укладов: уходит в прошлое период вишневых садов, с его прежними, неразумными владельцами, пережившими свое время; наступает эпоха деловых и практичных коммерсантов; ничего подобного в прежних пьесах Чехова не было. В «Вишневом саде» господствует историческая необходимость. Все повинуются неумолимому закону истории так полно, точно личная воля людей не играет решительно никакой роли. Раневская и Гаев имеют много возможностей поправить свои дела, но они слепо идут к своему краху. Лопахин не собирается стать новым владельцем вишневого сада, но он становится им, точно против своей воли, не испытывая при этом никакой радости и как бы подчиняясь силе исторического процесса. Он вытесняет Раневскую и Гаева, не имея к этому внутренней склонности. Он делает это не как личность, а как орудие истории. Все чувствуют это, и никто не обвиняет его. По личным своим качествам он далеко не обычный купец. У него пальцы тонкие, как у артиста, и тонкая, как у артиста, душа. «Купца должен играть только Константин Сергеевич <Станиславский>, — писал Чехов жене 28 октября 1903 года. — Ведь это не купец в пошлом смысле этого слова, надо сие понимать» (XX, 167). Жизнь, которую ему предстоит построить, будет груба, неартистична и тяжела. Он чувствует это, и потому положение его еще более трагично, чем судьба побежденных им людей. У тех остается поэзия воспоминаний, у него нет за душой ничего. Его период еще в расцвете, а он уже мечтает о его конце: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь» (XI, 349).
Это первый шаг, который делает история в «Вишневом саде». Но она делает в этой пьесе и следующие шаги. Появляются люди, которые чувствуют себя вправе, хотя еще и не в силах, поднять борьбу и против лопахинского периода с тем, чтобы решительно и радикально изменить «нашу нескладную, несчастливую жизнь». Появляются предтечи будущего строя отношений, строя счастливого и разумного. Таков Трофимов, роль которого в «Вишневом саде» сродни роли Саши в рассказе «Невеста». Сам по себе он мало интересен, он еще не воплощает будущего, он серый, полинявший и преждевременно постаревший «облезлый барин». Это не борец и не деятель, а говорун и «недотепа». Но его значение заключается в том, что он слышит шаги исторического прогресса, ведущего за собою человеческое счастье: «Вот оно счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги» (XI, 337). Будущие деятели несомненно оставят его далеко позади, хотя и будут вспоминать его как нечто благородное, честное, но безвозвратно ушедшее.
В письме к О. Л. Книппер от 19 октября 1903 года Чехов писал о Трофимове: «Ведь Трофимов то и дело в ссылке, его то и дело выгоняют из университета, а как изобразить сии штуки?» (XX, 158). Изобразить эту сторону жизни Трофимова Чехову не удалось, но и без нее читателю и зрителю было ясно, что Трофимов представляет демократическую интеллигенцию, хотя и с неопределенным гуманизмом и неопределенной, расплывчатой революционностью. Прозорливость Чехова заключалась в том, что этой интеллигенции, как ни возвышалась она по своему историческому значению над Лопахиными и Раневскими, Чехов не поручил дела борьбы за будущее. Как на смену Раневской пришел Лопахин, так на смену Трофимову придут другие люди. Этот новый шаг истории чувствуется в «Вишневом саде», но он еще не сделан. Кто будут эти новые люди, которым предстоит сменить Лопахина, какую социальную силу они будут
- 430 -
олицетворять или выражать — этого Чехов не знал, хотя в 1903—1904 годах, накануне первой революции, мог бы ее знать. Здесь сказалась уже историческая ограниченность воззрений автора «Вишневого сада». Незадолго до появления «Вишневого сада» образ нового строителя жизни возник уже в русской литературе — это был машинист Нил в пьесе М. Горького «Мещане», «честный, здоровый человек» с неистребимым желанием «вмешаться в самую гущу жизни», твердо уверенный в том, что «наша возьмет».
До этого Чехов в своем творчестве не дошел; даже и в последние годы своей литературной работы он не связал своих надежд на изменение жизни с людьми, подобными Нилу. Значение последнего периода творчества Чехова заключается в том, что, если раньше он доверял неизбежное изменение мира стихийному ходу жизни, то теперь он возложил свои расчеты на целесообразную историческую деятельность.
14
За несколько лет до того, как Чехов начал свою литературную деятельность, Лев Толстой сказал о пореформенной России, что в ней «все переворотилось и только еще укладывается». В. И. Ленин в этих замечательных словах увидел ключ к пониманию многих — самых основных — вопросов, волновавших Толстого. Чехов, писатель следующего поколения, ясно увидел, как «все укладывается», и показал в своем творчестве, что это происходило не так, как нужно было огромному большинству населения России. Широкие демократические массы — крестьяне, ремесленники, трудовая интеллигенция, средний люд — были обмануты новым «уложившимся» строем, все чувствовали тяжесть и давление, в большинстве своем не понимая и причин этой тяжести и природы давления, впадали в отчаяние, возлагали надежды лишь на будущее, более или менее отдаленное, переходили от вспышек политической оппозиционности и стихийного протеста к разочарованию в политических методах борьбы и к расчетам на моральные рецепты спасения человечества, но все чувствовали, что «больше так жить невозможно», что «главное — перевернуть жизнь».
Внешне всё было благополучно и мирно, протекал «мирный» период капиталистического развития. Границы этого «мирного» периода капитализма в общеевропейском масштабе В. И. Ленин обозначил датами 1871—1914. Этот «„мирный“ капитализм создавал условия жизни, весьма и весьма далекие от настоящего „мира“ как в военном, так и в общеклассовом смысле. Для 9/10 населения передовых стран, для сотен миллионов населения колоний и отсталых стран эта эпоха была не „миром“, а гнетом, мучением, ужасом, который был, пожалуй, тем ужаснее, что казался „ужасом без конца“».1
Ощущение гнета, мучений и ужаса без конца при внешнем мире и благополучии стало содержанием большинства произведений Чехова, особенно в 90-е годы. Этим основным содержанием своего творчества Чехов настойчиво и систематично разрушал буржуазные иллюзии благополучия и мира. Однажды Чехов так оценил роман Г. Сенкевича «Семья Полонецких»: «Цель романа: убаюкать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт — и твое дело в шляпе на том и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые „положительные“ типы и романы с благополучными концами, так
- 431 -
как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым» (XVI, 240). Цели творчества Чехова были противоположны задачам буржуазной литературы. Чехов разрушал «золотые сны». У него не было ни «положительных типов» в духе буржуазной литературы, ни рассказов с благополучными концами. Он внушал мысль о том, что никто не может быть счастливым в то время, когда звери в человеческом облике существуют в качестве бытового явления. В этом и заключалась демократическая сущность чеховского творчества, отражавшего мысли и чувства огромных масс русского народа, подавленных специфическим гнетом и мучениями «мирной» фазы капитализма.
На рубеже XX века эта «мирная» фаза подходила к своему концу, «она заменилась эпохой сравнительно гораздо более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной...».1
Начало нового периода сказалось в творчестве Чехова ощущением близкого изменения всего строя человеческой жизни, острым чувством исторической неизбежности коренного обновления мира. Эти новые черты в чеховском творчестве были исторически закономерны, поскольку настроения «ужаса без конца» перестали быть типичными для массы населения.
Так отразились в творчестве Чехова общие социальные закономерности его эпохи. Но они отразились у писателя в их специфически русской форме. Россия последней четверти XIX столетия отражена в рассказах и пьесах Чехова всеми своими сословиями и классами. В его произведениях действуют помещики разных групп и степеней культурности, купцы городские и деревенские, цивилизованные и «дикие», крестьяне богатые и бедные, ремесленники и мастеровые разных профессий, каторжники и ссыльные, люди социального «дна», чиновники всех рангов, духовенство разных ступеней духовной иерархии, учителя, профессора, врачи (их особенно много), адвокаты, инженеры, писатели, актеры; изредка появляются рабочие, хотя этот класс населения был менее других художественно изучен и понят Чеховым. Русский город и русская деревня, столица и провинция, разные края и области России — от Сахалина и Сибири до Кавказа и Крыма, русский пейзаж и жанр — всё это уместилось в рамках чеховского творчества. Великий патриот, Чехов всю жизнь думал и писал только о России, до боли душевной волновала его судьба русских людей, живущих в специфически русских условиях, исторических и бытовых.
Картины русской жизни, нарисованные Чеховым, приобрели мировое значение. Капиталистические отношения проникли в эпоху Чехова во все поры русского общества и пронизали всю жизнь сверху донизу, отразились в крупном и малом. Именно поэтому мельчайший факт стал достаточным материалом для суждения обо всем жизненном укладе. Изображая Россию 80—90-х годов, отрицая уродливые формы, которые приняла русская жизнь в этот период, Чехов говорил о современном зле вообще, о тех «мучениях» и «ужасах», которые порождены современным ему капиталистическим этапом жизни человечества.
Поэтому мировой смысл приобрела тоска чеховских героев, страдавших при виде повседневных ужасов «мирной» жизни, мировое значение приобрело чеховское ощущение вопиющей неразумности всего существовавшего строя жизни. Мировое звучание получили мечты Чехова о гармоническом будущем, о полном счастье, ожидающем человечество, и его
- 432 -
нетерпеливом стремлении возможно скорее «перевернуть жизнь». В творчестве русского писателя это нетерпение должно было сказаться особенно сильно и ярко, потому что именно Россия была в ту пору накануне народной революции.
В одной из своих статей М. Горький вспомнил слова, сказанные ему однажды Н. Карониным: «Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде евангелия, книгу по всему миру: у нас этого все хотят, это общее стремление...».1 Чехов и писал такую книгу, «книгу по всему миру». Ее продолжил подлинный преемник Чехова, творчески усвоивший его традиции и передавший их социалистическому реализму, литературный выразитель пролетарского периода русской истории — Максим Горький.
СноскиСноски к стр. 347
1 М. И. Калинин о литературе. Лениздат, 1949, стр. 11.
2 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 23, Гослитиздат, М., 1953, стр. 314.
3 Там же, стр. 314—315.
Сноски к стр. 348
1 А. Седой. А. П. Чехов в греческой школе. «Вестник Европы», 1907, № 4, стр. 551, 552.
Сноски к стр. 349
1 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIII. Гослитиздат. М., 1948, стр. 29, 30. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XX, 1944—1951).
Сноски к стр. 350
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 5, 1950, стр. 430—431.
Сноски к стр. 358
1 «— Простите, я вас опять не понимаю, — усмехнулся Камышев, — если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил?
«— Вы!!
«Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад» (т. III, стр. 473).
Сноски к стр. 367
1 В письме к Суворину от 27 марта 1894 года Чехов говорит об этом: «...толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то, протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч.» (XVI, 132—133).
Сноски к стр. 377
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 483.
Сноски к стр. 392
1 М. Горький, Собрание сочинении в тридцати томах, т. 5, стр. 428.
Сноски к стр. 393
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 187.
Сноски к стр. 396
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, М., 1950, стр. 288—289.
Сноски к стр. 398
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, 1954, стр. 113.
Сноски к стр. 399
1 Там же, т. 5, стр. 428.
2 Там же, стр. 428.
3 Там же, т. 23, стр. 316.
Сноски к стр. 400
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 23, стр. 316.
2 Там же.
Сноски к стр. 402
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.
Сноски к стр. 408
1 «Московские ведомости», 1890, № 1.
Сноски к стр. 409
1 «Слово», сборник 2-й, М., 1914, стр. 279—281.
2 «Артист», 1890, № 6.
Сноски к стр. 411
1 А. П. Чехов, Полное собрание сочинений под редакцией А. В. Луначарского и С. Д. Балухатого, т. IX, Гослитиздат, М. — Л., 1932, стр. 349.
Сноски к стр. 412
1 А. П. Чехов, Полное собрание сочинений под ред. А. В. Луначарского и С. Д. Балухатого, т. IX, стр. 348.
2 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, стр. 53—54.
3 Там же, стр. 46.
4 Там же, стр. 52.
Сноски к стр. 414
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, стр. 46.
Сноски к стр. 417
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 5, стр. 429.
Сноски к стр. 418
1 К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. Изд. «Academia», Л., 1933, стр. 391.
Сноски к стр. 420
1 Самодержавие и печать в России. Берлин, 1898, стр. 4. Ср. переиздание этой брошюры: СПб., 1906, стр. 29—30.
2 Подпись Чехова см. в берлинском издании на стр. 10, в петербургском — на стр. 34.
Сноски к стр. 422
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, стр. 41.
Сноски к стр. 424
1 С. Елпатьевский. Близкие тени. Изд. т-ва «Общественная польза», 1909, стр. 91—92.
2 К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве, стр. 486.
Сноски к стр. 430
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 91.
Сноски к стр. 431
1 Там же.
Сноски к стр. 432
1 М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 10, 1951, стр. 298.