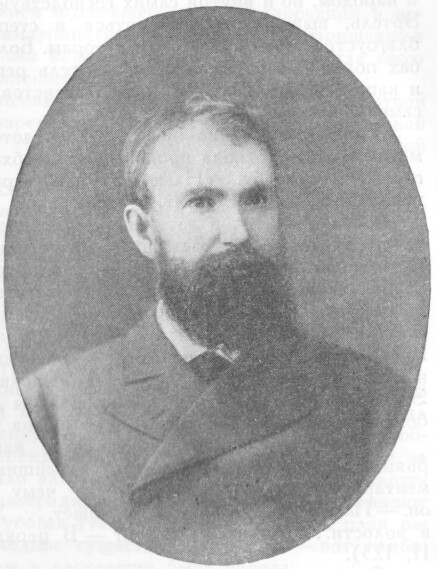- 157 -
Эртель
Александр Иванович Эртель принадлежит к таким писателям, о которых с большим воодушевлением говорил А. М. Горький в письме к Н. Д. Телешеву: «Хотелось бы мне поговорить с Вами о русской литературе в прошлом ее, где великих писателей было больше, чем мы насчитываем, и где так называемые историками литературы „второ- и третьестепенные писатели“ были велики своим честным и сердечным отношением к судьбам родины, к жизни народа, к литературе — святому делу их жизни».1
К творчеству Эртеля в свое время внимательно относилась литературная критика, а выдающиеся русские писатели конца XIX века дали ему высокую оценку.
А. П. Чехов называл Эртеля «великолепнейшим пейзажистом» и предлагал его кандидатуру к избранию в почетные академики. Л. Н. Толстой писал о нем: «Это, несомненно, талантливый человек, живой. Сначала он писал, рабски подражая Тургеневу, все-таки очень хорошо. Потом явилась самостоятельная манера. Есть прекрасные места».2
Эртель выступил в литературе в наиболее мрачную пору развития русской общественной жизни. Это были 80-е годы, когда народническое революционное движение заканчивалось, а социал-демократическое движение еще только созревало в условиях бурного развития капитализма. После убийства Александра II в общественной жизни всё более усиливалась реакция, в силу чего всё сколько-нибудь демократическое и прогрессивное подвергалось гонению и истреблению. Между тем, несмотря на жестокие меры со стороны правительства, активизацию реакционных классов и различные идейные колебания среди общественных деятелей и писателей, остановить поступательное движение в стране было, разумеется, невозможно.
В литературе в это время появилась большая группа молодых писателей, продолжателей прежних реалистических и демократических традиций. Среди этих писателей особенно выделялись Гаршин, Эртель, Короленко, Чехов и Мамин-Сибиряк. Каждый из них шел своей дорогой, но всех их объединяло чувство любви к своей родине и трудящемуся народу, служению которому они посвятили свои знания и литературные дарования.
- 158 -
1
Александр Иванович Эртель родился 7 (19) июля 1855 года в деревне Ксизово Задонского уезда Воронежской губернии, где отец его в то время служил управляющим в помещичьем имении.
В одном из писем к А. П. Чехову Эртель писал: «Обе мои бабки, и по матери и по отцу, были крепостные. Числимся мы мещанами г. Воронежа, хотя горожанами никогда не были».1 Эртель самостоятельно овладел грамотой, приохотился к чтению и рано познакомился с выдающимися произведениями русской литературы. Скоро он сам стал писать стихи и повести.
В 1867 году отец Эртеля занял должность управляющего в большом имении Бобровского уезда, куда взял с собою и сына, чтобы приучить его к хозяйству. Там Эртель прожил до 1873 года. В эти годы он, по собственному признанию, прошел «школу жизни». Эртель хорошо узнал жизнь простого народа. «Я, — писал Эртель, — был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне, „на улице“, на посиделках, на свадьбах, — везде, где собирался молодой деревенский народ. Я был в их глазах „Шаша“ и „Сашка“, но отнюдь не сын управителя и не Ал. Ив-ч. У меня были особенные друзья между деревенскими парнями...».2
В 18-летнем возрасте Эртель начинает работать конторщиком в одном имении недалеко от города Усмани. После двух лет работы он был уволен со службы за «либеральное» отношение к крестьянам. Эртель не придавал существенного значения своим житейским неудачам, он тянулся к общественно-литературной деятельности.
На литературную дорогу Эртеля вывел писатель-народник П. В. Засодимский. С его помощью Эртель опубликовал в народнических журналах рассказ «Переселенцы» (1878) и очерк «Письмо из Усманского уезда» (1879). В 1878 году Засодимский пригласил Эртеля в Петербург и поручил ему заведование библиотекой, открытой им для писателей и общественных деятелей. Там у Эртеля образовались связи с революционерами-народниками и демократическими писателями. «...меня, — писал Эртель, — охватила революционная струя, особенно бойко бившая тогда в Петербурге, когда я попал в кортеж, провожавший оправданную Веру Засулич из Окружного суда» (П., стр. 21).
Эртель, однако, не стал революционером-народником. Впоследствии он писал: «Как доктрина, как партия, как учение „народничество“ решительно не выдерживает критики...» (П., стр. 243). Тем не менее он сочувственно относился к народническому «настроению» и часто указывал на него как на влиятельную и значительную силу. Ближе всех сошелся Эртель с Гл. Успенским. «В Успенском, — писал он, — на меня как бы дохнула трезвым дыханием своим история».3
В Петербурге Эртель продолжал свою работу над «Записками Степняка», начатую еще в деревне и законченную там же, куда он уехал в 1880 году по состоянию здоровья. В 1880—1881 годах рассказы и очерки этой серии печатались в «Вестнике Европы» и других журналах, а в 1883 году они вышли в двух томах отдельным изданием. В литературе имя Эртеля с этого времени становится широко известным.
- 159 -
В освещении важнейших жизненных вопросов, поставленных в «Записках Степняка», Эртель пошел вразрез с основными установками народнического направления в литературе. Эртеля прежде всего волновал вопрос смены старых форм жизни новыми. В «Записках Степняка» убедительно показано, как уходят в прошлое порядки, порожденные феодально-крепостническим строем, и как на смену им появляется новый порядок, обусловленный развитием капитализма в стране.
А. И. Эртель.
Фотография. 1880-е годы.Крестьянская тема была центральной в «Записках Степняка». Эртель подчеркивал, что жизнь крестьян определялась в конечном счете не поэзией земледельческого труда и не вековечными устоями, а законами частной собственности. Эртель нарисовал выразительные образы хозяйственных мужичков, которые вырастают в настоящих деспотов и хищников, прибирающих общину и различные крестьянские артели к своим рукам. В деревне теперь, говорят эти крестьяне, «всеми делами десять аль двадцать мироедов ворочают...» («Под шум вьюги»),1 что уже нет человека, «чтобы порадеть для мира-то... Ноне всяк себе норовит где ни на есть кусок урвать», что «самое подходящее по нонешним временам — торговое дело» («От одного корня», I, 74, 62).
Эртель, разоблачая идеологию богатого мужика, не скрывал своего негодования. «Любить я его не мог, просто инстинктивно не мог», — говорит он о кулаке Василии Мироныче в программном рассказе «От одного корня» (I, 51). Если в кулаке Эртель видел человека со звериным оскалом вроде «скотоподобнейшего» мельника («Криворожье») или «пузатенького крокодила» («Крокодил»), то в бедняке, напротив, он подмечал простоту, душевность, искренность, стремление к правде и честному труду. С большим сочувствием и симпатией нарисованы в «Записках Степняка» образы бедных крестьян Григория («Под шум вьюги»), Трофима («От одного корня»), Поплия («Поплешка») и других, но выхода для них писатель не видел.
В «Записках Степняка» широко раскрыта жизнь господствующих классов. Эртель изображает не только борьбу между правящими классами
- 160 -
и народом, но и внутри самих господствующих классов. Дворяне, отмечает Эртель, вынуждены потесниться в степных просторах, уступая место благоустроенным купеческим хуторам. Более того, во многих старых усадьбах появились новые хозяева. Эртель решительно разоблачал помещиков и капиталистов. В них он видел эгоистов, торговцев родиной и жестоких самодуров.
Главное внимание писатель сосредоточивал на «воинствующих» помещиках. Эти господа проповедуют необходимость возврата помещика из города в усадьбу. «Наше сословие, — рассуждает Карамышев, — весьма недальновидно поступает, устремляясь в бюрократию... Я допускаю службу как школу, и затем домой, господа!.. Пора, наконец, схватиться за ум. Наши земли расхищены, наше влияние уничтожено, наши статуи и картины проданы с молотка, — нам пора вернуть это. Нам пора занять подобающую нам роль, — роль просветителей и вождей народа... Пусть не Колупаев, с одной стороны, и не нигилист, с другой, несут свое воздействие в деревню, а люди благородной традиции...» («Липяги», II, 79). Карамышев в числе уже многих «блестящих гвардейцев» понял «тщету паркета и мишурность парадной выправки» и возвратился в деревню. Здесь он хочет навести порядок, хотя бы для этого, по его словам, потребовалось сослать «всю интеллигенцию на Сахалин» (II, 97).
Еще более «остервеняется» и с каждым днем «усугубляет свою рьяность» Пожарский, который грубейшим образом попирает самые элементарные требования народа. «К чему мужику грамота? — заявляет он. — Пахать? — Он без нее может... Условие написать? — Напишут в волости... Молитвы читать? — В церкви прочитают...» («Идиллия», II, 123).
Сложнее выражено отношение Эртеля к буржуазии. Эртель признает ее как силу, идущую на смену дворянству, но одновременно указывает на ее эксплуататорский характер. Наиболее полно тип современного буржуа дан Эртелем в образе Чумакова («Иностранец Липатка и помещик Гуделкин»). Чумаков изображается Эртелем идеологом капиталистического развития в стране. В его задачу входит идея упразднения современного крестьянского строя. «...мы — революционеры, — провозглашает он, — но революционеры тишайшие... Вместо крови у нас золото, вместо марсельезы — грохот машин, вместо мерзкой гильотины у нас — конторка из ясеневого дерева... Наша революция будет подействительней многих. Те несли разрушения, мы успокоение несем... Те проповедывали самоотвержение, мы же одного только желаем — себялюбия, и на этом одном камне воздвигнем здание...» (II, 175). Чумаков признает, что «революционные стремления в мужике неизбежны», но «нужно поработить их и утилизировать». Программу Чумакова Эртель принимает только «частию», потому что в ней он видел не столько борьбу за прогресс, сколько стремление к «естественному разбою».
Эртель рассматривает капитализм как историческую неизбежность, но относится к нему критически.
Большое место в «Записках Степняка» отводится изображению народнической интеллигенции. В образах Ежикова («Серафим Ежиков»), учительницы, прозванной «офицершей» («Офицерша»), Лебедкина («Липяги») и других Эртель показал, как рядовые народники терпят окончательное поражение при столкновении с новой действительностью. Учение, на основе которого народники осуществляют свою деятельность в деревне, оказывается совершенно несостоятельным в применении к жизни: контакта с народом у этой интеллигенции не было и не могло быть. Самоубийство
- 161 -
Ежикова было следствием полнейшего его разочарования в народническом учении. Кончает самоубийством и «офицерша», пришедшая к выводу, что жить нечем, так как народ, которому она посвятила свою жизнь, изменил заветам крестьянского мира.
Эртель с сожалением рисовал этих людей, ставших жертвой существовавшего строя и одновременно несостоятельной народнической теории, которая вооружила их «фантастическими грёзами» и «хрупкой опорой».
В «Записках Степняка» Эртель изобразил поруганную родину. «Теперь с мучительной ясностью вижу я, — писал он в заключительном рассказе, — как под бременем непрерывных испытаний... изнемогла моя бедная родина и в истоме бессилия омертвела... Культ брюха провозглашен господствующим и ему вьявь совершаются отвратительные жертвы. Повальный грабеж и холопство, возведенное в доблесть, рука об руку с печатью, изборожденною прелестями гражданственных сообщений, развиваются на свободе, подобно ядовитым гадам под сенью всеобщей неурядицы наглеют до размеров грандиозных...» (II, 281).
Продолжая демократические и реалистические традиции русской литературы, Эртель широко и в существенных чертах верно отразил в «Записках Степняка» современную действительность, но, критикуя общественные язвы, он в то же время не видел реальных сил в борьбе за народное счастье. Это определило элегический тон повествования, характерный для всего сборника. Безотрадные картины в рассказах сменяют одна другую. Ветхая избушка, убогая утварь, рваная одежонка, плач ребенка, стоны больного, полуголодное существование семьи — вот наиболее часто встречающиеся мотивы в раскрытии быта народа.
«Записки Степняка» представляют собой, по определению Горького, «значительные и целостные рассказы». В них отразились искания молодого писателя, не удовлетворенного теми выводами, которые тогда господствовали в народнической литературе.
2
В середине 80-х годов Эртель работал над своими повестями «Волхонская барышня» (1883), «Пятихины дети» (1884), «Минеральные воды» (1886), «Жадный мужик» (1886) и «Две пары» (1887).
В эти годы реакции Эртель разделял судьбу многих писателей, переживших период бесплодных исканий и разочарований. Встретившись второй раз с революционерами-народниками в Петербурге, куда он приехал в конце 1883 года, и приняв участие в их работе, Эртель скоро убедился, что она обречена на провал.
В начале апреля 1884 года за связь с революционерами он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость, где просидел 4 месяца. Освобожден он был по состоянию здоровья, но с запрещением жить в Петербурге и Москве. Царское правительство держало Эртеля в Твери под гласным надзором до 1888 года.
В поисках идейных оснований для своего творчества Эртель проявил большой интерес к толстовству. В 1885 году он в письме к Толстому просил разрешения встретиться с ним. «Для меня, — писал Эртель, — для моей личной жизни, для определения моих отношений к людям при условии „времени и места“ — это очень, очень важно» (П., стр. 52). Встреча с Толстым скоро состоялась. Однако Эртель не стал последовательным
- 162 -
толстовцем, хотя идеи прощения и опрощения, заимствованные из учения Толстого, нашли свое отражение в повестях «Жадный мужик» и «Две пары».
В других его повестях следов толстовства почти не обнаруживается. В них поставлены другие проблемы, главным образом связанные с критикой народнической интеллигенции. В образах Тутолмина («Волхонская барыня»), Пятова («Пятихины дети»), Сергея Петровича («Две пары») и других Эртель показал, как народническая интеллигенция в 80-х годах переходила на либеральные позиции, отказываясь от смелых и решительных действий.
Повести Эртеля были сочувственно встречены демократической критикой. Однако они не сыграли значительной роли в общественной жизни и истории литературы прежде всего из-за неопределенности идейных позиций писателя.
В 1888 году Эртель возвратился в Воронежскую губернию, поселился в деревне и продолжал свою литературную работу. В 1889 году вышел из печати его двухтомный роман «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги». Своим романом Эртель сумел захватить внимание читателя и вызвать большой интерес в критике. В. Г. Короленко писал: «„Гарденины“ имели успех».1 Прочитав роман Эртеля, Л. Н. Толстой записал в своем дневнике за 1889 год: «Прекрасно, хорошо, верно, благородно!».2 В написанном предисловии к этому роману Толстой отмечал: «Несмотря на нездоровье и занятия, начав читать эту книгу, я не мог оторваться, пока не прочел всю и не перечел некоторых мест по несколько... раз... Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей». Толстой указывал на большое мастерство писателя в изображении жизни народа: «Читая народные сцены Эртеля, забываешь, что читаешь сочинителя, кажется, что живешь с народом...» (V, 7—8).
Журналы отметили появление романа как выдающееся событие в литературе. «Русское богатство» указывало: «Не часто в нашей литературе, особенно современной, приходится встречать такую широкую и богатую панораму жизни, такой сильный захват ее явлений, такую разнообразную картину лиц и событий».3
Замысел романа Эртель определил в письме к редактору «Русской мысли» Гольцеву: «Мне хотелось изобразить в романе тот период общественного сознания, когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда пускает ростки иное мировоззрение, почти противоположное первоначальному» (П., стр. 172).
В романе освещаются события 70—80-х годов, происходящие в степных просторах Воронежской губернии. В «Гардениных» изображается жизнь всех классов России переходной эпохи, судьба многих людей, различных по возрасту и положению, сложные социальные и семейные конфликты, хозяйственные преобразования, труд народа и красота русской природы.
Роман открывается изображением дворянской семьи Гардениных, обрисованной в резко отрицательных тонах. Главное место в романе занимает народ. Широко и правдиво, со знанием условий жизни и быта описывает
- 163 -
Эртель гарденинскую дворню и крестьян деревни, в недалеком прошлом крепостных. Здесь, в захолустье, в еще почти нетронутом виде сохранились крепостнические нравы и патриархальные отношения между усадьбой и деревней. Крестьяне полностью зависят от усадьбы, которая держится на их труде. За это они получают какой-нибудь клочок земли в аренду, чтобы не умереть с голоду. Терпению их приходит конец, они убивают приказчика, в деревне растет и ширится народное возмущение.
Писатель показывает, что общие законы развития капитализма захватили и это захолустье. Гарденино становится в конце романа типичным сельскохозяйственным капиталистическим предприятием. Эртель разоблачил старые феодально-крепостнические отношения, в то же время он и к новым капиталистическим порядкам относится с нескрываемым негодованием. Это хорошо выражено в обрисовке буржуазных типов. Эртель знакомит читателя с кулаком Шашловым, настоящим кровососом и мироедом. В образе купца Рукодеева представлен самодур, пьяница, развратник, пустой и чванливый фразер. Купец Мальчиков изображен злодеем, совершающим при помощи подкупов уголовные преступления. С особенным негодованием Эртель нарисовал тип управляющего, «просвещенного европейца» Переверзева. Переверзев сознательно, неукоснительно и последовательно ведет свое наступление на трудящихся, выжимая из них последние соки.
Идейная борьба в романе раскрыта в плане столкновения двух поколений. Лиза Гарденина восстала против Гардениных. Став женой Ефрема Капитоныча, бывшего крепостного человека, она ушла в революционную работу. Ефрем, сын конюшего, одного из наиболее ярых «приверженцев» Гардениных, в свою очередь восстал против своего отца, сбросив с себя ярмо духовного рабства. Будучи студентом в Петербурге, Ефрем прошел шкоду революционной подготовки. Он один из тех, кто совершал «хождение в народ». В гарденинскую деревню он приехал для дела «гораздо важнейшего», чем просто встретиться с родителями. Но этого дела ему совершить не удалось. Народ, по его наблюдениям и выводам, не созрел для революции. Но Ефрем не разочаровался в нем. То, что увидел он в народе, приводит его к оптимистическому выводу. «А все-таки вертится!» — говорит он словами Галилея и тем самым выражает основную идею романа. Ефрем вновь уезжает в Петербург продолжать свою революционную работу — недаром он изучал Маркса.
В образах Ефрема и Лизы Эртель отразил наметившийся отход передовой интеллигенции от народнических идей в сторону марксизма, однако конкретного пути этого отхода Эртель не показал. Более того, в обрисовке этих героев, особенно Ефрема, заметны идейные колебания автора. Эртелю чужды были их революционные устремления.
Писателю идейно ближе был другой тип интеллигента, воплощенный им в образе Николая Рахманного. В этом образе много автобиографических черт самого писателя, но Рахманный — не портрет Эртеля: в нем воплощены характерные черты либеральных кругов интеллигенции того времени. Николай далек от решительных революционных действий, он, по верному замечанию Ефрема, «возмечтал нечто совсем неподходящее о могуществе типографской краски» (VI, 102). Рахманный нашел себе место в земстве, где он выступал защитником интересов народа. Эртель, хотя и сочувствовал своему герою, но понимал всю его ограниченность и был прав, говоря, что он не годится для «идеала». «Рахманные отнюдь не красны, — писал Эртель вскоре после выхода романа, — не ищите в „Гардениных“ воплощения „идеалов“. Этого там нет. Я просто старался
- 164 -
описать наличную действительность с ее идейными течениями, с тем, хотя и смутным, но несомненно существующим стремлением к правде, которая оживотворяет нашу деревенскую нищету, забитость, невежество... Идеал мой не в Николае и не в других персонажах романа, а в том, что „все-таки вертится“».1
В романе Эртель продолжал борьбу с народничеством, что особенно сказалось в создании образа народницы Веры Турчаниновой, которая позорно капитулировала и постепенно превратилась в заурядную даму, ведущую обывательский образ жизни.
Черты толстовства нашли свое выражение в образе искателя религиозной истины столяра Ивана Федотыча, отличающегося терпением и смирением. Эртель не выступает в романе с резкой критикой толстовства, хотя и не разделяет его многих идей. В 1890 году в письме к Короленко Эртель следующим образом выразил свое отношение к учению Толстого: «...многое в мыслях Л. Н. Т. представляется мне верным и глубоким до поразительности, но я расхожусь с ним в его отношениях к общественности, к учреждениям, к средствам борьбы со злом, и до известной степени — к так называемой цивилизации... Всегда он меня привлекал не как „учитель“, а как необыкновенно редкое явление в сфере ума и того, что называют талантом» (П., стр. 181, 182).
В своем романе Эртель неустанно отмечал природный ум мужика, трезвость его взглядов на жизнь, трудовую смекалку, независимость суждений, а главное — простоту и естественность во взаимоотношениях. О своем понимании народа и отношении к нему Эртель писал, что он сознает в «сильней степени сродство свое с народом. И это отнюдь не потому, что у него община и артель, а просто оттого, отчего шире и вольнее подымается грудь, когда выйдешь из театра, где пела Патти, на чистый воздух. Хорошо поет Патти, пленительны чары искусства, красивы костюмы и декорации, и наряженные люди в ложах, весело сверкают огни и брильянты, а все-таки как неизмеримо лучше и правдивее здесь на свежем воздухе, в виду ясных звезд, под этим дыханием ветра, в этом царстве тишины и захватывающего простора. Не выведите отсюда, что я „народник“. Отнюдь нет. Народничество держится на трех китах: долг, расплата и обязанности. Оных китов я отвергаю... Я просто испытываю величайшее художественное наслаждение и душевный отдых в условиях крестьянской здоровой жизни, т. е. когда она здорова, что, конечно, бывает не весьма часто» (П., стр. 248—249).
Эртель написал роман о народе, о его радостях и страданиях, которые переносил он в недалеком прошлом, о его тяжелой жизни и борьбе против бесчисленных притеснителей и поработителей. «Гарденины» — правдивая книга о переходной эпохе в русской жизни, имеющая большое познавательное значение и до сих пор еще не утерявшая художественной свежести.
3
В 1891 году вышел новый роман Эртеля «Смена», в котором изображена жизнь конца 80-х годов. Если в «Гардениных» на первый план была выдвинута социально-экономическая проблема, то в этом романе более существенное значение придается политическим и культурным вопросам.
- 165 -
«...под „Сменой“, — разъяснил Эртель, — разумеется та культурно-общественная метаморфоза, силою которой сходят со сцены интеллигентные люди барских привычек, барского воспитания с их нервами, традициями, чувствами, отчасти и идеями, уступая свое место иным, далеко не столь утонченным, но гораздо более приспособленным к борьбе — в хорошем значении слова — людям».1
Острота вопросов, поставленных в «Смене», вызвала в тогдашней критике оживленную полемику. Ни народники, ни либералы не были согласны с идейной сущностью романа. Сама постановка вопроса «смены» вызывала у них решительное возражение. В читательских кругах «Смена» возбудила живейший интерес.
Глеб Успенский писал об Эртеле: «Отлично он пишет, прелесть! Видимо он освободился от толстовского скопчества и дал волю своему сильному таланту».2
Главным героем романа является Мансуров, принадлежащий к богатому и знатному дворянскому роду, но успевшему разориться. Мансуров сначала показан на светских журфиксах, потом среди разночинцев, затем в деревне и, наконец, в уездном купеческом окружении, где и нашел свой бесславный конец.
Изображая дворянско-буржуазные круги Петербурга, Эртель разоблачал ложь и лицемерие, скрытые под внешним приличием, он ярко нарисовал образы продажных адвокатов-карьеристов Горенского и Рогова, прожектерки Фидлер, дельца-финансиста Лейзенсона, вельможи Содомцева, стоящего «на страже власти, православия, собственности», лицемерной ханжи Кларисы Федоровны и многих других. Мансуров бежит «от этих гремящих витий, от этих ломак, лгунов и лицемеров!» (VII, 12б). Он возмущается их говорильными вечерами: «...тут собралось все культурное, блестящее, руководящее и, как еще называют их ...всех этих двигателей прогресса, жрецов, целителей и строителей. Ах, ложь! Ах, мерзость!» (VII, 121).
Разочарованный в жизни Петербурга, Мансуров, разбитый и подавленный, уезжает в деревню. Но и здесь «для него завершился круг явлений». Одно присутствие арендаторов его имения Княжие Липы — Прыткова и Колодкина — причиняет ему невыносимые страдания. Попав в конце романа в провинциальные круги помещиков и купцов, Мансуров растерялся, обнаружив свое полное бессилие и безволие в борьбе с ними. Эртель критически относится и к Мансурову, а вместе с этим и к той дворянской культуре, которую он представляет.
В противоположность представителям господствующих классов в романе выведены представители разночинной интеллигенции, идущей на смену дворянской.
С большим сочувствием изображаются в романе доктор Ферапонтов, художник Борискин, ученый Бушмарин и другие интеллигенты. Эти герои любят народ, они образованы, знают цену искусству, но всё это, однако, не пронизано единой идеей, определяющей их жизненное поведение и их понимание законов общественного развития. Эртель указывает на эту слабость в молодых, здоровых и честных людях, как на характерный признак 80-х годов.
Новые силы восторжествуют, старым предстоит «смена» — таков лейтмотив романа, и в этом его оптимистическое значение.
- 166 -
Разрабатывая в романе крестьянскую тему, Эртель много вносит нового по сравнению с тем, что уже было в «Записках Степняка» и в романе «Гарденины». Народ, по характеристике автора, «прижат выше всякого естества». Чем дальше, тем хуже становилось мужику и тем решительнее становился он в своей борьбе. Большой удачей в романе является образ крестьянина-бунтаря, «вожака и запевалы», Листара Минаича, которого не сломили ни пытки, ни тюрьма, ни другие удары судьбы. Новый арест Листара во время крестьянского бунта не поколебал его убеждения в необходимости борьбы. «Найдем! Сыщем свое» — решительно заявлял он, подбадривая своих односельчан. «Страстная уверенность Листарки, — замечает автор, — и их невольно заражала...» (VII, 415).
Роман «Смена» был последним серьезным творческим достижением Эртеля. Его последующие произведения — рассказ «Духовицы» (1893), повесть «Карьера Струкова» (1895—1896) и незаконченная повесть «В сумерках» (1898) — уже не имели значительного содержания. В середине 90-х годов Эртель отошел от литературы. «Время наше, — писал Эртель, — представляется мне мучительно трудным и загадочным; те или иные решения задач мало удовлетворительными» (П., стр. 290).
В голодный 1891/92 год Эртель принял активное участие по оказанию помощи голодающим крестьянам. В последние годы своей жизни он работал управляющим имения Хлудовых в Моршанском уезде Тамбовской губернии. Умер Эртель в Москве от паралича сердца 7 февраля 1908 года.
Воспитанный на традициях русской классической литературы, Эртель с резкостью отозвался на появление декадентства. Основные положения декадентства Эртель подвергал суровой критике и указывал, что «искусство для искусства, наука для науки... ведут к гибели общество и к вырождению самой интеллигенции в нечто худосочное, бессильное и несчастное» (П., стр. 243). Смысл и назначение искусства Эртель видел в том, чтобы «помогать людям в расширении их сознания..., в подъеме жизнедействующего начала..., в раскрытии горизонтов» (П., стр. 188, 206).
Эртель приветствовал появление Горького в литературе. Исключение Горького из «императорской» Академии было воспринято Эртелем с большой болью. В письме к Чехову он писал: «Не везет мне с поздравлениями. Разлетелся было приветствовать Горького со вступлением в академию, чему был искренно рад, — не столько за него лично, ибо зачем ему академия, — сколько за его „дух“, неожиданно вторгнувшийся даже в официальные салоны и „не силком“, а по приглашению. Но, по всей вероятности, еще и письмо мое не дошло, как его не замедлили „изблевать“... Будь я на вашем месте, гг. академики, я бы не замедлил расплеваться с академией, после этого пассажа, — конечно, наивозможно шумнее, дабы подчеркнуть это новое проявление „ослиномании“ в наших решительно спятивших сферах».1
Эртель любил народный язык, оберегал его от засорения штампованными и избитыми оборотами книжной речи, в то же время он решительно боролся против засорения литературной речи нехарактерными и искаженными словами местного значения. В творчестве Эртеля широко использованы устные народные произведения. Писатель часто указывал на этот «родник живой воды, который всегда будет давать жизнь, живописность и силу оборотам и выражениям и даже мыслям нашей „культурной“
- 167 -
поэзии».1 Крестьяне в произведениях Эртеля в своей речи особенно часто и охотно употребляют пословицы и поговорки, совершенно свободно и естественно, незаметно для себя, не стараясь щегольнуть ими или удивить кого-либо. Автор стремился наделить каждого героя присущими ему особенностями речи. Например, в рассказе «От одного корня» речь Трофима, поборника общинного начала, отличается мелодичностью, размеренностью, ласкательными интонациями. В его словаре очень часто встречаются такие слова, как «дружность», «сообча», «по-божьему», «без обиды», «сыспокон веков», «согласье», «друг за дружку», «христос-батюшка», «правда», «милостивый» и много подобных. Напротив, речь «серого министра» Василия Мироныча характеризуется трезвостью, практичностью и рассудительностью. Его словарь совершенно иной: «всяк за себя», «своя рубашка», «мужик-дурак», «мир-склыка», «целковый», «нажива», «особняк», «капитал», «барыш» и другие.
По-своему колоритна речь купцов, в которой хитрость сочетается с грубостью. При всем своем разнообразии она пронизана содержанием коммерческого расчета. «Урвать» и «облапошить» — вот слова, которые цементируют всю речь представителей наступающего класса. «Я за свои деньги, — заявляет Колодкин, — глотку перерву... В торговом деле разборки не полагается. Нонче я урвал, а завтра и мне морду искровянили» («Смена», VII, 230, 64).
Речь дворян у Эртеля передает их моральную деградацию и социальное отчаяние. Весь их разговор в основном вращается вокруг процесса собственного разорения и роста демократического движения. Вот для примера речь мелкого провинциального помещика Тетеркина: «Кабатчики, шибаи, кошкодёры — в люди полезли... Брюхо растят, волосы маслом мажут, анафемы, в лице — румяны, одеты — чортом... А-ах ты..., (Тетеркин крупно ругнулся). Тоска и горе. Горе, могу вам сообщить, Николай Васильич. Перенесть не могу. Мутит, сударь мой. Десять лет в храм не езжу-с! Не могу, не выношу. Зазнались, сударь мой. Барина знать не хотят, шапок не ломают, подлецы... Какой-нибудь Малафейка кабатчик рожу воротит, к амвону, бестия, лезет, просвиру ему, ракалии, на тарелке выносят. Не могу-с, сударь мой! Я дворянином жил, дворянином и помру» («Барин Листарка», I, 194).
Язык Эртеля чрезвычайно богат, многогранен и в то же время характеризуется индивидуальным своеобразием, присущим действующим лицам.
Произведения Эртеля отличаются правдивостью, простотою и живописностью повествования. В них отразилась живая жизнь эпохи в своем сложном переплетении. Хорошо зная жизнь простого народа, Эртель показал его бесправным и угнетенным, но в то же время стойким и бодрым, трудолюбивым и способным к творчеству. Эртель верил в разумную и справедливую будущую жизнь и своим творчеством способствовал этому. Его произведения были проникнуты духом человечности и глубоким сочувствием к угнетенному народу, в то же время они звучали для царского самодержавия и господствующих классов суровым и справедливым приговором. Эртель остается близким нам своим реализмом, своим честным служением простому человеку и ненавистью к его врагам.
СноскиСноски к стр. 157
1 М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29. 1955, стр. 88.
2 «Литературное наследство», кн. 37—38, 1939, стр. 465.
Сноски к стр. 158
1 Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, архив А. И. Эртеля, папка 4. В дальнейшем сокращено: ЛБ.
2 А. И. Эртель. Письма. М., 1909, стр. 12. В дальнейшем сокращено: П.
3 А. С. Глинка-Волжский. Глеб Успенский в жизни. Изд. «Academia», 1935, стр. 327.
Сноски к стр. 159
1 А. И. Эртель, Собрание сочинений, т. I, М., 1909, стр. 30. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—VII, 1909). Ссылки на другие источники оговариваются особо.
Сноски к стр. 162
1 В. Г. Короленко, Избранные письма, т. III, Гослитиздат, М., 1936, стр. 184.
2 Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 50, Гослитиздат, М. — Л., 1952, стр. 149.
3 «Русское богатство», 1890, № 11, стр. 143.
Сноски к стр. 164
1 ЛБ, папка 2.
Сноски к стр. 165
1 «Памяти Виктора Александровича Гольцева». Сборник, М., 1910, стр. 230.
2 Там же, стр. 195.
Сноски к стр. 166
1 ЛБ, папка 10.
Сноски к стр. 167
1 Н. Симбирский. А. И. Эртель как руководитель начинающих писателей. «Исторический вестник», 1915, № 6, стр. 881.