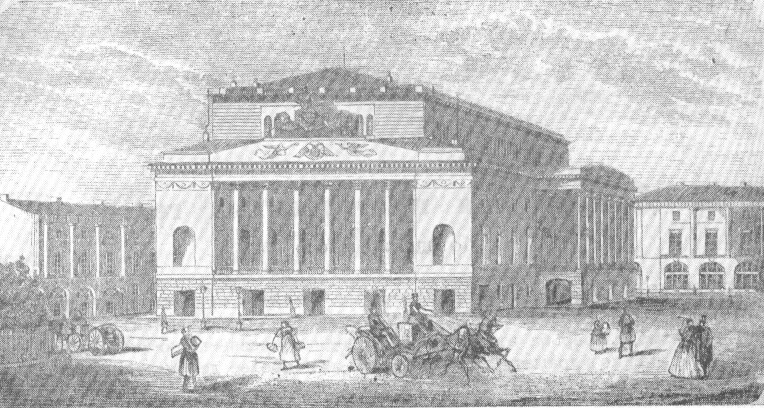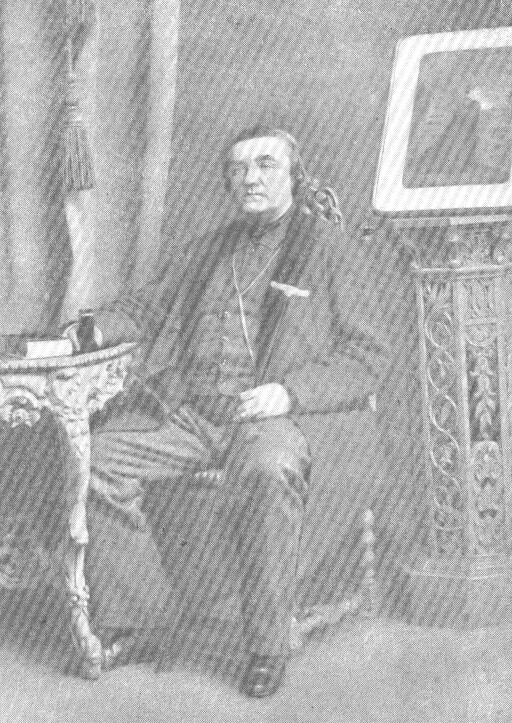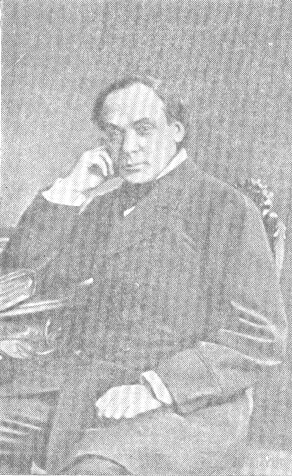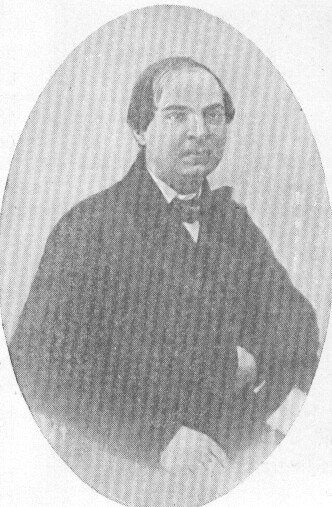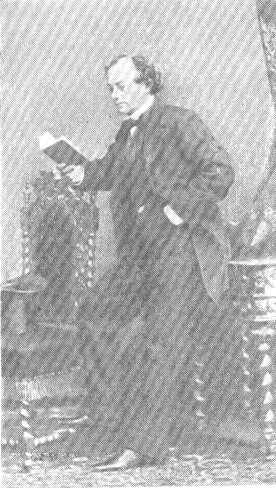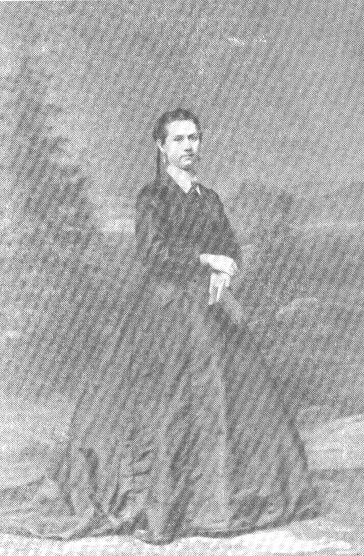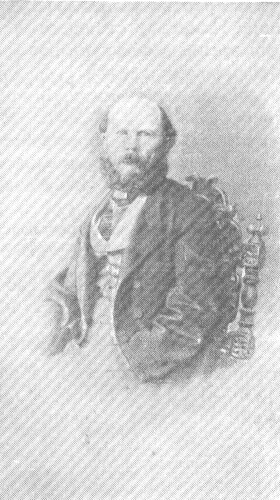- 351 -
Драматургия шестидесятых годов
(ОБЩИЙ ОБЗОР)
В 60-е годы в области драматургии, театра и критики шла столь же острая борьба, как и во всех областях общественной жизни той эпохи. Борьба эта принимала подчас чрезвычайно острые формы именно в драматургии как одном из наиболее демократических жанров литературы. Островский писал о народности драматургии: «Драматическая поэзия ближе к народу, чем все другие отрасли литературы; книжку журнала прочтут несколько тысяч человек, а пьесу просмотрят несколько сот тысяч. Всякие другие произведения пишутся для образованных людей, а драмы и комедии — для всего народа...».1 Демократичность драматического жанра, массовость аудитории, к которой обращался драматург, учитывалась различными общественными и политическими деятелями эпохи. Двоякое значение пьесы — как литературного произведения и как основы театрального представления, сила воздействия театральной постановки на зрителя, с одной стороны, приковывали к драматургии и театру внимание идеологов революционной демократии, стремившихся сделать театр трибуной для «распространения в публике правильных понятий», с другой — делали театр и его репертуар предметом «неусыпных попечений» правительства и реакционного лагеря.
Правительство, в 30—40-х годах, пользовавшееся сценой императорских театров для проповеди реакционных доктрин православия и самодержавия, стремилось подчинить театр подобным же задачам и в 50—60-х годах. С этой целью драматические произведения подвергались двойной цензуре — общей и специально театральной; — произведения, разрешенные общей цензурой и допущенные в печать, зачастую не попадали на сцену. Театрально-литературный комитет, долженствовавший до цензуры просматривать пьесы и рекомендовать их к постановке или отвергать, состоял в своем подавляющем большинстве из реакционных, бездарных писателей и вел систематическую борьбу с лучшими драматургами-реалистами (в первую голову с Островским). Комитет способствовал проникновению на сцену пошлой стряпни реакционных и либеральных драмоделов, отвечавшей требованиям «двора» и правительственной верхушки, и препятствовал осуществлению постановок пьес Островского и других лучших русских драматургов того времени.
М. Е. Салтыков-Щедрин в статье «Петербургские театры» заявлял, что предоставление широких полномочий театрально-литературному комитету является продолжением практики предшествующих десятилетий, когда
- 352 -
«драматическое искусство ведалось чуть ли не капельдинерами»,1 и что репертуар, охотно рекомендуемый комитетом, представляет собой либо откровенное возобновление официальных пьес 30—40-х годов, либо постановку антихудожественных официозных и либеральных современных пьес.
Александринский театр. Гравюра на дереве. 1860.
Всячески поощряли антиреалистическую реакционную и либеральную драматургию и чиновники, составлявшие театральную администрацию. В постановках пьес авторов, угодных администрации, назначались участвовать лучшие актеры, пьесы эти ставились в разгар сезона, в наиболее посещаемые публикой дни, неоднократно повторялись, оформлялись с большой пышностью. Произведения же Островского и других драматургов-реалистов ставились редко, в наименее удобное для публики время, зачастую снимались с репертуара после нескольких представлений, несмотря на успех у публики, оформлялись крайне небрежно.
Однако организовать таким образом засилие реакционного, антиреалистического репертуара на сцене русских театров, как это было в 30—40-х годах, в 60-е годы не удалось.
Художественные достижения Гоголя, Тургенева и Островского сделали реалистическую драматургию основой русского театрального репертуара. Работая упорно и самоотверженно в области драматургии, Островский создал целый репертуар, любимый актерами и публикой. Во второй половине 50-х и в 60-х годах реалистическая русская драматургия пополнилась также произведениями М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. В. Сухово-Кобылина, А. Ф. Писемского и других. К реалистическому направлению в большей или меньшей мере примыкали и драматические произведения А. К. Толстого, А. А. Потехина, Н. С. Лескова, Д. В. Аверкиева этой поры. Лучшие актеры поддерживали и отстаивали на русской сцене репертуар Островского и других драматургов-реалистов, так как этот репертуар давал им
- 353 -
возможность работать над типичными образами современных русских людей, создавать спектакли огромной художественной ценности и большого общественного звучания. На конец 50-х и на 60-е годы падает расцвет деятельности таких замечательных актеров-реалистов, как М. С. Щепкин, П. М. Садовский, А. Е. Мартынов, С. В. Шумский, И. В. Самарин, Л. П. Косицкая, П. В. и С. В. Васильевы, Ю. Н. Линская и др. 60-е годы явились годами огромных успехов реализма в драматургии и театре. Даже реакционные писатели, противопоставлявшие свое творчество драматургии Островского, вынуждены были считаться с опытом Островского и подражать ему внешне, чтобы вызвать интерес актеров к ролям своих пьес и сочувствие публики к спектаклю.
А. Н. Островский.
Фотография. 1862.Драматургия и театр явились ареной напряженной идейной борьбы. Важнейшие политические и социальные вопросы, волновавшие умы
- 354 -
П. М. Садовский.
Фотография.людей 60-х годов, вопросы исторических судеб страны, русского народного характера, непосредственно связанные с проблемами народной революции, с одной стороны, и реформ, с другой, вопрос о современном государственном строе России и другие, — ставились драматургией того времени. Идейная борьба, происходившая вокруг этих проблем, в драматургии имела особенное значение вследствие народности, популярности драматического жанра и театрального зрелища. Именно вследствие своей народности, доступности широким слоям демократической публики, драматургия стала одним из ведущих жанров литературы 60-х годов. Рост общественного протеста, крестьянских волнений, а также идеи революционной демократии оказали значительное влияние на передовую драматургию этого периода, реализм был господствующим стилем драматургии 60-х годов.
- 355 -
1
В середине 50-х годов в критике развернулась борьба вокруг творчества Островского.
А. Е. Мартынов.
Литография с фотографии 1850-х годов.«Молодая редакция» «Москвитянина», с которой Островский сблизился в начале 50-х годов, предприняла попытку провозгласить Островского выразителем славяно-фильско-почвеннических воззрений и воздействовать на самого драматурга, с тем чтобы подготовить его отход от традиций обличительного реализма.
В пьесах, носящих следы воздействия славянофильских концепций, Островский не совершил принципиального отхода от реализма, хотя некоторое ослабление реалистического изображения характеров и художественного анализа социальной среды в них и намечалось. Попав на сцену, эти пьесы были восприняты актерами как реалистические обличительные произведения, продолжающие линию, начатую в творчестве Островского комедией «Свои люди — сочтемся». Однако угроза отхода от реализма нависла над творчеством Островского. Это было ясно критикам — революционным демократам и вызывало их тревогу. Борьбу за реалистическое развитие творчества драматурга повели Чернышевский и Некрасов. Они подвергли критике произведения Островского начала 50-х годов и предприняли ряд шагов, чтобы привлечь его к участию в «Современнике».
Критические статьи Чернышевского, Некрасова, а затем Добролюбова имели огромное влияние не только на Островского, но и на русскую драматургию 60-х годов в целом. Они помогали укреплению реалистического направления в драматургии и на сцене, указывая путь писателям-реалистам. Мимо статей этих критиков не могли пройти не только драматурги, творчески близкие к революционной демократии, но и враждебные реализму и революционной мысли. Последние вступали в прямую и скрытую полемику с Добролюбовым и Чернышевским, пытаясь противопоставить произведениям Островского конца 50-х и 60-х годов, отвечавшим требованиям революционно-демократической критики, свои пьесы.
В статье Чернышевского о пьесе Островского «Бедность не порок» содержались полемика против реакционной идеологии москвитянинского кружка, анализ сильных и слабых сторон произведений Островского и намечались пути развития его реалистического творчества. Вместе с тем в статье
- 356 -
содержалась оценка некоторых явлении драматургии 50-х годов.
С. В. Шумский.
Фотография. 1860-е годы.Чернышевский разъяснял, что, только продолжая традиции реализма 40-х годов, идя по пути критического реализма, Островский может развиваться как художник, совершенствовать свое дарование. Славянофильские заблуждения писателя, элементы морализма, ослабление социальной проблематики, идеализация патриархального быта привели к резкому снижению общественного звучания и художественной ценности его произведений. Эпигоны Островского, не понимающие того, что основой художественных достижений драматурга являются демократическая идеология и реалистический метод, подхватывают слабые стороны его творчества 50-х годов. Истинными последователями Островского-реалиста смогут стать, по мнению Чернышевского, лишь те писатели, которые поймут «существенные достоинства», «смысл произведений» драматурга.
В «Заметках о журналах» за декабрь 1855 года и январь 1856 года, оценивая Островского как «первого драматического писателя» современности, Некрасов призывает драматурга к усилению социальной типизации, которую ограничивают элементы морализма в его «славянофильских» пьесах; к отказу от «внезапных» развязок, благополучных концовок, нарушающих типичность изображаемых им ситуаций. Некрасов противопоставляет Островского французскому буржуазному драматургу Скрибу, произведения которого заполняли европейскую сцену.
Сила Островского в его реализме и народности его творчества: «...ему менее чем кому-либо следует бояться выпасть из русского тона: тон этот в нем самом, в свойствах ума его», — писал Некрасов.1 Некрасов призывал Островского отказаться от славянофильской поэтизации патриархальных форм быта во имя реалистического проникновения в народную жизнь.
С ростом революционного движения в России во второй половине 50-х и в 60-х годах связано оживление полемики вокруг вопроса о русском народном характере.
Революционные демократы, обличая крепостное право и его разлагающее влияние на отдельных представителей крестьянства, отмечали огромный рост революционного протеста крестьян, как типичную черту современного исторического момента. Русскому народу свойственны свободолюбие, чувство собственного достоинства, самоотверженность и стойкость в борьбе. Народ ненавидит господ и способен отстаивать свои права. Революционные демократы утверждали, что только борьба самого народа приведет к его освобождению.
Реакционные и либеральные писатели и публицисты, поддерживая правительственный путь борьбы с революционным движением, путь минимальных
- 357 -
и, по возможности, замедленных реформ, пытались представить в виде типичных черт народного характера покорность, пассивность, религиозность, доходящую до мистицизма и аскетизма. Они рисовали своих героев вне социальных противоречий и условий времени и сводили все проблемы к отвлеченно-моральным вопросам. Вопрос о крепостном праве либо совсем выпадал из их поля зрения, либо подменялся противопоставлением либерального, просвещенного помещика злому, безнравственному барину.
С. В. Васильев.
Первый исполнитель роли Тихона в драме Островского «Гроза». Фотография. 1870-е годы (?).Положение крестьян, их быт и мораль в произведениях этих писателей осмыслялись с позиций, близких к славянофильским и почвенническим; в художественном же стиле их пьес ощущалась тенденция подражания драматургии Островского славянофильского периода.
Прямым подражанием славянофильским пьесам Островского является комедия А. Красовского «Жених из ножевой линии», автор которой пытается найти «народный» тип в среде купечества. «Широкой натурой», честной и прямой, он представляет темного, грубого торговца, гордого своим капиталом самодура, учиняющего дебош в пьяном виде. Купец Мордоплюев противопоставляется в пьесе испорченному «просвещением», подражанием дворянам купеческому сыну Перетычкину и корыстолюбивым обедневшим чиновникам-дворянам.
Несмотря на убогость содержания и слабость художественной формы, эта пьеса имела некоторый успех на сцене, так как талантливые артисты сумели создать в спектакле реальные бытовые образы, хотя пьеса давала для этого в сущности мало материала.
Чернышевский в статье о пьесе «Бедность не порок» упомянул Красовского, как одного из эпигонов славянофильских пьес Островского. Рядом с Красовским он назвал А. А. Потехина, автора драм, ставящих вопрос о народном характере на материале крестьянского быта.
Алексей Антипович Потехин (1829—1908) начал печататься в 1852 году. В этом году в «Современнике» были опубликованы его очерки провинциальной жизни «Забавы и удовольствия в городке». В 1854 году в журнале «Москвитянин» появились одна за другой драмы Потехина: «Шуба овечья — душа человечья», «Суд людской — не божий», в 1855 году в «Отечественных записках» — «Чужое добро в прок не идет». В 1856 году в числе других литераторов Потехин принял участие в литературной экспедиции по изучению Поволжья. Сотрудничал в «Москвитянине» и других журналах. Его перу принадлежит ряд романов и рассказов из крестьянской жизни: «Тит Софроныч Казанок», «Крестьянка», «Хай-девка», «Хворая» и другие, а также либерально-обличительные романы: «Бедные дворяне»,
- 358 -
«Крушинский». Пьесы Потехина пользовались большим успехом на сцене. Постановка некоторых его пьес запрещалась цензурой («Мишура», «Отрезанный ломоть», «Вакантное место»). В 1881—1882 годах А. А. Потехин участвует в работах комиссии по реформе казенных театров, в 80-х годах он заведует репертуарной частью Александринского театра, а затем становится управляющим драматическими труппами императорских театров.
В. В. Самойлов.
Фотография.Драма «Шуба овечья — душа человечья» является продолжением разработки сюжета романа А. Потехина «Крестьянка» («Москвитянин», 1853). В романе «Крестьянка» рассказывалось о судьбе девушки Анны Ивановны, выкупленной из крепостной зависимости и воспитанной управляющим-немцем, о ее отношениях с молодым помещиком, который увлекся ею, но отказался от брака, когда узнал о «низком» происхождении своей невесты. Дальнейшая судьба Анны Ивановны показана в пьесе «Шуба овечья — душа человечья».
Героиня появляется здесь в качестве гувернантки в доме богатой помещицы Софьи Павловны. Выкупив своего брата Зосиму на волю, Анна Ивановна задолжала помещице тысячу рублей и, таким образом, оказалась в зависимости от нее. Софья Павловна пользуется этим и хочет насильно выдать Анну Ивановну замуж за покровительствуемого ею Перконторова. Спасает девушку от брака с ненавистным ей человеком богатый либеральный помещик Радугин, который дает Зосиме денег для уплаты долга, а затем женится на Анне Ивановне. Пьеса заканчивается восклицанием Зосимы: «Господи, что как бы побольше было эких людей на белом свете! Вот барин, так барин!..».1
Идеализация положения крепостных и их взаимоотношений с управляющими и помещиками, имевшая место в романе, особенно ярко выразилась в драме. Потехин как бы торопится в драматическом произведении уничтожить все конфликты, которые возникали в романе, сгладить все противоречия, мысль о которых могла возникнуть в сознании читателя. Если в романе изображался молодой дворянин, не способный победить свои сословные предрассудки, то в комедии центральным героем делается противостоящий надменной барыне Софье Павловне либерал Радугин, который вступает в брак с героиней-крестьянской, чтобы показать, что он умеет «ценить благодарство во всяком».
Писатель стоит на умеренно-либеральных позициях, в его пьесе нет обличения крепостничества, социальный протест подменяется морализацией.
Потехин учит дворян-помещиков «гуманному», «либеральному» обращению с крестьянами, осуждает грубый деспотизм. При этом он не рисует типичных для крепостного права положений, не касается существа крепостничества. Героиня пьесы, крестьянка Анна Ивановна, свободна, она не крепостная хозяйки дома, где служит, и ее зависимость от помещицы
- 359 -
Софьи Павловны не только случайна, но и основана на недоразумении. Брат Зосима, выкупленный ею, располагает суммой, которую задолжала Аннушка помещице, он только случайно оказывается в городе без денег и вынужден прибегать к займу. Таким образом, материальной зависимости гувернантки от помещицы в пьесе по сути дела не существует. Подлинный жизненный конфликт в пьесе отсутствует, коллизия основана на случайности и на особенностях характера ревнивой и тиранической помещицы, а еще в большей мере на чрезвычайной деликатности и самоотверженности Анны Ивановны, которая не сочла возможным написать брату о том, в каком положении она оказалась. Потехин всё время подчеркивает, что Анна Ивановна особенная, из ряда вон выходящая натура, тем самым как бы оправдывая в глазах читателей и зрителей-дворян женитьбу на ней Радугина. В характерах Анны Ивановны и Зосимы на первый план выдвигаются покорность, кротость, готовность подчиниться воле дворян-помещиков. Эта покорность преподносится Потехиным не как следствие крепостного права, подавленности и забитости крестьян, а как выражение свойственного им христианского всепрощения. Зосима смиренно берет на себя вину за столкновение с барыней, во время которого барыня всячески оскорбляла его и издевалась над ним. Вместе с тем Зосима не испытывает страха перед богатой помещицей, чувства зависимости, которое было бы естественно в забитом и бесправном крестьянине.
Г. Н. Федотова.
Фотография. 1868 (?).Вопреки исторической правде, Потехин представляет крепостных крестьян как лиц, защищенных законом. «Не бессудная у нас земля», — говорит Зосима, наставляя Анну Ивановну не бояться угроз барыни.
Крепостное право не показано в пьесе как главное зло, питающее самоуправство помещиков. Выкуп Зосимы из крепостной неволи мотивируется не тем, что жизнь под властью помещиков крайне тяжела, а разладом в семье Зосимы, не ужившегося со своим отцом.
Таким образом, конфликт, на котором основана пьеса, не отражает подлинных противоречий жизни: не материальная или социальная зависимость заставляет героиню испытывать гнет, а случайность и недоразумение. Еще более случайна развязка пьесы, совершенно неправдоподобная. Автор считает, что все отношения между помещиками и крестьянами можно «уладить», если помещики откажутся от спесивого презрения к крестьянам и от «незаконных» форм их притеснения.
- 360 -
Чернышевский отрицательно отнесся к этой драме Потехина. В статье «Об искренности в критике», полемизируя с «Отечественными записками», он заявил, что «в основании драмы г. Потехина „Гувернантка“ (т. е. „Брат и сестра“?1) лежит мысль фальшивая и аффектированная...» (II, 261).2 С фальшивостью мысли автора Чернышевский связывал и антиреалистический стиль пьесы и ее художественную слабость (статья о пьесе «Бедность не порок»). Либеральные и консервативные критики, напротив, очень высоко оценили эту пьесу. Критик «Отечественных записок» (1854, апрель), например, утверждал, что в основании драмы Потехина «лежит мысль умная, благородная». Он признавал, что брак Анны Ивановны с Радугиным «идеален» и может «показаться чем-то несбыточным». И, опираясь на требования идеалистической эстетики, утверждавшей, что искусство должно украшать жизнь, «возводить ее в идеал», критик отстаивал право Потехина «допускать идеальное в своих произведениях». «Отечественные записки» противопоставляли Радугина героям Тургенева и, признавая, что «родственные» Радугину герои Тургенева «вернее по отношению к действительности», отдавали предпочтение герою Потехина, который «поддерживает свой идеальный характер» женитьбой на Анне Ивановне.
Характерно, что к этому мнению «Отечественных записок» о герое драмы Потехина и о необходимости изображения «идеальных» типов в литературе присоединился «Москвитянин» (1854, № 10).
Через несколько месяцев в том же «Москвитянине» появляется новая пьеса Потехина, посвященная целиком изображению «идеальных» народных типов.
Пьеса «Суд людской — не божий» рисовала драму, происходящую в крестьянской семье. Зажиточный крестьянин Николай Спиридоныч, «обуянный гордыней», не хочет благословить свою дочь Матрену на брак с ее возлюбленным — бедным сиротой Иваном. Матрена «нарушает закон» морали и религии, сближается с Иваном без отцовского благословения. Она тяжело переживает свой грех. «И висит над тобой гроза великая... И боишься ты этой грозы больше огня-полымя... И не будет тебе радости», — предсказывает ей деревенский знахарь (IX, 23). Отец узнает о проступке дочери и проклинает ее. Матрена сходит с ума и убегает из дому. Раскаявшийся Николай Спиридоныч прощает Ивана и отправляется с ним на богомолье в Киев. На обратном пути он встречает Матрену, ставшую юродивой. Матрена приходит в себя, дает обет безбрачия и возвращается к отцу. Иван идет в солдаты.
Претендуя на изображение народных характеров, Потехин пытается представить религиозный мистицизм, аскетизм, как черты народного характера. Предрассудки, суеверия отсталой части крестьянства изображаются им как необходимый элемент народного быта, непонятный испорченному материализмом и рационализмом уму интеллигенции.
В драму введена сцена, рисующая барина, не способного понять глубину религиозных переживаний народа, оценить чистоту духа и всепрощающую кротость крестьян. Проезжий барин посмеивается над юродством Матрены.
Автор устами героев осуждает «вольнодумство» барина. Юродство Матрены он изображает как высокий религиозный экстаз, на который способны крестьяне. Деревенский знахарь выступает в пьесе как прорицатель,
- 361 -
предсказывающий судьбу односельчан; исцеление героини происходит чудесным путем.
А. А. Потехин.
Фотография. 1860-е годы.Крестьянам приписывается аскетическая мораль, отречение от земных радостей во имя служения богу. Герои сурово осуждают свой «грех» и считают, что только полное отречение от счастья может искупить его.
Причиной их несчастий и страданий являются не общественные условия, а собственная греховность. Крепостное право не нашло отражения в пьесе. Судьба героев и их переживания даются в отвлечении от социальных условий, в плане моральных абстракций. «Мое горе от души, да от сердца...», — говорит Иван (IX, 87).
Основываясь на таком реакционно-романтическом взгляде на народный характер, Потехин не мог, конечно, создать живые, реалистические образы крестьян. Герои его представляют собой схематические, лишенные индивидуальных черт и социальной характеристики, бледные фигуры.
Гордый и чрезмерно строгий вначале и кроткий в конце, Николай Спиридоныч, экзальтированная Матрена и удалой Иван, у которого «молодая кровь по суставам гуляет», приходят в конце концов к смирению и терпению, вере в бога и покорности судьбе.
Пьеса Потехина «Чужое добро в прок не идет» по своей проблематике близка к драме «Суд людской — не божий», хотя в художественном отношении она и совершеннее. Действие и здесь происходит в крестьянской семье. Произведение рисует разложение богатой патриархальной крестьянской семьи, разлад между ее членами, пьянство и гульбу, а затем и борьбу за овладение найденными деньгами, доходящую до покушения на отцеубийство. Потехин связывает описываемые им явления не с влиянием власти денег, страстью к наживе, а с моральными моментами. Семья крестьянина Степана Федорова богата — Степан Федоров содержит постоялый двор, и все члены семьи (кроме глуповатого, кроткого Алексея) помышляют об обогащении, о накоплении денег. Несмотря на это, семья Степана Федорова рисуется Потехиным в начале пьесы как крепкая патриархальная семья, живущая по законам «народной морали»: «Да, да, всякому российскому человеку, православному, велю поучиться у тебя, — говорит Степану Федорову купец Кузьма Федотыч. — Вон каких молодцов сыновей выкормил, а все у него в полном повиновении и послушании, никто из его воли родительской не выходит, и не выйдет, потому, сам добрый пример во всем подает» (IX, 255). Началом «падения» семьи Степана Федорова Потехин считает первый аморальный поступок ее членов — попытку утаить найденные деньги. Отсюда начинается путь к полному разладу, разложению и даже преступлению. Потехин не связывает первый проступок Степана Федорова и его сына Михайла со всем бытом кулацкой семьи. Он видит в нем лишь проявление «слабости человеческой», «дьявольского искушения». Предпосылкой
- 362 -
проступка Михайла является его «широкая натура», склонная к загулу, удали, своеволию.
Как и Ап. Григорьев, который усматривал в русском народе два типичных характера — «буйный» и «кроткий», Потехин соответственно изображает двух сыновей Степана Федорова: буйного, удалого Михайла и кроткого, покорного и любящего Алексея. Первая же сцена — разговор Михайла и Алексея — вскрывает различие их характеров и определяет дальнейшую роль Михайла в пьесе. Михайло способен преступить нравственный закон, его бурный темперамент приводит его к увлечениям, падению, чувство же нравственного долга заставляет его раскаиваться в своих поступках. Развращает Михаила, толкает его на путь преступления камердинер помещика — Леонид Константинович, развращенный и аморальный.
Победителем в моральной борьбе, развернувшейся в пьесе, является кроткий Алексей, который спасает от гибели отца, изобличает камердинера, обращает на путь истины Михайла и его жену, а затем мирит всех и толкает отца на возвращение купцу потерянных им денег. Такое возвеличение смиренного, простодушного (другие действующие лица драмы называют его «дурачком») героя характерно как выражение славянофильской идеализации смиренного крестьянина. Пьеса кончается поучением. Раскаявшийся Михайло говорит: «Алешунка, брательник, всех нас умнее. Он мне дело говорил, что та только и жисть, коли родительской заповеди слушаешь, да из родительской воли не выходишь, да своим трудом живешь, а не чужим, — вот так и есть...» (IX, 349). В этих словах, конечно, не следует усматривать осуждение эксплуатации или кулацкого хищничества. Они содержат лишь поучение: не желать чужого добра. Таким образом, сюжет, дававший, несмотря на случайность завязки (находка кошелька), возможность развернуть социальную драму, конфликты которой были бы типичны для описываемой действительности (кулацкая жажда наживы, ведущая к преступлению), не был использован Потехиным в этом направлении. Пьеса превратилась в историю морального падения человека и семьи под влиянием «страстей» (загул, жадность), внезапно заканчивающуюся раскаянием на краю пропасти. (Идея пьесы близка к славянофильской драме Островского «Не так живи, как хочется».) Такая трактовка сюжета придавала ему мелодраматический оттенок, который поддерживался схематической обрисовкой характеров. Талантливые актеры-реалисты, исполнявшие эту пьесу, придали социальную окраску и психологическое наполнение ее образам и обеспечили ей успех на сцене. Особенно удачно было исполнение Мартыновым роли Михайла.
После написания пьесы «Чужое добро в прок не идет» Потехин на несколько лет отошел от драматургической деятельности, а затем обратился к иным темам, сделав основным содержанием своей драматургии либеральное обличение административного аппарата и нравов чиновничьей и помещичьей среды.
Вопросы о положении народа, о крепостном праве, которые вследствие идейной позиции Потехина искаженно рисовались в его пьесах, вставали и перед Островским. Уже в июле 1855 года Островский задумал пьесу «Воспитанница», в которой изображался бы «деревенский быт богатой помещицы, со всем ее антуражем, — воспитанницами, приживалками, горничными, лакеями».1 Однако осуществить свой художественный замысел Островский смог не сразу. В 1855 году писатель отложил работу над пьесой и
- 363 -
продолжил ее лишь в 1858 году («Воспитанница» была напечатана в № 1 «Библиотеки для чтения» за 1859 год).
Быт помещицы и зависимых от нее людей Островский изображал совершенно иначе, чем Потехин. В центре его внимания стоят крепостнические порядки, господствующие в доме помещицы и связанные не с ее индивидуальным характером, а со всей ее социальной практикой. Самодурство барыни проистекает из того, что она неограниченно владеет людьми. «Девки» работают на нее в девичьей, слуги молодые и старые принадлежат ей, и цель их существования в ее глазах — обслуживание нужд своих господ. Самое ее общественное положение делает невозможным гуманное отношение к крепостным, как к подобным себе людям (чему хотел научить господ Потехин). Тень крепостнических отношений лежит и на тиранической барыне, и на ее избалованном сыне, и на психологии дворовых. Крепостничество превращает юного, нежного и доброго Леонида в негодяя, без жалости и колебания губящего девушку, лишает чувства человечности и собственного достоинства старых дворовых, которые наставляют молодого барина: «Всё, сударь, ваше и мы все ваши будем» и уговаривают его поступать, «как все молодые господа поступают». Тень крепостнических отношений распространяется на всю жизнь общества. Владелица двух тысяч душ, Уланбекова становится полноправной хозяйкой не только в своем поместье, но и в городе. Городничий и другие чиновники подчиняются ей как слуги. Даже губернатор вынужден исполнять ее волю и назначать на должности чиновников, угодных ей. Помещица насильно выдает замуж и женит не только своих крепостных, но и невест в городе, чиновников и даже лавочника, которого она принудила повиноваться ей через городничего и протопопа. Естественно, что свободная девушка — воспитанница, живущая в ее доме, оказывается в полной зависимости от помещицы. Положение ее ничем не отличается от положения крепостной, заступиться за нее некому. Вся округа и, в конечном счете, вся страна во власти помещиков, угнетаемые бесправны. Островский возлагает на помещиков ответственность за страдания народа.
В основе сюжета пьесы лежит типичный для общества конфликт.
«Драматические коллизии и катастрофа в пьесах Островского все происходят вследствие столкновения двух партий — старших и младших, богатых и бедных, своевольных и безответных», — писал Добролюбов (II, 53). И действительно, в «Воспитаннице» показано безграничное господство самодуров-помещиков и полное бесправие находящихся в их власти лиц. В ходе пьесы героиня Островского сталкивается воочию с законом крепостнических отношений и убеждается в полной своей бесправности: для нее невозможно даже то скромное счастье бедных, живущих своим трудом людей, о котором она смела мечтать в начале пьесы. У героини возникает неосознанное чувство возмущения и протеста — «то горькое, рвущее чувство, которое, — по словам Добролюбова, — заставляет человека бросаться без памяти... в воду, так в воду, в объятия первого встречного, так в объятия» (II, 121).
В этом изображении слабого еще и неосознанного протеста Нади Островский приближался к показу свободолюбия и сопротивления угнетению, как типичной черты русского народа, осуществленному в «Грозе».
«Воспитанница» противостоит пьесам Потехина также и тем, что Островский показывает трагизм самой действительности, ее «естественного», принятого за непреложный закон в современном обществе хода, не вводя в него никаких «необычайных происшествий» и мелодраматических эффектов: «В этом произведении, — писал Добролюбов, — вовсе нет резких и грубых черт, к каким прибегают иногда писатели для того, чтобы ярче выставить пошлость и гадость изображаемого ими предмета... С первой до
- 364 -
последней сцены — перед нами действительная жизнь, наша русская — жолтенькая (по выражению одного из лиц пьесы) жизнь, близкая и знакомая всем нам» (II, 460). Типична социальная действительность, изображенная Островским, типичны и образы его пьес, наделенные социальной и индивидуально-психологической характеристикой.
Реалистическое изображение и резкое обличение крепостного права и быта помещиков в «Воспитаннице» Островского делали эту пьесу чрезвычайно близкой критикам — революционным демократам. Произведение это отрицало крепостное право как систему, внушало ненависть ко всем проявлениям крепостничества. Вот почему Добролюбов приветствовал появление «Воспитанницы» и сделал эту пьесу одним из опорных моментов своей характеристики творчества Островского в статье «Темное царство». Вот почему это произведение высоко оценили Писарев и Салтыков. «Воспитанница» Островского пользовалась большим успехом у читающей публики, несмотря на то, что цензурный запрет препятствовал ее проникновению на сцену.
В 1864 году либеральный драматург В. А. Дьяченко написал в подражание «Воспитаннице» Островского пьесу «Гувернер». Дьяченко разрабатывал тему трагической судьбы бедной воспитанницы в либерально-обличительном плане, преподнеся в конце драмы устами француза-гувернера и героини — бедной девушки, урок злой ханже — барыне и ее сыну. Пьеса была проникнута либеральным морализмом и насквозь фальшива.
«Воспитанница» Островского во многих отношениях подготовила в творчестве Островского «Грозу». Ряд тем, которые были намечены в «Воспитаннице», нашли свое развитие в «Грозе». «Гроза» Островского еще в большей мере, чем «Воспитанница», противостоит, в отношении трактовки вопроса о народности, славянофильской литературе и «народной драматургии» Потехина. Островский создает обобщенный образ купеческого темного царства, показывает действительные черты купеческого быта, который идеологи «Москвитянина» пытались объявить миром полного проявления «органических народных начал».
Замечательно, что через всю драму Островского проходит не связанный, на первый взгляд, с действием, но чрезвычайно важный по существу образ старой барыни, как бы олицетворяющий собой крепостничество, неразрывными узами связанное с темным царством купечества.
Отмечая, что «Гроза» является самым «решительным» произведением Островского по силе реалистического обобщения фактов действительности и обличения социального зла, Добролюбов указывал, что «Гроза» вместе с тем наиболее оптимистическое произведение драматурга, ибо в ней отразились настроения протеста, характерные для русского общества конца 50-х — начала 60-х годов, сознание внутренней слабости самодуров и вера в силу сопротивления угнетаемых угнетателям.
Добролюбов особенно ценил «Грозу» за то, что драматургу удалось здесь создать «решительный, цельный русский характер» (II, 348), типичный для народа, способного отстаивать свои права. Характер Катерины, указывает Добролюбов, по преимуществу «характер созидательный». Она хочет, чтобы всё вокруг было прекрасно и разумно, поэтому она решительно не может примириться с законами «темного царства» и вступает с ним в борьбу. Борьба эта для героини кончается трагически, но пьеса пронизана оптимизмом, ибо Катерина — типичная представительница народа, а если народ не желает мириться с темным царством эксплуатации и угнетения, темное царство обречено на гибель. Добролюбов противопоставляет Катерину, представительницу «новой фазы нашей народной жизни», «маленькому
- 365 -
человеку» — герою литературы 40-х годов и «лишнему человеку». Еще больше противостоит Катерина героям «народных драм» Потехина. В драме Островского можно усмотреть элементы прямой полемики с Потехиным, в особенности с его пьесой «Суд людской — не божий».1
Сознанию своей греховности, аскетизму героев Потехина, проповеди морали отречения от личного счастья во имя утверждения «незыблемости устоев», содержащейся в драме Потехина, Островский противопоставляет оптимистический образ своей героини, которая, несмотря на то, что не может до конца порвать с предрассудками среды, всей душой стремится к счастью и приходит к отрицанию «устоев» «темного царства». Островский создает истинно народный образ свободолюбивой, полной жизни и не сгибающейся перед законами «темного царства» Катерины. В «Грозе» Островский явственно показал свою солидарность с революционно-демократической критикой, прежде всего со статьей Добролюбова «Темное царство».2
Такая трактовка характера положительного героя нашла свое развитие в творчестве Островского 60—70-х годов, причем Островский, несомненно, учитывал оценку его героини Добролюбовым.
В одно время с «Грозой» была создана драма Писемского «Горькая судьбина» (напечатана в «Библиотеке для чтения», 1859, № 11). По теме «Горькая судьбина» близка к «Грозе», однако трактовка изображаемой действительности и трактовка героев в ней совершенно иные.
Писемский не принадлежал к числу писателей, стремившихся уйти от основных конфликтов действительности, замазать и смягчить противоречия жизни в своих произведениях. В драме «Горькая судьбина» он изобразил быт крепостной деревни и коснулся основного вопроса эпохи — вопроса о взаимоотношениях крестьян и помещиков, показал темноту и бесправие крепостных, насилия, которые чинят бурмистры, произвол чиновников. Однако особенности позиции Писемского привели к тому, что он не стал в один ряд с Островским, не оказался писателем, близким революционной демократии.
Анализируя очерки и рассказы Писемского 1856 года, резко обличавшие темные стороны действительности, Чернышевский указывает, что писатель не умеет правильно осмыслить наблюдаемые им социальные явления:
«В „Очерках из крестьянского быта“ г. Писемский тем легче сохраняет спокойствие тона, что, переселившись в эту жизнь, не принес с собой рациональной теории о том, каким бы образом должна была устроиться жизнь людей в этой сфере. Его воззрение на этот быт не подготовлено наукою — ему известна только практика, и он так сроднился с нею, что его чувство волнуется только уклонениями от того порядка, который считается обыкновенным в этой сфере жизни, а не самым порядком... Он не хлопочет о том, чтобы существующая система сельского хозяйства заменилась другою... Он не судит существующего» (IV, 571).
Писемский стремился в своей драме показать положительный народный характер, изобразить независимую, сильную натуру из среды крестьянства.
- 366 -
Однако проблему положительного народного характера Писемский решал на основе почвеннических теорий «молодой редакции» «Москвитянина». Не революционная, выступающая против всех форм угнетения и насилия свободолюбивая личность, а широкая, неорганизованная, «своевольная» натура противопоставлена им слабому помещику и творящему беззакония бурмистру.
Добролюбов указывал, что глубоко ошибочное толкование характера протестующей личности из народа приводит Писемского в ряде случаев к прямому искажению действительности (см. статью Добролюбова «Забитые люди», II, 379). В статье «Луч света в темном царстве» Добролюбов показывает, что внутренним содержанием теории «широкой натуры» является реакционное представление о необходимости «обуздания народа», о разрушительности народного протеста и пагубности развязывания инициативы народа: «...„Горькая судьбина“, рисуя нам Анания Яковлева, говорит: „вот каков русский человек, когда он почувствует немножко свое личное достоинство и, вследствие того, расходится!“» — пишет Добролюбов (II, 346). Гордость и независимость Анания Яковлева основаны на сознании своего «достатка», на том, что он «раздышался» и «мнением своим... выше купца какого-нибудь себя ставит».1
К беднякам-односельчанам Ананий Яковлев относится с еле скрываемым презрением, к барину — с уважением и почтением. Герой Писемского не думает оспаривать права помещика, не возмущается всем укладом крепостнических отношений, он нашел свое место в этой системе и доволен своим положением. В отличие от протестующих героев Островского, которые не могут примириться с общепринятым порядком вещей, с «желтенькой» жизнью, признаваемой за норму, Ананий Яковлев волнуется только «уклонениями от того порядка, который считается обыкновенным» (Чернышевский, IV, 571).
Подобно Зосиме в драме Потехина «Шуба овечья — душа человечья», Яковлев уверен в том, что существует закон, охраняющий права крестьян, и что на основании этого закона крепостной может «судиться» с помещиком. Споря с Лизаветой, которая пытается сослаться на принуждение со стороны помещика, Ананий повторяет ту же поговорку, которой объяснял свою «смелость» Зосима: «Теперь тоже, сколько ни велика господская власть, а всё-таки им, как и другим прочим посторонним, не позволено того делать. Земля наша не бессудная: коли он теперича какие притеснения стал делать, я бы, может, и до начальства дорогу нашел, — что́ ж ты мне, бестия, так уж оченно на страх-то свой сворачиваешь, как бы сама того, срамовщица, не захотела!».2
Свой гнев против беззакония и помещичьего произвола «своебышный» Ананий Яковлев обрушивает на головы слабых и беззащитных, зависимых от него лиц: жены и ребенка. Вся «сила» его «широкой натуры» обращается на то, чтобы показать свою власть над домашними. На жену, которую насильно выдали за него замуж, он смотрит как на купленную вещь, ее попытки противопоставить свою волю его намерениям и решениям приводят его в неистовство. Добролюбов указывал, что в лице Анания Яковлева Писемский пытался возвести в идеал и провозгласить выразителем «народных начал» представителя «темного царства». Критик-демократ заявлял, что Островский «умел почувствовать, что такое значит подобная широта
- 367 -
натуры, и заклеймил, ошельмовал ее несколькими типами и названием самодурства» (II, 332).
Писемский же солидаризируется со своим героем, любуется его слепой, стихийной силой, так же как и выражающим обратную сторону его «бунтарства» смирением и всепрощением, к которому обращается Ананий Яковлев в конце пьесы. Нарушающая «исконные» «законы» семейного быта народа, изменяющая нелюбимому мужу и восстающая против его воли, Лизавета осуждается автором.
Таким образом, слабой стороной пьесы «Горькая судьбина», значительно снижавшей реалистическую обличительную силу произведения, было искаженное представление о типическом русском народном характере, которое нашло свое отражение в центральном образе пьесы. Писемский не сумел рассмотреть и изобразить подлинных носителей народного протеста против крепостного права, не сумел показать типических форм, в которых выражается протест, и основать на этом действие драмы. Вот почему Салтыков, утверждавший, что содержанием драмы может являться только борьба и главным образом борьба между «естественными потребностями, склонностями людей и силой угнетения», не удовлетворился драматическим развитием «Горькой судьбины». «Сила естественная и... разумная, но вследствие разных причин попранная и непризнанная, представляется в борьбе с силою искусственною и... неразумною, но, вследствие тех же причин, торжествующею и установившеюся — вот единственный материал, из которого может возникнуть действительное драматическое положение», — утверждает Салтыков-Щедрин и намечает примерный «ход драмы», явно перекликающийся с ходом развития действия в «Грозе» Островского: «Отовсюду окруженное враждебностью и препятствиями, всякое требование такого рода на первых порах, невольным образом, облекает себя известною таинственностью, и прежде чем придет к мысли о необходимости открытой борьбы с враждебными силами, внутри самого себя испытывает известную борьбу. Эта внутренняя тайная борьба, предшествующая борьбе явной, отнюдь не может быть названа продуктом человеческого малодушия или слабости — это просто законная потребность человеческого духа, в силу которой человек прежде всего ищет ориентироваться и уяснить свое положение. Затем уже следует переход борьбы из тайной в явную, затем развязка...» (V, 168). «Горькая судьбина», по мнению Салтыкова, строится иначе: Писемский не передает в своем произведении динамики борьбы, зарождения протеста и развития его.
Несмотря на слабые стороны, отмеченные революционно-демократической критикой, драма Писемского «Горькая судьбина» в целом явилась всё же реалистическим произведением, яркой картиной беззаконий, насилий и издевательств, которым подвергаются крестьяне со стороны помещиков и чиновников. Писемский создал ряд типических образов забитых, темных крестьян, доведенных угнетением и бесправием до забвения своего человеческого достоинства.
Колоритна выведенная в пьесе фигура бурмистра Калистрата, носителя и хранителя заветов патриархального крепостничества; он свирепо притесняет крестьян, защищая интересы барина, но особенно жестоко преследует тех, кто осмеливается разоблачать его плутни и темные дела. Писемский как бы пытается переложить ответственность за все беззакония, происходящие в деревне Соковина, с помещика на его «усердного» бурмистра, которому неопытный и слабый Чеглов-Соковин во всем доверяет. Однако то обстоятельство, что «мягкосердечный» барин, субъективно признающий человеческое достоинство крепостных, всё же на каждом шагу попирает его, особенно
- 368 -
ярко выявляло степень порабощенности крестьянства, пагубность власти помещиков. Замечательна в этом отношении сцена объяснения Чеглова-Соковина с Ананием Яковлевым, когда в ответ на предложение либерального барина стреляться, крепостной крестьянин резонно напоминает ему, что поединок между ними невозможен, так как они не равны перед законом: «...наша кровь супротив господской ничего не стоящая, и мы наказанье только потерпеть за то можем».1
Писемский показывает судебное разбирательство, которое неизбежно обращается против крестьян и приводит к оправданию помещика. Таким образом, перед читателями и зрителями драмы возникала мрачная и убедительная картина жизни крепостной деревни. Реальное изображение темноты и забитости крестьян, их бесправного положения воспринималось, помимо воли автора, как основное содержание драмы, отодвигая на второй план моральную проблематику пьесы, которой сам Писемский придавал столь большое значение. Ряд сцен драмы по своей суровой правдивости прямо противостоит идеализации крестьянского быта в пьесах Потехина.
Реалистическое содержание драмы особенно ярко выступило при постановке ее на сцене, когда такие артисты, как, например, замечательная исполнительница роли Лизаветы — Стрепетова, подчеркнули обличительные ее моменты и наполнили ее духом протеста.
Консерватизм Писемского сказался с большей отчетливостью в его драматургии конца 60-х годов, которая по своим художественным достоинствам гораздо ниже «Горькой судьбины». В драме «Самоуправцы» (1867) патриархальный помещик — «самоуправец» и самодур князь Платон противопоставляется вольнодумцу и вольтерьянцу князю Сергею (действие пьесы происходит в конце XVIII века). Князь Платон, который выстроил специально в своем доме подвалы для того, чтобы пытать крепостных, и затем заключил в эти застенки неверную жену и ее любовника офицера Рыкова, оправдывается автором, как широкая натура, одержимая большими страстями и способная на жестокие и великодушные поступки. Совершая жестокости, князь Платон терзается тем, что не может победить свои страсти, ищет смерти в бою и, будучи смертельно ранен, «завещает» жену своему врагу Рыкову и наделяет ее богатым наследством. Рыков, освобожденный взбунтовавшимися крестьянами из застенка, становится сразу на сторону издевавшегося над ним и мучившего его «своего брата дворянина» (выражение этого героя), называет освободивших его крестьян «сволочью» и начинает «усмирять» их. Именно этот поступок Рыкова убеждает князя Платона в «благородстве» его соперника и приводит к их примирению. Таким образом, не произнося сурового приговора «стихийному» самоуправству помещика, Писемский осуждает «самоуправство» крестьян, вынужденных оказать сопротивление помещику. Как и в «Горькой судьбине», Писемский в «Самоуправцах» наглядно показывает зависимость суда от помещиков, однако, тут же устами своего героя Рыкова утверждает, что только через суд можно требовать у «благородного человека» отчета в его поступках.
В позднейших пьесах Писемского теория «широкой натуры» получила развитие. В трагедиях «Бывые соколы» (1868) и продолжающей ее «Птенцы последнего слета» Писемский сосредоточивает свое внимание на изображении «особенных натур». Крепостническое самоуправство и самодурство предстает здесь уже окончательно как следствие специфического психологического склада, присущего отдельным личностям и целым семьям. Неукротимые страсти и склонность к злодейству, которая якобы передается по наследству,
- 369 -
изображаются в этих пьесах как главный источник дикого помещичьего произвола. Ситуация, составляющая основу сюжета, не типична, социальный конфликт уступает место необычайному происшествию, основанному на столкновениях необычайных характеров. Один из героев трагедии «Птенцы последнего слета» характеризует сущность происходящих в пьесе событий словами из «Макбета» Шекспира: «дела неестественные родят и расстройства неестественные».
Слабые стороны драматургии Писемского сближали некоторые его пьесы с либерально-обличительной драматургией. Подхватывавший «популярные» темы и вульгаризировавший их в своем творчестве, Дьяченко в 1863 году напечатал пьесу «Неровня», в котором изобразил страдания молодой, умной и чуткой женщины, выданной замуж за необразованного, распущенного и пьянствующего помещика. Молодая женщина готова оставить своего мужа ради любимого ею человека, но жалость останавливает ее, и она снова возвращается к безуспешным попыткам перевоспитать мужа. Дьяченко с симпатией рисует «широкую натуру» пьяного безобразника-помещика, хотя и показывает со всей тщательностью издевательства, которым он подвергает жену. Положение молодой женщины представляется ему совершенно безвыходным — героиня может лишь всё терпеть и страдать. Только внезапная смерть мужа (горько оплакиваемого ею) спасает жену от его тирании.
Рассматривая репертуар петербургских театров, Салтыков оценил «Неровню» Дьяченко как выражение «официально принятого» репертуара, к которому публику приучают «строгими мерами» (V, 173).
Произведением, откровенно направленным против идей Добролюбова и драматургии Островского, была драма Лескова (М. Стебницкого) «Расточитель» (напечатана в «Литературной библиотеке», 1867).
В противоположность гуманной идее Добролюбова, утверждавшего, что одна из основных заслуг Островского состоит в том, что он разоблачает темное царство и «восстановляет пред нами достоинство человеческой природы, убеждая нас, что низости и преступления не лежат в природе человека...» (II, 74), Лесков пытается доказать своей драмой, что темное царство насилия и угнетения опирается на несовершенство человеческой природы. Лесков использует для своей драмы сюжет, дающий большие возможности для разоблачения купеческих нравов: он изображает расправу купцов с молодым предпринимателем, пожелавшим прибавить жалование своим рабочим. Расправа эта происходит в обстановке полного беззакония и произвола.
Однако социальное обличение в пьесе отступает на задний план, а зачастую и целиком подменяется моралистическим психологизмом. В центре драмы стоит купец Молчанов, «широкая натура», отличающийся совершенно исключительной чуткостью и правдивостью. Это сильный, «стихийный» характер, способный на внезапные вспышки гнева, своеволия и великодушия. «...Я, наблюдая твой характер, всегда сравниваю тебя с Сарданапалом, именно с Сарданапалом. Ты очень тих, и вдруг ты этак именно являешься Сарданапалом, которого весь век считали бабою, а он вдруг взял и сжег себя», — говорит Молчанову один из героев. И действительно, в конце драмы Молчанов сжигает свое имущество и сам умирает от ожогов. В начале пьесы Молчанов говорит: «я не боюсь врагов, я себя одного боюсь».1 За «душу» героя ведут борьбу злодей-купец Князев, «первый человек в городе», и добрый и честный купец Дрободронов. Князев старается развратить и погубить
- 370 -
Молчанова, Дрободронов — морально просветить его и «наставить на путь истинный».
Добролюбов считал проявлением силы реалистического дарования Островского то обстоятельство, что в произведениях драматурга нет мелодраматических злодеев, что писатель умеет разоблачать несправедливость современных социальных отношений, рисуя привычные формы быта, изображая типичных представителей русского общества.
Лесков идет по другому пути. Главным представителем «темного царства» в своей драме он делает Князева, который рисуется им как исключительная личность, человек, стремящийся к тому, чтобы причинять другим зло. Князеву удается «пробудить зверя» в душе Молчанова. Молчанов отвечает на беззакония Князева открытым сопротивлением, а всякая борьба, по мнению Лескова, трагична.
Нежелание Молчанова мириться с произволом Князева, его попытку сопротивляться Дрободронов осуждает: «...вот эта нежность-то на нашем народе, видишь, чем сказывается. Сам нежен, да и от других всё нежности ждет. А нету ее — он сейчас на дыбы... Если бы ты бы жена-то его была, ну ты бы его сберегла и понежила и не допустила до этой несносливости», — говорит Дрободронов полюбившей Молчанова Марине.1 Единственный путь «просвещения» людей, по мнению Лескова, выраженному в этой драме, — путь морального самоусовершенствования, смирения, религиозного просветления.
Полемика с «Грозой» Островского явно проступает в образе Марины. Некоторые монологи Марины живо приводят на память монологи Катерины в «Грозе» (например, монолог Марины в первом явлении четвертого действия); однако основными чертами характера героини является не свободолюбие, правдивость, готовность сопротивляться насилию, а упрямство, переходящее в конце пьесы в смирение и мистицизм, религиозную экзальтацию. Вместо страха нарушения закона морали, принявшего у героини Островского привычную форму страха перед «грехом», у Марины является страх мистического возмездия за пережитое счастье, аскетизм, проповедь отречения от личного счастья.
Полемика с «Грозой» Островского и Добролюбовым содержится в драме Лескова и в прямом виде. Один из второстепенных героев «Расточителя» прямо сравнивает Князева с героями Островского: «Я, братцы, в Питере жимши, раз в Лександринском театре видел, как критику одну на купцов представляли. Выставлен бедовый купец; ну а всё ему против нашего Фирса Григорьича далеко. Тот всё с бабами больше баталь вел, а гусар его на пароме обругал, он так и голосу против него не выискал. Ну а наш ведь одно слово во всей форме воитель».2
Лесков имеет здесь в виду рассказ о Диком в «Грозе», на который обратил особое внимание Добролюбов, указавший, что в этой черте характера Дикого выразилась типичная для самодуров слабость перед сопротивлением, предвещающая победу народа над «темным царством»:
«Все подобные отношения дают вам чувствовать, что положение Диких, Кабановых и всех подобных им самодуров далеко уже не так спокойно и твердо, как было некогда, в блаженные времена патриархальных нравов» (II, 343).
Лескову чужд революционный оптимизм Добролюбова. Самый народ он изображает, как носителя низменных страстей и инстинктов, как толпу,
- 371 -
которая не может сопротивляться представителям «темного царства», злодеям, ибо каждый человек несет «темное царство», «зло» в своей душе. Лесков утверждает, что никакие социальные изменения и установления не могут победить зла.
Лесков преувеличивает силу «темного царства» и в конце пьесы приходит к мистицизму. Единственное возмездие, которого могут опасаться злодеи в его драме — божий гнев. Драма кончается грозой, которая возвещает «высший приговор» и над Князевым и над «своеволием» Молчанова и Марины (ср. «Грозу» Островского, где Кулигин осуждает боязнь грозы, как предрассудок). Все эти особенности драмы Лескова привели к тому, что, несмотря на резкое изображение в ней нравов провинциального купечества, пьеса эта была причислена Салтыковым-Щедриным к произведениям реакционного направления.
2
Острая идейная борьба развернулась и в драматургии, обличавшей государственный аппарат, бюрократию.
Рост революционного движения крестьянства, поставивший правительство перед необходимостью отмены крепостного права, ставил перед обществом и вопрос о правительственном бюрократическом аппарате. Призванный охранять крепостнические порядки, подавлять всякое проявление сопротивления им, бюрократический административный аппарат был глубоко ненавистен всем передовым людям русского общества, вызывал ненависть и презрение в широких массах народа.
Защитники крепостнических порядков и их либеральные союзники вынуждены были признать, что сохранение в неприкосновенности бюрократического аппарата невозможно. Обнаруживший свою несостоятельность во время Крымской войны, государственный аппарат не мог выполнить задачи, встававшие в связи с подготовкой и проведением реформ. Разоблачая правительственную бюрократию, революционные демократы возлагали ответственность за страдания народа на правительство и показывали непосредственную связь правительственных установлений с крепостным правом.
Либеральные «обличители» бюрократии стремились переложить ответственность за положение в стране с правительства на отдельных «злоупотребляющих» мелких чиновников и внушить читателям уверенность в том, что небольшими реформами государственного аппарата, а главное, перестановками внутри бюрократической системы — назначением «честных» чиновников — можно ликвидировать все «язвы» современного государственного управления. Либерального «честного» чиновника они пытались представить «истинным героем современности», противопоставляя его молодым революционерам.
Вопрос о бюрократии и путях перестройки государственного аппарата нашел свое широкое освещение в драматургии, причем драматургия и литературная критика ярко отразили разные пути, которыми шли революционные демократы и близкие к ним писатели, с одной стороны, либералы и консерваторы, с другой, в решении этого вопроса.
Одним из первых по времени и, безусловно, значительнейшим по своим художественным и идейным достоинствам драматическим произведением, посвященным обличению бюрократии, была комедия Островского «Доходное место» (напечатана в 1857 году в «Русской беседе»). Комедия Островского содержала столь резкое разоблачение бюрократии, что не была допущена на сцену и была поставлена лишь более чем через шесть лет после ее появления в печати (в сентябре — октябре 1863 года).
- 372 -
Главное свое внимание в пьесе Островский сосредоточил на изображении типов бюрократов — от самого мелкого, начинающего карьеру чиновника, до чиновника, стоящего на верхних ступенях бюрократической лестницы. Показывая типические обстоятельства, в которых живут и действуют герои, Островский обличал социальные условия, создающие бюрократов и предопределявшие характер их деятельности. Разоблачение чиновничьего аппарата, как части крепостнического государства, тесными узами связанной со всем миром «темного царства», в «Доходном месте» высоко ценилось Чернышевским и Добролюбовым. Рисуя судьбу «честного чиновника» Жадова, Островский наглядно показывает, что при современном общественном устройстве честный чиновник оказывается парализованным, лишенным возможности благотворно воздействовать на ход дел, изгнанным из среды сослуживцев и даже родственников, обреченным на полуголодное существование.
Островский не пошел по пути идеализации честного либерального чиновника. Он показал, что чиновник, пытающийся «честно трудиться» в рамках бюрократической системы, вынужден рано или поздно изменить своим убеждениям и пойти на поклон к взяточникам. Чернышевский положительно оценил трактовку чиновника-либерала в «Доходном месте» Островского, но указал, что мысль Островского проявилась бы яснее, если бы комедия оканчивалась сценой ренегатства Жадова. Точную формулировку отношений чиновников-взяточников и честного чиновника Жадова дал Добролюбов: «... Вишневский, утвердившись на своей точке зрения statu quo, чрезвычайно логически разбивает в прах все благородные фразы Жадова и, как дважды два — четыре, доказывает ему, что, при настоящем порядке вещей, невозможно честным образом обеспечить себя и свое семейство. Честные способы приобретения слишком ничтожны, да и тех еще не дадут, тому, кто не захочет угождать, а будет противоречить. И это ведь не бедственная случайность, а тяжкая необходимость, вытекающая прямо и неизбежно из системы самодурства, развитой в „темном царстве“» (II, 132).
Мысль о неизбежности взяточничества при бюрократической системе государственного аппарата лежит и в основе небольшой комедии Островского «Старый друг лучше новых двух», напечатанной в 1860 году в «Современнике». Островский показывает здесь, что взяточник — обычная фигура в мире чиновников, а не редкое исключение, как пытались это представить либеральные обличители. Вся система бюрократического управления и всё социальное устройство общества, основанного на эксплуатации, бесправии и угнетении, приводят к взяточничеству.
Эта мысль Островского была очень близка революционным демократам. Некрасов и Добролюбов, совместно читавшие эту пьесу Островского, нашли ее «великолепной».
Обличение бюрократии, как неотъемлемой части эксплуататорского общества, нашло свое развитие в творчестве Островского в дальнейшем, когда «минимальные реформы» в области административного аппарата были произведены и критика администрации либеральной литературой прекратилась. Островский оказался здесь союзником Салтыкова-Щедрина. Так, например, в 1868 году в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» он создает коллективный портрет верхушки дворянства, купечества и бюрократии, тесно связанных между собой, показывает единство их интересов и быта. Островский резко разоблачает в этой комедии либералов. Болтун-фразер Городулин и беспринципный умник Глумов представляют собой чрезвычайно типичные для эпохи фигуры. Особенно замечателен в этом отношении образ Глумова. Молодой человек, ясно видящий пороки и слабости
- 373 -
представителей этого общества, пошлость и бесцельность их жизни, выражает свое «негодование» лишь в дневнике, который хранится у него за семью замками, а весь свой ум, всю свою проницательность употребляет на то, чтобы сделать карьеру, разбогатеть и всеми правдами и неправдами попасть в число презираемых им людей. Салтыков-Щедрин отметил заключенную в этом образе силу обобщения: он ввел Глумова как типичное для эпохи лицо в свои циклы «В среде умеренности и аккуратности» и «Современная идиллия».
В конце 50-х — начале 60-х годов Салтыков написал несколько драматических произведений, в которых ставил острые социальные проблемы современности. В 1856—1857 годах появляются «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина («Русский вестник», 1856—1857, и «Библиотека для чтения», 1857). В этом цикле содержатся первые произведения Салтыкова в драматической форме — драматические сцены и монологи: «Просители», «Выгодная женитьба», «Что такое коммерция», «Скука». В 1858 году Салтыков печатает в «Библиотеке для чтения» драматическую сцену «Утро у Хрептюгина», выделившуюся во время обработки комедии «Смерть Пазухина» в отдельный драматический этюд. В 1862 году появляются драматические сцены Щедрина «Соглашение» и «Погоня за счастьем» (журнал «Время»).
Эти драматические произведения были затем включены Салтыковым в его сатирические циклы: «Утро у Хрептюгина» — в «Невинные рассказы». «Погоня за счастьем», «Соглашение» и новая сцена «Недовольные» под общим заглавием «Недавние комедии» — в «Сатиры в прозе».
Небольшие драматические сцены Щедрина в идейном и жанровом отношении были связаны с реалистической литературой 40-х годов и развивали ее традиции в 60-е годы. Жанр «сцен», «картин» быта, лишенных ярко выраженного сюжета и рисующих типичный для данной среды эпизод, типичные образы ее представителей, был распространен в литературе гоголевского направления и возродился в конце 50-х годов в связи с обращением передовой литературы к традициям реализма 40-х годов. Разрабатывавший этот жанр в 40-х годах, Островский в 1856 году, став сотрудником «Современника», прежде всего перепечатал в журнале написанную им в 1847 году драматическую сцену «Семейная картина». Перепечатка «Семейной картины» имела принципиальное значение в период борьбы Чернышевского за сохранение и развитие традиций Белинского и критического реализма 40-х годов. Из девяти пьес Островского, появившихся в период с начала 1856 года до середины 1861 года, только три написаны в «крупном» жанре, остальные носят подзаголовок: «Картины из московской жизни», «Сцены из московской жизни» и т. д.
«Сцены» или «картины» быта представляют собой драматическую разновидность «физиологического очерка». Не случайно на одном из этапов работы над драматическими картинами «Не сошлись характерами» Островский задумал придать своему произведению форму повести или очерка, а потом снова переработал его в драматическую форму.
«Очерковость» «сцен» или «картин» быта придавала особенную достоверность изображаемому, характер зарисовок с натуры и тем самым увеличивала обличительную силу произведений.
Подобную же особенность очерков Щедрина отметил Чернышевский, причисливший «Губернские очерки» к мемуарам, «относящимся до современной эпохи» и замечательным прежде всего своей полной достоверностью в отличие от рассказов «о приключениях и лицах, создаваемых фантазиею» (III, 699, 700).
- 374 -
Особенностью драматических очерков была также яркость образов, при помощи которых авторы «картин» лаконично и выразительно характеризовали социальную среду через «частный» случай или отдельное лицо.
Замечательным мастером этого жанра был Салтыков.
В сцене «Просители» Салтыков, следуя традиции «физиологической» литературы 40-х годов, дает наглядное объяснение канцелярского термина «просители» и раскрывает таким образом антинародность и бесчеловечность бюрократии. Он показывает, как, придя в бюрократическое учреждение, человек превращается в «просителя», докучное лицо, подвергающееся канцелярской волоките. (Ср. рассуждения чиновника Свистикова в драме Салтыкова «Тени» о значении слова «проситель»: «...покудова человек находится там (указывает на входную дверь), он не Иван, не Сергей, не Петриков, не Свистиков — он проситель. Проситель первый, проситель второй — всё равно как на театре поселяне: поселянин первый, поселянин второй и так далее. Генералу докладывают просто: просители дожидаются, ваше превосходительство, а генерал, в ответ на это, скажет „а!“, а иногда и ничего не скажет, и затем это уж ихнее дело, кого отличить, а кого и без внимания оставить» (IV, 365.) Сцена «Выгодная женитьба» в сжатой форме рисует типичный для среды чиновников эпизод — женитьбу мелкого чиновника на миловидной девушке, которая становится фавориткой его начальника и получает, таким образом, полную власть над мужем. В этой короткой драматической картине Салтыков показывает моральное разложение в среде чиновников. Драматический очерк «Что такое коммерция» вскрывает хищнический характер торговли, звериные законы конкуренции как основу всякой «коммерции».
В сцене «Утро у Хрептюгина» Щедрин рисует «разочарование» купца, надеявшегося за взятку получить чин и обманутого чиновниками. Сцена эта затрагивает вопрос о связи бюрократических верхов с купечеством, проблему, развитую затем в драме «Смерть Пазухина».
Небольшая драматическая картина «Погоня за счастьем» изображает эпизод, связанный с набором штата мировых посредников. Рисуя «методы», которыми набираются мировые посредники, и фигуры претендентов на это место, Щедрин разбивает либеральную легенду о мировых посредниках как защитниках народа, распространяемую либеральной литературой. Эта тема разоблачения «новой», «либеральной» бюрократии проходит и через сцену «Недовольные», где действуют николаевские чиновники, отставленные, но не без основания надеющиеся, что их еще «призовут послужить».
В сцене «Соглашение» бытовой эпизод, рисующий типичные черты помещиков: бестолковость, самодурство, неспособность идти даже на малые уступки, когда дело касается вопроса о материальной выгоде (ср. «Завтрак у предводителя» Тургенева), служит цели политического разоблачения дворянства. Дворяне не могут согласиться на освобождение крепостных и, даже будучи вынуждены признать неизбежность освобождения, стремятся превратить его в средство еще более худшего закабаления крестьян (часть помещиков в сцене Щедрина продает накануне освобождения своих крестьян целыми семьями на фабрику).
Салтыков вскрывает политическую позицию представителей различных социальных групп, действующих в обществе, и индивидуальные черты, которыми он наделяет героев своих сцен, характеризуют их социальное окружение. Даже тогда, когда герой характеризуется чертами, на первый взгляд противоречащими общей оценке среды, к которой он принадлежит, Салтыков делает эти черты ярким средством раскрытия социальных особенностей
- 375 -
группы, которую этот герой представляет. Так, например, князь Чебылкин характеризуется в афише сцены «Просители» как «старец, украшенный сединами, с кротким и благосклонно улыбающимся лицом», дочь его — «благотворительница», «помогающая» «милым бедным». Однако их внешнее добродушие прикрывает хищническую сущность угнетателей народа, богатеющих за счет его трудов и горя. Князь и его дочь являются представителями системы, созданной для подавления и угнетения народа. Таков же метод характеристики «доброго малого», «баловня фортуны» чиновника особых поручений Разбитного, в обязанности которого входит создавать буфер между просителями и князем и не давать слишком тревожить «его сиятельство».
Оставаясь вполне «comme il faut»,1 Разбитной берет большие взятки и за это «направляет» дела по желательному для «просителей» руслу. Методом острой социальной характеристики создаются и образы помещиков: «сентиментального буяна» Забиякина, который пытается перенести приемы своих взаимоотношений с крепостными на городских жителей, и молодого помещика Налетова, подкупающего чиновников, чтобы замять дело об уголовном преступлении, совершенном им в его поместье.
Ряд образов и ситуаций «Губернских очерков» прямо предвосхищает «Дело» и «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина. Например, сцена разговора Разбитного с Налетовым (взимание взятки), образ начальника Змеищева, который характеризуется тем, что носит парик и искусственную челюсть (сцена «Выгодная женитьба») и др.
С циклом «Губернские очерки» непосредственно связана драма Салтыкова «Смерть Пазухина» (напечатана в 1857 году в «Русском вестнике»). Следуя гоголевской традиции и учитывая достижения Островского в его пьесе «Свои люди — сочтемся», которую Чернышевский считал вехой на пути развития реализма в драматургии, Салтыков создает драму, охватывающую жизнь целого общества в его типичных чертах.
Действующими лицами драмы являются: купец-миллионер Иван Прокофьич Пазухин и его наследник Прокофий Пазухин, зять Пазухина — бюрократ, статский советник Фурначев и друг Пазухина, отставной генерал Лобастов. Все они составляют единое общество хищников и стяжателей.
Имея в виду то обстоятельство, что драма посвящена анализу общества, а не рассмотрению отдельного случая, судьбы одного человека или группы лиц, Салтыков первоначально хотел назвать свою пьесу «Царство смерти» (сравни термин Добролюбова «темное царство»). Писатель показывает, как стремление к обогащению, погоня за наживой убивает все человеческие чувства в людях. Жадность к деньгам, жажда наживы, честолюбие заменяют все чувства в этом обществе. Крупный чиновник и николаевский генерал, капиталист и содержанка богача — все они готовы совершить любое преступление, чтобы завладеть богатым наследством или хотя бы урвать часть из него. Они клевещут отцу на сына, чтобы лишить сына наследства, умышленно ускоряют смерть старика, затевая в его присутствии отвратительные сцены, берут взятки с наследника, обещая «уладить» его дела, и обманывают его, затем заказывают по слепку с замка ключ к сундуку Пазухина и пытаются сразу после его смерти ограбить его. Во-время узнав о проделках своих врагов и застав их на месте преступления, наследник не осуждает их, так как они действовали согласно морали среды, в которой он сам воспитан: «На всех я на вас плюю!.. Вы себе добра хотели — кто добра себе не желает!», — заявляет он (IV, 104).
- 376 -
Идя по стопам Островского, Салтыков дает образ готового на любое преступление стяжателя Фурначева («вор и грабитель, статский советник» — так называет его в конце пьесы Прокофий Пазухин) и показывает, что бюрократическая среда воспитала в нем эти качества. Надеясь на то, что ограбление ему удастся, Фурначев мечтает стать откупщиком, а затем, может быть, министром, ибо «жизненную школу», необходимую для реакционного министра-бюрократа, он прошел. Особенно яркий материал для характеристики Фурначева дает его монолог в четвертом действии. Направляясь в комнату покойника с целью похитить деньги, Фурначев лицемерно рассуждает сам с собой о пороке и добродетели, богатстве и бедности, пытается оправдать свои поступки. Лицемерие Фурначева, обрисованное порой гротескными чертами, смещение всех понятий в речи этого героя может быть сравнено только с чудовищным фарисейством речи Тарелкина у своего гроба («Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина).
Все стяжатели и угнетатели народа одинаковы; все они живут по законам хищничества, и Салтыков не противопоставляет законного наследника — Прокофия Пазухина — преступнику Фурначеву и его сообщникам. Пьеса заканчивается многозначительным восклицанием одного из действующих лиц: «Господа! представление кончилось! Добродетель... тьфу бишь! порок наказан, а добродетель... да где ж тут добродетель-то!» (IV, 112). Образом Прокофия Пазухина Салтыков показывает, как влияет материальное положение на личность, характер, психологию человека. В начале драмы Прокофий Пазухин, находясь в немилости у своего отца, располагает совсем незначительным капиталом и торгует «по мелочам». Все окружающие считают его недалеким, бесхарактерным и «пустым» человеком. Он смирен, и его готовы обидеть, его хотят лишить капитала, и он жалок. Но, завладев капиталом, он делается в глазах окружающих умным, сильным, настоящим хозяином. Из забитой жертвы он превращается во властного самодура. «Никого не забуду! Всех наделю! Хромых, слепых, убогих — всех накормлю! А Семена Семеныча в Сибирь упеку», — заявляет Прокофий Пазухин, получив наследство. «Да ты совсем, брат, другой человек стал, почтеннейший Прокофий Иваныч!», — восклицает Лобастов, и Пазухин подтверждает: «Теперича я совсем человек стал другой! теперича я почувствовал, что я со своим с капиталом пользу отечеству принести должен... Прочь с дороги! Потомственный почетный гражданин Прокофий Иванов сын Пазухин идет!» (IV, 104—105).
Рисуя «царство смерти», Щедрин в своей драме обличал представителей буржуазии и бюрократии, как носителей черт, типичных для эксплуататорского общества в целом. Эта особенность драмы Салтыкова была отмечена цензором Нордстремом, не разрешившим постановку этого произведения на сцене: «Лица, представленные в этой пьесе, доказывают совершенное нравственное разрушение общества», — писал цензор (Щедрин, IV, 489).
С революционно-демократических позиций, с позиций отрицания самодержавно-бюрократического строя критикует бюрократию Щедрин в драматической сатире «Тени», над которой он работал, очевидно, около 1865 года. «Тени» не были окончательно обработаны Салтыковым и при жизни автора не печатались. Самое заглавие драмы, изображающей мир бюрократии, «Тени» напоминает первоначальное заглавие «Смерти Пазухина» — «В царстве смерти» и термин Добролюбова «темное царство». Салтыков дает широкую картину жизни общества, рисует ряд типических характеров представителей бюрократии. Основной интерес драматурга сосредоточен на характеристике социальной среды чиновничества. В этом
- 377 -
отношении Салтыков здесь, как и в «Смерти Пазухина», является последователем Гоголя и Островского.
В противоположность либеральным обличителям, утверждавшим, что все злоупотребления совершаются мелкими провинциальными чиновниками, что в этом и состоит «зло» в области административного аппарата, Салтыков разоблачает «верхи» бюрократии, показывает, что кадры бюрократов выковываются в Петербурге, в непосредственной близости к правительственной верхушке и что «обычаи и законы» бюрократического мира, ведущие к насилию над народом и ограблению его, «устанавливаются» в бюрократическом центре страны — Петербурге. Обстановка, в которой действуют герои Салтыкова, живо напоминает общество, описанное Островским в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты»; в оценке этого общества оба драматурга оказываются союзниками. Продажность и развращенность бюрократов, интриганство («интрига — властелин нашего времени», — говорит один из героев Салтыкова), беззастенчивый карьеризм изображены и Салтыковым и Островским как типичные черты чиновничьего мира. Консервативные старцы, не способные примириться даже с частными, куцыми реформами в области государственного управления (у Островского такой герой пишет трактат «о вреде реформ вообще», у Салтыкова — записку с просьбой, «чтоб ничего этого не было»), циничные молодые чиновники, понимающие всю мерзость окружающего их быта и всеми силами поддерживающие «устои» этого быта (у Островского — Глумов, у Салтыкова — Клаверов), женщины, устраивающие карьеру своим поклонникам через мужей и важных покровителей (у Островского — Мамаева, у Салтыкова — Клара и Бобырева), светские франты, проматывающие наследственные имения, либеральные болтуны — вот типические образы, которыми характеризуют среду и Островский и Салтыков. Оба писателя подчеркивают тесные связи бюрократии с верхушкой дворянского общества и купечества. Характерно, однако, что, в отличие от Островского, ничего не противопоставляющего изображаемому в пьесе «темному царству», Щедрин вводит в свою пьесу представителя революционно настроенной молодежи — Секирина, который хотя и не появляется на сцене, но имеет важное значение для пьесы. Действующие лица драмы — бюрократы — с ненавистью и страхом говорят о нем, называя его «красным» и «зажигателем». Шалимов, единомышленник Секирина, обращается к Бобыреву с письмом, призывающим Бобырева отказаться от пути бюрократа-карьериста, и его письмо заставляет Бобырева решиться на непродолжительный и слабый, но всё же протест.
Салтыков рисует в своей драматической сатире обстановку начала 60-х годов — годов революционной ситуации. Наряду с осуществлением реформ, обойтись без которых уже не представлялось возможным, правительство предприняло наступление на передовые силы общества, начало травлю участников и вдохновителей революционного движения. В этой обстановке для того, чтобы сделать быструю карьеру, выдвинуться на бюрократическом поприще, нужно было показать способность к чудовищному, бесстыдному лицемерию и готовность, «не рассуждая», выполнять любые распоряжения «высшего начальства», направленные на укрепление реакционной бюрократической системы. «Прежде, нежели войти к нам, ты должен заранее убедить себя в доброте системы, всякой вообще, какая бы ни была тебе предложена, и потом совершенно подчинить ей все свои действия и мысли. Ты исполнитель — и ничего больше; твои способности, твое уменье, конечно, драгоценны, но они драгоценны только в том смысле, что человек умный и способный всякую штуку сумеет обделать ловчее, нежели человек
- 378 -
глупый и неумелый. Клаверов это понял, и потому он так высоко стоит, а будет стоять еще выше», — поучает провинциала Бобырева петербургский чиновник Набойкин (IV, 369).
Черное дело обмана народных масс и подавления революционного движения делалось руками грязных карьеристов, не имевших убеждений и способных «обделать всякую штуку».
В своем письме к Бобыреву Шалимов пытается раскрыть Бобыреву глаза на то, каких «подвигов» потребуют от него интересы карьеры, если он свяжет свою судьбу с преуспевающими петербургскими бюрократами: «Подумал ли ты, что когда-нибудь может же придти такая минута, когда и ум и сердце с отвращением отвернутся от того дела, за которое ты взялся, что может же выискаться такой случай, от которого тебя разорвет всего, прежде, нежели ты решишься оказать свое обязательное содействие к благополучному исполнению гнусных предначертаний?.. Если не решишься — не думаешь ли ты, что тебя погладят по головке, не думаешь ли ты, что тебе скажут: cher Бобырев! у вас слишком беленькие ручки, чтоб мараться вместе с нами: пойдите, занимайтесь спокойно вашим беленьким делом! Подумал ли ты, что тут тоже есть своего рода система, и система эта заключается в том, чтоб человека, который добровольно решился пойти на каторгу, сразу до такой степени обесчестить, чтоб он не смел пискнуть!» (IV, 404).
Совершая «по приказу свыше» подлости, чиновники-карьеристы всё время испытывают страх возмездия, чувствуют непрочность своего положения. Их пугает революционная ситуация, рост народного движения, и они вынуждены считаться, как «с силой», с Шалимовым и Секириным.
Вот почему герой пьесы, молодой, но, как о нем говорят подчиненные, «сугубый» генерал Клаверов, исходя из своего понимания «требований времени», добивающийся «блестящей карьеры», в глубине души ненавидит тех, интересы которых он защищает, тех, у кого он, по собственному выражению, находится в «чудовищной барщине». Он понимает, что в обществе царит полное беззаконие, что представители господствующих классов могут обращаться с людьми, стоящими ниже их на общественной лестнице, почти как с крепостными. «...Если вы в самом деле думаете, что князь не имел права сделать вам неучтивость, то очень ошибаетесь! — говорит он жене мелкого чиновника. — Эти господа считают себя вправе делать всё, что им придет в голову; да если рассудить хладнокровно, то и, действительно, имеют это право. Кто может противоречить им? Кто может им запретить делать что бы то ни было? Вы подумайте когда-нибудь об этом, Софья Александровна, хотя это такой страшный вопрос, от которого может закружиться любая голова!» (IV, 396).
Говоря об аристократах, в руках которых находятся высшие бюрократические должности, Клаверов заявляет: «...надобно пожить так, как я пожил между этими господами, чтобы понять, до какой глубины может дойти чувство ненависти и злобы!.. О, господа либералы, вам нечем хвалиться в этом отношении перед нами, бюрократами! Мы не только сходимся с вами (в ненависти — Ред.), но даже далеко вас превосходим!.. Вы подумайте только, что ведь мы сплелись с этими людьми, что вся наша жизнь в их руках, что мы можем дышать только под условием совершенной безгласности...» (IV, 396).
Клаверову ясно, что если народ восстанет и потребует ответа от князей Таракановых и прочих представителей верхушки господствующих классов, то и исполнители воли этой верхушки, бюрократы вроде самого Клаверова, понесут ответственность наряду со всеми хозяевами.
- 379 -
«Да, тяжкое переживаем мы время, — рассуждал Клаверов, — страсть к верхушкам осталась прежняя, а средства достичь этих верхушек представляются сомнительные...; нынче старое не вымерло, новое не народилось, а между тем и то и другое дышит. Умрет ли старое, народится ли новое, где будет сила?.. Нет, да каково же существовать, каждую минуту ожидая, что вот-вот нахлынет какая-то чортова волна, которая поглотит тебя!» (IV, 380).
Страх перед возмездием порождает в душе Клаверова даже мысль о том, чтобы отказаться от своей «блестящей карьеры» и покинуть круг, в который он проник с таким трудом. Впрочем, Клаверов признает сам, что не способен сделать этого: «А покончить со всеми этими Кларами, Таракановыми и прочею зараженною ветошью... нет, мы слишком подлецы для этого!» (IV, 380).
Князь Тараканов прекрасно понимает опасения Клаверова и, толкая его на очередную подлость, пытается рассеять эти «страхи»: «...вы тревожитесь совершенно напрасно, — говорит он. — Во-первых, то, чего вы боитесь, слишком отдаленно: может быть, оно будет, а может быть, и нет... Во-вторых, вы подозреваете силу там, где, в сущности, существует одна болтовня. Повторяю: нужно только как можно реже краснеть, и по временам кидать в толпу двугривенные, чтоб толпа стояла смирно, и даже, в избытке восторга, принимала эти двугривенные за червонцы», и тут же добавляет, что следует по возможности стараться «не ссориться» с Секириным (IV, 378).
Однако слова князя не могут успокоить Клаверова, и, совершая подлости, которых от него требуют князь и иже с ним, Клаверов тяжело подавлен сознанием своего соучастия в преступлениях социальной и государственной верхушки, положение которой непрочно. Отсюда обилие монологов Клаверова и идущего по его стопам Бобырева. В этих монологах герои выражают свою ненависть к общественным силам, покорным оружием которых они сами являются.
Если в комедии «На всякого мудреца довольно простоты», рисуя «приспособленца», Островский особое внимание уделял изображению карьеристской «деятельности» героя и показывал его критическое отношение к действительности только в некоторых его репликах и в сцене чтения его дневника, то Салтыков отводил значительное место рассуждениям Клаверова и Бобырева — чиновников-карьеристов, разоблачая устами героев общество, которое толкает их на преступления, и их собственную подлость. Обилие монологов героев — обличений мира социальной несправедливости и угнетения, насыщающих пьесу своеобразным сатирическим лиризмом, сближает стиль этого произведения Салтыкова с драмой Сухово-Кобылина «Дело».
«Каторжнее той жизни, которую я веду, нельзя вести. Это какой-то проклятый водевиль, к которому странным образом примешалась отвратительная трагедия...», — говорит Клаверов (IV, 424), и это определение быта чиновника-бюрократа прямо подводит нас к драматургии Сухово-Кобылина.
Трилогия А. В. Сухово-Кобылина (1817—1903), написанная в течение 50—60-х годов: «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869), явилась одним из крупнейших событий драматургии 60-х годов. Сухово-Кобылин объединил общим замыслом в трилогию социально-бытовую комедию («Свадьба Кречинского»), сатирическую драму («Дело») и сатирический фарс («Смерть Тарелкина»), превратив их в драматическое повествование о современном состоянии общества, о хищничестве, плутовстве и беззаконии, достигающих гигантских размеров и превращающих
- 380 -
жизнь в «проклятый водевиль» или «отвратительную трагедию».
По силе сатирического обличения современного бюрократического строя Сухово-Кобылин может быть сравнен только с Салтыковым-Щедриным. Ненависть к чиновникам, к бюрократии, которая представлялась ему главным злом, гнетущим современное общество, Сухово-Кобылин выразил в форме острой социальной и политической сатиры.
Либеральные драматурги в своих пьесах разоблачали мелких провинциальных чиновников и противопоставляли им, как «носителей справедливости», представителей правительственной верхушки и «новых чиновников», при помощи которых либералы надеялись «исправить» все «пороки» бюрократического аппарата. Сухово-Кобылин не разделял подобного рода иллюзий. Он высмеивал «либеральных» чиновников и либеральные реформы и разоблачал гнилостность всего правительственного аппарата сверху донизу. В своей беспощадной и последовательной критике бюрократии Сухово-Кобылин сближается с Салтыковым и другими революционными демократами, разоблачавшими узость либеральных реформ и резко высмеивавшими либеральное обличительство.
Вместе с тем социальная природа протеста Сухово-Кобылина ограничивала кругозор писателя. Оставаясь на позициях дворянина, отстаивающего привилегированное положение дворянства и не желающего видеть связь, существующую между социальной практикой господствующих классов, прежде всего дворянства, и бюрократическим государственным строем страны, Сухово-Кобылин впадал в пессимизм, в преувеличение сил бюрократии, не видел реальных путей борьбы с нею.
Драматург не признавал необходимости и возможности революционного переустройства общества, бюрократические беззакония не ставил в связь с крепостническими порядками, с помещичьим произволом. В этом отношении он противостоял революционной демократии и, не смыкаясь с либералами, тем не менее сближался с ними.
Противоречия мировоззрения Сухово-Кобылина нашли свое отражение в его творчестве. Бесстрашно и последовательно отрицая бюрократические порядки, он создал сатирическими средствами реалистически-обобщенную картину бюрократической администрации и нравов современного общества. Непонимание же дальнейших путей развития общества приводило его к пессимизму, к преувеличению мощи бюрократии, к попыткам идеализации поместных дворян, их «патриархальных» взаимоотношений с крестьянами, уклада их домашней жизни и ограничивало, таким образом, реализм его творчества.
Первая часть трилогии — комедия «Свадьба Кречинского» — прозвучала как произведение, продолжающее традиции гоголевской школы, развивающее драматургические принципы, завещанные Гоголем, в том же направлении, в котором развивал их Островский. Комедия Сухово-Кобылина изображает не отдельный, частный случай чиновничьего злоупотребления или помещичьего произвола, она основывается на типичной для дворянской среды ситуации, рисует типичные для середины XIX века характеры представителей этой среды. Главным героем комедии является дворянин Кречинский. Кречинский разорился, окончательно обеднел и начинает терять свое место в среде высшего дворянства. Не приспособленный ни к какого рода деятельности, ни к какому труду, воспитанный в обстановке «легкомысленного прожигания денег», добытых трудом крепостных, Кречинский не мыслит жизни без «игры», без швыряния «бешеных денег». Игра привлекает его как средство удовлетворения его страсти, его азартной и распущенной
- 381 -
натуры. Кречинский прекрасно понимает, что в современных условиях деньги обеспечивают человеку высокое общественное положение. Женитьба на богатой невесте представляется ему единственным путем к обогащению и «большой игре». Сухово-Кобылин не только продолжает, подобно Островскому, традицию «комедии без любви», идущую от Гоголя, он полемически противопоставляет свою комедию, рисующую сватовство и всё же не содержащую изображения взаимной любви, салонной и вульгарно-романтической драматургии.
Развивая тему, поднятую Гоголем в «Женитьбе», Сухово-Кобылин вступает в прямую полемику с традиционной «любовной» комедией. Герой «Свадьбы Кречинского» сам определяет затеянную им светскую интригу, подобные которой рисовались в ряде пьес как выражение больших чувств и составляли основу драматической ситуации, следующими словами: «Глупый тур вальса завязывает самое пошлейшее волокитство». Составляя романтическое послание к своей возлюбленной Кречинский иронизирует: «Мой тихий ангел... милый... милый сердцу уголок семьи... м... м... м... нежное созвездие... чорт знает, какого вздору!.. чорт в ступе... сапоги всмятку и т. д.». Истинную же цель своего «волокитства» он формулирует точно и определенно: «Делаю, что называется, отличную партию! у меня дом, положение в свете, друзей и поклонников куча... Да что и говорить! (радостно) игра-то какая, игра-то!».1
Кречинский сохраняет еще некоторую внешнюю импозантность, но на деле находится на пути к полному общественному и моральному падению. В конце этого пути стоит Расплюев, опустившийся на «дно» общества, лишенный каких-либо средств к существованию, до конца аморальный, растленный человек.
Характерно, что в конце трилогии Расплюев становится полицейским чиновником, с усердием исполняющим свои «обязанности». Замечательно яркая, бытовая и социально-типичная фигура Расплюева, нарисованная Сухово-Кобылиным, изображение в комедии Кречинского — сильного, волевого человека, ставшего мотом, игроком и аферистом, сделали «Свадьбу Кречинского» произведением, обличавшим дворянство, показывавшим растлевающее влияние на личность помещичьего быта и новых буржуазных отношений.
Однако сам Сухово-Кобылин не стремился к такому обобщению смысла выведенных им в комедии образов. Не без своеобразной симпатии рисуя Кречинского, он с еще большей теплотой рисует провинциальных помещиков Муромских, взаимоотношения которых с крестьянами идеализируются. Изображая «ограниченность», свойственную Муромским, их беспомощность, провинциальный консерватизм, непроницательность, Сухово-Кобылин тем не менее представляет среду патриархальных поместных дворян Муромских здоровой средой, противопоставляя среде развращенного столичного дворянства. Не социальный переворот, не решение крестьянского вопроса, а уничтожение бюрократической администрации и возвращение к патриархальным формам жизни представляется ему средством «спасения» страны. Главное зло, в его представлении, — чиновничья бюрократия. Она, по мнению Сухово-Кобылина, является причиной разорения и всех бедствий народа. В отличие от Островского и Салтыкова-Щедрина, ставивших в своих произведениях вопрос о бюрократии в непосредственной связи с вопросом о крепостном праве и всем социальном строе, Сухово-Кобылин воспринимал бюрократию, как некую надсословную силу, подчиняющую себе все слои
- 382 -
общества, угнетающую и помещиков, и купцов, и крестьян. В комедии «Свадьба Кречинского», наиболее близкой по своему художественному стилю к комедиям Островского, Сухово-Кобылин рисует конфликт, происходящий в дворянской среде, создает образы дворян и купцов и почти не затрагивает вопроса о чиновничьей бюрократии. Лишь в конце пьесы на сцене появляется полицейский чиновник. Сухово-Кобылин резко нарушает драматургическую традицию. Полицейский чиновник, который обычно в пьесах, изображавших плутовство, являлся носителем справедливости (вспомним, что даже в «Свои люди — сочтемся» Островскому пришлось под нажимом цензуры ввести этого традиционного полицейского «блюстителя справедливости»), в комедии Сухово-Кобылина является носителем самого страшного зла, самой большой несправедливости. Во второй части трилогии — «Деле» — выясняется, что именно этот блюститель бюрократического «порядка» донес о якобы имевшем место признании Лидочки в соучастии в плутне Кречинского и дал, таким образом, повод для начала чудовищного преследования семьи Муромских чиновниками, составляющего содержание драмы «Дело».
Такая развязка «Свадьбы Кречинского», смысл которой выяснился, правда, лишь в следующей драме «Дело», была полемически заострена против либерально-обличительной драматургии, утверждавшей, что злоупотребляющим чиновникам можно противопоставить лишь чиновников же, но добросовестных, против пьес, рисовавших правительство и его представителей, как защитников добра и карателей зла.
Драма «Дело» и «комедия-шутка» «Смерть Тарелкина» целиком посвящены разоблачению бюрократии.
Говоря в предисловии к «Делу» о том, что основанием этой драмы послужили реальные факты и что автор точно, с натуры, воспроизводит действительность, Сухово-Кобылин как бы сближает свое произведение со «сценами» или «картинами» жизни — «физиологическим» очерком в драме. Однако, в отличие от большинства «физиологических очерков», изображавших отдельные стороны социальной жизни, в драме «Дело» дается синтетическое изображение действительности. Рисуя единичный реальный случай беззакония и насилия, Сухово-Кобылин превращает его в яркую сценическую демонстрацию всего административного устройства России, бесправия ее граждан, произвола и злоупотреблений чиновников, начиная с самых низших и кончая министрами и царем. В соответствии с таким замыслом драмы «Дело» образы чрезвычайно обобщены, Сухово-Кобылин жертвует отдельными чертами, могущими раскрыть внутренний мир героев. Он жертвует подчас и более важным: герои в его драме делятся на бюрократов и их жертвы; в лагере «жертв» оказываются представители разных сословий, и антагонизм между ними стирается, приглушается социальная окраска некоторых образов. Сухово-Кобылин дает смягченное, лирическое изображение «жертв бюрократии» и яркими, гротескно-обостренными чертами рисует служителей чиновничьей администрации — «колеса, шкивы и шестерни бюрократии». Драма «Дело» посвящена изображению неравной борьбы бесправных «частных лиц» с всесильной бюрократической машиной. Драма насыщена сатирическим элементом в части, изображающей «чудовищный водевиль», происходящий «в залах и аппартаментах какого ни есть ведомства», и лирическим пафосом в изображении мук, разорения и гибели людей, страдающих от произвола и беззакония. Обличающие несправедливость современного общества лирические монологи героев, у которых «правда горлом лезет», сближают эту драму Сухово-Кобылина с «Тенями» Салтыкова-Щедрина. Вместе с тем выразившееся
- 383 -
в «Деле» преувеличение силы и значения бюрократического государственного аппарата и недооценка зависимости его от господствующих классов, представление о «надсословном» положении бюрократии — не имели ничего общего с пониманием значения и места бюрократии в обществе Салтыковым-Щедриным и Островским. Характерно, что Салтыков-Щедрин ввел впоследствии в свои сатирические циклы «Письма к тетеньке», «Благонамеренные речи» и «В среде умеренности и аккуратности», как наиболее социально-типичные, образы опустившихся дворян Кречинского и Расплюева из первой комедии Сухово-Кобылина, усилив в своем истолковании этих лиц ноту разоблачения дворянства.
Сатирическую картину «победы» бюрократии над всем живым, человеческим в обществе нарисовал Сухово-Кобылин в комедии «Смерть Тарелкина». Вся жизнь людей в ней подчинена законам и правилам бюрократической администрации. Основным содержанием комедии является чудовищная борьба частей бюрократической машины — чиновников между собой. Появляющиеся эпизодически в комедии дворянин Чванкин, купец Попугайчиков, дворник Пахомов и прачка Брандахлыстова покорны и полностью подавлены бюрократией, хотя помещик Чванкин, при всем своем бессилии, и пытается сохранить внешнюю видимость независимости, привилегированного положения в обществе. Бессилие дворянина, который передал свою власть чиновникам, вызывает у Сухово-Кобылина горькую усмешку.
Не видя сил, могущих противостоять бюрократии, не понимая, что борьба крестьян и революционной демократии с помещиками неотделима от борьбы передовых сил общества против правительственной администрации, осуществляющей власть помещиков, Сухово-Кобылин не мог понять смысла исторических событий. Сила ненависти драматурга к бюрократии, вдохновившая его на создание трилогии, правдивое изображение им беззаконий и насилий, творимых царской бюрократией («Дело» и «Смерть Тарелкина»), и разорения, общественного и морального «падения» дворянства («Свадьба Кречинского») способствовали тому, что реалистические комедии и драма Сухово-Кобылина вошли в фонд русской классической драматургии.
Язык драматургии Сухово-Кобылина, близкий к народной речи, богатый и меткий, служил делу создания типических образов, обличения мира бюрократии. В горячих монологах угнетенных, бесправных героев и в лицемерных тирадах угнетателей и хищников-администраторов — Варравин, Тарелкин, Важное лицо (министр), Весьма важное лицо (представитель царствующей фамилии) — Сухово-Кобылин выразил негодование писателя-гражданина, не желавшего мириться с «торжествующим злом».
3
Творчеству реалистов, подлинных обличителей бюрократического строя России противостояли произведения либеральных драматургов, поддерживавших бюрократический строй в целом и критиковавших «злоупотребления» лишь отдельных чиновников.
При всей «резкости» либеральных фраз, содержавшихся в произведениях этих авторов, общий смысл их драматургии сводился к оправданию и возвеличению современного государственного строя России и проповеди мелких изменений, долженствующих укрепить этот строй. Характеризуя либерализм в цикле «Признаки времени», Салтыков писал: «Жгучий и пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около
- 384 -
себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешение. Всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления... И опять все-таки ждет, и опять проливает слезы умиления...» (VII, 144).
«Силой», которой предстоит осуществить «искоренение» всех недостатков административного аппарата, авторы либеральных пьес провозглашали честных либеральных чиновников, как правило, дворян.
Чрезвычайно характерным произведением либерально-обличительного рода была комедия В. А. Соллогуба «Чиновник», напечатанная в № 3 «Библиотеки для чтения» за 1856 год. Соллогуб пытается решать вопросы, которые возникали в связи с критикой административного аппарата, просто: взятки, злоупотребления, бюрократическая волокита, которые бросаются в глаза всем и являются предметом критики, по мнению Соллогуба, не означают непригодности бюрократического аппарата в целом. Причина всех этих зол коренится в том, что места мелких чиновников, получающих небольшое жалование, занимают бедные люди, которым этого жалования не хватает, да к тому же они не дворяне, а разночинцы, которым не свойственно якобы понятие чести. Стоит эти места занять богатым дворянам, не нуждающимся в деньгах и не способным, как считает Соллогуб, на бесчестные поступки уже по самому своему происхождению, — и проблема «искоренения» взяток и хищений будет решена. Соллогуб изображает такого «идеального» чиновника Надимова, который служит чиновником особых поручений при губернаторе (более мелкой должности Соллогуб всё же не решается назначить своему герою). Надимов приезжает в имение, чтобы решить тяжбу графини с соседним помещиком.
Претендуя на изображение нового либерального чиновника, Соллогуб рисует барина, который распоряжается, решая дела, порученные ему губернатором, как «добрый» помещик в своем поместье. Надимов занимается делом между развлечениями и светскими беседами, «милует и карает» по настроению. Помещики, отнесшиеся сначала с презрением к «чиновнику» и даже пытающиеся дать ему взятку, вскоре убеждаются, что он сам богатый барин, «принятый» в высшем свете столицы, дворянин, comme il faut, и начинают к нему относиться с уважением. Таким образом, средством укрепления бюрократического аппарата, утверждения доверия к нему в среде помещиков Соллогуб считает привлечение богатого дворянства на службу в бюрократические учреждения.
По форме «Чиновник» Соллогуба представлял собой типичную «светскую» комедию, тесными узами связанную с водевилем (в особенности там, где автор рисовал образы отрицательных, комических персонажей).
Такие комедии были довольно широко распространены в 50-х годах (несколько «светских» комедий написала, например, Е. П. Растопчина). Соллогуб придал герою своей «светской» комедии «звание» идеального чиновника, включил в его роль несколько напыщенных монологов и думал таким образом создать комедию, имеющую общественное значение. В самом же деле, комедия Соллогуба искажала действительность, центральный ее герой Надимов был лишен социальной, бытовой и психологической реальной характеристики. Критикуя пьесы, подобные «Чиновнику» Соллогуба, Салтыков-Щедрин утверждал, что центральные персонажи этих пьес представляют собой не типы, даже не образы, а «амплуа», стандартную роль для актеров, создающих искусственные, ходульные фигуры на сцене (см. статью «Петербургские театры»; V, 150—151).
«Пример этих бездарных фразеров показывает, что смастерить механическую куколку и назвать ее честным чиновником вовсе не трудно; но трудно вдохнуть в нее жизнь и заставить ее говорить и действовать по человечески», —
- 385 -
писал Добролюбов о Соллогубе и либеральном драматурге Львове (II, 51).
Аристократия и чиновники, посещавшие императорский театр, аплодировали либеральным тирадам Надимова, революционные демократы были возмущены этим проявлением барского пренебрежения к народу и его нуждам.
Антидемократические и реакционные по существу тенденции «Чиновника» Соллогуба отмечались Чернышевским, Добролюбовым и Салтыковым. «Аристократизм», дворянская спесь автора вызвали протест даже и со стороны либералов и побудили авторов либерально-обличительных пьес вступать в полемику с «соллогубовским» решением проблемы взяточничества.
Н. М. Львов в «Заметках о журналах за май 1856 года», помещенных в «Современнике», указывал, что Соллогуб пытается провозгласить «образцовым чиновником» светского бездельника, не нуждающегося в жаловании и не берущего взяток только потому, что на него работают крепостные крестьяне.
В пьесе Н. М. Львова «Свет не без добрых людей» (1857) изображался добродетельный бедный чиновник Волков, который противопоставлялся чиновникам — аристократам-взяточникам. Рисуя образ бедного, но честного человека, который с негодованием отказывается от взятки даже в минуту самой крайней нужды, Львов подчеркивает наряду с безупречной честностью героя и его смирение, веру в справедливость «высокого начальства». Победа Волкова над взяточниками, богатыми чиновниками делается возможной лишь благодаря тому, что высшее начальство, князь становится на сторону Волкова, расследует дело, награждает Волкова за честность и карает его врагов. Пьеса Львова не явилась реалистическим изображением современной действительности, как и комедия Соллогуба. Рисуя «искушения», которым подвергается Волков, его непоколебимую честность и страдания, Львов впадал в мелодраматизм. Он не обличал взяточничество, как неизбежное следствие бюрократического строя, взяточникам и казнокрадам противопоставлял честных, добродетельных чиновников; злоупотребления в его пьесе выглядели как случайные, исключительные явления.
Против такой трактовки вопроса о злоупотреблениях выступил Островский позже, в драме «Пучина», противопоставив мелодраматическому толкованию вопроса о честности «добродетельного» чиновника реалистическое изображение связи взяточничества со всем социальным и экономическим устройством общества. Островский показал в «Пучине» растлевающее влияние «темного царства» на душу человека, процесс превращения человека в обстановке хищничества, грубого произвола и угнетения во взяточника.
Демократизм Львова был чрезвычайно поверхностен и непрочен. Вслед за первой пьесой Львов поместил в «Отечественных записках» «Предубеждение или не место красит человека, а человек место» (1858), комедию, в которой, следуя по стопам Соллогуба, доказывал, что все «недостатки» администрации будут исправлены, когда дворянин, состоятельный и «образованный», займет место станового пристава.
Более последовательно, чем Львов, выступил против «аристократического» решения проблемы чиновничества и против поверхностного деления чиновников на «добродетельных» и взяточников А. Потехин в комедии «Мишура» (1858). Потехин изобразил здесь советника губернского правления Пустозерова, аристократа среди чиновников, славящегося своим бескорыстием и щеголяющего им. Пустозеров произносит тирады против взяточничества, во многом напоминающие тирады Надимова, он губит мелкого, бедного чиновника, обвиненного во взяточничестве. Однако во всех своих
- 386 -
действиях Пустозеров руководствуется соображениями карьеры и эгоизма. Он отказывается от людей, выкормивших и воспитавших его, так как их провинциальные привычки могут повредить представлению о нем, как об аристократе. Он обольщает дочь своего подчиненного и терпит ее отца, явного взяточника, на службе, закрывая глаза на его злоупотребления. Он покрывает еще более крупные злоупотребления, когда это необходимо для его карьеры. Пьеса заканчивается торжеством «либерального» карьериста Пустозерова, его повышением по службе и переводом в Петербург.
Добролюбов охарактеризовал «Мишуру» Потехина, как «нехудожественную, но умную и резкую комедию» (II, 427). Потехин показал, что воспеваемый Соллогубом, Львовым и другими авторами «новый либеральный чиновник» — дворянин-карьерист, предпочитающий чины взяткам. Резкость комедии, обличение в ней либерального чиновника подымали комедию Потехина над средним уровнем обличительной драматургии. Однако Потехин оставался и в этом произведении на позициях либерализма. Критикуя слишком поверхностное, смазывающее всю сложность вопроса о реформе государственного аппарата обличительство, сам Потехин видел основную проблему в воспитании кадров новых чиновников, которые были бы честны не только «по форме», но и «по существу», служили самоотверженно и руководствовались не карьеристскими соображениями, а интересами дела. Эта идея выражена в пьесе устами молодого, образованного человека Золотарева. Таким образом, Потехин расходился с революционными демократами, считавшими, что современное общественное устройство и организация административного аппарата неизбежно порождают взяточников. Пьеса содержит элементы морализма, ограничивающие ее обличительный смысл. Элемент морализма содержится и в пьесе Потехина «Новейший оракул», изображающей суеверия и мистицизм, господствующие в дворянской среде и создающие благоприятную почву для деятельности всякого рода авантюристов и шарлатанов. Касаясь этой темы в комедии «На всякого мудреца довольно простоты», Островский показывает связь суеверий с паразитическим образом жизни высших кругов общества и с лицемерием, лживостью и ханжеством, на которых зиждятся все отношения в «высшем» обществе дворянства, бюрократии и чиновничества.
Потехин высмеивает суеверных помещиц и противопоставляет им молодого разночинца Троерукова, однако Троеруков охарактеризован в пьесе чрезвычайно схематично, а суеверия барынь объясняются их глупостью, бесхарактерностью, необразованностью. Потехин обращается к дворянам с назиданием. Он учит их отказаться от суеверий, как от чудачеств, разоряющих дворян, делающих их беспомощными, отдающих их во власть разного рода проходимцев.
Попытку создать образ представителя «молодого поколения», вступающего в столкновение со «старыми помещиками» и их предрассудками, сделал Потехин в комедии «Отрезанный ломоть» (1865). Старому помещику-самодуру Хазиперову Потехин противопоставляет здесь сына Хазиперова — «нигилиста», а также мирового посредника Демкина. Хазиперов-отец ненавидит Демкина за то, что Демкин защищает мужиков, за то, что он либерал. Реформа положила предел власти Хазиперова, издеваться над крестьянами и тиранить их он не может, и все свои привычки барина и самодура он переносит в семью. Свою власть над женой и детьми он считает неограниченной и требует от них полной покорности. Привыкший «покупать» чиновников до реформы, он сердится на честность Демкина и пытается заставить его нарушить долг, пользуясь тем, что Демкин попадает в сферу его семейных
- 387 -
отношений (просит руки его дочери). Однако и Демкин и сын Хазиперова, Николай, решительно сопротивляются самодуру, и он оказывается бессилен против них.
Считая, что реформа разрешила все противоречия между помещиками и крестьянами, что под влиянием новых «благодетельных» перемен воспитывается идеальный тип защитника интересов крестьян — чиновника и выборного лица, Потехин переносит все общественные противоречия в сферу семьи. В семье же источником угнетения и несправедливости он считает привычку к тирании и самодурству старшего поколения и покорность, которую проявляют младшие, зависящие от главы члены семьи, прежде всего женщины. Та же либеральная идея лежит в основе комедии Потехина «Виноватая» (1867). В этих произведениях Потехин отходит от обличения бюрократии и, подобно другим либеральным драматургам второй половины 60-х годов, обращается к решению семейных, психологических и моральных проблем, к постановке так называемых «вопросов», «проблем» в драматургии.
«Проблемная» либеральная драматургия имела своим истоком обличительную драматургию и была с нею связана и своим направлением, и художественными принципами, и образом центрального «положительного» героя. Однако авторы «проблемных» пьес стремились уже не к тому, чтобы доказать необходимость, хотя бы и небольших, изменений в государственном аппарате или общественном устройстве, они ставили «проблемы», решение которых, по их мнению, зависит от убеждений, распространенных в обществе, и стремились устами главного героя своих пьес внушить публике либеральный взгляд на эти «наболевшие вопросы». Вопросами, наиболее привлекавшими внимание драматургов, были вопросы семьи, брака, семейных отношений. Рецензент «Отечественных записок» П. М. Ковалевский в 1868 году писал о центральном герое таких драм. Герой «существенного влияния на развитие драмы не имеет, присутствие же свое на сцене ознаменовывает исключительно извержением более или менее шумных потоков речи, которые по всем видимостям направлены — не на действующие лица, а непосредственно на публику... Происходило это обыкновенно следующим манером: играют, положим, какую-нибудь современную драму..., идет себе пьеса как следует, как быть должно; обыкновенно, прелестная девица, свиньи — родители, домашний гнет и т. д., как следует; тут еще урод — жених; замуж выдают насильственным образом. В это время входит Нильский (артист, исполнявший обычно роли положительных героев в подобных пьесах — Ред.), окидывает всех гордым взглядом и становится к стороне. Я уж знаю, что это будет, и думаю: ну вот, принесли бутылку! Жду. А тут между тем родители кричат, девица плачет, жених ругается... вдруг выступает Нильский; одну ногу вперед, руку назад и понес: „Слабохарактерность с одной и деспотизм и бессовестность с другой стороны... Вот вам пример!.. Вот до чего доводят эти злые болезни, если им поддаться...“. Родители приходят в ярость, жених убегает, Нильский входит в роль и кричит: „Разве мало загибает (?) народу от этого зла, исторически развившегося в нашем обществе?.. Без борьбы против недуга страдания сначала усиливаются, потом притупляются“... Однако девица от этого потока начинает раскисать и восклицает: „Но ведь это страшно, это ужасно! Кто же, кто в этом виноват?“. Нильский: „Кто?.. Да все, все без исключения: и я, и вы в том числе“ и т. д... Но интересно, что все эти откупоривания бутылки и изливаемые из нее потоки, как видно, ни к чему не ведут и драматическое действие нисколько не нарушается: девицу всё-таки своим порядком отдают замуж; а бутылка снова наполняется и переносится в другую
- 388 -
драму, где опять ее в надлежащем месте выносят, откупоривают и т. д.».1
В качестве типичного примера пьесы такого рода автор статьи анализирует комедию А. Потехина «Виноватая», называет пьесы Дьяченко и других либеральных авторов. Объединяет всех их, по мнению публициста, то, что, наблюдая факты и пытаясь ставить в своих произведениях «современные вопросы», они по ограниченности своего мировоззрения не могут решить эти вопросы и по слабости своих художественных средств не могут правдиво изобразить то, что им удается наблюдать. К числу либеральных драматургов 60-х годов относится Николай Антипович Потехин (1834—1896) — брат А. А. Потехина. Н. А. Потехин писал «обличительные» и «проблемные» драмы. Сотрудничая в «Искре», он поместил там ряд сатирических очерков-сцен, которые в 1864 году были им изданы отдельной книгой под заглавием «Наши безобразники». К книге этой отрицательно отнесся Салтыков, указавший на поверхностность сатиры Н. Потехина, подражательность его очерков и художественную их беспомощность. Те же черты отмечали и его пьесу «Кто лучше (Дока на доку нашел)» (1860), резко обличавшую купцов и дворян, но не содержавшую ни одного реального, художественно очерченного образа и не подводившую зрителей ни к каким обобщениям. Народная драма Н. Потехина «Доля-горе» (1863) несет на себе явные следы влияния рассказов и романов из народной жизни Григоровича и крестьянских драм А. А. Потехина и является подражательной в полном смысле этого слова.
Наибольшим успехом среди произведений Н. Потехина пользовалась его пьеса «Быль молодцу не укор» (1861), изображавшая судьбу молодой работницы, соблазненной и брошенной богатым человеком. Однако в этом произведении, как и в других, Н. Потехин перенес конфликт из социальной в моральную плоскость. Героев своих он наделил мелодраматическими «сильными страстями» и окружил «исключительными обстоятельствами». В результате — пьеса сбивалась на мелодраму и не осуществляла возможностей, которые открывались перед автором, если бы он реалистически разработал свой сюжет.
С либерально-«проблемной» драматургией связано и творчество И. Е. Чернышева (1833—1863), артиста и беллетриста, сотрудничавшего в 1860—1861 годах в «Искре» под псевдонимом «Иван Егоров». Пьесы Чернышева «Не в деньгах счастье» (1857), «Жених из долгового отделения» (1858), «Отец семейства» (1860), «Испорченная жизнь» (1862) имели успех на сцене благодаря замечательному исполнению, реалистической трактовке центральных героев этих пьес актерами петербургского и московского театров (главным образом петербуржцем Мартыновым). Произведения Чернышева содержали моменты обличительства (в пьесах: «Не в деньгах счастье» — обличение купеческого хищничества, бездушия и жажды наживы, «Отец семейства» — обличение самодурства, тирании в помещичьей семье), однако, главное внимание драматурга было сосредоточено на поверхностно понимаемых морально-психологических проблемах, смысл его драматургии сводился к морализации, поучению публики. В драме «Не в деньгах счастье» Чернышев преподносит моральный урок купцам: купец, считавший, что главное в жизни — деньги, убеждается в своей ошибке, начинает понимать, что жил «не по христиански», и исправляется; в пьесе «Отец семейства» упрямый самодур, консерватор-помещик губит своего сына, жену, отталкивает от себя детей и остается совершенно одиноким. Подобно другим авторам «проблемных» пьес, Чернышев уверен, что если люди будут стремиться
- 389 -
к моральному совершенству, соответствующему законам христианской нравственности, и будут в семье, в быту относиться друг к другу «любовно» и снисходительно, главные «современные вопросы» будут решены. Поэтому, обличая в драме «Отец семейства» домашний гнет, он в пьесе «Испорченная жизнь» утверждал, что соблюдение законов Домостроя «иногда полезно», выступал против эмансипации женщин, проповедовал смирение и сохранение в неприкосновенности «семейных устоев».
В. А. Дьяченко.
Фотография. 1860-е годы.«Проблемная» либеральная драма граничила с так называемой «антинигилистической» драмой, переходила в нее, так как зачастую содержала прямые или косвенные нападки на «нигилистов», представителей революционно настроенной молодежи, и полемику с передовой, близкой к революционной демократии литературой.
Характерна в этом отношении деятельность модного в 60-е годы драматурга В. А. Дьяченко (1818—1876), произведениям которого особенно покровительствовала петербургская театральная администрация. Первой пьесой Дьяченко, обратившей на него внимание публики, была драма «Жертва за жертву» (1861), вызвавшая интерес к себе вследствие того, что герой ее попадал на каторгу; на сцене изображался привал каторжников, и героиня следовала за своим возлюбленным в Сибирь. Однако никаких существенных вопросов драма не ставила. Герой попадал на каторгу по ложному обвинению в воровстве и не оправдывался, чтобы не вовлечь любимую женщину в судебное разбирательство; каторжники, за исключением центрального героя, изображались негодяями, потерявшими человеческий облик. Под видом драмы, ставящей «современные вопросы», Дьяченко преподносил публике типичную мелодраму, вульгарно-романтически рисующую характеры людей и окружающую их действительность. В драмах «Нынешняя любовь» (1865, герой — Чедаев), «Светские ширмы» (1866, герой — Борин) Дьяченко пытался разоблачить «современного» молодого человека, разночинца-нигилиста, язвительно критикующего окружающую его среду, произносящего обличительные фразы, а на деле оказывающегося черствым карьеристом. Изображенные Дьяченко представители молодого поколения ничего общего не имели с «новыми людьми» 60-х годов; поэтому острие его «обличения» не попадало в цель и герои более походили на либеральных чиновников, чем на революционно настроенных разночинцев.
Своеобразное, типичное для поверхностно-либеральной драматургии решение проблемы «отцов и детей» дается в пьесе Дьяченко «Семейные пороги» (1867). Вся проблема сводится к расхождению между родителями, которые чванятся своим аристократизмом, и детьми, проповедующими демократизм. Противоречие это представляется легко разрешимым, если те и
- 390 -
другие откажутся от «крайностей». Мысль автора выражена устами дворянина Яликова, стоящего над «распрей» поколений. Пьеса заканчивается примирением обеих сторон:
«Князь Иван <отец> (поднимая бокал)
...За здоровье нашей честной молодежи!
Князь Андрей <сын>
За здоровье генералов и стариков, сочувствующих всему полезному, честному, новому и молодому.
Яликов
За здоровье джентльменов средних лет и за здоровье всех, уважающих в человеке честного человека, а не старика или молодого! Ура!».1
Столь же поверхностно решается Дьяченко и проблема взаимоотношений дворян-помещиков и разночинцев в комедии «Пробный камень» (1868).
Близок к Чернышеву и Дьяченко по идейной позиции и по художественным особенностям творчества в своих ранних драмах П. Д. Боборыкин (1836—1921). В пьесах «Однодворец» (1860), «Старое зло» (1861) Боборыкин обличает помещиков-аристократов. Однако свое главное внимание он сосредоточивает здесь на изображении безотчетного преклонения перед аристократами, которое якобы свойственно людям, происходящим из низших сословий. Изображение холопской, слепой преданности крепостной девушки ничтожному, непутевому графу и возвеличение этого рабского чувства Боборыкиным прямо противоречили тому, как изображала отношение крестьян к помещикам реалистическая литература, рисовавшая типичные образы, действительно характеризующие соотношение сил в обществе. В драме «Ребенок» (1861) Боборыкин пытался поставить психологическую проблему, изобразив первое, но оказавшееся роковым, столкновение чуткой, нежной молодой девушки с «неправдой жизни». Героиня рисуется Боборыкиным, как особая натура, «не от мира сего», слишком чистая и гуманная для реальной жизни; поражающая ее грязь жизни, разложение семьи ее родителей, представлена в драме как вечное зло, необходимое и неизбежное, не зависящее от исторических и социальных условий.
Одним из наиболее типичных представителей «проблемной» драмы явился поставщик репертуара театров популярный драматург В. А. Крылов, творчество которого развернулось уже в 70-х годах.
4
Шестидесятые годы явились эпохой расцвета исторической драматургии в России. Интерес к прошлому русского народа в 60-е годы был связан с борьбой вокруг вопроса о путях исторического развития России, о характере русского народа и роли его в истории страны. Эти проблемы ставились в науке, публицистике и искусстве 60-х годов. Очень много внимания уделяли им драматурги, по-разному решавшие их в своих произведениях, боровшиеся между собой и постоянно обращавшиеся в 60-х годах к вопросам истории. В исторической драматургии 60-х годов нашли свое отражение и подлинно демократические идеи и реакционно-охранительные тенденции.
- 391 -
Острая политическая и литературная борьба этого времени проявилась в исторической драматургии с большой силой.
Еще в 40-х годах в повести «Запутанное дело» Салтыков рисовал революционизирующее влияние оперы «Вильгельм Телль», трактующей исторический сюжет. В 1863 году в статье «Петербургские театры» Салтыков выразил мысль о политическом значении исторической тематики, скрывшись за маской реакционно настроенного «провинциала», рассказывающего о постановке всё той же оперы «Вильгельм Телль»:
«Мы с вами, бывавшие в этой опере неоднократно и неоднократно же наслаждавшиеся бессмертными ее красотами..., думали, что Тамберлик есть Тамберлик, а Дебассини — Дебассини, что они поют арии, дуэты, трио, потому что они солисты... Мы думали, что поселяне обязаны петь хоры и что вынимание мечей есть не что иное, как обстановка пьесы, служащая приятным разнообразием для глаз. Нигилисты сумели увидать совсем другое; они, посредством какого-то анафемского чутья, сумели распознать австрияков от поселян и из поведения первых вывели заключение, что они заботятся не об учреждении воскресных школ, а о чем-то другом.
«Буду откровенен: я не оправдываю поведения австрияков в этой опере и не могу разделять их политических убеждений. По моему мнению, постоянно драться, и только драться — большая политическая ошибка... Но, скажите на милость, из-за чего нигилисты-то ревут и неистовствуют? Что́ они швейцарцам, что́ швейцарцы им? И откуда эта ненависть к австриякам? Или они думают применять? Но разве они забыли, что в нашей стране покорения-то не было, а было призвание? Да! Призвание, государи мои, призвание!» (V, 156).
Еще большие возможности воздействия на демократического зрителя открывались перед авторами исторических драм, основывавшихся на материале отечественной истории.
Подытоживая свои наблюдения над демократическим зрителем Москвы и свои размышления по поводу репертуара театров, Островский в 1881 году писал о необходимости сделать исторические драмы доступными для «свежей публики», крестьян, со всех сторон стекавшихся на заработки в Москву. «Еще сильнее (чем бытовой репертуар — Ред.) действуют на свежую публику исторические драмы и хроники: они развивают народное самопознание и воспитывают сознательную любовь к отечеству. Публика жаждет знать свою историю; ученые изыскания и монографии этого знания ей не дадут, а хорошей полной популярной истории у нас еще не написано... Да если бы и была такая история, если б каждый читал и знал ее, все-таки историческая драма была бы нужна, а, может быть, и нужнее. Историк передает что было; драматический поэт показывает, как было, он переносит зрителя на самое место действия и делает его участником события».1
Основные проблемы, волновавшие русское общество и ставившиеся драматургией 60-х годов, подымались и исторической драматургией этого времени. Отнесение действия пьесы в отдаленную эпоху придавало выводам и мыслям авторов значение большого обобщения. Эпохой, привлекавшей особенно широкое внимание авторов исторических драм, было время царствования Ивана Грозного и последовавшие после смерти Грозного события конца XVI и начала XVII века. «Смутное время» — время борьбы народа за свою национальную независимость, за восстановление Московского государства, активность народных масс в борьбе с боярской изменой представляли
- 392 -
большой общественный интерес в эпоху революционной ситуации 60-х годов.
Личность Ивана Грозного возбуждала к себе интерес как яркий исторический характер человека сильной воли, боровшегося с боярством.
При этом, если одни драматурги обращались к историческому прошлому в поисках решения больших современных вопросов, размышляя о «судьбах народных», судьбах страны в разные исторические периоды, то других привлекал исторический материал как источник драматических, а подчас и мелодраматических ситуаций, исключительных страстей и характеров.
Характеризуя театральный репертуар 1868 года, рецензент «Отечественных записок» П. М. Ковалевский указывал на господство в репертуаре исторических пьес, рисующих Ивана Грозного, и высмеивал то, каким образом изображает его либеральная и реакционная драматургия: «Ивану Васильичу еще с прошлой зимы, как видно, очень полюбилась сцена Александринского театра, и он с нее не сходит до сих пор. Он там нынче в большой моде: бегает, кричит, стучит палкой и всеми командует, как дома; то умирает, то опять воскресает и начинает заниматься амурными делами. Прошлого года порывались было туда, на сцену, самозванцы: однако Иван Васильич их не допустил и остался полным хозяином».1
Говоря о современном репертуаре, рецензент иронически замечает, что если бы жив был Мей, он, несомненно, добавил бы к многочисленным историческим пьесам репертуара сезона еще одну «и тоже с Иван Васильичем».
Л. А. Мей был, действительно, одним из первых драматургов, проявивших значительный интерес к личности Ивана Грозного. Мей стремился подражать Пушкину в области стихотворной исторической драмы. Однако, не понимая принципов пушкинского реализма, он стал во многих чертах своего творчества продолжателем вульгарно-романтической драмы 30—40-х годов.
Первая драма Мея, изображавшая эпоху Ивана Грозного, «Царская невеста» была написана еще в 1849 году. Характеристика эпохи и образ грозного царя, выбирающего себе среди подданных невесту, играли в драме второстепенную роль, являясь предлогом для раскрытия душевной драмы нескольких вымышленных героев, не имеющей никакого отношения к особенностям эпохи.
В драме показана борьба страстей, приводящая к гибели Марфу Собакину, избранную Иваном Грозным в жены. Движущими силами драмы являются любовь боярина Грязнова к Марфе, ревность его любовницы Любаши — роковые страсти, губящие героев. Иван Грозный рисуется в драме суровым, жестоким, но справедливым монархом. Некоторые черты в обрисовке его характера связаны с трактовкой образа Ивана Грозного в народных песнях.
В драме Мея «Псковитянка», появившейся в 1860 году («Отечественные записки», № 2), Иван Грозный делался участником основной драматической коллизии. Подавляя сопротивление псковской вольницы, Иван Грозный становится причиной гибели своей побочной дочери. Государственный долг царя вступает в противоречие с его личным чувством. Драматический конфликт строится в «Псковитянке» по традиционному, идущему еще от классицизма XVII—XVIII веков, принципу. В центре внимания не исторические события и социальная борьба, типичная для изображаемой эпохи,
- 393 -
а психологическая проблема, вопрос о переживаниях монарха, который не в силах противиться ходу событий, толкающих его на жестокость, несмотря на его субъективное желание делать добро. Эта проблема, выдвинутая Меем в его драме, предвосхищает некоторые моменты трилогии А. К. Толстого, в которой психологические вопросы разрабатывались гораздо глубже, чем у Мея. Психологические проблемы, которые пытался ставить Мей, изображая Ивана Грозного, А. Толстой разрешает в драме «Царь Федор Иоаннович». Трактовка личности Ивана Грозного у обоих драматургов совершенно различна. А. Толстой в оценке деятельности Ивана Грозного идет за Карамзиным, Мей пытается противопоставить карамзинской оценке личности и значения Грозного иную, близкую к точке зрения историка С. М. Соловьева. Однако создать убедительный, цельный образ Ивана Грозного Мею не удалось. Мей слабо показал в своей драме силы, исторически противостоявшие деятельности царя, и конкретные цели и условия борьбы, которую он вел. На первый план были им выдвинуты личная драма Ивана Грозного, история мистической, «инстинктивной» любви к нему дочери, не знающей, что царь ее отец, история случайной встречи с нею, «узнавания» и гибели девушки. Эта вымышленная и чрезвычайно далекая от типичных конфликтов эпохи коллизия переводила всю пьесу в план романтической драмы. Не спасли дело и сопровождающие драму примечания, в которых Мей пытался обосновать свою точку зрения на Ивана Грозного и доказать историческую достоверность или возможность изображаемых им событий.
В 1861 году цензура запретила постановку «Псковитянки» из-за сцены псковского веча. Драма была поставлена лишь в 1888 году. «Царская невеста» и «Псковитянка» послужили основой либретто для опер Н. А. Римского-Корсакова. Римский-Корсаков усилил, особенно в «Псковитянке», звучание массовых сцен, придав им подлинно народный характер.
Крупным явлением в драматургии 60-х годов была историческая трилогия А. К. Толстого. Интерес писателя к русской истории проявился в его литературных произведениях самых разных жанров. Наиболее ярко идейные позиции А. Толстого и художественные принципы его творчества отразились в трилогии: «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870).
В трилогии А. Толстого наглядно отразилась особенность подхода писателя к истории. История служит А. Толстому предлогом и «сюжетным» материалом для выражения его отношения к явлениям современной ему действительности. Аристократ, резко критически относившийся к современной ему бюрократической монархии, А. Толстой обращался к далекому прошлому, идеализируя времена, предшествовавшие образованию централизованного абсолютистского государства. Эти времена он считал временами «вечевого начала», понимаемого им не как «народоправство», а как «мудрое» правление князей, интересы которых якобы совпадали с интересами народа. Непонимание основных тенденций развития общества в прошлом было связано у А. Толстого с непониманием современного исторического момента и расстановки социальных сил в современном обществе. Писатель не понимал, что народ является самостоятельной силой в обществе и что интересы народа (в то время — крестьянства) и отношение к ним разных социальных сил определяют историческое значение тех или иных политических партий. А. Толстой пытался противопоставить свое понимание народности тому, как раскрывали это понятие революционные демократы. Он полемизировал с революционной демократией, требовавшей социальных изменений, в которых были заинтересованы низшие, угнетенные классы общества. В балладе
- 394 -
«Поток-богатырь» он выразил свое ироническое отношение к демократическому пониманию народности:
«...Я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?»
Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот!
Править Русью призва́н только черный народ!
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!»1Народ не представлялся А. Толстому самостоятельной силой в политической борьбе. «Две партии в государстве борются за власть: представитель старины, князь Шуйский, и представитель реформы, Борис Годунов», — характеризует А. Толстой обстановку, изображенную в трагедии «Царь Федор Иоаннович».2 Народ в трагедии А. Толстого присоединяется то к одной, то к другой партии, склоняясь большей частью на сторону Шуйского, интересы партии которого, по мнению драматурга, совпадают с интересами народа.
А. Толстой отделял художественное творчество от исторической науки. Он заявлял, что не считает своей задачей соблюдение исторической достоверности. Однако психологическая («человеческая», по его терминологии) правда, которую А. Толстой пытался противопоставить правде исторической, страдала от такого подхода писателя к изображаемой действительности. «Психологическая» проблема, которая ставилась в трилогии, проблема соотношения индивидуального характера исторического лица с его государственной деятельностью, не могла быть решена внеисторически. А. Толстой рисует Ивана Грозного как монарха, стремящегося к централизации власти, доходящего до попрания всех человеческих прав в пользу государственной власти.
Трилогия А. Толстого воспринималась современниками прежде всего как художественное произведение, трактующее животрепещущие вопросы современности. И если изображение самовластья и тирании в «Смерти Иоанна Грозного» и «Царе Борисе» и не передавало подлинной исторической обстановки конца XVI и начала XVII века, оно тем не менее вызывало живой эмоциональный отклик у читателей, так как приводило на память события недавнего прошлого и современности. В трилогии явственно звучит осуждение бюрократической монархии.
Драматург оканчивает первую трагедию трилогии, посвященную правлению тираничного и властного царя, картиной смерти монарха и обнаружившейся несостоятельности его деятельности. Вторая часть трилогии повествует о добром, «благом» царе. Однако именно доброта Федора оказывается губительной для него как государя. Государство разрушилось бы, если бы Федор не соглашался, вопреки своим собственным убеждениям и желаниям, с своим советчиком — подлинно «государственным» человеком — Борисом Годуновым. В конце трагедии царь Федор сознается в полной своей неспособности управлять государством и фактически передает власть Годунову. Конец трагедии «Царь Борис» напоминает конец первой части трилогии: смерть царя, терзаемого угрызениями совести, потрясение государства, вторжение внешних врагов, угроза «смуты» и народных мятежей. Народ
- 395 -
выступает в трилогии как стихийная, грозная и неразумная сила, действующая слепо и часто во вред и государству и себе. Для обуздания этой силы, по мнению писателя, необходимо сохранение сильного монархического государства. Рассуждения бояр, решающих просить своего гонителя Грозного, отказавшегося было от власти, вернуться на престол, живо перекликались с современностью, с настроениями дворян в 60-х годах:
Ужасное, не приведи бог, время!
Но без царя еще бы хуже было:
Народ бы нас каменьями побил...1Сохранение монархии, по мнению А. Толстого, неизбежно перед лицом опасности народного «бунта», который страшит писателя еще более, чем самовластье.
В создании ярких и художественно убедительных образов правителей и бояр-самодуров, в обличении их интриг, раболепия и карьеризма, в показе развращающего влияния двора и царского окружения на слуг и чиновников А. Толстой опирался на наблюдения фактов современной действительности. Обличительный пафос трилогии усиливался тонким и глубоким психологическим анализом, который применил А. Толстой к своим героям. Прекрасные, светлые образы Федора, Ирины и других героев, томящихся среди придворной лжи, лицемерия и злодейства и всей своей судьбой доказывающих, что чистая, нравственная личность не может существовать в этой среде, не менее отрицательных героев способствовали обличению верхов современного А. Толстому государственного аппарата.
Однако обличения, которыми проникнута трилогия, не опирались на исторический оптимизм, а окрашивались пессимистическими настроениями писателя.
Силой, «искони противостоящей» монархической власти, источником «разумного», осознанного протеста в русском обществе А. Толстой считал родовитое боярство. Вместе с тем писатель видел бесплодность и историческую обреченность этого протеста. В отличие от революционных демократов, видевших движущую силу истории в народе, уверенных в конечной победе народа и провозглашавших с присущим им оптимизмом: «...всегда нужна борьба; но не всегда борьба бывает несчастна. А счастливая борьба, как бы ни была она тяжела, — не страдание, а наслаждение, не трагична, а только драматична» (Чернышевский, II, 28), А. Толстой считал, что борьба, происходящая в обществе, всегда носит трагический характер. Героев своих исторических трагедий он делал носителями трагической предопределенности, «людьми рока».
«Трагическая вина» героев трилогии, в представлении А. Толстого, состоит в том, что их «путь не прям», что, «блюдя» государственный интерес, они фатально не могут совместить политическую деятельность с соблюдением моральной чистоты. «Безгрешным» в трилогии является лишь боярин Захарьин-Юрьев, отошедший от дел:
...Безвинен
Не может быть, кто с жизнию ведет
Всегда борьбу; кто хоть какую цель
Перед собой поставил,2 —заявляет Борис Годунов Ирине и упрекает «благого» боярина Захарьина-Юрьева за его эгоистическую чистоту, за то, что он, со спокойной грустью
- 396 -
глядя на «неустройство земли», утешается тем, что сам он «чист и бел».
По мысли А. Толстого, государственные деятели либо поступаются своим моральным чувством (Борис Годунов, Иван Петрович Шуйский), либо оказываются «без вины виноватыми» (царь Федор, Ирина). Так за идеей «трагической вины» в трилогии стояла ложная историческая концепция драматурга и глубокий социальный пессимизм. Наблюдая современную бюрократическую монархию в период жестокого подавления всякой свободной мысли, всякой попытки протеста, не видя путей исторического развития страны и не сочувствуя идеям передовых людей общества, А. Толстой пытался найти в древности, в историческом прошлом ответы на волновавшие его вопросы современности. Но ограниченность взглядов мешала ему произвести правильную оценку прошлого, и прошлое представало перед драматургом не в своем реальном виде, а как воплощение тех же мучивших его и не решенных им вопросов. А. Толстой останавливался перед этими вопросами, подобно своему герою, царю Федору, в отчаянии советовавшему княжне Мстиславской идти в монастырь:
Да, княжна,
Да, постригись! Уйди, уйди от мира!
В нем правды нет! Я от него и сам бы
Хотел уйти — мне страшно в нем...1Наибольшими своими симпатиями А. Толстой наделяет исторически обреченную силу общества — боярскую оппозицию, пытаясь придать вождю оппозиции черты «рыцарского» благородства. Однако художественное чутье писателя, внимательно изучавшего исторические источники, хотя и не сумевшего их правильно осмыслить, приводило к тому, что А. Толстой отходил от своих схем и концепций и создавал эпизоды и сцены, бросавшие иной свет на образы его трилогии. Эти эпизоды, основанные непосредственно на исторических материалах, способствовали более углубленному, исторически правильному истолкованию некоторых лиц и событий, изображенных в трилогии. Так, например, пытаясь, вопреки исторической правде, представить дело таким образом, будто народ поддерживал бояр, А. Толстой в сцене, изображающей голодающий народ, показывает, что народ смотрит на бояр и воевод как на своих «обидчиков».
А. Толстой рисует ряд сцен, раскрывающих, какими грязными приемами «рыцари»-бояре обманывают народ, воздействуют на его мнение.
Ярко нарисованные А. Толстым спесь, честолюбие, интриганство бояр заставляли читателей относиться с недоверием к их «рыцарским» претензиям на честь, благородство и верность. Так, в трагедиях Толстого возникали, хотя и затемненные его историческими воззрениями, черты изображаемой им исторической эпохи с ее запутанными феодальными отношениями.
Проводя через всю трилогию тему героической борьбы русского народа с внешними врагами, наступавшими с востока и запада, А. Толстой показывает организующую роль централизованного государства в отстаивании целостности и независимости страны — явление, действительно характерное для изображаемой им эпохи.
Реалистическое изображение исторического прошлого, которое нашло себе место лишь в отдельных эпизодах и образах трилогии А. Толстого, было широко развернуто в исторической драматургии А. Н. Островского. Островскому удалось также достигнуть того органического сочетания исторической
- 397 -
проблематики с постановкой животрепещущих проблем современности, которое в трилогии А. Толстого едва намечалось.
В 60-е годы Островский настойчиво обращается к исторической тематике. В течение 60-х годов им написаны историческая драма «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1861), над которой он начал работать еще в 1855 году и второй вариант которой он создал в 1866 году, чтобы добиться постановки своей пьесы на сцене, и пьесы: «Василиса Мелентьева» (1862), «Воевода (Сон на Волге)» (1865), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1867), «Тушино» (1867). В 1873 году к этим пьесам присоединилась историческая комедия в стихах «Комик XVII столетия».
Историческая драматургия Островского показывала демократические массы народа как активную, действенную силу истории, связывала движение протеста против угнетения и эксплуатации с патриотическим стремлением освободить Родину от иноземных захватчиков. Она проникнута верой в творческие силы русского народа.
Историческая драма Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» посвящена изображению событий 1611—1612 годов. В противоположность официозной драматургии, трактовавшей события этих лет как прелюдию к избранию Романовых, Островский связывает борьбу народного ополчения против польских оккупантов с движением против власти богатеев и бояр, против всякого рода угнетателей народа. Он показывает, что в обществе происходит борьба и что настоящими патриотами, защитниками отечества являются бедняки, «черный люд», Именно эти люди — крестьяне, бурлаки, рыбаки, ремесленники — представляют Россию, они и страдают от разорения страны, от самоуправства бояр и властей, от злоупотребления подьячих, от эксплуатации и подавления, от боярских предательств, ведущих к порабощению страны иноземными захватчиками. Думая о России, главный герой драмы Минин прежде всего обращается мыслью к простому народу:
Возможно ли, чтоб попустил погибнуть
Такому царству праведный господь!
Вон огоньки зажглись по берегам,
Бурлаки, труд тяжелый забывая,
Убогую себе готовят пищу.
Вон песню затянули. Нет, не радость
Сложила эту песню, а неволя,
Неволя тяжкая и труд безмерный,
Разгром войны, пожары деревень,
Житье без кровли, ночи без ночлега.Размышляя о том, кого может тронуть песнь о бедствиях народа, Минин видит только образы простых людей. Народ является инициатором ополчения и спасения страны, вопреки сопротивлению местных властей, бояр и богатых купцов, стремящихся помешать народному делу.
Пьеса Островского в первоначальном варианте оканчивалась не избранием Романова на царство, а избранием простого «земского старосты» в «выборные от всей земли великой». После этого следовал эпилог, представляющий выход ополчения из Нижнего Новгорода. Сам Нижний Новгород изображался как вольный город, напоминающий древние республики — Новгород и Псков.
Я к делу земскому рожден. Я вырос
На площади, между народных сходок.
Я рано плакал о народном горе, —
- 398 -
говорит о себе Минин. Он «берег от властных и богатых Молодшую, обидимую братью». В уста Биркина, присланного в Нижний Ляпуновым, Островский вкладывает прямое заявление:
...Уж народец
У вас на Волге! Нечего сказать!
Новогородским духом так и пахнет.
Некстати говорливы!..Именно это развитие демократического элемента, способствующее развязыванию народной инициативы, делает Нижний Новгород, по мнению Островского, способным организовать ополчение и возглавить патриотическую борьбу всего народа против интервенции. Характерно, что чиновники Биркин и Семенов, теснящие народную инициативу, оказываются предателями и врагами Минина, инициатора патриотического движения новгородцев. Биркин прямо выражает свое презрение к бесправному народу:
На то мы власти, чтобы нас боялись;
Мы черный люд, как стадо, бережем,
Как стадо, должен он повиноваться.И о своем отношении к Минину:
Я говорю тебе, что он мятежник, —
С народом шепчет, а властей ругает...Минин в изображении Островского выступает как народный представитель. Такие заявления Минина, что он готов
Забрать под крылья угнетенных братий
И грудью в бой кровавый и последний.
Час близок! Смерть злодеям! Трепещите! —наталкивали читателя на мысль об освободительном характере борьбы. Еще более определенными были ассоциации, вызывавшиеся следующим разговором Семенова и Минина:
Семенов
Ведь ты еще не воевода! Скажут,
Чтоб говорил — так говори, что хочешь;
А скажут: замолчи! — так замолчишь.Минин
Не замолчу. На то мне дан язык,
Чтоб говорить. И говорить я буду
По улицам, на площади, в избе,
И пробуждать, как колокол воскресный,
Уснувшие сердца. Вы подождите,
Я зазвоню не так...Такие слова не могли в начале 60-х годов не приводить на память «Колокол» Герцена с его эпиграфом «Vivos voco». В соединении с такими страстными речами Минина, постоянно противопоставляющего народ богатеям и властям, борьба его против берущего «посулы» Семенова и против предающего страну врагам и подавляющего народ Биркина получала особый смысл. Читатель воспринимает как вполне закономерное стремление Минина опереться на крестьянские восстания на Волге с целью организации ополчения. Приступая к организации ополчения, Минин приглашает «для совета» сотника из Балахны Ивана Кувшинникова и крестьянина из Решмы Григория Лапшу, предводителей восстания на Волге. Он представляет их живо
- 399 -
сочувствующей делу организации ополчения Марфе Борисовне как воевод, военачальников.
На призыв Поспелова: «Бить волков!»1 Кувшинников и Лапша отвечают:
Кувшинников
Известно, бить! Уж будет, потерпели!
Лапша
Мы топоры и косы отточили,
Которые об них же притупили.Устами Минина Островский заявляет, что бояре не любят родину, ибо им «хорошо везде», что настоящими защитниками родной земли являются те, «кто больше терпят». Любовь народа к родине активна.
Народный протест выступает в драме Островского как сила созидательная, исторически прогрессивная, а не как разрушительное, анархическое начало, каким его изображали реакционные и либеральные писатели. Народное дело должно совершаться строго организованно, народ сам стремится к государственности, организованности, только к такой государственности, которая бы защищала и выражала интересы народа, а не была бы орудием его подавления и угнетения. Для того, чтобы служить интересам народа, Минин требует определенных полномочий и гарантий, ибо ему приходится постоянно вести борьбу с богатеями и боярами — врагами простых людей.
Таким образом, Островский в своей драме стоит на иных позициях, нежели А. Толстой. Он верит в силы народа и в силы государственных людей, деятельность которых не только не сопряжена с злодейством или моральным проступком, но является подвигом, выражением крайней моральной чистоты. Критерием значения деятельности исторического лица для него являются интересы народа. Народ играет первостепенную роль в произведении Островского. Он выступает здесь не как единая безликая и не сознающая своих интересов масса, а как «субъект истории», преследующий свои, сознаваемые им интересы. Островский вводит в драму ряд массовых сцен. Толпа в этих «массовых сценах» не является группой «статистов». Она состоит из лиц с разными, ярко индивидуальными характерами, объединенных общими интересами. Организаторы движения — Минин, Аксенов и другие — порождены этой толпой, выдвинуты и воспитаны народом.
В соответствии с этой ролью народа в драме Островского язык «Минина» отличается особенной народностью, обилием элементов живого разговорного просторечия и в то же время поэтическим богатством, близостью к художественному языку фольклора.
В 1861 году, в обстановке роста революционных настроений в обществе, цензура не пропустила на сцену драму «Козьма Захарьич Минин-Сухорук». Вопрос о постановке этого произведения был передан сначала на рассмотрение начальника III Отделения, затем министра императорского двора, и пьеса была запрещена.
Лишь в 1866 году, после того как драматург внес ряд изменений в свое произведение, смягчив в нем социально-обличительные мотивы, постановка пьесы была разрешена театральной цензурой.
- 400 -
К хронике «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» в творчестве Островского примыкает историческая комедия «Воевода», рисующая самоуправство царской администрации в XVII веке и народное сопротивление беззакониям властей. Близко соприкасается с «Мининым» и драматическая хроника «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», по своей проблематике и центральной мысли напоминающая первую хронику Островского.
Историческая драматургия Островского и А. Толстого выделяется из ряда историко-драматических произведений 60-х годов тем, что оба писателя ставили в своих пьесах проблемы, живо интересовавшие современного читателя, связанные с жгучими проблемами современности, и вместе с тем выражали свои раздумья над историческими судьбами России.
Эта особенность драматургии А. Толстого и Островского не была свойственна таким известным драматургам 60-х годов, специализировавшимся на историческом жанре, как Н. А. Чаев и Д. В. Аверкиев.
Николай Александрович Чаев (1824—1914), интересовавшийся историей и археологией и посвятивший свое творчество исторической драматургии и историческому роману, долгом историка-драматурга считал точное сохранение в драме бытовых деталей, известных на основании исторических источников. С рабским следованием за историческими источниками он сочетал реакционно-охранительное понимание исторических событий, искажение их общего смысла. Произведением, наиболее близко соприкасающимся с современными вопросами среди исторических его пьес, является «предание в лицах» «Сват Фадей» (1864). Воспользовавшись, подобно Островскому в «Воеводе», преданием о разбойнике, защищающем народ от произвола помещиков и чиновников, Чаев, в отличие от Островского, не отразил в своей пьесе общественных противоречий, послуживших основанием для возникновения этого предания. «Добрый разбойник» Фадеич показан не как выразитель протеста народа, а как защитник помещичьего добра, разоблачитель плутней бурмистра. Графа-помещика и высшую бюрократию Чаев рисует как блюстителей интересов народа, притесняемого бурмистром и местными чиновниками. Разбойник Фадеич ведет борьбу с этими злоупотреблениями, но оказывается при этом на стороне крупного помещика и высшего «начальства». Историческое прошлое рисуется в пьесе чуть ли не в водевильном плане. Чаев сознательно стремится к сглаживанию общественных противоречий и социальные конфликты подменяет случайными столкновениями.
Еще более явственно сказался консерватизм Чаева в исторической драме «Князь Александр Михайлович Тверской» (1864). Вся драма пронизана консервативной идеей святости «обычаев старины» и мыслью о губительности нарушения традиций. В уста героев Чаев вкладывает монархические идеи. Хотя действие пьесы происходит в Новгороде, Чаев не изображает новгородской вольницы, народ показан как безличная масса, покорная своему князю. Смирение и покорность воле провидения Чаев пытается представить типичной чертой русского народа. Касаясь татарского ига, Чаев пытается доказать, что татарскому игу русский народ противопоставлял не сопротивление, а пассивность, смирение, мученичество. Таким образом, в его драме искажалась историческая действительность.
Художественный стиль драмы Чаева «Князь Александр Михайлович Тверской» свидетельствует о том, что писатель идет по пути воскрешения стиля мелодрамы и ложно-величавой драмы 30—40-х годов. Сюжетное развитие пьесы определяется интригами героя-злодея, стремящегося погубить главного «добродетельного» героя. Пассивный, добродетельный герой, князь
- 401 -
Александр Михайлович Тверской, отвечает на интриги злодея смирением, верой в бога, молитвой. Бог видит его правоту, и посмертно она признается за ним людьми.
Тщательное следование за историческими источниками в деталях сочетается у Чаева с непониманием общего смысла исторических событий и в его драматической хронике «Димитрий Самозванец» (1865). Постановку этой пьесы театральная администрация предпочла постановке «Дмитрия Самозванца и Василия Шуйского» Островского.
«Свекровь. Трагедия из времен уделов», опубликованная Чаевым в 1870 году, представляет собой явную мелодраму. В вульгарно-романтическом стиле здесь изображается разрушительное действие страстей, честолюбие, которое приводит к злодейству и гибели целого рода. Трагедия насыщена мелодраматическими ужасами и эффектами. Автор даже не пытается создать социально и исторически типичные образы, социально и исторически типичные ситуации. Следуя мелодраматической традиции, Чаев показывает «роковую страсть», которая представляется ему интересной как нечто исключительное, из ряда вон выходящее. В трагедии «Свекровь», так же как и в других исторических драмах Чаева, язык чрезвычайно тяжел и архаичен. Подобно тому, как в передаче исторических событий Чаев не понимал и искажал их общий смысл и скрупулезно воспроизводил подробности быта и обстановки, так и язык своих пьес он насыщал крайне устарелыми словами и выражениями, провинциализмами, диалектизмами, полонизмами и т. д., не передавая исторической тенденции развития языка, не понимая связи народного разговорного языка с литературным и не учитывая традиций, идущих от древнерусского языка к современному. Поэтому язык его героев оставался мертвым, исторически не типичным, лишенным творческих элементов. Пьесы Чаева написаны тяжелыми, лишенными поэтических достоинств стихами, которые часто даже трудны для понимания.
Гораздо более высокими художественными достоинствами отличаются исторические драмы Д. В. Аверкиева, стоявшего, как и Чаев, на охранительно-консервативных позициях, но сумевшего придать своим произведениям известный драматизм, обеспечивавший некоторым из них успех на сцене.
Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836—1905) происходил из купеческой семьи. Свою литературную деятельность Аверкиев начал в качестве фельетониста. Он сотрудничал в «Русском инвалиде», «Северной пчеле» и «Эпохе» Достоевского. В 1864 году в «Эпохе» было напечатано первое его драматическое произведение «Мамаево побоище. Летописное сказание». В «Отечественных записках», с редактором которых Дудышкиным Аверкиев сблизился, он поместил свои драматические произведения: «Леший. Сказочная комедия в стихах» (1866) и «Терентий муж Данильевич» (1867). В том же 1867 году появляется и его драма «Слобода Неволя». В 1869 году в журнале «Заря» была напечатана его «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей Нардын-Нащокина дочери Аннушке». Комедия имела большой успех на сцене. Еще большую известность Аверкиеву доставила драма «Каширская старина» («Русский вестник», 1872, № 1). После «Каширской старины» Аверкиев написал ряд исторических пьес, напечатанных в «Русском вестнике»: «Царь Петр и царевич Алексей» (1872), «Темный и Шемяка» (1873), «Княгиня Ульяна Вяземская» (1875), «Разрушенная невеста» (1876), «Сидоркино дело» (1881), но ни одна из них не пользовалась таким успехом, как «Фрол Скобеев» и «Каширская старина». С конца 70-х годов Аверкиев служил в цензуре, а в 1882 году был
- 402 -
назначен членом театрально-литературного комитета. С 1885 года Аверкиев приступил к ежемесячному изданию «Дневника писателя», в котором печатал свои статьи и художественные произведения — стихи, повести и драмы — «Петербургский слеток» (1885) и др. «Дневник писателя» Аверкиева никакого успеха у публики не имел. В 1898 году появились «Повести из старинного быта» Аверкиева, вызвавшие некоторый интерес у читателя.
Уже в первой комедии Аверкиева «Леший» проявились типичные черты его творчества. Аверкиев выступает здесь как подражатель Островского, противостоящий ему по своим художественным и идейным тенденциям. Появившаяся после пьес Островского «Воевода» и «На бойком месте» историческая комедия в стихах Аверкиева явно обнаруживала следы влияния этих пьес Островского. Аверкиев использует опыт Островского, который в «Воеводе» соединил народную фольклорную фантастику с историко-бытовым материалом. Сюжетная ситуация комедии Аверкиева и характеристика в ней действующих лиц прямо повторяют «На бойком месте» Островского. Вместе с тем, в отличие от Островского, Аверкиев не рисует типичных для изображаемого им быта социальных противоречий. Сюжетная ситуация в его комедии связана с особенностями характеров некоторых действующих лиц, с присущими им «чудачествами», «страстями». Интрига развязывается с помощью вмешательства сверхъестественной силы, наказывающей «злых» и награждающей «добрых». Реалистическая типизация и решение острых социальных проблем современности отсутствуют у Аверкиева. В отличие от Островского, который, реалистически изображая прошлое, решал проблемы, волновавшие современного зрителя и читателя, Аверкиев уводит читателя в старину и ее быт, в область, далекую от современных противоречий, в область идеализируемых им старинных устоев быта и «вечных» человеческих страстей. В предисловии к драме «Слобода Неволя» («Вьюга») Аверкиев указывает, что он ставил перед собой цель — показать Ивана Грозного «как человека, в его домашней обстановке, в его отношениях к слугам-опричникам и тем, кого любил он, для которых он был не царем, а Ваней, Ванюшей, белым голубем». «Мне хотелось, — писал драматург, — изобразить Слободу Неволю..., эту угарную нравственную атмосферу (если можно так выразиться), окружавшую его <Ивана Грозного> и отчасти им самим созданную».1 Таким образом, Аверкиев сознательно отказывался от изображения политической деятельности Грозного.
Иван Грозный в драме Аверкиева показан, как человек больших и жестоких страстей, вокруг него царит обстановка лихорадочного разгула «губительных страстей», свойственных якобы широкой натуре русского человека. Подобное представление было характерным для «почвенников», к которым был близок Аверкиев.
«Роковая» любовь, делающая человека готовым на любое преступление и злодейство, честолюбие, не знающее пределов и границ, властолюбие, ревность — вот чувства, которыми движимы герои. Эти страсти приводят действие пьесы к трагической развязке. Чувства и «страсти» героев представляются автору выражением вечных свойств человеческой природы, к теме же Ивана Грозного Аверкиева привлекает обстановка «разгула» страстей, которая, как ему представлялось, царила вокруг Ивана Грозного.
Драма «Слобода Неволя» содержит ряд мелодраматических моментов, и самая трактовка характеров центральных героев — Ивана Грозного, Угара Беса, Груни — в ней мелодраматична. В трактовке человеческой природы и
- 403 -
национального характера Аверкиев сходился с Ап. Григорьевым и с идейно близкими к нему писателями.
«Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей Нардын-Нащокина дочери Аннушке» изображала похождения карьериста, бедного дворянина Фрола Скобеева в конце XVII века. Фрол Скобеев увозом женится на дочери боярина Нардын-Нащокина, рассчитывая через тестя сделать карьеру и разбогатеть. Расчет Фрола Скобеева оправдывается: ненавидящий его тесть вынужден покровительствовать ему, чтобы «оправдать» в глазах общества замужество Аннушки. Фрол Скобеев, которого Аверкиев, следуя повести XVII века, называет «бедным дворянином», изображается им скорее похожим на купца, выбивающегося в люди. Аверкиев с нескрываемой симпатией рисует ловкого дельца, рассматривающего брак как путь к наживе и почестям и цинично прославляющего обман, шантаж и плутовство. Пьеса не обличает «темное царство», а скорее оправдывает погоню за наживой. С симпатией изображает Аверкиев и плутовские проделки Фрола Скобеева и холодную, циничную расчетливость Варвары, сестры Фрола, которая размышляет о том, как «повыгоднее» выйти замуж. Добродушную улыбку вызывает у Аверкиева и плутовство мальчика Лавруши, брата Фрола, вполне усвоившего хищническую мораль окружающей среды. Развращающее действие среды обмана и наживы на душу ребенка, изображенное и разоблаченное Островским в «Свои люди — сочтемся» (ср. образ Тишки), представляется Аверкиеву следствием вполне закономерного развития человека. Хищничество, карьеризм, страсть к деньгам, типичные для буржуазии, Аверкиев воспринимает как вечные свойства человеческой природы, за проявление которых человек не может быть осужден. «Ловкость» Фрола Скобеева представляется ему проявлением «даровитости» его натуры.
Тем не менее следует отметить, что фигуры героев комедии характерны, вырисованы с большим знанием старинного быта и психологической верностью. Известный элемент демократизма, выразившийся в противопоставлении хитрости, сметки и ума бедной семьи Скобеева знатным богачам Нардын-Нащокиным, Лычиковым и Велик-боярину с их гордостью, напыщенностью и неповоротливым умом, дал возможность артистам создать на основе этой пьесы живой, веселый спектакль. Большим успехом пользовалась постановка «Фрола Скобеева» на сцене Александринского театра.
В «Фроле Скобееве», как и в других произведениях, Аверкиев стремится к стилизации старинного быта и языка. Однако здесь эта стилизация не выражает столь ярко, как в других произведениях Аверкиева, любования стариной, устарелыми формами речи, старинными устоями быта (см., например, такие произведения, как «Леший», «Слобода Неволя», «Сидоркино дело» и др.). Язык «Фрола Скобеева» отличается живостью и бытовой яркостью.
«Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве» является одним из наиболее удачных произведений Аверкиева. Шумный успех выпал на долю драмы Аверкиева «Каширская старина». Точно обозначая время действия — «вторая четверть XVII века», Аверкиев не обращается, однако, и здесь к изображению конкретных исторических событий. В рамку провинциального быта XVII века он вдвигает снова драму «больших страстей». «Роковая любовь» царского сокольника Василия здесь сталкивается с гордостью богатого и знатного «вотчинника» Парфена, заставляющего сына жениться на нелюбимой, но «выгодной», знатной невесте. Покорный воле отца, Василий женится, но, будучи не в силах преодолеть свою страсть, возвращается на Каширу и пытается похитить любимую им Марьицу. Встретив с ее стороны
- 404 -
сопротивление, Василий позорит ее перед женихом и родней, доводит до самоубийства и сам сходит с ума.
Аверкиев противопоставляет боярскую гордость Парфена и Василия смирению, свойственному, по его мнению, народу. Парфен и Василий наказаны в конце драмы, и Парфен горько раскаивается в своей гордости, превращаясь из властного и чванливого вотчинника в смиренного и всепрощающего старика.
Гордость рисуется здесь Аверкиевым не как следствие высокого положения в обществе, не как боярская спесь, а как свойство характера, присущее людям вообще и лишь особенно ярко выраженное у дворян (еще, пожалуй, более горд, чем Парфен, бедный дворянин Иван, отец Марьицы). Мораль «Каширской старины» можно было бы выразить первоначальным заглавием пьесы «Бедность не порок»: «Гордому бог противится». Проповедь смирения, преодоления гордости содержится в обеих комедиях. Однако, в отличие от Островского, который в «Бедности не порок» гордость рисует как чувство, воспитываемое в людях определенной социальной средой, — у Аверкиева гордость — исконная черта человеческого характера, и Аверкиев рисует ее в отрыве от современных форм жизни в обстановке старого быта. Таким образом, морализм его не сочетается с социальным обличением и носит абстрактный характер. Следуя по пути, которым шел Островский, когда создавал «славянофильские» пьесы «Бедность не порок» и «Не так живи, как хочется», Аверкиев стремится сочетать морализм с реальным изображением жизни, однако, реальное изображение жизни он видит не в показе типичных для данной среды социальных противоречий, а в воспроизведении подробностей патриархального быта, его этических основ и эстетики. Подобно Ап. Григорьеву и другим «почвенникам», Аверкиев рассматривает старинный быт как воплощение народного эстетического и этического идеала (именно в этом плане пытался истолковать Ап. Григорьев смысл «бытописи» в «Бедности не порок»). Стремясь передать «эстетику» быта, Аверкиев широко вводит фольклор в свое произведение (в драму включаются народные поговорки, песни, хороводные игры и целая сцена девичника с песнями, обрядами и т. д.).
Прекрасное знание старинного русского быта, умение создавать живой, остроумный диалог, насыщенный народным юмором, владение народной речью, проявленные Аверкиевым в ряде сцен драмы, справедливо вызвали интерес публики к «Каширской старине» и делают ее репертуарной до сих пор пьесой. Способствовала ее успеху и полная драматизма роль Марьицы. Аверкиев не создал художественно цельного, психологически и исторически яркого образа, однако, драматическое положение, в которое он ставит свою героиню, дало актрисам, исполнительницам роли Марьицы, возможность создать интересный образ сильной волею девушки, умеющей любить и умеющей отказаться от своей любви, если любовь эта вступает в противоречие с ее моральным чувством. Тема «роковой страсти» нашла свое развитие в дальнейших пьесах Аверкиева «Княгиня Ульяна Вяземская» и «Разрушенная невеста», рисующих на фоне исторического прошлого образы «роковых» женщин, внушающих «непреодолимую» любовь, которая толкает людей на преступления и злодейства (в драме «Княгиня Ульяна Вяземская» — Ульяна Вяземская, в драме «Разрушенная невеста» — невеста Петра II — Екатерина Долгорукая).
В драме «Разрушенная невеста», так же как и в драме «Царь Петр и царевич Алексей», сказывается стремление Аверкиева обращаться к историческому прошлому с тем, чтобы находить в нем эпизоды особенно яркого драматического проявления «борьбы страстей», главным образом корысти,
- 405 -
честолюбия или любовной страсти. Эта тенденция, характерная для позднего Аверкиева, замечалась и в творчестве ряда других драматургов, авторов «исторических» пьес. Эту тенденцию явственно сформулировал Писемский в предисловии к своей трагедии «Поручик Гладков» (1867). Объясняя читателям содержание своей трагедии и причину обращения к истории середины XVIII века, он писал: «Юному Петру II, слабой Анне Иоанновне и беспечной Анне Леопольдовне было не под силу удерживать колеса петровской машины в их прежнем порядке; личные страсти в них <соратниках Петра> заговорили: жажда корысти, оскорбленное и неудовлетворенное самолюбие, постоянно и издавна накапливаемая друг к другу вражда — всё это искало выхода и находило себе простор для выражения. Посреди всего этого, как бы в дополнение картины, является еще новый, могущественный честолюбец — герцог Курляндский. Трагическое столкновение между этими лицами было неизбежно, и эту-то борьбу птенцов Петра с Бироном, а потом борьбу их между собою, мы и имели целью изобразить в нашей драме...».1
Противоядие против борьбы эгоистических страстей «больших людей» Писемский усматривал в сильной и законной монархии. Обращение к истории в поисках мелодраматических ситуаций еще более ярко проявилось в исторической драматургии Лажечникова 60-х годов («Опричник», 1859; «Матери-соперницы», 1868). Он рисовал исторические лица в виде злодеев и добродетельных героев, а в исторических фактах пытался найти мелодраматические ситуации — столкновение роковых страстей. В «Опричнике» он обращается к эпохе Ивана Грозного, как к эпохе мелодраматических «страстей» и «злодеяний». В этом Лажечников был не одинок. Он шел в ряду других драматургов — либеральных и консервативных», — выделяясь лишь наибольшей близостью к вульгарному романтизму и мелодраме.
Историческая драматургия 60-х годов отражала общественную и литературную борьбу. Авторы, пытавшиеся использовать исторический материал для выражения своих реакционных взглядов или для того, чтобы увести публику от решения современных социальных вопросов, оказывались в лагере не только политической, но и литературной реакции, противостоящей радикальной реалистической литературе. Произведения их искаженно изображали прошлое страны. Писатели-реакционеры не давали реалистически очерченных, социально и исторически типичных характеров и неизбежно скатывались в своем творчестве к вульгарному романтизму, к мелодраме.
*
Пятидесятые-шестидесятые годы — важнейший период в развитии русской драматургии. Русская драматургия стала одним из ведущих жанров литературы. Островский, Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин, Писемский, А. К. Толстой создали в 50—60-х годах произведения, которые вошли в золотой фонд классической русской драматургии. Драматурги-реалисты в основу сюжета своих пьес положили социальные конфликты и коллизии, типические для эпохи. Обнажая существо общественных противоречий, показывая враждебность господствующих классов общества народу, обличая эксплуататоров и защитников их интересов, реалистическая драматургия являлась союзницей революционной демократии.
- 406 -
Революционные демократы придавали огромное значение драматургии. Чернышевский, Некрасов, Добролюбов, Салтыков-Щедрин посвятили ряд критических статей и высказываний анализу драматургии 50—60-х годов, и их разборы, в особенности статьи Добролюбова, имели огромное влияние на передовых драматических писателей.
Драматурги-реалисты 50—60-х годов создали образы положительных героев, отражавшие рост протеста в народных массах против крепостничества и других форм эксплуатации и угнетения. Именно так истолковал Добролюбов значение образа Катерины из «Грозы» Островского в статье «Луч света в темном царстве».
СноскиСноски к стр. 351
1 А. Н. Островский. О театре, изд. «Искусство», Л. — М., 1941, стр. 64.
Сноски к стр. 352
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. V, Гослитиздат, М., 1937, стр. 143. В дальнейшем цитируется по этому изданию (тт. I—XX, 1933—1941).
Сноски к стр. 356
1 Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 377.
Сноски к стр. 358
1 А. А. Потехин, Сочинения, т. IX, изд. «Просвещение», СПб., стр. 235.
Сноски к стр. 360
1 «Брат и сестра» — первоначальное название драмы «Шуба овечья — душа человечья», под которым она была напечатана в «Москвитянине».
2 Здесь и далее цитируется по изданию: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Гослитиздат, М., 1939—1953.
Сноски к стр. 362
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, М., 1935, стр. 460. В дальнейшем цитируется по этому изданию (тт. I—IV, 1934—1941).
Сноски к стр. 365
1 Это предположение поддерживается также и тем обстоятельством, что в одном и том же номере «Москвитянина» содержатся и эта драма Потехина и публикация исторических материалов о Кулибине, прототипе одного из героев «Грозы» — Кулигина. Очевидно, работая над «Грозой», Островский освежил в своей памяти наряду с историческими материалами и пьесу Потехина.
2 В статье «Луч света в темном царстве» Добролюбов писал: «...сам автор <Островский> оказывается согласным с нами, так как в „Грозе“ мы находим новое подтверждение многих из наших мыслей о таланте Островского и о значении его произведений» (II, 329).
Сноски к стр. 366
1 А. Ф. Писемский, Полное собрание сочинений, т. VIII, изд. А. Ф. Маркса, СПб., 1911, стр. 147.
2 Там же, стр. 157.
Сноски к стр. 368
1 А. Ф. Писемский, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 169.
Сноски к стр. 369
1 «Литературная библиотека», 1867, июль, кн. 1 и 2, стр. 35, 28.
Сноски к стр. 370
1 «Литературная библиотека», 1867, июль, кн. 1 и 2, стр. 71.
2 Там же, стр. 77.
Сноски к стр. 375
1 Буквально: «как следует»; здесь в значении: «светский человек».
Сноски к стр. 381
1 А. В. Сухово-Кобылин. Трилогия, М., 1938, стр. 40, 33.
Сноски к стр. 388
1 «Отечественные записки», 1868, т. 176, № 2, отд. II, стр. 321.
Сноски к стр. 390
1 В. А. Дьяченко Драматические сочинения, т. II, изд. 2-е, Казань, 1892, стр. 409.
Сноски к стр. 391
1 А. Н. Островский. О театре, изд. «Искусство», Л. — М., 1941, стр. 63.
Сноски к стр. 392
1 «Отечественные записки», 1868, т. 176, № 2, отд. II, стр. 319.
Сноски к стр. 394
1 А. К. Толстой, Полное собрание стихотворений, изд. «Советский писатель», 1937, стр. 291.
2 А. К. Толстой. Драматическая трилогия, изд. «Советский писатель», 1939, стр. 492.
Сноски к стр. 395
1 А. К. Толстой. Драматическая трилогия, стр. 11.
2 Там же, стр. 319.
Сноски к стр. 396
1 А. К. Толстой. Драматическая трилогия, стр. 384.
Сноски к стр. 399
1 Призыв: «Бить волков!» также вызывал ассоциации расправ с эксплуататорами. См. использование подобного образа в «Запутанном деле» Салтыкова и «Повестях в повести» Чернышевского.
Сноски к стр. 402
1 Д. В. Аверкиев. Драмы, т. I, изд. 2-е, СПб., 1906, стр. 3.
Сноски к стр. 405
1 А. Ф. Писемский, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 242.