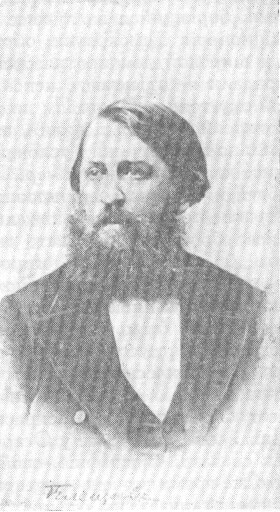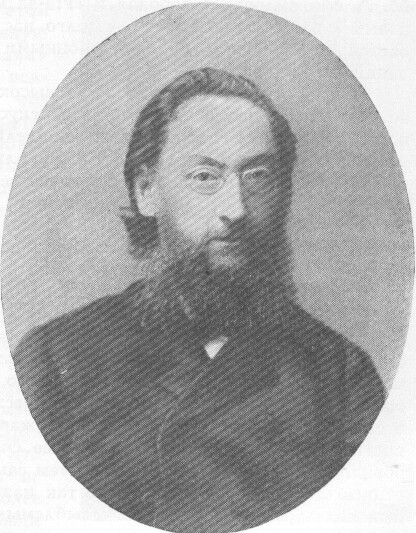- 7 -
Поэзия шестидесятых годов
(ОБЩИЙ ОБЗОР)
1
Общая расстановка классовых сил в России в середине XIX века, всё большая классовая дифференциация и всё более острая классовая борьба накануне реформы 1861 года и в пореформенные годы отразились также и в поэзии. Здесь, как и во всей литературе, как и во всей общественной жизни, отчетливо обозначилась основная линия размежевания — между лагерем крестьянской демократии, с одной стороны, и правительственным лагерем, к которому примыкали и либералы, с другой. Это сказалось как на общем идейно-политическом смысле основных поэтических направлений и творчества отдельных поэтов, так и на их эстетических принципах и художественных особенностях.
Обычное представление о двух основных направлениях русской поэзии 50—60-х годов — так называемой «чистой поэзии» и «гражданской», борьба между которыми определяла поэтическое движение этого времени, — сложилось очень давно, едва ли не в самом разгаре этой борьбы. Социальный смысл борьбы между ними, равно как и социальная природа обоих направлений выяснены в литературной науке и не вызывают сомнений. При всем разнообразии оттенков внутри «чистой поэзии» это была в своей основе дворянская поэзия, а противостояла ей поэзия демократического лагеря. К первому направлению принадлежали Фет, Майков, А. К. Толстой, Полонский, Тютчев, Щербина, Мей, ко второму — Некрасов, Добролюбов, Михайлов, В. С. Курочкин, Минаев, Никитин, Огарев, Плещеев. В каждом направлении было еще, конечно, много второстепенных имен, большинство из которых известно теперь лишь специалистам-историкам литературы.
Истоки обоих направлений находятся еще в 40-х годах, когда начали свою литературную деятельность главные их представители. Но тогда, при всех принципиальных разногласиях по наиболее существенным вопросам искусства и общего мировоззрения, размежевание между ними не получило еще той остроты и определенности, которой отмечены 60-е годы.
После революционных событий 1848 года (а тем более в 60-е годы) теория и практика «искусства для искусства» направлены непосредственно против демократического, революционного искусства, получившего свое теоретическое обоснование в материалистической эстетике Чернышевского и приобретавшего всё большее влияние в читательской массе.
В области поэзии с наибольшей резкостью и отчетливостью сказалась борьба «гоголевского» и «пушкинского» направлений. Борьба велась между сторонниками критического реализма и приверженцами теорий «искусства для искусства»; знаменем последнего его сторонники (в первую очередь
- 8 -
А. В. Дружинин) пытались сделать соответствующим образом истолкованное творчество Пушкина.
Дружинин и Боткин, равно как и поэты школы «чистого искусства», считали «гражданскую поэзию» не настоящим искусством или вовсе не искусством, поскольку гражданских поэтов привлекали в первую очередь не «вечные» темы, а явления, связанные с «злобой дня», т. е., иначе говоря, явления социально-исторические, поскольку основным стимулом их творчества было активное, в высшей степени заинтересованное отношение к самым острым вопросам и противоречиям окружающей социальной действительности.
Боткин в программной статье о Фете иронизирует над образом поэта — «карателя общественных пороков», «исправителя нравов», «проводника так называемых современных идей». Такой взгляд на поэта противоречит, по его мнению, основным началам поэтического творчества. «...Поэт, под одеждою временного, имеет в виду только вечные свойства души человеческой... Тем всегда глубже и прочнее действие поэтического произведения, чем независимее оно от временных и, следовательно, скоропреходящих интересов». Подлинный художник, пишет Боткин, чувствует и думает, не справляясь с мимолетными требованиями современности.1
Если в 40-е годы преувеличенное внимание к «сатирическому элементу русской поэзии» было в какой-то степени закономерно, утверждал Дружинин в 1858 году, то «в наше время всякий ребенок знает, что мир поэзии и мир гражданской деятельности вполне независимы один от другого, — что поэзия во время застоя общественного может быть общественным побудителем и двигателем, — но что никакой закон не удержит ее в области одних насущных интересов житейских, чуть для этих интересов будет открыто широкое поле в государстве». Именно так, пишет он, обстоит дело «в наше благотворное время», и потому «нельзя раздавать поэтических лавров за изображение исправника, берущего взятки, или помещика, во зло употребляющего свое помещичье право». В обществе, вступившем на «широкую стезю плодотворных реформ» (в этих словах и других аналогичных заявлениях ярко проявились и политические симпатии Дружинина, вполне удовлетворенного правительственной политикой тех лет), должен быть положен «естественный предел сатире» и возвращена поэзии «вся ее независимость от интересов случайных... Общество настолько созрело, что от беллетристики и поэзии ждет одних умственных наслаждений...».2 Открыто призывая к борьбе с «современным направлением словесности и реализмом в ней укореняющимся», сетуя на «дух политической партии и литературных несогласий», мешающих якобы нормальному развитию литературы, на подчинение «художественной стороны дела» элементу политическому и общественному, Дружинин противопоставляет всему этому идеал «чистого искусства», «не подчиненного никаким временным, преходящим целям».3 Этими мыслями пронизаны все статьи Дружинина, посвященные поэзии, и конкретные оценки современных ему поэтических явлений.
Теоретики и поэты школы «искусства для искусства» возражали против всякого «дидактизма» искусства и нередко заимствовали примеры его будто бы пагубного влияния из литературы самых разных времен. Однако острие их высказываний, иногда несколько завуалированных, было всегда направлено против русской революционной литературы и критики
- 9 -
50—60-х годов, как своего наиболее опасного врага и притом врага не только литературного, но и политического.
Критикам, поэтам, да и просто читателям демократического лагеря были совершенно чужды взгляды на литературу представителей школы «чистого искусства». Им был во многом далек и поэтический мир этих поэтов. Они считали его узким, ограниченным замкнутым в пределах личных переживаний. Им было враждебно «созерцательное направление» литературы (слова Боткина1), уводившее общественное сознание от самых насущных проблем современности, культивировавшее равнодушие к ним и способствовавшее примирению с современной социальной действительностью.
Неизменно и резко возражая против эстетского формализма и выдвигая в качестве одного из основных критериев оценки произведений искусства значительность и общезначимость темы, Добролюбов писал: «Здесь мы расходимся с приверженцами так называемого искусства для искусства, которые полагают, что превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и справедливо: собственно сила таланта может быть одинакова у двух художников, и только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равною силою таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни».2 Добролюбов неоднократно подчеркивал, что о значительности произведения мы судим «по широте взгляда автора» и «верности понимания» действительности.3 И именно исходя из этого, считая основным мерилом достоинства писателя степень его проникновения «в самую сущность явлений» и то, «как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни», Добролюбов ставил Тютчева значительно выше Фета, творчество которого, при всем его несомненном таланте, было наиболее последовательным выражением теории «чистого искусства».4
Руководствуясь теми же принципиальными требованиями, писал о современной поэзии и Писарев. «Микроскопические поэтики» того времени ничем не обогатили сознание молодого поколения, не заронили в него ни одной «искры негодования против грязных и диких сторон нашей жизни», не разбили ни одного «господствующего заблуждения» и лишь «баюкали нас своими тихими мелодиями» и «воспевали на тысячу ладов мелкие оттенки мелких чувств».
«У наших лириков..., — писал он в 1861 году, — нет никакого внутреннего содержания; они не настолько развиты, чтобы стоять в уровень с идеями века; они не настолько умны, чтобы собственными силами здравого смысла выхватить эти идеи из воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающие их явления обыденной жизни, отражать в своих произведениях физиономию этой жизни с ее бедностью и печалью. Им доступны только маленькие треволнения их собственного узенького психического мира: как дрогнуло сердце при взгляде на такую-то женщину, как сделалось грустно при такой-то разлуке, что шевельнулось в груди при воспоминании о такой-то минуте, — всё это описано, может
- 10 -
быть, и верно, всё это выходит иногда очень мило, только уж больно мелко; кому до этого дело, и кому охота вооружаться терпеньем и микроскопом, чтобы через несколько десятков стихотворений следить за тем, каким манером любит свою возлюбленную г. Фет, или г. Мей, или г. Полонский?».1
Таким образом, не только самый факт существования этих двух антагонистических направлений, но и центральное место, которое занимала борьба между ними в поэзии этого времени, не могут быть, конечно, оспариваемы. Однако их признаки и особенности этой борьбы нуждаются в значительном прояснении и уточнении.
Прежде всего следует подчеркнуть, что речь идет не о монополии на тот или иной круг тем и мотивов. Поэтому прямолинейная тематическая подстановка, вместо «чистой поэзии» — лирика природы и любви, а вместо «гражданской» — стихотворения на политические темы, неверна. Она ведет не только к сужению, но даже к искажению реальных фактов, реального облика этих двух поэтических школ. Можно говорить лишь о преобладании того или иного круга тем и мотивов, преобладании, вполне объяснимом в связи с общим идейным направлением каждой школы. Но физиономия школы характеризуется не только кругом тем, а в первую очередь социально-политическим мировоззрением, определяющим их трактовку.
Представители «чистой поэзии» откликались на политические события и явления общественной жизни, и политические стихи у некоторых из них занимают немалое место. С другой стороны, лирика природы и любовная лирика вовсе не игнорировались «гражданскими» поэтами, в первую очередь самим Некрасовым. Но это обстоятельство еще больше подчеркивает коренные расхождения между ними. Наличие политических стихотворений у А. К. Толстого и Тютчева не делает их близкими Некрасову, поскольку их конкретные социальные оценки и общее политическое мировоззрение чужды ему, а лирика Некрасова нисколько не приближает его к Фету, потому что она не только носит особый индивидуальный отпечаток, как у каждого крупного поэта, но опирается на совсем иные, враждебные Фету эстетические принципы. Интимная лирика теснейшим образом связана со всем мировосприятием и миропониманием поэта и не может быть понята изолированно. Самый факт наличия любовной лирики еще ни о чем не говорит, и делать его решающим моментом — значит идти по линии наименьшего сопротивления.
Разумеется, понятия «чистая поэзия», «чистое искусство» иллюзорны и фиктивны, потому что нет никакого «искусства для искусства», и отрицание его связи с социальной жизнью, призыв к аполитичности есть тоже особая политическая позиция. «Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто долженствующее быть чуждым житейских дел, — писал Чернышевский, — обманываются или притворяются: слова „искусство должно быть независимо от жизни“ всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницею другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу».2 Однако, сознавая условный характер этого исторически сложившегося обозначения, мы всё же можем им пользоваться, поскольку оно охватывает и в некоторой степени характеризует известный круг родственных явлений и имен.
- 11 -
Иначе обстоит дело с термином «гражданская поэзия», который очень неудобен вследствие своей неопределенности и не потому, что «чистые поэты» тоже нередко писали политические стихи, а «гражданские» — стихи лирические. Неудобен он прежде всего потому, что недостаточно точно разграничивает данную школу с другими поэтическими группировками и явлениями. В поэзии 50—60-х годов есть течения, для которых «гражданское» направление является основным, но которые тем не менее весьма далеко отстоят от Некрасова, внутренне враждебны идейному смыслу его творчества. Таких течений два: во-первых, поэзия славянофилов и, во-вторых, так называемая «обличительная» поэзия (Розенгейм и др.) с ее куцыми умеренно-либеральными тенденциями.1 Поэтому в применении к Некрасову, Добролюбову, В. С. Курочкину, Михайлову, Никитину и многим другим следует говорить не просто о «гражданской» поэзии, а о поэзии демократического лагеря; ее по праву можно называть и «некрасовским направлением», тем более, что такое обозначение употреблялось уже в 60-е годы.2
2
Характеризуя поэтические направления 60-х годов, историки литературы иногда чрезвычайно доверчиво относились к программным высказываниям критиков. «Чистая поэзия» нередко противопоставлялась в связи с этим «гражданской» как поэзия, лишенная каких бы то ни было предвзятых тенденций, поэзии откровенно тенденциозной.
Не только критики и теоретики, боровшиеся за идеи «искусства для искусства», но и поэты, примыкавшие к этому лагерю, считали одним из своих основных догматов гибельность всякой тенденции, всякой «дидактики» для искусства. И Фет, и А. К. Толстой, и Майков не раз говорили о том, что тенденция — смерть для искусства, что она может быть сама по себе весьма благородной, но пропаганда ее не имеет мол никакого отношения к литературе.
Однако их поэтическая практика нередко расходилась с этими утверждениями, нарушая принципы «созерцательного направления» литературы. Отстаивая свои представления о творчестве, стремясь опровергнуть мысли об искусстве социально направленном, активно вмешивающемся в жизнь, они писали резко тенденциозные стихи против тенденциозности, против связи искусства с «злобой дня».
Достаточно вспомнить, например, злобное стихотворение Фета «Псевдо-поэту», направленное против Некрасова, в котором Фет обвиняет Некрасова в том, что он не понимает якобы подлинной свободы, низкопоклонничает перед толпой и тащит свой «малеванный хлам» на рынок, на площадь. «Безумной прихоти певца», которой руководится, по Фету, настоящий художник, противопоставляется «прихоть народа», которой угождает «псевдо-поэт». А. К. Толстой пишет «Против течения» — стихотворение программное и неприкрыто тенденциозное, в котором он, привлекая ряд исторических аналогий, ополчается на противников «чистого искусства». С неменьшей откровенностью и решительностью обрушивается он на мнимых разрушителей искусства в «Пантелее-целителе», призывая былинного героя попотчевать их дубиной.
- 12 -
Всё это, казалось бы, не вяжется с позицией жрецов искусства, пренебрегающих «низкой» действительностью. Но нечто аналогичное было в 60-е годы и в области прозы. Те самые писатели, которые метали громы и молнии против «Современника», «Русского слова» и «Искры», будто бы снижающих пропагандой тенденциозного искусства его высокие идеалы, выступали с злободневными и сугубо тенденциозными антинигилистическими романами. Одним из постоянных мотивов этих романов было якобы отсутствие у нигилистов эстетического чувства и полное непонимание ими искусства.
Когда говорят о сатире 60-х годов, чаще всего и в первую очередь имеют в виду сатиру революционного лагеря. И это естественно, поскольку наиболее яркие образцы ее, в силу ряда исторических причин, действительно связаны с ним. Такое представление подкрепляется тем обстоятельством, что представители «чистого искусства» считали сатиру, — именно потому, что она достигла расцвета во враждебном им лагере и разрушала как их социальные и эстетические идеалы, так и ту социальную почву, на которой они возникли, — не настоящим искусством. Негодование на «свистунов», «шутов», «гаеров», «пародистов» и т. д. является одним из постоянных рефренов критических статей и рецензий целого ряда журналов. Даже Тургенев писал в 1861 году своему приятелю Я. П. Полонскому: «Хорошие стихи в теперешнее сухое время — как благотворная влага: надоели свистуны, критиканы, обличители, зубоскалы — чорт бы их всех побрал!».1
И тем не менее в творчестве некоторых поэтов школы «чистого искусства» сатира занимает существенное место. Сатира А. К. Толстого — одна из самых значительных линий его литературной деятельности. Сатира и эпиграмма являются наряду с антологическими стихотворениями одним из центральных моментов поэзии Н. Ф. Щербины. Из второстепенных поэтов следует назвать Б. Н. Алмазова, юмористические произведения которого пользовались в свое время успехом. Наконец, нельзя не упомянуть в связи с этим и Козьму Пруткова, к которому еще придется обратиться дальше.
Было бы неверно при этом рассматривать всё сатирическое творчество поэтов школы «искусства для искусства» в чисто бытовом плане. Разумеется, они писали и бытовые шутки и сатиры, но наиболее значительные произведения А. К. Толстого, Щербины («Альбом ипохондрика») и других совершенно не соответствуют этому определению.
Хотя политика была для теоретиков «искусства для искусства» той областью человеческой деятельности, которая лежала за пределами подлинного искусства, имеющего будто бы дело лишь с вечными, непреходящими ценностями, но их «тенденциозность» не ограничивалась, несмотря на это, борьбой с тем не приемлемым для них пониманием литературы, которое было присуще революционной демократии. Разумеется, уже самый отказ от политики был, как указано выше, особой политической позицией. В основном это было проявлением враждебного отношения к совершенно определенному направлению политической мысли и деятельности, тому направлению, которое написало на своем знамени революционное преобразование России. Лишь в отдельных случаях тут имели место оппозиционные настроения и несогласие с правительственной политической линией. Однако отказ от политики, от откликов на злободневные явления в теории опять-таки далеко не соответствовал творческой практике поэтов рассматриваемого лагеря.
- 13 -
Стихотворение Тютчева «Гуманный внук воинственного деда...» — «выговор» петербургскому военному губернатору Суворову, отказавшемуся подписать приветственный адрес Муравьеву-Вешателю в 1863 году; «Современное» — отклик на событие Суэцкого канала; в нем поэт обличает Западную Европу, предавшую интересы христиан и из чисто корыстных соображений завязавшую отношения с мусульманским Востоком; целый цикл стихов, написанных на протяжении почти всего его творческого пути, развивает панславистские идеи объединения славянских народов под эгидой российского царизма, — все эти и многие другие стихотворения занимают в поэзии Тютчева количественно немалое место.
Если мы обратимся к Майкову, то столкнемся с аналогичным явлением. Во время Крымской войны он выпускает сборник «1854 год», в котором обращается к сегодняшнему дню: он прославляет не только русское войско, но и Николая I, этого не понятого будто бы толпой великого человека; развенчивает революционные перевороты как некую арлекинаду; при этом самый образ идеального поэта временно меняется в сознании Майкова, таким поэтом является теперь для него певец русской славы — Державин. Отклики на реформу 1861 года («Картинка» и др.) — это тоже политика и не в меньшей степени, чем то, что теоретики «искусства для искусства» считали политикой у поэтов революционной демократии.
Есть политические стихи даже у наиболее последовательного представителя «чистой поэзии» Фета. Так, например, стихотворение «Нетленностью божественной одеты...» превозносит «подвиги» Муравьева-Вешателя.
Немало политических стихов у А. К. Толстого, есть они и у Полонского, причем эти стихи Полонского и Толстого имеют у каждого из них свой особый характер; многие из них далеки от охранительных тенденций и определяются общей социальной позицией этих поэтов (стихотворные отклики Полонского на реформу 1861 года — «Беглый» и «Признаться сказать, я забыл, господа...», которые резко отличаются от славословия ее в «Картинке» Майкова; сатиры А. К. Толстого, направленные не только против «нигилистов», как «Порой веселой мая...» и другие, но и против правительственных кругов и официозных идеологов, высмеянных поэтом в «Сне Попова», «Песне о Каткове...», «Послании к М. Н. Лонгинову о дарвинизме» и пр.).
Таким образом, отличие от революционной поэзии состоит не в изгнании из поэзии политики и тенденции, а в характере политических стихотворений — на что именно откликались и как оценивали поэты школы «чистого искусства» современные им политические события, т. е. в политическом мировоззрении, в системе политических взглядов.
Значительная часть политичесих стихотворений поэтов школы «искусства для искусства» характеризуется не только определенной идейной направленностью, но и специфическими семантическими и жанровыми признаками. Политическая тема стихотворения, политическая злободневность нередко завуалированы и облечены в поэтически-философскую форму, лишены конкретности. Наиболее ярким примером является упомянутое выше стихотворение Фета «Нетленностью божественной одеты...». Речь идет в нем об Элизии, Аиде, Олимпе, Геркулесе, о героях, царях и поэтах и, в частности, об одном поэте, который протянул руку герою, задушившему гидру. Поэт не назван, но стихотворение обращено к Тютчеву, одобрившему жестокое подавление Муравьевым польского восстания 1863 года. Не всегда эта форма социальных и политических высказываний имеет столь подчеркнутый характер, но и в тех случаях, когда политическая тема ясна, она трактуется часто таким образом, что на первый план выдвигается не ее конкретное
- 14 -
социально-историческое содержание, а некие предвечные законы, возникшие во тьме веков и ныне осуществляющиеся, некие таинственные судьбы, роковые предопределения и пр. Такая окраска характерна для многих политических стихотворений Тютчева, и именно потому его политические стихотворения хотя и стоят несколько особняком (правда, по своим художественным достоинствам эти стихотворения не принадлежат к лучшим), но принципиально всё же не отличаются от основной, магистральной линии его творчества. Политические события, потрясающие мир и беспокоящие сознание поэта, рассматриваются Тютчевым — и не только им одним — так сказать, с точки зрения вечности, sub specie aeternitatis. Политические интересы сливаются, таким образом, с областью метафизики, а собственно политика превращается представителями «чистой поэзии» в мелкую злобу дня, не связанную с судьбами мира.
Отвечая на упреки в равнодушии литературы к современности, Боткин в той же программной статье о Фете (именно как программная она была воспринята и читателями, в том числе Добролюбовым) говорит о двух сторонах явлений текущей жизни. Одна «состоит из фанатизма, исключительности, партий, полных взаимной ненависти, быстро сменяющихся требований и стремлений, из которых каждое силится дать этой современности название, соответствующее его целям». Другая, «истинная» сторона современности «перерабатывает всю эту вражду партий и интересов и произносит над ними свой высший, неотразимый суд...».
Боткин, как и другие его единомышленники, считает Гёте великим поэтом именно потому, что он «не увлекся своею современностью, а устремлял взоры свои только в вечные свойства природы, в вечные начала души человеческой». Люди же, поглощенные преходящей стороной современности, неизменно испытывают горькие разочарования. Этим и объясняет Боткин «нерасположение Гёте к истории» и сочувственно цитирует его слова о круговороте истории, о всё тех же тревогах, мучениях, заботах, которые волнуют человечество на протяжении долгих веков его существования и которые мешают ему наслаждаться красотой мира и сладостью бытия. «Разве мелодия, которая усладила наше сердце, менее дорога нам оттого, что она ничего не говорит о современности? — возражает Боткин „поклонникам современности“. — Разве природа с ее вечною красотою совершенно утратила всё свое очарование, потому что наше сердце измельчало и иссохло в житейских волнениях? Разве внутренние, таинственные движения души, выраженные во всей их поэтической глубине, потеряли уже для нас значение, потому что в них высказываются не общие, отвлеченные мысли, а личные, самобытные движения человеческой души, — как природа вечно одинаковой и вечно новой в своих внутренних явлениях?».1
- 15 -
Существуют разные варианты этой идеалистической теории, согласно которой наиболее существенное и глубокое в человеческой природе и жизни вечно, неизменно, а меняется лишь незначительное и второстепенное, лишь внешняя оболочка. Эта точка зрения, представляющая собой по существу отрицание истории и исторического взгляда на мир сходящим с исторической арены классом, и лежит в основе мировоззрения и поэтического творчества поэтов школы «чистого искусства».
Социально-политические и эстетико-философские представления поэтов, примыкавших к школе «искусства для искусства», определяли характер того лирического «я», которое объединяет стихи того или иного поэта в восприятии читателя. У представителей «чистой поэзии» одной из самых существенных черт этого лирического «я» являются неизменно подчеркивающиеся поэтами соотношения последнего со вселенной, с космосом. Исконные и непреодолимые противоречия между человеческой личностью и вселенной, сиротство отдельного человека, стремление к слиянию со стихийной жизнью природы, «жизнью божески-всемирной», порыв в «миры иные» и т. д. — эти мотивы, по-разному окрашенные — то в безысходно трагические, то в идиллические тона, — проходят сквозь всю лирику Фета, Тютчева, А. К. Толстого, Щербины и многих других. При этом большей частью тема «я и космос» противопоставлена другой теме — «я и люди», «я и общество». Космос, природа, внушают они читателю, вот где подлинная правда и подлинное благо, и потому человека, естественно, тянет к их постижению и приобщению к ним, независимо от реальной его возможности. Всё наиболее ценное, глубокое, тонкое и доброе в человеке связано якобы с человеком, как явлением природы. Всё это находится за пределами общественных связей и отношений, которые культивируют по преимуществу злые начала. И следует подчеркнуть, что речь идет у них не о современном обществе, данном конкретном социальном организме (хотя, конечно, всё это является непосредственным отражением социального самочувствия поэта в современности), а вообще о человеческом обществе. В этом опять-таки сказывается антиисторическое мышление поэтов школы «искусства для искусства», их убеждение в том, что всё самое существенное неизменно или только варьируется, принадлежит к вечным категориям, а общественно-историческое преходяще, мелочно и зло.
Для многих поэтов и критиков этого направления характерно стремление к «художественному спокойствию»,1 к «гармоническому» мировосприятию, устранявшему из их сознания острые противоречия окружающей действительности. В высшей степени свойственно это поэзии Майкова, Щербины и — в иной, более утонченной форме — поэзии Фета. Сам Фет считал отличительной чертой своей поэзии «невозмутимость», которая, по его словам, казалась возмутительной сторонникам «гражданской скорби».2 «Врожденная во всяком человеке потребность ясности и счастья» (Дружинин) ищет своего удовлетворения. Но если эта потребность, сталкиваясь с реальной действительностью, приводит Некрасова к убеждению, что в данных социальных условиях гармония неосуществима, и потому для достижения гармонии необходимо коренным образом изменить их, то поэты школы «чистого искусства» стремятся к гармонии в рамках данной социальной действительности. «Суровая поэзия Некрасова, — пишет Дружинин в статье о Майкове, — с одной стороны восхищающая даже читателей вовсе неразвитых, с другой не удовлетворяет лиц, мало знакомых с грустной стороной
- 16 -
жизни, не дает никакого отзыва на врожденную во всяком человеке потребность ясности и счастия, ощущений блаженства и радости жизни. Для женщин, с их весьма разумным и совершенно понятным стремлением к миру симпатических явлений нашего мира, эта поэзия или непонятна, или даже возмутительна».1
Игнорируя социально-историческое содержание жестоких социальных противоречий, затушевывая их и пренебрегая ими, как не стоящими внимания, они уходят в мир «вечных» ценностей — мир природы и личных душевных переживаний, примиряясь с якобы неизбежным злом. Щербина в стихотворении «Мир» писал:
Слейся с широкой природой,
Слейся душою и телом
Полной здоровья свободой,
Мыслью и делом...
Смертный!Пойми и прийми
Жизнь горячо, но разумно,
Страсти больные уйми, —
И перестанешь, в сознаньи,
Во всеуслышанье, шумно
Плакать о мнимом страданьи,
Плакать, как плакал ты вечно
О преходящем, ничтожном,
Ложно блестящем конечном,
Иль на земле невозможном.Мотив этот неоднократно повторялся и варьировался и у самого Щербины и у других поэтов, и именно по этой причине, вследствие его типичности, стихотворение было высмеяно в пародии Минаева «Смертному».
Борясь с идеалистическими системами эстетики и романтическим искусством за реабилитацию действительности, отстаивая и обосновывая взгляд, согласно которому именно «действительность» является предметом искусства, Чернышевский, а в поэтической практике Некрасов, менее всего были склонны к реабилитации данной социальной действительности; привлекая внимание к темным ее сторонам, они звали на борьбу с нею. Напротив, Дружинин, Фет, Манков и другие близкие им поэты и критики особенно ценили такое искусство, такую поэзию, которые заставляли человека забывать о «вседневной жизни». «Мы... постоянно искали в поэзии единственного убежища от всяческих житейских скорбей, в том числе и гражданских», — писал Фет в предисловии к сборнику «Вечерние огни».2 «Искусство и прекрасное, — писал он в другом месте, — выводит нас из томительного мира бесконечных желаний в безвольный мир чистого созерцания...».3 Но, уводя сознание своих читателей от «вседневной жизни» (а в это понятие входил для них очень широкий круг явлений), они вместе с тем и именно поэтому способствовали примирению с данной социальной действительностью.
- 17 -
Жизнь скучна, жизнь жестока, нужно уметь видеть действительно ценное, нужно уметь находить подлинную красоту и наслаждаться ею. Эти мысли то и дело звучат и в критических статьях, и в стихах сторонников «искусства для искусства».
В непосредственной связи с этим центр тяжести поэтического творчества переносится на интимные переживания человека и даже на поэтизацию мелочей, на поиски красоты в как будто бы начисто отвергаемой повседневности. Если «красота разлита по всему мирозданию» и «мир во всех своих частях равно прекрасен, то внешний, предметный элемент поэтического творчества безразличен», — писал Фет в статье о Тютчеве.1 «Проза жизни кажется прозою лишь для очей не просветленных поэзиею», — такими словами характеризовал Дружинин одну из существенных особенностей Фета как подлинного поэта.2 Но речь здесь идет не о «суровой» прозе Некрасова, а о том, что лежит за пределами общественной жизни, что связано лишь с субъективным сознанием человека, наконец, о тех мелочах, в которых поэты школы «чистого искусства» нередко склонны были видеть самое существенное, «вечное», проявления стихийной жизни природы.
Жанровое поэтическое сознание давно уже отошло в прошлое и проявлялось только в очень архаических литературных фактах. Писали стихи, проникнутые элегическими настроениями, но не было уже элегии как таковой; появлялись одические интонации и темы, но оды не существовало; дружеское послание и мадригал как поэтические жанры также воспринимались лишь в историко-литературном отдалении. Твердые жанры, как некая старина, нередко воспринимались иронически и служили предметом насмешек и пародий. Даже антологическое стихотворение, вновь расцветшее в 40-х — начале 50-х годов в творчестве Майкова, Щербины, Фета и других, отжило свой век, хотя отдельные его образцы появлялись время от времени и пользовались, как, например, «Диана» Фета или «Камеи» Мея, успехом. Очень распространен был наименее отчетливый в жанровом отношении романс, получивший огромное развитие с начала 40-х годов у поколения поэтов — представителей «чистого искусства», выступивших в это время на литературном поприще.
Связанный отчасти с традициями предшествующих десятилетий, принимавший весьма разнообразные формы (салонный романс, мещанский «жестокий» романс, цыганский романс), он определял одну из основных тенденций поэзии Полонского и Фета, А. К. Толстого и Ап. Григорьева.3 Но всё же та психологическая и пейзажная лирика, те философские размышления, которые, при всем их отличии у разных поэтов рассматриваемого направления, представляют основную линию их творчества, не имеют твердых жанровых признаков, характерных для русской поэзии XVIII и первой трети XIX века. Это не элегии, не идиллии, не оды, не мадригалы, не послания и т. д., а просто стихи о природе, о любви, о разнообразных душевных переживаниях.
Замкнутость поэтов школы «чистого искусства» в рамках субъективного, индивидуалистического сознания, их антиисторизм даже тогда, когда они, подобно Тютчеву, остро чувствовали историческую значительность и размах происходивших событий и социальных процессов, сосредоточенность на «вечном» и неизменном привели к тому, что поэма занимала в их творчестве второстепенное, а иногда и просто ничтожное место. Поэма требовала преодоления
- 18 -
безраздельного господства лирической стихии и обращения к объективной действительности. Тяжесть этого господства ощущалась подчас поэтами, и попытки его преодоления во многих отношениях показательны и интересны.
Как известно, Тютчев вовсе не обращался к поэме, а в творчестве Фета поэмы занимают совсем несущественное место, и вряд ли они отвечали каким-нибудь глубоким поэтическим исканиям. Мучительно переживавший свою погруженность в лирическую стихию, Ап. Григорьев в поэмах «Venezia la bella», «Вверх по Волге» и других стремился объективировать метания и противоречия своего сознания, исторически их осмыслив и создав образ героя своего времени, но герой оставался насквозь субъективным и автобиографическим и не давал возможности создать сюжетную поэму; поэмы или не заканчивались, или если и завершались, то по существу мало чем отличались от лирики, представляли собой цикл насквозь субъективных лирических стихотворений. У Григорьева этот субъективизм был совершенно обнажен и откровенен, но в несколько более скрытых формах он имеет место и у других поэтов.
Иногда мы имеем дело с перенесением личных переживаний в произведение на историческую или историко-религиозную тему, как, например, в «Иоанне Дамаскине» А. К. Толстого. Лирическая окраска героя поэмы, лирический тон его речей находят свое объяснение в сходстве ситуации, сходных переживаниях самого Толстого при дворе Александра II, засвидетельствованных самим поэтом и его современниками. Столь же субъективной является поэма Полонского «Кузнечик-музыкант», где социальное самочувствие поэта, чувство неустроенности и растерянности облечено в изящное аллегорическое повествование. Таким же рассказом о себе и только о себе, о пути своего внутреннего и обособленного развития является поэма Майкова «Сны». Не разрешало, конечно, проблемы широкого объективного повествования и обращение к стилизации — пример ее поэма А. К. Толстого «Дракон» (1875), в которой автор обращается к итальянскому средневековью и к дантовским терцинам, создавая, нужно отметить, превосходные образцы их. Такой же стилизацией — по своим мотивам и манере повествования — является его автобиографический «Портрет» (1874).
Очень показательна в историко-литературном отношении творческая история поэм Полонского 60-х годов «Свежее преданье» и «Братья». Остро ощутив необходимость выхода за пределы лирической стихии, он задумал широкие по своему охвату и значительные по своим темам поэмы или даже романы в стихах, совершенно необычные для «чистой поэзии». Обращение Полонского к подобным замыслам было, повидимому, связано с его особой позицией в этой группе, наименее последовательным представителем которой он был в эти годы, с его постоянными колебаниями и определенным тяготением к «Современнику», а затем к «Отечественным запискам» Некрасова. Темы, которые привлекли творческое воображение Полонского, относились к очень недалекому прошлому и были весьма актуальны в социально-политическом отношении. «Свежее преданье» должно было воспроизвести идейную атмосферу 40-х годов, идейные искания лучших представителей интеллигенции этого времени. Вероятно, самое возникновение замысла связано со спорами о «лишних людях» и «новых людях» 60-х годов; Полонский хотел исторически оправдать психологически близкий ему историко-культурный тип и в то же время вскрыть причины его слабостей — и всё это на широком историческом фоне. «Братья» — поэма об итальянской революции 1848 года и итальянском национально-освободительном движении,
- 19 -
тема не менее актуальная и даже злободневная. Однако обе поэмы остались незавершенными, над чем неоднократно посмеивались современники. Анализ поэм приводит к мысли, что непреодолимые трудности возникали у Полонского при переходе от личной судьбы его героев к ее историческому осмыслению; центральные персонажи и историческое движение эпохи, исторический фон изображены параллельно, но между ними нет органической и неразрывной связи. Здесь дали себя знать не только и не столько личная ограниченность и некий провинциализм Полонского, сколько слабые стороны мировоззрения (антиисторизм, непонимание движущих сил современного исторического процесса), свойственные не ему одному.
Итак, ничего аналогичного — не по степени таланта, а по своему типу — русскому социально-психологическому роману, так пышно расцветшему именно в эти годы, поэты рассматриваемой школы не создали. Было бы, впрочем, неверно утверждение, что все попытки выхода за пределы индивидуалистического сознания и преодоления лирической стихии терпели фиаско и оказывались безрезультатными. Драматическая поэма Майкова «Два мира» — на тему о борьбе язычества и христианства, которая почти всю сознательную жизнь глубоко волновала его; ряд баллад, былин и драматическая трилогия А. К. Толстого, которая, при всей ошибочности исторических оценок событий и деятелей прошлого, ярко рисует основные социально-исторические конфликты; «Псковитянка» Мея — несомненные достижения на этом пути. Эти произведения по своей тематике относятся, однако, ко временам очень далеким, а эпическое повествование о современной или близкой к ней действительности или касалось мелких случайных событий, или кончалось неудачей (как поэмы Полонского).
В 1880 году А. Н. Островский произнес речь о Пушкине, в которой так определял его роль в истории русской литературы и культуры: «До Пушкина..., — говорил он, — отношения писателей к действительности не были непосредственными, искренними; писатели должны были избирать какой-нибудь условный угол зрения. Каждый из них, вместо того, чтоб быть самим собой, должен был настроиться на какой-нибудь лад... Высвобождение мысли из-под гнета условных приемов — дело не легкое, оно требует громадных сил... Прочное начало освобождению нашей мысли положено Пушкиным, — он первый стал относиться к темам своих произведений прямо, непосредственно, он захотел быть оригинальным и был — был самим собой».1
Эта борьба с «условным углом зрения», с замкнутым, эстетизированным миром условных поэтических понятий и переживаний, резко противостоящим повседневной действительности, борьба за обращение искусства к действительности («прекрасное есть жизнь», «действительность выше мечты» — Чернышевский2) проходит через всю историю русской литературы XIX века, и одним из самых существенных ее этапов является поэзия Некрасова.
В русле этой борьбы протекало и творчество тех поэтов середины XIX века, которые могут быть отнесены к «школе Некрасова». И наоборот, весь ход общественно-литературного развития привел к тому, что многие представители так называемого «пушкинского» направления 50—60-х годов, критики и поэты, опираясь на ими же созданный миф о Пушкине, всячески
- 20 -
стремились сохранить этот «условный угол зрения», разумеется, не в том виде, в каком он существовал в допушкинские времена, а в новой, более усложненной форме.
При всем индивидуальном своеобразии наиболее значительных представителей «чистой поэзии» всем им, независимо от степени таланта, было присуще противопоставление «скучного и тесного мира» реальной действительности свободному миру поэтической мечты. В то время как для революционной демократии основным пафосом современного искусства являлось возможно более тесное сближение с действительностью, основной задачей его было воспроизведение и вместе с тем оценка действительности со всеми ее противоречиями, со всеми ее светлыми и темными сторонами, — для поэтов школы «чистого искусства» существовала большая категория предметов и явлений, не достойных якобы поэтического изображения. Разумеется, каждый художник производит известный отбор в пестрой массе фактов действительности. Но речь идет здесь не об отсеивании мелочного, случайного, нехарактерного, а, как уже указывалось выше, о совсем ином.
«Поэзия, или вообще художество, — писал Фет в статье о стихотворениях Тютчева, — есть чистое воспроизведение не предмета, а только одностороннего его идеала; воспроизведение самого предмета было бы не только ненужным, но и невозможным его повторением. У всякого предмета тысячи сторон — и не только одно, данное искусство, с своими строго ограниченными средствами, но и все они в совокупности не в силах воссоздать всего предмета... Но в том то и дело, что художнику дорога только одна сторона предметов: их красота, точно так же, как математику дороги их очертания или численность».1 «Я никогда не мог понять, — писал Фет впоследствии в своих воспоминаниях, — чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты».2 Словом, поэт отнюдь не воспроизводит всё многообразие жизни, а исключает из поля своего зрения целую категорию явлений, вникая лишь в «высокое» и «поэтическое». Мнению Чернышевского, что сфера искусства не ограничивается одним прекрасным, Фет противопоставляет именно это ограничительное идеалистическое понимание искусства и в том числе поэзии. Через год Добролюбов, характеризуя «величайшую литературную заслугу Пушкина» и словно полемизируя с Фетом, писал: «Пушкин долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, как он есть».3
Возможно, конечно, и другое понимание у поэтов того же лагеря; вряд ли Тютчев мог полностью согласиться с приведенным высказыванием Фета о красивом как единственном объекте поэзии. Наконец, и понимание прекрасного у разных поэтов не было тождественным: одни были склонны, как тогда говорили, к «германским туманностям», к пониманию искусства как просвета в «миры иные»; для других мир искусства не связан был ни с какой мистикой, но являлся своеобразным, чисто эстетическим миром, отгороженным от действительности. Однако при разном понимании объекта литературы и ее устремленности, особого рода иерархия, разрыв между «низким» и «поэтическим», жизнью и искусством сближает и роднит их друг с другом.
Оторванность современной лирики от жизни, погружение поэтов в мир «условных поэтических мотивов» отмечали и критики, близкие к славянофильскому
- 21 -
лагерю. Так, Е. Н. Эдельсон именно в этом видел причину утраты поэзией влияния на общество. «...Поэзия, оторвавшись от почвы, потеряв реальное значение, всё более и более становилась формальным делом, — писал он, — и не без основания утрачивала свое влияние на общество». Признаком этой «формальности» (мы бы сказали формализма) Эдельсон считал «раздвоение существа почти каждого из наших поэтов», отделение в них «человека практического, жизненного» от «поэтической деятельности», для которой они нарочито «приискивают» сюжеты.1
Общее понимание сущности и задач искусства, не имеющего якобы целей вне самого себя, ориентация на сравнительно узкий круг читателей — «посвященных», образ поэта-жреца, проникающего в тайны вселенной, или поэта, живущего «среди своего возвышенного мира» и сходящего на землю, «как когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе»,2 наконец, строгое разграничение «низкого» и «поэтического» в действительности — определили некоторые особенности языка поэтов школы «искусства для искусства». Общей их чертой было сознательное или подсознательное убеждение в том, что язык поэзии решительным образом, по своим принципиальным основам, отличается от общенародного языка — как от разговорной речи, так и от языка науки и публицистики. Фет демонстративно заявил в письме к Страхову: «Стихотворная речь и адвокатская — только у ослов одна и та же».3
«Когда возбужденная, переполненная глубокими впечатлениями душа ищет высказаться, — читаем в его статье „Два письма о значении древних языков в нашем воспитании“, — и обычное человеческое слово коснеет, она невольно прибегает к языку богов...».4
А. К. Толстой в своем послании к И. С. Аксакову, отвечая на упреки в чрезмерной торжественности его стихов, утверждал, что далеко не обо всем можно рассказать простыми словами и как раз для передачи самых заветных переживаний нужны другие слова:
И что́ ее, всегда чаруя,
Зовет и манит вдалеке —
О том поведать не могу я
На ежедневном языке.Строгое отделение поэтической речи, «языка богов», от «ежедневного языка» неоднократно подчеркивалось и другими поэтами. Оно характеризует не только их теоретические высказывания, но в большей или меньшей степени и их творчество. Это выражается и в специфическом отборе слов, и в структуре фразы, и в самом развитии темы.
Разумеется, литературный язык существенно отличается от разговорной речи, но отличается лишь тем, что это, по выражению Горького, язык, «обработанный мастерами»,5 концентрирующий в себе выразительные возможности общенародного языка. Каждый поэт отбирает из различных слоев общенародного языка, из разнообразных языковых средств те, которые ему нужны для воплощения его замысла; он стремится найти наиболее адэкватные своим мыслям и переживаниям слова и формы. Но он не может не опираться
- 22 -
при этом на словарный состав и выразительные средства общенародного языка.
Между тем в приведенных выше высказываниях есть явное стремление принципиально противопоставить «обычное человеческое слово» и поэтическую речь, как некие самостоятельные системы языка, противопоставить, в частности, смысловое значение слова другим его свойствам. Поэтический язык, как некая замкнутая система, является, конечно, иллюзией. Но эта иллюзия была связана с реальными тенденциями «чистой поэзии». На практике она приводила к сужению возможностей и недостаточному использованию богатств общенародного языка, рождала у поэтов стремление к изысканному салонному жаргону и пренебрежение к «грубой», т. е. прямой и ясной народной речи, что в той или иной мере присуще Фету и А. К. Толстому, Майкову и Полонскому, Мею и Щербине, сколь они ни различны в других отношениях. У разных представителей школы «искусства для искусства» эта характеризующая их стиль тенденция приобретает различные формы, сохраняясь в своей основе. Если Фет, при его тяге в область иррационального, обращается к неточному, неясному, семантически подвижному слову, не столько к его основному значению, сколько к обертонам и прихотливым ассоциациям, если логический смысл слова нередко поглощается у него общей эмоциональной окраской и музыкальностью стиха, то Майков, точный и ясный в словоупотреблении, в передаче красок и звуков, сообщает слову известную красивость, эстетизирует его (еще в большей степени это присуще Щербине с его пристрастием к словесной экзотике). Но оба противопоставляют свое поэтическое слово «ежедневному языку» и вместе с тем повседневной будничной жизни.
Разумеется, не все черты и тенденции рассматриваемой поэтической школы, как и всякой другой школы, в равной мере свойственны всем ее представителям; с другой стороны, многие поэты, принадлежавшие к ней, в своей поэтической практике существенным образом, хотя каждый по-своему, выходят за ее пределы. Отчасти это уже отмечалось выше, а подробному анализу творческого пути и творческой индивидуальности наиболее крупных поэтов посвящены отдельные главы. Но самая школа не перестает быть из-за этого вполне реальным и конкретным историческим явлением, что прекрасно понимали все современники, как сочувственно, так и враждебно относившиеся к ней.
Говоря о «чистой поэзии» 50—60-х годов, нельзя не коснуться Козьмы Пруткова. Известно, что борьбе с нею посвящена значительная часть прутковских произведений. Таковы его пародии на Щербину, на Фета и др. В этой связи следует, конечно, рассматривать и пародии на Бенедиктова, потому что вряд ли сам он мог особенно интересовать «опекунов» Пруткова. Все давно уже забыли развенчанного Белинским поэта, а новый период литературной деятельности Бенедиктова, связанный с либеральным обличительством, был еще впереди. Точно так же, пародируя отдельные тенденции и мотивы других старых поэтов (например, Жуковского в «Балладе» — «Барон фон Гринвальюс...»), они метили прежде всего в факты современной поэзии, которые, как им казалось, представляли собой запоздалое и ненужное повторение этих тенденций.
Чем же, однако, вызвана борьба создателей Пруткова с «чистой поэзией»? Одним из создателей Пруткова был А. К. Толстой. Но Толстой, несомненный и довольно последовательный в те годы приверженец идей «чистого искусства», высмеивающий их, — явление, на первый взгляд, парадоксальное. Другим активным участником прутковского кружка был Алексей Жемчужников, впоследствии поэт, находившийся в русле Некрасовского
- 23 -
Наверху: Козьма Прутков. Внизу (слева направо): В. М. Жемчужников,
А. К. Толстой, А. М. Жемчужников.
- 24 -
направления. Однако перелом в его творчестве, включивший его в орбиту некрасовской школы, произошел позже. Сам Алексей Жемчужников относит его к концу 50-х годов,1 между тем как большинство пародий на «чистую поэзию» (если не все они) написано в первой половине этого десятилетия. О Владимире Жемчужникове мы знаем очень мало, но, повидимому, он по своим литературным взглядам и симпатиям приближался к А. К. Толстому и брату Алексею.
С каких же позиций шла эта борьба с «чистым искусством»? Ясно, что критика исходила не из другого лагеря, а из своих же рядов; это была своеобразная самокритика в рядах сторонников «чистою искусства». Целью ее было очищение своих рядов от всего, что подрывает и компрометирует близкие им идеи, — от внешней экзотики и бутафории Щербины, от наивного и грубого романтизма Бенедиктова, наконец, от «крайностей» наиболее последовательного представителя «чистой поэзии» Фета. Это была критика очень тонкая, остроумная и едкая, но критика внутри школы, отнюдь не направленная к разрушению ее принципиальных основ, хотя объективно и способствовавшая этому.2
В 50-е годы начали свою литературную деятельность представители молодого поколения поэтов школы «чистого искусства», литературная судьба которых во многих отношениях сходна.
Наиболее значительным из этой группы был К. К. Случевский (1837—1904). Первые произведения Случевского появились в 1857 году в маленьком журнале «Общезанимательный вестник», а затем в «Иллюстрации». Здесь был напечатан ряд его переводов (из Байрона, Барбье, Гюго) и оригинальных стихотворений. В их числе были небезинтересные вещи, но в целом они всё же не выделялись из массовой поэтической продукции и остались незамеченными. Зато в 1860 году, когда два десятка стихотворений Случевского появились в нескольких номерах «Современника», куда они попали через Тургенева, и в «Отечественных записках», он оказался в центре литературной борьбы.
Эти стихотворения, характеризовавшие Случевского как безусловного адепта «чистой поэзии», вместе с тем не были подражательными и говорили о своеобразной поэтической физиономии их автора. Баллады Случевского («Мемфисский жрец» и др.), связанные отчасти с традицией антологических стихотворений, отличались от них сюжетностью и в известной степени предвосхищали баллады Валерия Брюсова. Соприкасавшееся некоторыми своими особенностями с Тютчевым творчество Случевского уже в эту раннюю пору отмечено подчеркнутой угловатостью. Угловатость и нарочитые прозаизмы не были, однако, связаны со стремлением дать широкую картину реальной действительности. Они были для Случевского преимущественно методом обновления поэтических средств; условной гладкости и красивости он противопоставлял эстетику безобразного и в этом отношении был одним из ранних декадентов. В высшей степени субъективное, индивидуалистическое восприятие природы, выразившееся в сугубо изысканных и намеренно неясных образах и сравнениях («Снега», «Вечер на Лемане»), эротические и иррационально-мистические мотивы («Мои желанья», «Давным-давно тебя похоронил я»), в отдельных вещах — идиллический деревенский пейзаж
- 25 -
(«Утро в деревне») и т. д., — всё это не могло не вызвать противодействия у сторонников реалистического, социально направленного искусства.
Оно еще более усилилось в связи с восторженным отзывом Аполлона Григорьева, который поставил Случевского выше всех современных поэтов. «Это не просто высоко даровитый лирик, как Фет, Полонский, Майков, Мей, — писал Григорьев, — это даже не великий, но замкнутый в своем одиноком религиозном миросозерцании поэт, как Тютчев... Тут сразу является поэт, настоящий поэт, не похожий ни на кого поэт..., а коли уж на кого похожий, так на Лермонтова».1 Стихи Случевского и статья Григорьева вызвали резкую полемику. В «Искре» и в «Современнике», благодаря которому за полгода до этого стихи Случевского стали широко известны читающей публике, появился ряд насмешливых откликов. В пародиях Добролюбова и Н. Л. Ломана (Гнута) были зло высмеяны основные черты его поэзии, неприемлемые для демократического лагеря. Всё это произвело на Случевского такое впечатление, что он на долгие годы замолк.
Следует отметить, что стихи второй половины 50-х годов, напечатанные в «Общезанимательном вестнике» и в «Иллюстрации», свидетельствуют о либеральных настроениях Случевского, подчас остро воспринимавшего проблему социального неравенства («В мороз»), серость и пошлость окружающей жизни («Странный город»). О либеральных настроениях свидетельствует и круг западных поэтов, близких в эти годы Случевскому (кроме перечисленных выше, Беранже, на смерть которого он написал сочувственное стихотворение, и Гейне, воспринятый, правда, не со стороны его политической сатиры). Еще в 1862 году Случевский, как это видно из письма к нему Тургенева по поводу «Отцов и детей», был связан с русской передовой молодежью, учившейся в Гейдельбергском университете.
Борьба, разгоревшаяся вокруг его стихов, и общий поворот в настроениях либерального русского общества резко изменили взгляды Случевского. В 1866—1867 годах он издал три брошюры под общим заглавием «Явления русской жизни под критикою эстетики», направленные против передовой русской критики в защиту теории «искусства для искусства». Непримиримо резкий, раздраженный тон этих брошюр объясняется в значительной степени литературными неудачами Случевского в начале 60-х годов. Дальнейшая политическая эволюция Случевского привела его в правительственный лагерь.
Молчание Случевского как поэта длилось до начала 70-х годов, когда — первое время без подписи — стали появляться отдельные его стихотворения и переводы. Но лишь в 80-е годы, в связи с тем что идеи «искусства для искусства» снова получили довольно широкое распространение, Случевский возобновил активную литературную деятельность.
Литературная биография А. Н. Апухтина (1840—1893) во многих отношениях аналогична биографии Случевского. Он впервые выступил еще в 1854 году (стихотворный отклик на события Крымской войны). Первый, обративший на себя внимание цикл «Деревенские очерки» появился в «Современнике» в 1859 году. В некоторых вещах этого цикла, правда, довольно приглушенно, но всё же звучала социальная тема, зато другими своими стихотворениями, относящимися к этому времени, Апухтин всецело примкнул к школе «чистого искусства». В стихотворении «Современным витиям» (1862) он демонстративно заявил о своем резком отношении к радикальному лагерю, о том, что ему «нестерпимо отрицаньем жить» и нужно «во что-нибудь да верить». Именно как сторонник «чистой поэзии» он и был
- 26 -
воспринят читателями и оценен критикой. Апухтин напечатал в «Современнике», а затем во «Времени» Достоевского сравнительно немного и, не встретив сочувствия направлению своего творчества, убедившись, что в литературе получают преобладание чуждые ему идеи и тенденции, надолго прекратил печатание своих произведений. Писал он в 60-е годы тоже мало, довольствуясь при этом узким кругом читателей — светских знакомых и приятелей. Большинство стихотворений этих лет — общие места «чистой поэзии», лишенные отпечатка индивидуальной физиономии. Лишь несколько стихотворений («Актеры», «Гаданье», «Старая цыганка») предвосхищают зрелый период творчества Апухтина, когда он нашел свои темы и свой поэтический голос. Апухтин возобновил активную литературную деятельность, стал много и систематически печататься только с 1884 года.
К этим же годам относится начало литературной деятельности П. А. Кускова (1834—1909). Сначала довольно активно сотрудничая в журналах («Сын отечества», «Современник», затем «Время» и «Светоч»), Кусков в 1863 году прекратил не только печатание (подобно Случевскому и Апухтину и по тем же причинам), но и писание стихов и вообще всякую литературную работу. Единственным исключением являлся перевод трагедий Шекспира. Кусков вернулся к поэзии лишь в 1880 году.
К концу 50-х — началу 60-х годов относится также недолгая поэтическая деятельность будущего автора «Петербургских трущоб» В. В. Крестовского (1840—1895). Итогом ее явилось двухтомное издание стихов Крестовского 1862 года. Затем он окончательно перешел к прозе, которой, впрочем, занимался и раньше. В первые годы, когда он был близок к передовой молодежи, в его стихах и поэмах изредка звучат мотивы народного горя и социального неблагополучия; он пишет тогда получившее широкую известность стихотворение о революции 1848 года, потом эти мотивы и настроения исчезают и он оказывается всецело на позициях «чистой поэзии». Наиболее типичными для Крестовского являются циклы «Весенние ночи» (послужившие объектом для пародий «Искры»), «Хандра» и «Испанские мотивы». В начале 60-х годов Крестовский сотрудничал и в сатирических журналах: сначала поместил несколько вещей в «Искре» и «Гудке», а затем стал активным сотрудником «Занозы» и «Осы», где в 1863—1864 годах печатал резкие и грубые пасквили, направленные против революционного лагеря русской литературы и журналистики.
К тому же антиреволюционному, антидемократическому лагерю принадлежало и специфическое явление общественно-литературного движения 50—60-х годов — либеральное обличительство. Наиболее типичным его представителем в поэзии этого времени был М. П. Розенгейм (1820—1887).
Розенгейм начал свою литературную деятельность еще в 1838 году, но, напечатав несколько стихотворений, замолк. Имя его становится известным лишь во второй половине 50-х годов.
Стихи Розенгейма лишены какой бы то ни было оригинальности и своеобразия. Мы находим в них отзвуки самых различных поэтов и поэтических тенденций — лермонтовские мотивы, риторику славянофильской поэзии без энергии мысли и стиха, характерной для лучших ее образцов, темы и интонации Некрасова, воспринятые случайно и внешне.
Не раз заявляя уже в ранних стихах о гражданском призвании поэта (послания к Лермонтову и др.), Розенгейм вместе с тем не пренебрегает плоской и примитивной эротикой и пишет заурядные лирические излияния, подстать третьестепенному представителю «чистой поэзии».
Но в сознании современников Розенгейм прежде всего — «обличитель». Время его наибольшей известности относится к концу 50-х — началу 60-х годов.
- 27 -
Розенгейм попал в тон либеральным тенденциям эпохи, напечатав ряд обличительных стихотворений, составивших цикл «Русские элегии», и других, к ним примыкавших. Стихотворения его печатались в «Русском вестнике», «Отечественных записках», «Сыне отечества» и других журналах. Они пользовались успехом и часто читались на литературных вечерах. В 1858 году Розенгейм выпустил свои старые и новые стихотворения отдельной книгой, а в 1864 году переиздал ее в расширенном виде.
В этих невероятно многословных, тяжеловесных обличительных стихах, лишенных каких бы то ни было поэтических достоинств, речь идет о взяточниках, казнокрадстве, лести, беззаконии, боязни гласности, откупах, темных делах акционерных обществ и т. д., но обличались они как какие-то отклонения от нормы, не связанные с социально-политическим строем в целом. Подобные обличения создавали иллюзию, что устранение этих зол возможно без ломки всего строя. О такого рода обличениях Добролюбов писал, что «бесполезны в практическом отношении все нападки на частные проявления зла, без уничтожения самого корня его...».1 Если в николаевские времена подобные произведения могли еще иметь какое-нибудь значение, то теперь они воспринимались как политическая пошлость, как общие места, переложенные в стихи.
Характер беззубых и мелочных обличений Розенгейма определялся его политической позицией. Подобно всем либералам, он отнюдь не был склонен к коренным социальным преобразованиям; идеалом его было мирное приспособление крепостнической России к потребностям капиталистического развития. Характер обличений Розенгейма отчетливо выясняется из ряда его программных стихотворений, в которых он противопоставляет себя «утопистам», «мечтателям» и «слепым поклонникам новизны». Стихотворение «Современная дума» полно резких нападок не на темные стороны дореформенной России, а на радикальные и революционные круги. Это Геростраты, которые утверждают, что «порядок вещей устарел», и стремятся «опрокинуть...вверх ногами общественный склад». Между тем, заявляет Розенгейм, дело не в «порядке вещей», не в «учрежденьях» и «законах»; в самих людях, «в народе самом затаилась беда», а «закон сам собою хорош». Не случайно на это стихотворение обратил внимание Добролюбов в совершенно уничтожающей рецензии на сборник Розенгейма, а позже его пародировал Минаев. Любопытно, с другой стороны, что Дружинин, по словам которого в стихах Розенгейма столько же поэзии, сколько в учебнике арифметики или фортификации, сочувственно отозвался о мысли этого стихотворения.2
В своих стихах Розенгейм говорит от имени людей, которые «преданы царю» и считают, что «искони царей державных сливалась слава на Руси со славой Руси православной». Язвы русской жизни — «страсть неправого стяжанья, и себялюбие, и лень» — он обличает как «престола верный слуга». Призывая Русь пробудиться от сна, Розенгейм восклицает: «То на дело обновленья царь тебя зовет».
Нечего и говорить, что реформы 60-х годов всецело удовлетворяли Розенгейма, и чем дальше, тем обличительные нотки всё более выветривались из его поэзии. Манифест 19 февраля 1861 года вызывает у него радостное восклицание: «Прощенье прошлому! Забвенье былого!». Теперь, по его словам, все стали членами одной семьи, «теперь нам всем одна, всем общая
- 28 -
дорога!» («19 февраля»). Сентиментально-идиллические слова о крестьянине, облагодетельствованном реформой, о мирной, терпеливой работе на общее благо характеризуют ряд его стихотворений («Новое дело», «За городом»).
Для идейной позиции Розенгейма существенна тема «Россия и Запад». И в годы Крымской войны, и позже Розенгейм справедливо упрекал западноевропейские страны, в особенности Англию, в международных интригах; в стихотворении «Лондонская выставка» он указывал, что за внешним благополучием, цивилизацией, культурой скрывается нищета народных масс. Но как только Розенгейм обращается к России, критерий и оценки становятся совсем иными, поэт превращается в пошлого «квасного патриота». Даже при Николае I Розенгейм писал, что «Русь святая И богата и сыта — За царем своим родная, Что за пазухой Христа». Западу, «хилому старику», тратящему остатки сил «в корчах козней и интриг», противопоставляется Русь, как опора «царских тронов», «алтарей», «правой власти» и вместе с тем якобы как «слабейшего ограда» («1 января 1854 года»). Политическая позиция Розенгейма ярко сказалась также в направлении выходившего под его редакцией сатирического журнала «Заноза» (1863—1865).
Примитивный аллегоризм, отсутствие подлинного поэтического чувства и вялый стих, утомительное многословие, выспренная риторика, плоское, стертое слово, нарочитость будто бы народного языка — вот характерные черты поэзии Розенгейма. Убогость идейного содержания и поэтическая беспомощность дали поэтам революционного лагеря (Добролюбов, Минаев и др.) обильный материал для пародий и насмешек, которые, как, например, добролюбовские стихотворения Конрада Лилиеншвагера, гораздо больше известны современному читателю, чем собственные произведения Розенгейма.
В 1854—1855 годах, после длительного перерыва, возобновилась активная литературная деятельность В. Г. Бенедиктова. Его произведения стали часто появляться на страницах журналов. В 1856 году вышло трехтомное собрание его стихотворений, а в 1857 году — в качестве дополнения к нему — сборник «Новые стихотворения». Бенедиктов сотрудничал в «Библиотеке для чтения», «Сыне отечества» и других журналах второй половины 50-х годов. Несколько стихотворений, в которых идейные и художественные пороки его поэзии проявились в меньшей степени, были напечатаны в «Современнике» 1860 года и в «Искре» первых лет ее существования. Но не они характеризуют общее направление творчества Бенедиктова.
Из первых стихотворений Бенедиктова этой поры обратили на себя внимание его отклики на события Крымской войны. Очень характерно, что в стихотворении «К отечеству и врагам его», написанном в разгар Севастопольской осады, он, подобно Розенгейму, обличая французов и англичан, воспевает не только русский народ и русскую природу, но и «православный алтарь» и «батюшку царя». В другом стихотворении этого года «К России» Николай I прославляется как воплощение правды и справедливости.
С окончанием войны, в первые годы нового царствования, Бенедиктов становится наряду с Розенгеймом одним из наиболее заметных представителей обличительной поэзии. Некоторые его вещи (например, «Посещение») пользуются успехом в либеральных кругах русской читающей публики, увидевших в них отражение современных общественных вопросов и политических настроений. Таким образом, во второй период своей литературной деятельности Бенедиктов, не переставая, впрочем, писать в прежнем духе (только гораздо более бледно), выступает в новом и несколько неожиданном для него обличии. О Бенедиктове снова заговорили, он с успехом выступал на литературных вечерах, о нем писали в критических статьях и обзорах.
- 29 -
Общий характер и основные мотивы обличительной поэзии Бенедиктова выражены в концентрированном виде уже в стихотворении «Стансы (По случаю мира)» (1856). Образ поэта-обличителя, преследующего общественные пороки, характеристика зол, с которыми ему предстоит бороться, наконец, образ царя, вдохновляющего якобы на борьбу со злом и неправдой, — всё это получает развитие в ряде произведений Бенедиктова второй половины 50-х — начала 60-х годов.
Бенедиктов угрожает «сынам греха» «бичом карающей сатиры»; он взывает к «новейших дней Аристофану» и «новому Ювеналу» («Да встанет новый Ювенал И сдернет гнусные личины!»). Но новый Ювенал наделяется совершенно не свойственными ему чертами:
Восстань — не духа злобы полн,
Восстань — не буйным демагогом,
Не лютым двигателем волн,
Влекущих к гибельным тревогам, —
Нет, гласом добрым воззови,
И зов твой, где бы ни прошел он,
Пусть духом мира и любви
И в самом громе будет полон!Предостережение поэту от «духа злобы», призыв к обличению, проникнутому «духом мира и любви», страх перед возможными «гибельными тревогами» имели в те годы совершенно определенный политический смысл и были направлены против «крайних мнений», т. е. прежде всего против революционной демократии. И всё это отнюдь не случайно у Бенедиктова. В стихотворении «Рыцарь» речь идет о неудаче, которая постигла его героя в борьбе за истину. Причина неудачи заключается в том, что острый меч рыцаря только вредил делу:
Ты, герой, в движенье скором
Наступательных шагов
Сам назойливым напором
Раздражал ее <т. е. истины> врагов.Истине не нужны булатный меч и кровь врага, слуга ее терпелив и кроток:
Он не колет, он не рубит;
Мирно шествуя вперед,
Побеждает тем, что любит,
И смиреньем верх берет.Не непримиримая борьба со злом, а любовь, смиренье, спокойное и мирное шествие вперед — вот какими чертами наделен современный общественный деятель, и в том числе поэт-гражданин, в стихах Бенедиктова.
Каковы же объекты обличительного пафоса Бенедиктова, с чем он борется и что обличает? Невежество и неправосудие, воровство и взяточничество, преклонение перед золотым тельцом и погоня за чинами, ложь и лесть, обывательские интересы, сплетни, изменяющие мужьям жены, молодящиеся старухи и ряд других общечеловеческих недостатков и совсем микроскопических зол — вот о чем говорится в его обличительных стихотворениях. Никаких более существенных социальных зол Бенедиктов в России не видит, и недаром в его стихах дореформенных лет мы не встречаем упоминаний о крепостном праве.
Положительная программа Бенедиктова весьма смутна и расплывчата. Он то и дело повторяет азбучные истины и банальные фразы о борьбе
- 30 -
со злом, просвещении, законности, которые получили столь широкое распространение в эти годы. В лице Бенедиктова мы имеем дело с представителем в высшей степени умеренного и поверхностного либерализма. Вернее было бы даже говорить не о либерализме как таковом, а об отражении в его поэзии тех «либеральных» веяний, которые характеризуют политику Александра II после Крымской войны. «Характер его новейшей литературной деятельности можно объяснить в немногих словах, — писал Добролюбов в рецензии на сборник 1858 года, — то зло, которое повержено или, по крайней мере, заклеймено общественным мнением, он карает; то добро, которое сделано, — прославляет; пред злом, еще не тронутым, обнаруживает полное бессилие; о добре, еще не сделанном, или вовсе не заводит речи, или говорит общие фразы, давно сделавшиеся ходячими в обществе».1 Бенедиктов готов довольствоваться очень малым. «Сделал хоть немного, Да нельзя же вдруг», — эти слова из новогоднего стихотворения 1857 года весьма точно характеризуют размеры его обличительства.
Официальный характер либерализма Бенедиктова подтверждается и тем, что стихи его пестрят восхвалениями Александра II, который (как прежде Николай I) является для него олицетворением добра и прогресса: «Правдолюбья полон царь», «рыцарь божьей правоты», «добрых действий семя сеет добрый царь», «добрый царь — источник теплоты и света», «в нем — русской земли благодать» и т. д. Подобные прославления нередки как раз в обличительных стихах Бенедиктова, иначе говоря, царь является в его сознании опорой борьбы за прогресс, борьбы с общественным злом.
Если либеральные органы видели в новых стихах Бенедиктова «правдивую летопись событий последнего времени»,2 и находили в них отклик своим собственным настроениям, противопоставляли его даже жрецам чистой поэзии в качестве настоящего гражданского поэта,3 то передовые круги русского общества произнесли над ними беспощадный приговор в рецензиях Чернышевского и Добролюбова.
Отмечая идейное убожество этих стихов, Чернышевский и Добролюбов подчеркнули вместе с тем, что в них нет и поэтических достоинств. «Проза, переложенная в стихотворный размер», — таков отзыв Чернышевского.4 В поэзии Бенедиктова 50—60-х годов появляются некоторые новые черты, но в основном он остался прежним, и новые темы не избавили его от тех особенностей, которые в свое время были сурово осуждены Белинским. Вычурность, риторика характеризуют также и его новые стихи, только всё это не имеет даже интереса новизны. Сочетание вульгарности с торжественностью, мнимо народных выражений с славянизмами типично для его «патриотических» стихотворений как на темы современные, так и исторические.
Новая слава Бенедиктова была весьма кратковременна. Мода на обличительство прошла, и Бенедиктов скоро снова сошел со сцены, теперь уже окончательно.
Отдал дань обличительству и такой, казалось бы, далекий от него поэт, как Н. Ф. Щербина. Еще в 40-х и начале 50-х годов он наряду с антологическими «греческими» стихотворениями, принесшими ему известность, писал стихи, в которых отразились лермонтовские мотивы осуждения и неприятия современного общества, но лишенные лермонтовской глубины и энергии.
- 31 -
Многие из этих стихотворений, вошедшие в цикл «Ямбы и элегии», не были в свое время напечатаны и появились только в середине 50-х годов, когда оказались в русле либерального обличительства. Щербина написал в эти годы и ряд новых вещей в том же духе. Если в 40-е годы эти стихи, не отличавшиеся социальной конкретностью и значительными художественными достоинствами, всё же могли быть восприняты как более или менее живое литературное явление, то теперь они были лишь симптоматическим фактом, свидетельствующим об исчерпанности пути одного из заметных поэтов школы «чистого искусства». Именно так отнесся к ним Чернышевский; его попытка повлиять на Щербину в смысле углубления интереса к современности успеха не имела. Отход от антологической линии не привел Щербину к демократической поэзии. Наоборот, быстро исчерпав свои либеральные настроения, Щербина примкнул к националистически-реакционному лагерю, с которым идейно связан бледный, рассудочный цикл «Русские песни на чужбине» (1861), а после этого и вовсе оставил лирику.
Поэзия славянофилов сформировалась и являлась существенным литературным фактом в предшествующий период. В годы 1855—1870 она не играла заметной роли. Из трех ее главных представителей К. С. Аксаков и А. С. Хомяков умерли в 1860 году, а И. С. Аксаков, хотя и прожил еще долгую жизнь, но как поэт в пореформенные годы почти не выступал. Стихотворения этого периода занимают в их литературном наследии количественно очень незначительное место.1 Уже одно это говорит об исчерпанности путей славянофильской поэзии. Но, кроме того, стихотворения эти, за редкими исключениями, повторяют старые мотивы и мысли. Пагубность петровской реформы и отрыв образованного общества от народа («Тени» К. Аксакова), «гордыня» разума и науки («Разуму» К. Аксакова), отсутствие внешнего блеска, смирение и терпение, как признаки подлинного христианства («Широка, необозрима...», «По прочтении псалма», «Подвиг есть и в сраженьи...» Хомякова), мессианская роль России и идеи панславизма («Парус» Хомякова) и пр. — всё это было не раз высказано в поэзии славянофилов, причем гораздо более выразительно.
Оппозиционная струя славянофильства отходит на задний план и даже вовсе исчезает с новым царствованием. На смену мрачным настроениям николаевских лет приходит политический оптимизм, вера в близкое осуществление благодетельных реформ («Весна», «Я не знал, что солнце скинет...» К. Аксакова, «На новый 1858 год» И. Аксакова), а нередко и прямые славословия Александру II («26 августа» Хомякова, «Былина о народном пиршестве» и «Царю» К. Аксакова), призванному якобы воплотить в жизнь славянофильские чаяния о слиянии государства и «земства», единении царя и народа.
Очень важны для понимания этих изменений несколько стихотворений И. С. Аксакова, в поэзии которого 40-х — начала 50-х годов наиболее ярко отразились оппозиционные настроения славянофилов. Стихотворение «На новый 1858 год» начинается такими строками:
День встает, багрян и пышен,
Долгой ночи скрылась тень,
Новой жизни трепет слышен,
Чем-то вещим смотрит день!
- 32 -
С сонных вежд стряхнув дремоту,
Бодрой свежести полна,
Вышла, с богом, на работу
Пробужденная страна.Под влиянием сегодняшнего дня, возбуждающего радостные надежды, изменяется отношение к прошлому. У поэта «На душе светло и ясно, И не помнится о зле», в его сердце «Ни вражды, ни мести нет», и он посылает не только «Дню грядущему привет», но и «Дню вчерашнему забвенье».
В стихотворении «Ответ», обращенном к Полонскому, И. С. Аксаков дает характеристику своей «музы» — «бодрой, строгой, гневной», одушевленной борьбой против «общественного зла» и решительно отвергавшей увлечения «праздными мечтаниями». Эта автохарактеристика во многом совпадает с некрасовской музой, и написана она под несомненным влиянием Некрасова. Очень характерно, что, как и в «Поэте и гражданине», Аксаков противопоставляет своему пониманию задач искусства пушкинские слова о «звуках сладких и молитвах», подхваченные критиками и поэтами 50—60-х годов, стоявшими на позициях «искусства для искусства».
Сурово песнь ее звучала,
Ничто не грело сердца в ней,
Ревниво пламень охраняла
Она поэзии своей.
Не прелесть праздного мечтанья,
Не нега сладостных молитв,
Но злой порыв негодованья,
Жестокий суд, призывы битв,
Отвага дерзко молодая
В ней вдохновляли песен строй...Однако перед лицом сегодняшнего дня Аксаков признает борьбу ненужной; «Порыв, упрек, негодованья» наскучили поэту; он утверждает теперь, что «путь мертвый отрицанья» не принесет живых плодов, и вот —
...с музой гневною моею
Теперь надолго я умолк.Несколько раньше Аксаков писал родным, что первый период его поэтического творчества завершился: «...выражаясь фигурально, хотя оно немножко и смешно, я перестраиваю лиру; я уже давно не пишу стихов, но еще буду писать — я это знаю, — только аккорды, бог даст, будут не те, а стройнее, полнее, спокойнее. Только пусть потерпят немного и не мешают мне вырабатываться, идти свободно и спокойно законным ходом своего развития...».1
Надежды Аксакова не воплотились, и он как поэт фактически прекратил свое существование. Стихотворение 1860 года под выразительным заглавием «Последнее стихотворение из прежних» свидетельствует о невозможности перестроить лиру на новый лад, о душевной усталости, стремлении к примирению, покою и об обретении мудрости в признании тоски «владычицею мира». Лира Аксакова оказалась непригодной для «стройных, полных, спокойных» аккордов, да и самые эти бодрые настроения оказались кратковременными, исчезнув перед лицом новых социальных противоречий и потрясений, новых социальных сил и враждебной славянофильству революционной идеологии, заявивших о себе во весь голос. Та же душевная усталость,
- 33 -
несмотря на полное удовлетворение объемом правительственных реформ, имела место и у Хомякова (стихотворение «Поле мертвыми костями...»).
Для поэзии славянофилов попрежнему характерен ораторски-проповеднический стиль речи — с приподнятыми торжественными интонациями, обильными церковно-славянизмами и религиозной символикой. Во многом отличаясь по своему характеру от языка поэтов школы «искусства для искусства», он также противостоял в их сознании общенародному языку как некая замкнутая в себе система.
Литературные взгляды славянофилов ярко отразились в стихотворении К. Аксакова «Литераторы-натуралисты», направленном против писателей-реалистов середины XIX века. К. Аксаков голословно приписывает им фотографирование случайных, мелких явлений действительности и говорит об их неспособности проникнуть за «покров бездушный» и «духу мира приобщиться». Однако это стихотворение, весьма существенное для понимания реакционной эстетики славянофилов, не исчерпывает их литературной позиции. Славянофилы были в основном поэтами гражданской темы, «дидактиками», по терминологии сторонников «артистической теории», и противниками «искусства для искусства». Отмечая в своем обозрении русской литературы, что «отвлеченный <т. е. подражательный> стихотворный период» в России давно кончился, К. Аксаков писал:
«В наше время поэтическое произведение, хотя написанное с талантом..., может быть только средством, одним из способов для выражения той или другой мысли. Известен анекдот об математике, который, выслушав изящное произведение, спросил: что́ этим доказывается? Как ни странен этот вопрос в приведенном случае, но есть эпохи в жизни народной, когда при всяком, даже поэтическом, произведении является вопрос: что́ этим доказывается? Таковы эпохи исканий, исследований, трудовые эпохи постижения и решения общих вопросов. Такова наша эпоха».1
Интересна с этой точки зрения и статья во многом близкого к славянофилам, в прошлом — члена «молодой редакции» «Москвитянина» Е. Н. Эдельсона «Два слова правды нашим лирикам». Отвечая на вопрос о причинах «жалкой современной роли нашей лирической поэзии» и равнодушия к ней читающей публики, Эдельсон склонен винить в этом самих поэтов. Не прислушиваясь к говору жизни, чуждые «тревогам века», все они (за исключением Некрасова, Тютчева и Огарева) бесконечно повторяют и варьируют мотивы, которые не возбуждают уже живых чувств и живого отклика. «Наши современные лирические поэты, — писал он, — просто не представляют достаточного содержания, чтобы сказать нечто новое и достойное внимания, среди множества живых и практических вопросов, поднятых историческим течением жизни... Мы требуем... от поэзии серьезного содержания, отражения эпохи, духа времени, одним словом, живого голоса, среди других голосов; а нас угощают капризно-личными ощущениями, античными созерцаниями, натянутыми картинами из среднего и древнего мира, поклонениями красотам природы и т. п., да, вдобавок, и этим всем еще в подогретом виде, без живого, по большей части, и цельного вдохновения».2
Читая отдельные места статьи, можно принять их за цитаты из «Современника»; однако чуть дело доходит до раскрытия того, что разумеет критик под «духом времени», «тревогами века» и связанными с ними большими
- 34 -
вопросами, обнаруживается непроходимая пропасть между Эдельсоном и демократическим лагерем. Соприкасаясь в своем отрицании «чистого искусства», они были очень далеки и прямо враждебны по своей положительной социальной и литературной программе. В той же статье Эдельсон, как и многие славянофилы, пренебрежительно отзывается о «погоне за модными и современными сюжетами», о музе поэзии, которая бродит по «торжищам», предостерегает от увлечения «всеми мелкими явлениями времени», «всеми вопросами дня» и пр. При этом в категорию «мелких явлений времени» для него, несомненно, входили те наиболее значительные вопросы коренного социального переустройства России, которые так волновали демократические круги русского общества. Здесь «почвенники» и славянофилы сходились со сторонниками теории «чистого искусства». И те и другие исходили из убеждения, что стремления человеческой души неизменны, что искусство «есть отражение идеального», а «идеал... не развивается»,1 что в основе искусства лежит «вечная и непеременная правда», которая не имеет ничего общего с «идеалом, извлеченным из минутных, жалких или порочных законов действительности».2 Потому искусство, отражающее реальные противоречия жизни и тем самым способствующее изменению последней, вызывало с их стороны постоянное сопротивление. Только в этой связи и может быть понята попытка Боткина и Дружинина заменить в «Современнике» Чернышевского Ап. Григорьевым, имевшая место в 1856 году. Те большие вопросы, к которым, по словам Эдельсона, равнодушны современные лирики, — это внесоциальные и внеисторические «вечные» вопросы, и, выполни поэты пожелания Эдельсона, они бы ни на шаг не приблизились к современности, в оторванности от которой он их упрекал.
Таковы же в творческой области глубокие принципиальные противоречия между «суровой музой» Аксакова и поэзией Некрасова, при некоторых внешних точках соприкосновения, отмеченных выше. Взгляд на поэзию, как на гражданское служение, еще не предопределял, конечно, политического содержания этого служения, и менее всего подходит, разумеется, к Аксакову та характеристика («в произведениях И. Аксакова виден гражданин-демократ с социалистическим оттенком»), которую дал его поэзии напуганный официозный историк литературы из министерства внутренних дел.3
Положение славянофильства в общественной борьбе рассматриваемого периода, в ходе которой оно утратило свою специфическую физиономию, всё более сливаясь с реакционным лагерем, привело к явному оскудению славянофильской поэзии. К. Аксаков и Хомяков умерли. И. С. Аксаков замолк, а молодое поколение не выдвинуло поэтов этого направления. В высшей степени показателен в этом отношении стихотворный отдел славянофильских органов — «Русской беседы» и «Дня». Здесь прежде всего печатались стихи (преимущественно старые, но до тех пор не опубликованные) трех основных поэтов-славянофилов; часто появлялись произведения Тютчева, может быть, столько же по идейной близости со славянофилами, сколько по родственной близости с И. С. Аксаковым, женатым на его дочери. Ряд своих стихотворений и поэм напечатали в славянофильских изданиях А. К. Толстой («Грешница», «Иоанн Дамаскин», стилизации под
- 35 -
народную поэзию), П. А. Вяземский, Каролина Павлова, Н. Ф. Щербина (из цикла «Русские песни на чужбине»). Иные из этих вещей идейно или тематически соприкасаются со славянофильством, другие же только не противоречат ему. Вяземского и Щербину, которые не были, конечно, славянофилами, сближали с ними их консервативно-националистические тенденции и резкая неприязнь к демократическому лагерю.
В творчестве Каролины Павловой еще в 40-е и в первой половине 50-х годов идеи славянофильства нашли свое прямое выражение, она написала несколько программных вещей, но были в ее поэзии и явно враждебные славянофилам тенденции — та литературная условность, которая сближала ее с «чистой поэзией». После встречи с нею в 1860 году И. С. Аксаков, как о чем-то совершенно чуждом ему, писал, что она «отравилась художеством», «вся... ушла в поэзию, в стихи», не желая ничего знать за ее пределами, и что вся жизнь является для нее лишь материалом для ее произведений.1 В поэзии А. К. Толстого славянофилов привлекали его поиски народности, интерес к фольклору, обращение к религиозно-исторической тематике, но их близкие отношения, в связи с расхождениями во взглядах на русский исторический процесс и политическими разногласиями, были кратковременны. Из второстепенных поэтов, в какой-то степени примыкавших к славянофилам по своим идейным устремлениям и характеру изображения народной жизни, идеализации крестьянского быта, следует отметить М. А. Стаховича (1819—1858). Надеясь, повидимому, оказать воздействие на дальнейшую эволюцию их творчества, Аксаков поместил в «Русской беседе» ряд стихотворений Никитина, а в «Дне» — Плещеева.
Исчерпанность поэзии старших славянофилов и отсутствие «смены» привели к тому, что постоянный в «Русской беседе» и в «Дне» в первый год его издания стихотворный отдел стал затем появляться всё реже, а в 1863—1865 годах поэзия была в «Дне» чрезвычайно редкой гостьей.
3
Поэтам «чистого искусства» противостояли Некрасов и его поэтическая школа. К ней принадлежали поэты разных поколений: и выступившие в печати в 50—60-х годах (как Добролюбов, Никитин, Курочкин, Минаев, Трефолев и др.), и начавшие свою литературную деятельность еще в 40-е годы (как Михайлов, Плещеев), и даже старший современник Некрасова Огарев, вполне сформировавшийся к тому времени, когда Некрасов стал зрелым поэтом, и являющийся в некоторых отношениях его предшественником. С полным основанием можно говорить о некрасовской школе не только потому, что все названные и многие другие поэты испытали в той или иной форме, в той или иной степени влияние Некрасова, не только потому, что их миропонимание и социальные симпатии сформировались под воздействием общих идейных источников, но и потому, что в основе их поэтического творчества лежали аналогичные эстетические принципы. Это были принципы новой реалистической эстетики, заложенные Белинским, развитые и обоснованные Чернышевским, принципы подспудно зревшие в русской литературе 30—40-х годов. Некрасов без всякого преувеличения может быть назван главой поэтического направления; в творчестве Некрасова сливались его разные ручейки и тенденции, и это тем более важно, что у поэтов школы «искусства для искусства» такой главы не было.
- 36 -
В дореволюционной критике и литературоведении существовала точка зрения, согласно которой сам Некрасов, не говоря уже о поэтах его школы, был человеком без традиций, и с этим связывалось иногда его своеобразие, этим объяснялась его оригинальность. Как некий варвар, пришел он в литературу и всё перевернул вверх ногами. Было высказано даже абсурдное предположение, что Некрасов никогда не читал Жуковского. Хотя всё это явно противоречило фактам — и стихи Некрасова и биографические материалы говорили о противоположном, — такая точка зрения была довольно распространена.
Иллюстрация:
«Лютня». Титульный лист. 1869.
Между тем всё это — плод предвзятой тенденции, не желающей считаться с фактами. Некрасов прекрасно знал русскую поэзию, о чем свидетельствует хотя бы его юношеский сборник «Мечты и звуки», носящий следы чтения как только что появившихся в журналах произведений, так и поэтов XVIII — начала XIX века. В стихотворениях одного из видных представителей некрасовской школы В. Курочкина обильные «перепевы» и реминисценции свидетельствуют о том, насколько хорошо он был знаком даже с второстепенными и, казалось бы, давно забытыми явлениями русской поэзии.
Но вопрос об осведомленности, в конце концов, — вопрос второстепенный. Значительно существеннее вопрос о тех традициях, на которые ориентировались и опирались поэты некрасовской школы. Это были, разумеется, традиции поэтические и идейные одновременно.
В первую очередь необходимо указать гражданскую поэзию декабристов, которая была хорошо известна им и по старым журналам и альманахам, и по ходившим по рукам многочисленным спискам, и впоследствии по заграничным изданиям. Идейную связь с декабристами чувствовали все передовые люди середины XIX века. Декабристы были для них «первенцами свободы» (Огарев). Известно, как оценивали декабристов Герцен и Огарев, какую роль в их личном сознании сыграло декабрьское восстание и сколько сделали они для ознакомления русского общества с идеями и произведениями декабристов. В поэтическом творчестве Огарева декабристская тема занимает существенное место; он не раз обращался к ней в разные периоды своей жизни. Декабристская тема столь же видное место занимает и в поэзии Некрасова, причем важно подчеркнуть, что сна появилась у него не случайно в конце 60-х годов, он касался ее мельком и раньше (например, в «Несчастных»), и она внутренне подготовлена в его
- 37 -
творчестве. Сильное стихотворение о декабристах, их историческом подвиге и скором времени, когда этот подвиг будет по достоинству оценен, есть у Михайлова. О пяти великих тенях, взывающих к борьбе за лучшее будущее, писал в одном из своих программных стихотворений Минаев. Но дело не только в самой теме; есть несомненная преемственность в понимании роли поэта как борца, трибуна, гражданина прежде всего. Демонстративная формула Рылеева — «Я не поэт, а гражданин» (посвящение к поэме «Войнаровский») — нашла свой отзвук в некрасовских словах из «Поэта и гражданина»: «Поэтом можешь ты не быть, А гражданином быть обязан». Здесь нет никакого отрицания и разрушения искусства, а лишь подчеркнута его активность, тесная связь с жизнью, необходимость для подлинного искусства участия в перестройке жизни. Не менее интересна еще одна перекличка, опять-таки в «Поэте и гражданине», с другим поэтом-декабристом В. Ф. Раевским. В его послании «К друзьям в Кишинев» читаем:
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой... и т. д.Совершенно несущественно в данном случае, знал ли Некрасов стихотворение Раевского или нет (повидимому, знал), но самый ход поэтической мысли в знаменитых строках из «Поэта и гражданина»:
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать —исключительно близок к приведенным строкам Раевского.
Очень важное место в традициях, подхваченных и развивавшихся революционно-демократической поэзией, занимал Лермонтов с его непримиримым социальным протестом. Велико было значение Лермонтова для Огарева, как и для большинства поэтов 40-х годов; в мучительных противоречиях лирики Лермонтова находил он выражение своих собственных душевных мук и исканий, и его творчество было окрашено в значительной степени лермонтовскими мотивами и стремлением преодолеть и найти выход из этих противоречий. Очень сближает Огарева с Лермонтовым тон личной взволнованной исповеди, характерной для его поэзии. Роль Лермонтова в формировании поэтического мировоззрения и стиля Некрасова неоднократно подчеркивалась в научной литературе советского времени. Не чуждый (особенно в 40-е годы) рефлексии и душевных противоречий Лермонтова, противоречия между жаждой деятельности и чувством собственного бессилия, Некрасов еще более остро воспринял мотивы социального протеста публицистической лирики Лермонтова, гневные ораторские интонации которой помогли ему выработать поэтические средства, адэкватно выражавшие его отношение к действительности. И в зрелой лирике Некрасова чувствуется эта лермонтовская стихия — разумеется, не как подражание, а как продолжение и развитие на новой основе. Эта сторона поэзии Лермонтова была близка и более молодым поэтам. Так, например, известно, что В. Курочкин, более или менее равнодушно относившийся к Пушкину, «обожал» Лермонтова.1 Лермонтов был для него предшественником той «злобы святой, возвышающей нас», которая «смело прямо из сердца срывается в дело» (стихотворение «Раздумье»), и того скептицизма по отношению ко всему внешнему
- 38 -
и показному, в основе которого, как у Лермонтова (но у Лермонтова в значительной мере подсознательно), была глубокая вера в жизнь и людей.
Совершенно несомненно особое место Кольцова в литературном сознании поэтов некрасовской школы. Основная тема его поэзии — народ и крестьянский труд, подлинный демократизм Кольцова, хотя и лишенный социально-исторической перспективы,1 мысли и чувства, волновавшие его, наконец, самая форма стиха, восходящая к фольклору, — всё это не могло не импонировать новому поколению поэтов, стремившихся быть голосом народных масс, выразителями их чаяний и стремлений. Отнюдь не копируя тем, мотивов, художественных средств Кольцова, они не могли не видеть в нем в известной мере своего прямого предшественника, чей поэтический опыт крайне поучителен, плодотворен и таит в себе потенциальные возможности развития. В какой-то степени существенен был и опыт гражданской поэзии 40-х годов, поэтов, связанных с кружком Петрашевского, в первую очередь Плещеева, который на следующем этапе своей литературной деятельности, после возвращения из ссылки, стал сам одним из поэтов некрасовской школы, при всех своих колебаниях и пережитках идеологии 40-х годов.
Очень сложен вопрос о Пушкине применительно к революционной демократии и революционно-демократической поэзии. Сложен он потому, что вопрос о Пушкине и отношении к нему переплетается с вопросом о так называемом «пушкинском» направлении. Хотя в ряде работ (К. И. Чуковского, В. Е. Евгеньева-Максимова, В. В. Гиппиуса) и было указано, какие тенденции пушкинского творчества нашли в поэзии Некрасова продолжение и развитие, а какие вызывали у него сопротивление, вопрос этот еще не может считаться решенным. Ясно тем не менее одно: именно Некрасов, а не Фет и Дружинин, был подлинным преемником Пушкина. Преемственность не предполагает рабского повторения и этим принципиально отличается от эпигонства. Не всё в мировоззрении и поэзии Пушкина было близко Некрасову; он иногда полемизировал с Пушкиным, в первую очередь с тем, что поднималось на щит сторонниками «чистого искусства» (такова, например, его полемика со стихами «Не для житейского волненья» и т. д. в «Поэте и гражданине»). Но основные черты личности и поэтической деятельности Пушкина — его связь с русским освободительным движением, во-первых, и его стремление изгнать из литературы всякого рода условности, сблизить ее с действительностью, его реализм, во-вторых, были глубоко родственны и дороги Некрасову, — и в этом отношении на новом этапе русской жизни и литературы он смело и решительно продолжал дело Пушкина.
Но вопрос о литературных традициях некрасовской школы не ограничивается рамками поэзии. Нередко бывало в истории литературы, что формирующим началом какого-нибудь поэтического направления является проза, а тех или иных явлений прозы — поэзия. Жанровая замкнутость вообще, а для данного периода особенно, существует в большей степени в теоретических построениях, чем в литературной практике. Очень большую роль в творчестве Некрасова и многих поэтов его направления сыграли Гоголь и реалистическая литература 40-х годов, сформировавшаяся под непосредственным воздействием Белинского. Пристальное внимание к оборотной стороне
- 39 -
жизни, к будням, к мелочам, опутывающим человеческое существование и мешающим людям жить, внимание к социальным низам и сочувственное изображение «бедных людей», униженных и оскорбленных хозяевами жизни, особые методы детальных зарисовок действительности, которые у наиболее талантливых поэтов поднимались над простым «физиологическим очерком» до художественного обобщения, характерное сочетание комического с патетическим, делающее подчас совершенно невозможным отделение лирики и сатиры, самые сатирические приемы и многое другое связывает некрасовскую школу в поэзии с реалистической прозой 40-х годов, незаурядным представителем которой был в свое время Некрасов. Не случайно некрасовская проза так часто перекликается с его позднейшими стихами. Дело тут не только в одних и тех же жизненных впечатлениях, которые дважды и трижды использовал писатель, а в общем угле зрения, определяющем выбор материала, и способах его воплощения, хотя и не тождественных, но во многом сходных и в поэзии и в прозе. Эта ориентация на прозу, которая не раз употреблялась врагами поэзии Некрасова как аргумент в пользу отсутствия в ней подлинного искусства, сказывается не только в языке, но и в детальности изображения действительности, идущей от физиологического очерка.
А. Н. Плещеев.
Фотография. 1860-е годы (?).Таким образом, некрасовская школа впитала в себя традиции гражданской поэзии декабристов и публицистической лирики Лермонтова, учла творческий опыт Кольцова и Пушкина, сочетав всё это с детальностью в изображении «физиологии» современного общества, возникшей на почве реалистической литературы 40-х годов с ее преимущественным интересом к людям, обделенным на жизненном пире, к их жизни, психологии, причем самое изображение изнанки жизни давалось или прямо с их точки зрения, или, во всяком случае, исходя из их интересов. Всё это было не механически объединено, но органически воспринято и переработано на основе нового миропонимания и новых эстетических принципов, получивших наиболее яркое и последовательное выражение в работах вождей революционной демократии 60-х годов Чернышевского и Добролюбова.
Всё отмеченное выше связано с общим пониманием взаимоотношений искусства и действительности, задач поэзии, самого образа поэта представителями некрасовской школы. Подлинный поэт в их глазах — это не жрец, владеющий некоей тайной, не романтический безумец, творящий в состоянии экстаза, не житель Олимпа,1 а человек, живущий интересами своего
- 40 -
времени и своего народа, радующийся его радостями и горюющий его печалями, борющийся за лучшее будущее оружием своего слова. Поэзия революционной демократии обращена не к узкому кругу «посвященных», а к широкой демократической аудитории. Некрасов и поэты его школы страдали не от некоего исконного и неизбежного разлада поэта и враждебной ему толпы, о котором неоднократно, вслед за романтиками, писали представители «чистой поэзии», а от того, что не могут, в силу конкретных социально-политических условий, говорить непосредственно с народом. Известно, как ценил, например, Некрасов каждый доходивший до него отзыв людей из народа о его поэзии, придавая им гораздо больше значения, чем отзывам профессиональных литераторов. В ответ на советы Боткина и Тургенева бросить «описывать гнойные раны общественной жизни» и «воспевать любовь ямщиков, огородников и всю деревенщину», потому что всё это неинтересно образованному читателю, Некрасов с запальчивостью ответил, что он пишет не для светского общества. «...Мое авторское самолюбие вполне было бы удовлетворено, — сказал он, — если бы, хотя после моей смерти, русский мужик читал бы мои стихи!».1
То лирическое «я», которое объединяет в нашем сознании творчество поэта, не является тождественным у всех поэтов демократического лагеря. Этот образ поэта у Некрасова, Добролюбова, В. Курочкина, Никитина, Михайлова, тем более у Огарева и Плещеева, имеет свои особенности, свою, так сказать, биографию, свой облик, и их легко распознать, но всё же они в то же время в очень существенном и принципиально важном близки, и это общее отличает их от поэтов школы «искусства для искусства», как ни различны в свою очередь последние. Если для Фета, Тютчева и А. К. Толстого основным является соотношение этого лирического «я» с космосом и оно противостоит нередко людям, обществу, то для некрасовской школы, напротив, соотношения поэта и лирического «я» его поэзии с другими людьми, с обществом представляются всегда основополагающими, и характер этих взаимоотношений определяет в значительной степени весь тон и колорит, всю проблематику их творчества.
Проблема личного и общего, понимаемого не как космическое, а как социальное, стояла в центре лирики демократического лагеря и разрешалась в ней совсем по-особому. Противоречия между личностью и обществом не были в сознании революционных демократов некими исконными и непреходящими противоречиями, но являлись противоречиями историческими и связанными с данным социальным строем. Это были противоречия передового сознания с отжившей и враждебной народу социально-политической системой. Народное счастье и благополучие было для них не абстрактным идеалом, а существеннейшим вопросом их внутренней жизни, в котором личное и общественное начала неотделимы. Что же касается взаимоотношений с народом, то о противоречиях, как таковых, здесь говорить не приходится. Суть этих «противоречий» заключалась, разумеется, не в якобы свойственной народу враждебности по отношению к высоко интеллектуальной личности. Острые и подчас мучительные переживания были связаны с двумя моментами. Во-первых, поэт иногда болезненно переживал свою оторванность от народной массы как в силу того, что он, как человек переходной эпохи, не может до конца отказаться от предрассудков, свойственных его классу, с которым он порвал, так и в силу темноты и непонимания самой народной массой собственных интересов, в силу «недостатка революционности» в ней.
- 41 -
Во-вторых, он бичевал себя за то, что слова его не воплощаются в дело, что он не может, вследствие душевной слабости, принять участие в непосредственной борьбе за революционное переустройство общества. В этом и заключается смысл «покаянных» мотивов Некрасова, свидетельствующих о высокой требовательности к себе поэта, но отнюдь не сближающих его с дворянскими интеллигентами — «лишними людьми». Покаянные настроения были присущи не одному Некрасову; мы находим их у Плещеева, Огарева, Никитина (например, стихотворение «Горькие слезы»). Они встречали противодействие у вождей революционной демократии. Так, Добролюбов написал, как известно, пародию на одну из «Последних элегий» Некрасова, а в одном из своих писем 1860 года также призывал его преодолеть в себе эти настроения.1 Оценивая и анализируя смысл этих настроений, выясняя их специфические особенности, необходимо подчеркнуть два обстоятельства. Упрекая себя в безволии и неспособности к практическому действию, Некрасов и близкие к нему поэты не искали оправдания им во влиянии среды, эпохи и пр., но обвиняли исключительно самих себя; в этом их существенное отличие от «лишних людей». Чувствуя подчас свою оторванность от народа, видя темные стороны народной жизни и народного сознания, недоверчивое отношение народа к своим подлинным друзьям, они не противопоставляли себя ему, не метали громы и молнии по адресу грубой и невежественной толпы, по самой своей природе не способной якобы оценить высокие стремления и переживания избранных умов, понимая, что оторванность эта вызвана историческими и социальными причинами. Словом, антагонизма между «толпой» и личностью, определявшего поэтическое сознание поэтов школы «искусства для искусства» и имевшего в 60-е годы непосредственно политический смысл, не могло, конечно, быть у представителей некрасовского направления.
Здесь нельзя не отметить, какое существенное значение в оценке поэтических явлений имел для критиков и читателей революционно-демократического лагеря тот человеческий (но отнюдь не узко биографический) облик поэта, который вырисовывается из его стихотворений. Интересно в этом отношении одно замечание Писарева. Характеризуя Гейне, его внутренние противоречия, связь с «бессмыслицами» романтизма и пр., Писарев пишет, что «чарующая прелесть гейневской поэзии» «заключается в неотразимом обаянии той сильной, богатой, нежной, страстной, знойной, кипучей и пылающей личности, которая смотрит на вас во все глаза из-за каждой строки, как бы ни была эта строка ничтожна или безумна. Что-то дышит, что-то волнуется, что-то смеется и плачет, что-то томится и кипит во всех этих хаотических образах, во всей этой дикой гармонии шальных и разбросанных слов».2
- 42 -
Интимная любовная лирика и лирика природы отнюдь не являются, как уже было указано, монополией школы «искусства для искусства». Они занимают немалое место и в поэзии революционных демократов. Любовные стихотворения Некрасова, его цикл, посвященный Панаевой, и другие представляют собой одно из замечательных достижений русской лирики XIX века. Любовные стихотворения Огарева, Михайлова, Добролюбова также неотделимы от их творчества и составляют органическую его часть. И вовсе не так обстоит дело, что они писали любовные стихотворения в молодости, а затем, созрев и выработав правильный взгляд на мир, перешли к более значительным социальным темам. Некрасов, Добролюбов, Михайлов, Никитин писали любовные стихотворения на протяжении всей своей литературной деятельности. Но эта интимная лирика имела свои специфические черты, принципиально отличающие ее от лирики Фета, А. К. Толстого, Майкова.
У поэтов демократического лагеря любовная тема нередко неотделима от темы социальной. Социальная тема вырастает из любовной и в то же время является ее подпочвой («Когда из мрака заблужденья...», «Еду ли ночью по улице темной...» Некрасова, многие стихотворения В. Курочкина, Никитина и др.). Глубоко интимное переплетено и неразрывными нитями связано с социальным, общественным. В стихотворениях Михайлова личное чувство совершенно неотделимо от его взглядов на женщину и ее эмансипацию, одним из наиболее активных борцов за которую он был. Совсем иная и общая окраска любовной лирики некрасовской школы. Здесь мы не найдем ни безмятежной идиллии, ни романтической Sehnsucht, тяги в потустороннее, ни трагических противоречий любви, связанных с таинственным предопределением, превращающим любовь в «поединок роковой» и «борьбу неравную двух сердец». В ней много радостного и поднимающего душу человека, но в целом она окрашена в горестные тона. Носитель чувства любви не принадлежит к хозяевам жизни. В отдельных случаях это крестьянин, чаще — «бедный человек» большого столичного города, где особенно остро ощущаются социальные противоречия и неравенство. Бытовая обстановка, обрамляющая рассказанное, вводит читателя в совсем особую атмосферу, атмосферу горя, неудач, бедности и притеснений. Наконец, и самые интонации поэта воссоздают образ того лирического «я», которое более или менее близко у ряда поэтов. Иногда это лирическое «я» представляет рядового бедного человека-труженика, иногда в нем просвечивает передовой человек своего времени, но в обоих случаях это большей частью раздраженный, измученный жизнью человек; он зол на социальные условия, которые калечат его жизнь, его чувство, он с желчью говорит обо всем этом, но это та именно «святая злоба», о которой шла речь во время полемики по поводу «гоголевского» и «пушкинского» направлений, о которой писал Некрасов Л. Толстому в ответ на его нападки на Чернышевского: «Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться; Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину».1 Нередко в любовных стихах Некрасова, и не одного Некрасова, этот измученный человек сливается с автором, в других
- 43 -
случаях о нем говорится в третьем лице, но всегда он как бы незримо присутствует, настроения его просвечивают сквозь все радости любви.
Бывало, натерпевшись муки,
Устав и телом и душой,
Под игом молчаливой скуки
Встречался грустно я с тобой.
Ни смех, ни говор твой веселый
Не прогоняли темных дум:
Они бесили мой тяжелый,
Больной и раздраженный ум.(Некрасов. «Я посетил
твое кладбище...»).Очень часто об этом прямо не говорится, но это душевное состояние человека, вызванное его положением в обществе, его социальным самочувствием, просвечивает сквозь все его слова и поступки, оно звучит в любовной лирике в самих ее подсознательных и непроизвольных интонациях.
Значительное место у многих поэтов демократического лагеря — у Некрасова, Никитина, Михайлова и других — занимает пейзаж, который опять-таки отнюдь не является монополией «чистой поэзии». Но, как и любовная лирика, пейзаж имеет у них особый характер. Прежде всего пейзаж всегда связан у них с человеком и не с неким отвлеченным человеком, стремящимся к слиянию с космосом или трепещущим перед стихийными, непознаваемыми силами природы, не только с человеком как явлением природы, а с конкретным человеком данной эпохи, человеком с определенной социальной характеристикой, человеком в его трудовой деятельности. Пейзажа вне человека нет у этих поэтов. О человеке может прямо не говориться или почти не говориться, но самая природа рисуется в тесной связи с ним, сквозь призму его интересов, его труда.
Природа, дающая человеку некоторое успокоение от тяжелых переживаний и испытаний, отдых от непосильного труда, не изымается из социальной жизни как нечто вневременное и неизменное. Пейзаж не есть нечто замкнутое в себе, и нередко как бы непосредственно из него возникает социальная тема, как, например, в «Утре» Некрасова:
С окружающей нас нищетою
Здесь природа сама заодно.Так же и в сибирских стихах Михайлова, в которых, естественно, суровая сибирская природа занимает большое место; из сибирского пейзажа со всем его своеобразием органически вырастает тема народа, его страданий и борьбы за его счастье. Ни у Некрасова, ни у других представителей его школы нет при этом примитивных аллегорий, природа не является безразличным материалом для иносказаний, как например, у Розенгейма или в некоторых стихотворениях Майкова. Подобные аллегории высмеивались в пародиях Добролюбова, Минаева. Речь идет совсем о другом. Пейзаж, природа в сознании поэтов демократического лагеря неотделимы от человека, от социального организма, от социальных неустройств и противоречий, и всё это теснейшим образом переплетается в их поэзии.
Особое место занимает в поэзии этого направления городской пейзаж. Стихотворения Некрасова о городе — это, на первый взгляд, случайные, беглые зарисовки, сделанные проходящим по городским улицам человеком, простая фиксация того, что бросилось ему в глаза и что он, не мудрствуя лукаво, перенес на бумагу. Но из городского пейзажа, из бытовой сценки — и это характерно для всей городской лирики Некрасова, от цикла «На
- 44 -
улице» до потрясающего «Утра», а в равной степени и для других, близких ему поэтов 60-х годов, — совершенно естественно вырастает глубокая социальная тема; сквозь разрозненные впечатления, бытовые мелочи проступает трагедия повседневной жизни, социальные противоречия большого города; случайно попавшиеся на пути люди и мелкие городские происшествия оказываются обобщениями большой художественной силы. Особенности некрасовского восприятия города отчетливо сформулированы им в стихотворении «Ванька» из цикла «На улице». Описав несчастного извозчика, чистящего бляхи на своей ободранной кляче в надежде привлечь богатого седока, и сопоставив его с наводящей на себя красоту продажной женщиной, поэт восклицает:
Но оба вы — извозчик дуралей
И ты, смешно причесанная дама, —
Вы пробуждаете не смех в душе моей —
Мерещится мне всюду драма.Последняя строка, которой завершается цикл «На улице», является своеобразным смысловым ключом ко всем произведениям Некрасова о городе.
Трактовка темы города в творчестве Некрасова оказала огромное воздействие на поэтов его школы. Это сказалось в многочисленных произведениях шестидесятников — Д. Д. Минаева, П. И. Вейнберга (1831—1908) и др. Характерна в этом отношении поэма Минаева «Та или эта?» (1861). Передавая в ней тягостные впечатления, тоску и печаль, охватившие его в темном квартале, где его застала зимняя ночь, поэт пишет, что по случайным уличным впечатлениям, мелькнувшему в окне профилю усталого человека и пр. он воссоздает «незримые драмы». Эти незримые драмы близко соприкасаются с Некрасовым, однако не только с ним. Подобное восприятие города было свойственно не ему одному.
За несколько лет до создания цикла Некрасова «На улице» были написаны «Капризы и раздумье» Герцена. Во втором разделе этих размышлений («По разным поводам») Герцен обронил мысль о необходимости ввести употребление микроскопа при изучении нравственного мира: «...надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений, которая опутывает самые сильные характеры, самые огненные энергии»; нужно подумать «об ежедневных, будничных отношениях, обо всех мелочах, к которым принадлежат семейные тайны, хозяйственные дела, отношения к родным, близким, присным, слугам, и пр., и пр.». И дальше Герцен с исключительной лирической силой пишет:
«Когда я хожу по улицам, особенно поздно вечером, когда всё тихо, мрачно, и только кое-где светится ночник, тухнущая лампа, догорающая свеча, — на меня находит ужас: за каждой стеной мне мерещится драма, за каждой стеной виднеются горячие слезы, — слезы, о которых никто не сведает, слезы обманутых надежд, слезы, с которыми утекают не одни юношеские верования, но все верования человеческие, а иногда и самая жизнь. Есть, конечно, дома, в которых благоденственно едят и пьют целый день, тучнеют и спят беспробудно целую ночь, да и в таком доме найдется хоть какая-нибудь племянница, притесненная, задавленная, хоть горничная или дворник, а уж непременно кому-нибудь да солоно жить».1
Совершенно очевидно, что некрасовская строка: «Мерещится мне всюду драма» восходит к герценовским словам: «за каждой стеной мне мерещится драма». Слова эти врезались в сознание и через несколько лет, — конечно,
- 45 -
не в качестве цитаты и, может быть, без каких бы то ни было ассоциаций со статьей Герцена, — вошли в стихотворение. Дело не ограничивается, однако, фактом непосредственного воздействия Герцена на Некрасова. Он имеет более широкое значение, свидетельствуя об общем строе мыслей и переживаний. Слова эти откликнулись у Некрасова не случайно; они органически вошли в идейно близкий контекст. Речь идет не о нейтральной детали, нейтральном, хотя бы и ярком, образе, а о словах значительных, концентрирующих в себе особый тип восприятия большого капиталистического города, в «мелочах» и повседневных проявлениях которого просвечивают острые конфликты и противоречия, того восприятия, которое было свойственно Некрасову и до цикла «На улице», где он лишь сформулировал его, того восприятия, которое было, однако, присуще не одному Некрасову, а всей демократической линии русской литературы середины XIX века.
То, что речь идет не об индивидуальном восприятии Герцена, оказавшем воздействие на Некрасова, подчеркивается следующим фактом. В рецензии на изданный им программный сборник писателей-реалистов 40-х годов «Физиология Петербурга», т. е. до «Капризов и раздумья», Некрасов писал, что цель этой книги — «раскрыть все тайны нашей общественной жизни, все пружины радостных и печальных сцен нашего домашнего быта, все источники наших уличных явлений» и т. д. Далее Некрасов характеризует ее трудную «обязанность»: «Ты должна открывать тайны, подсмотренные в замочную скважину, подмеченные из-за угла, схваченные врасплох; на то ты и физиология, т. е. история внутренней нашей жизни, глубокой и темной, прикрытой мишурой и блестками, замаскированной роскошными фасадами, вкусными обедами, наружной чистотой и блеском, отражающими и преломляющими луч истины, который нахально хочет проникнуть в ее тайную внутренность!».1
Таким образом, и любовная лирика, и лирика природы, и городской пейзаж поэтов некрасовской школы тесно связаны с их отношением к современной им действительности, с их социальным самочувствием, наконец, с их социальными идеалами и стремлениями. Отсюда отличительные черты их лирики, о которых шла речь выше. И если в отдельных любовных и пейзажных стихотворениях и не говорится ничего, непосредственно связывающего их с социальной действительностью, то общий их тон и колорит внушают читателю мысль об этой связи, вызывают в его сознании определенный социально-исторический фон, без которого они не могут быть поняты и прочувствованы. И потому, когда Некрасов устами своего «гражданина» говорит о том, что в «годину горя» стыдно «Красу долин, небес и моря И ласку милой воспевать», он борется не только за преобладание гражданской темы, но и против чуждой революционному сознанию, изолированной от социальной действительности трактовки так называемых «вечных» тем и мотивов (лирики любви и природы), т. е. в обоих случаях против враждебного ему мировоззрения.
Шестидесятые годы являются годами расцвета революционной сатиры, в частности сатиры стихотворной. Сатирическая струя проходит через всю литературную деятельность Некрасова, начиная с 40-х годов, всё более расширяя круг жизненных явлений и углубляя методы их разоблачения. Сатира представляет собой наиболее существенную и поэтически зрелую часть литературного наследия Добролюбова. Она занимает преобладающее место в творчестве В. Курочкина, Минаева, Вейнберга, молодого Буренина и других поэтов, группировавшихся вокруг «Искры» и «Будильника».
- 46 -
И лирика и сатира поэтов некрасовской школы характеризуются резким обнажением социальных противоречий. И потому контрастные сопоставления, и в общем замысле и в деталях, приобретают у них первостепенное значение:
... Не в залах бальных,
Где торжествует суета,
В приютах нищеты печальных
Блуждает грустная мечта.(Некрасов. «Несчастные»).
Объекты сатиры, характер их разоблачения, их социальная оценка определялись общими позициями революционной демократии. Поэты некрасовской школы, как и сам Некрасов, обращаясь к деревенской России, изображали ее не только с глубоким сочувствием по отношению к задавленному крепостной неволей, а затем попавшему в послереформенную кабалу крестьянству, но и с непоколебимой верой в возможность решительного изменения его судьбы к лучшему; поэт не терял этой веры и при обрисовке города с его жутким социальным неравенством и бесправием. Этим углом зрения, этими исходными моментами определялись особенности их сатиры.
Демократическая сатира была направлена в первую очередь против полицейского государства и крепостнических порядков, в том числе против крепостнической семьи, морали и пр. Произведения на эти темы, написанные после реформы 1861 года, были столь же актуальными, звучали в высшей степени злободневно, поскольку пережитки крепостнической эпохи не только сохранились в русской жизни на многие десятилетия, но даже во многом определяли ее устои. Наряду с этим еще до реформы, а в 60-е годы в гораздо большей степени сатирики вскрывают язвы нового капиталистического мира. Безжалостная эксплуатация, беззастенчивые темные дела промышленных и финансовых воротил, мир спекулянтов, аферистов неоднократно служат объектами их изображения. Постоянной темой демократической сатиры является, особенно с конца 50-х годов, русский либерализм. Пышные фразы о «гласности», о народном благе и наряду с этим отсутствие каких бы то ни было реальных шагов для изменения положения масс, полное непонимание внутренней жизни, интересов и потребностей народа, склонность к компромиссам и угодливости — против этого направлено острие многих сатирических произведений шестидесятников. Наконец, много внимания уделяли они мещанству, пошлости, обывательщине, отсутствию каких бы то ни было умственных запросов и интересов как опоре общественной и правительственной реакции.
Считая, что писатель должен активно вмешиваться в жизнь, сатирики сплошь и рядом откликались на конкретные злободневные факты и явления текущей действительности, не ожидая, пока они отстоятся и примут более определенные формы. Без исторического раскрытия этих фактов, о которых иногда говорится прямо, а большей частью лишь намеками (такими намеками полна не только поэзия искровцев, но, например, и поэма Некрасова «Современники»), нельзя понять ни политического смысла их борьбы, ни их художественного метода. Литературные враги революционной демократии нередко упрекали сатириков-шестидесятников в якобы мелочности их интересов, в том, что они снижают искусство до уровня злободневного фельетона. Конечно, большое количество сатирических произведений отжило свой век, как безнадежно устарели и справедливо забыты многие и многие произведения, вышедшие из лагеря «чистого искусства» и написанные на «вечные» темы. Но лучшие образцы сатирической поэзии говорят
- 47 -
с полной убедительностью о том, что тесно связанное со своей эпохой и злободневное в глубоком смысле этого слова вовсе не теряет своего значения после того, как вызвавшие его явления ушли в прошлое. Обращаясь к злободневным темам, поэты некрасовской школы интересовались не каждым мелким и вообще отдельным фактом самим по себе, а оценивали и понимали его как известный симптом, как выражение той или иной тенденции эпохи, ее политической атмосферы, как типичную черту, характеризующую политическое поведение или человеческий облик господствующих классов. Подобно Щедрину, они интересовались не человеком вообще, а человеком определенного класса, и не частная, а социальная жизнь стояла в их сатире на первом плане; вернее сказать, рисуя в своих произведениях частную жизнь, поэты-сатирики демократического лагеря показывали, что и она всецело определяется теми же социальными законами.
Среди многообразных сатирических приемов, которыми они пользовались, следует отметить один, получивший особенное распространение (впрочем, не только в поэзии, но и в прозе и даже публицистике). Это — прием «маски», повествования от имени подставного лица, которое не только не тождественно с авторским, но именно и служит основным объектом сатирического разоблачения. Таким образом, разоблачение дается не от лица автора и как бы превращается в саморазоблачение, в самораскрытие героя; стихотворение приобретает форму монолога. Общий смысл такого построения, кроме чисто комического эффекта, заключается в том, чтобы довести враждебный образ мысли до логического конца и вместе с тем до предельной уродливости и тем самым скомпрометировать его в глазах читателей.
Маска благонамеренного человека имеет весьма давнюю историю, но в русской сатире середины прошлого века, главным образом в революционной сатире, она встречается особенно часто. Добролюбов писал С. Т. Славутинскому, что из цензурных соображений «необходимо говорить фактами и цифрами, не только не называя вещей по именам, но даже иногда называя их именами, противоположными их существенному характеру».1 Называние вещей «противоположными» именами нередко встречается в статьях Добролюбова. Вспомним хотя бы в статье «Когда же придет настоящий день?» иронические размышления о том, что в России нет никакой почвы для борьбы, которой воодушевлен Инсаров, что Россия — «государство благоустроенное, в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие» и т. д.2 Много аналогичных мест в статьях Чернышевского. Но в публицистике этот иронический тон появляется лишь местами и не перерастает в законченную сатирическую маску, как это происходит в ряде произведений Щедрина, в поэзии Добролюбова и искровцев.
Маски в стихотворной сатире 60-х годов весьма разнохарактерны. Иногда это просто бытовой портрет вроде некрасовского «нравственного человека», негодяя-крепостника, в одинаковой степени подлого и жестокого по отношению к своей жене, другу, дочери, дворовому; в других случаях это либерал, ловко жонглирующий словами и пытающийся прикрыть своекорыстные интересы импозантными фразами, представитель благородного дворянского сословия, мечтающий о возвращении ко времени крепостного права, реакционный журналист и пр.
В процессе создания своей поэтической системы (в первую очередь это относится к их сатирам) Некрасов, В. Курочкин и другие использовали некоторые
- 48 -
особенности русского водевильного куплета 30—40-х годов. Так, стихотворения, написанные от имени разоблачаемого сатириками лица, нередко напоминают монолог, как бы вынутый, извлеченный из водевиля. Но и самая техника куплетов с рефреном очень пригодилась им (наряду с водевилем они опирались в этом отношении на опыт французских песенников, главным образом Беранже). Сатирики 60-х годов, и не только сатирики, очень часто и охотно пользовались куплетами и довели их технику до большого мастерства. Куплеты по самой своей природе являются весьма доходчивой и выразительной формой, и не мудрено, что поэты, ориентировавшиеся не на узкий круг «посвященных», а на широкую демократическую аудиторию, обратились к ней. И Некрасова, и искровцев не раз упрекали в этом представители враждебной критики. Давний враг революционной демократии и демократического искусства Н. Н. Страхов писал в 1870 году о Некрасове: «Стихи его по тону и манере очень часто сбиваются на водевильные куплеты того особого рода, который некогда процветал в вашей „Александринке“».1 Как и другие критики либерального и реакционного лагеря, Страхов совершенно искажал существо дела. Заимствуя из водевиля легкость, бойкость, доходчивость стиха, технику каламбура и т. п., Некрасов, искровцы и ряд других сатириков поставили их на службу передовым идеям своего времени. Но об этом, конечно, предпочитали умалчивать их враги, попрекая революционных поэтов сходством их стихов с пустыми, бессодержательными водевильными куплетами.
Именно в 60-е годы был по существу создан и разработан жанр злободневного сатирического фельетона, насыщенного полемикой с враждебными демократическому лагерю публицистами, писателями, оперирующего повседневными, как бы случайными фактами, но в лучших своих образцах преодолевавшего эту случайность и поднимавшегося до глубоких социальных и художественных обобщений. Сквозь случайное и внешнее в них просвечивали типичное и значительное.
Наряду с сатирическим фельетоном шестидесятники культивировали эпиграмму и достигли существенных успехов в этой области. Здесь прежде всего необходимо назвать мастера эпиграммы, проявившего исключительную выдумку, Минаева, а также Михайлова, Огарева и др. Важным оружием в их руках была и пародия, также отмеченная большими успехами в эти годы. Пародии Добролюбова, Минаева, Н. Л. Ломана (1830—1892; псевдоним — Н. Л. Гнут), А. П. Сниткина (1829—1860; псевдоним — Амос Шишкин) и других были направлены как против идейной сущности чуждых им поэтических направлений, так и против их стилистических принципов. Борьба с пережитками романтических представлений об искусстве, об отношениях художника и «толпы», с основным литературным врагом — «артистической теорией» или теорией «искусства для искусства», с узостью и ограниченностью тематики и замкнутостью поэзии в узких пределах индивидуалистической лирики, борьба с мистикой и эротикой, наконец, с казенно-патриотической, славянофильской и либерально-обличительной поэзией, — таков широкий диапазон пародийного творчества некрасовской школы. Кое в чем оно перекликалось, конечно, со своими предшественниками — Козьмой Прутковым и Новым поэтом (И. И. Панаевым).
В отличие от представителей школы «чистого искусства», в творчестве некоторых поэтов некрасовского направления поэма занимает значительное
- 49 -
место. Тяготение к созданию широких эпических картин современной действительности получило у них свое реальное осуществление. Такими произведениями, в первую очередь, являются поэмы самого Некрасова, относящиеся к 60—70-м годам. Но важно подчеркнуть, что подобные произведения были созданы и поэтом несравненно меньшего масштаба — Никитиным («Тарас», «Кулак»), причем до крестьянских поэм Некрасова. Это подтверждает, что дело здесь не только в личной одаренности Некрасова, но и в общем направлении поэтической школы, возглавлявшейся им.
Л. И. Пальмин.
Фотография. 1870-е годы.В качестве одного из характерных явлений этой школы следует отметить небольшие жанровые портреты, сценки и зарисовки из быта крестьянства и вообще социальных низов, проникнутые глубоким сочувствием к ним.
Есть ряд таких стихотворений у Огарева («Деревенский сторож», «Изба», «Кабак» — они относятся еще к началу 40-х годов), у Некрасова. Особенно типичны они для Никитина («Жена ямщика», «Пряха», «Дедушка» и др.); некоторые стихотворения Никитина этого типа характеризуются довольно развитой фабулой.
В 60-е годы был создан также — не только главными, но и второстепенными представителями некрасовского направления — ряд революционных песен. Мало кто знает, кто именно является автором каждой из этих песен, но самые песни вошли в репертуар революционной поэзии и распевались многими поколениями передовых русских людей. К их числу принадлежат: «Requiem» («Не плачьте над трупами павших бойцов...») Л. И. Пальмина,1 «Слушай!» («Как дело измены, как совесть тирана...») И. И. Гольц-Миллера,2 «Дубинушка» В. И. Богданова,3 «Светает, товарищ!» Омулевского,4 «Смело, друзья! Не теряйте...» и «Крепко, дружно вас в объятья...»
- 50 -
М. Л. Михайлова, «Свобода» и «Из-за матушки за Волги...» (отрывок из поэмы «Забытье») Огарева, «Долго нас помещики душили...» (приписывается В. Курочкину). Революционными песнями стало несколько произведений Некрасова.
Преодоление разрыва между «высокими» и «низменными» явлениями, не достойными якобы отражения в искусстве и обращение к действительности во всем ее многообразии привели к принципиальным изменениям языка поэзии. Новый быт, новые социальные явления, новые герои, оказавшиеся в центре внимания, а не в качестве слегка намеченного контрастирующего фона, потребовали новой лексики. Демократизация языка, сближение стихотворной речи с разговорной, с языком публицистики и науки было одним из основных признаков реалистического направления в поэзии. О «простом языке, свойственном поэзии нашего времени», пишет в рецензии на стихотворения Щербины Чернышевский, отмечая, что Щербина «не решается сойти с треножника пифии» и заговорить этим языком.1 Лексика поэтов некрасовской школы (а под влиянием Некрасова это сказывается отчасти и на творчестве поэтов противостоящего им лагеря, хотя большей частью не имеет у них принципиального характера) приближается к живой разговорной — как городской, так и крестьянской — речи. Вплотную касаясь в своих произведениях явлений окружающей их социальной действительности, поэты некрасовской школы не считали нужным говорить о них необычными «красивыми» словами, тем самым как бы возводя их в ранг «поэтического». С другой стороны, так называемые прозаизмы не ощущались ими как нарушение каких-то незыблемых законов искусства; самое понятие прозаизма для них собственно не существовало; оно возникло на основе совершенно иных эстетических воззрений. Запретные у поэтов другого лагеря «прозаизмы» выражались не только в словарном составе, но и в синтаксической структуре, иногда затрудненной, противопоставленной гладким стихам с закругленными, автоматически воспринимающимися предложениями. Наконец, самая звуковая организация стиха была построена на новых основах — плавно текущая мелодическая стихия была отвергнута, и эвфоническую выразительность опять-таки стали видеть в более резких, раздражавших прежнее поэтическое сознание формах. Весь этот переворот был связан и с новыми объектами действительности, вовлеченными в орбиту демократической поэзии, и с самим характером мировосприятия, что, впрочем, неотделимо одно от другого.2
Новые принципы поэтического языка не могли не вызвать осуждения и раздражения в лагере «чистого искусства». Характерны в этом отношении брезгливые слова Фета о некрасовской строке из цикла «На улице»: «Читаешь стих Некрасова „Купец, у коего украден был калач“ и чувствуешь,
- 51 -
что это жестяная проза».1 При этом Фет противопоставлял «жестяную прозу» Некрасова «золотой поэзии» Пушкина, противопоставлял без всякого на то основания, потому что именно Пушкин в значительной степени подготовил обращение к «прозе» жизни, смешение «высокого» и «низкого» и, наконец, обращение к разговорной речи. Именно за это некоторые критики 30-х годов всячески поносили его. И не Фет, а Некрасов следовал в этом отношении за Пушкиным, развивая на новой основе сделанное им. Приведенный отзыв Фета не был, однако, единичным. Такого же рода оценки разных произведений Некрасова, зафиксированные и в рецензиях и статьях, и в письмах и мемуарах, исходили и от Боткина, и от Дружинина, и от Тургенева, причем, что весьма существенно, относились не только к 60-м годам, но и к более раннему времени, когда они еще были связаны с Некрасовым дружескими отношениями. Таким образом, разрыв их с «Современником» мог лишь обострить эти оценки, но не внес в них ничего принципиально нового. Нечего и говорить, что в таком же духе оценивались и поэты некрасовской школы.
И. И. Гольц-Миллер.
Фотография. 1860-е годы (?).Разумеется, разные представители демократической поэзии, при всем их сходстве, имели свое индивидуальное лицо. Оно характеризуется и интересом к определенному кругу тем и жизненных явлений (город, деревня и пр.), и преимущественным тяготением к сатире или лирике, и пристрастием к тем или иным специфически поэтическим приемам, и, наконец, разными оттенками политических взглядов. Некоторые поэты, в том числе отдельные искровцы, например Г. Н. Жулев (1836—1878) и другие, будучи последовательными демократами, не поднимались, однако, до идеи крестьянской революции и не были одушевлены социалистическими идеалами. Нельзя не отметить, что мировосприятие и политические настроения Плещеева, тесно связанные с пережитками идеологии 40-х годов, во многом отличаются от некрасовских; было бы ошибочно отождествлять с Некрасовым Никитина и даже Огарева, но всё это расхождения внутри демократического лагеря и в пределах общей художественной системы.
Шестидесятые годы характеризуются бурным ростом и развитием русской фольклористики и этнографии. Выходят сборники пословиц, сказок, песен, былин, составленные и собранные Далем, Афанасьевым, П. Киреевским, Рыбниковым, Якушкиным, Худяковым, Шейном, в начале 70-х годов — сборники Барсова, Гильфердинга; появляются исследования того же
- 52 -
Афанасьева, Буслаева, А. А. Котляревского, Тихонравова. Это не могло не сказаться, и действительно сказалось, на художественной литературе. Впрочем, интерес к народному творчеству отразился в литературе вовсе не только под непосредственным влиянием развития фольклористики; он возник наряду с разработкой его в науке как результат общих социальных причин, вызвавших усиленный интерес к народу во всех его проявлениях.
Очень существенное место занимает обращение к фольклору в поэзии 50—60-х годов. Достаточно напомнить имена Некрасова и Никитина, А. К. Толстого и Мея. Стимулы, побудившие их заинтересоваться фольклором, характер этой заинтересованности и творческие результаты ее не сходны у разных поэтов. Нет никакого сомнения, что фольклоризм того или иного поэта тесно связан с его пониманием народности литературы. Это не значит, конечно, что фольклорность поэзии является верным признаком подлинной ее народности или что подлинная народность немыслима без фольклорности. Но тот или иной тип фольклоризма определяется именно пониманием народности и тем самым связан со всей социальной позицией поэта.
Стимулы, побудившие поэта обратиться к фольклору, определяют в значительной степени и выбор материала из огромного моря народной поэзии. Одни вовсе игнорируют темные и тяжелые стороны народной жизни, воспроизводя пестрые, колоритные и парадные ее явления. Другие, даже обращаясь к этим тяжелым сторонам народной жизни, приглаживают их, делают их менее резкими, менее «грубыми», более похожими на жизнь «образованного общества», растворяют в обычных литературных представлениях, приближают к своим собственным эмоциям, настроениям и вкусам. У многих писателей обращение к народному творчеству вызвано стремлением уйти от сложности современной жизни и непреодолимых ее противоречий, от неприемлемых для них явлений, получающих в ней явное преобладание, от своих личных неотступных тягостных переживаний, определяющихся в конечном счете теми же социальными причинами. Народная жизнь, как она им представлялась, с ее наивностью, примитивностью, патриархальностью, отсутствием социальных и психологических противоречий, идиллическим колоритом, обещала им внутреннее равновесие, примирение и успокоение. В этом смысл обращения к народной поэзии многих поэтов недемократического лагеря при всех их индивидуальных различиях и оттенках. Но реальная картина крепостной и пореформенной деревни не могла, конечно, способствовать этому успокоению. Отсюда элементы украшательства, эстетизма, как бы возводящие фольклорное в ранг подлинного искусства, а на самом деле искажающие его. Отсюда ассимиляция элементов подлинно народной психологии теми переживаниями и интересами, которые свойственны данному поэту, например, поглощение их стихией романсной лирики и пр.
Возможны, впрочем, известные художественные достижения и на этой почве; в качестве примера можно указать на ряд лирических стихотворений, фольклорные баллады и былины А. К. Толстого, лирику Мея.
Особый характер имеет интерес к фольклору у славянофилов, не получивший, впрочем, достаточно яркого отражения в их поэзии этого десятилетия и наиболее отчетливо ощущающийся в народном колорите поэзии Мея. Он окрашен присущими им представлениями о национальной обособленности русского народа, религиозной основе его национального духа, связан с идеализацией старины и патриархальных устоев русской жизни, в которых они тоже искали спасения от бурной современности. Народная поэзия привлекала нередко и независимо от каких-либо глубоких внутренних потребностей
- 53 -
просто своей необычностью, «экзотикой»; мотивы, почерпнутые из фольклора, являлись очередными литературными темами, принципиально ничем от других тем и мотивов не отличающимися и возникшими довольно случайно (таковы многие фольклорные опыты Майкова).
Один из журналов тех лет, говоря о Мее, охарактеризовал вместе с тем фольклористические тенденции всего антинекрасовского лагеря. Высоко оценив такие его стихотворения, как «Хозяин» и «Русалка», он замечает: «Но в таланте Мея элемент русского, народного принял не социальный, не современный, а какой-то археологический колорит. Во всех его лучших вещах этого рода вы невольно чуете Русь, и Русь народную; если хотите, Русь вечную, какою суждено ей быть в своем идеале; если хотите, поющую, празднующую, да только не Русь современного нам народа. Эта последняя только и далась одному Некрасову».1
Обращение Некрасова к фольклору было подготовлено опытом Пушкина, с одной стороны, и Кольцова — с другой. Оно определялось всем мировоззрением Некрасова, всеми его социальными устремлениями, в которых народ, мысль о народном благе занимали центральное место. Обращение к фольклору не было у него очередной литературной темой, не было и ответом лишь на узко личные интимные переживания. Некрасов всем своим творчеством, начиная уже с середины 40-х годов, практически осуществлял то понимание народности, которое впоследствии сформулировал Добролюбов. «Народность понимаем мы не только как уменье изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п..., — писал он. — Но чтобы быть поэтом истинно народным, надо больше: надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать всё тем простым чувством, каким обладает народ...».2 Задолго до этого, в конце 40-х годов, в романе «Три страны света» Некрасов вложил в уста главного героя романа Каютина презрительный отзыв о тех, «кто, побродив по базару в праздничный день, увидав две-три деревенские сходки, поговорив, хоть и за чаркой, с несколькими мужиками, думает знать всю их подноготную... Жалок такой наблюдатель! Нет, сердце его открывается не всякому и не вдруг... Будь прост и добр, а главное — будь искренен, спрячь подальше чувство собственного превосходства, умей отстранить все порывы неизбежной надменности, которая невольно пробивается в подобных отношениях, да еще не показывай, что ты стараешься под него подладиться, — и тогда только можешь ждать его искренности...».3 В те же годы Шевченко в предисловии к неосуществившемуся изданию «Кобзаря» с презрением писал о либеральных панках, которые прочитали по складам «Энеиду» Котляревского, да «пошатались возле шинка — да и думают, что вот когда мы уже распознали своих мужиков» и т. д.4 Презрение к мнимым народолюбцам и знатокам народной жизни и психологии, близость которых к крестьянству выражается в чисто внешних проявлениях, объединяет Некрасова и Шевченко. Сходная социальная позиция определила близость мыслей, тона, отдельных деталей, и это обстоятельство тем более показательно, что здесь не может быть и речи о непосредственном влиянии.
- 54 -
Фольклор был для Некрасова способом проникновения в народную психологию. В первую очередь привлекали его к себе народные песни и причитания, наиболее ярко и глубоко, с его точки зрения, наиболее интимно отразившие жизнь крестьянства. Некрасов вслушивался в народную речь и изучал ее в течение всей своей жизни; он очень любил меткие народные словечки, образные выражения и пр.; но, так же как и произведения народной поэзии, они интересовали его не вследствие своей необычности, «экзотики», а как отражение народного сознания, оттенков мысли народа. Вместе с тем народная поэзия имела для Некрасова и иное значение. Ее язык, ее поэтические средства были наиболее адэкватными средствами воплощения внутреннего содержания поэзии Некрасова, причем средствами, наиболее близкими и понятными народному сознанию. Особую роль играли эти средства в поэзии Некрасова (и некоторых представителей его школы) и потому, что одной из центральных тем его творчества было изображение крестьянства. Но дело не только в этом. Элементы фольклорной поэтики, как и народная речь, имеют место и в произведениях, тематически с крестьянской жизнью не связанных.
Методы использования и переработки фольклорного материала также были довольно разнообразны. Прежде всего необходимо отметить литературные явления, связанные с пассивным отношением к фольклору. Авторы таких произведений, иногда тонко понимая поэтику народной поэзии, лишь подражают народной песне, былине, воспроизводя отдельные ее мотивы, пересказывая сюжеты и пр. (например, былины Мея, Буренина и др.). Всё это носит вторичный характер.
Сторонники и проводники активного отношения к фольклору не ставят своей задачей простое воспроизведение и точное следование образцам, не видя в этом особой надобности и смысла, поскольку оригинал всегда лучше подлинника (см. интересное замечание А. К. Толстого о ненужности и бессмысленности копирования былин в письме к А. М. Жемчужникову от 3 апреля 1872 года1). Однако активное отношение к фольклору возможно разное. Результатом активного отношения является приукрашенный, парадный и нарядный фольклор. С другой стороны, активно относился к фольклору и Некрасов. Стилизация народной песни как таковая никогда не интересовала Некрасова. К нему можно применить слова, сказанные одним критиком по поводу Кольцова: истинный народный поэт творит, не подражая фольклору и заимствуя оттуда все свои краски, не подделываясь под «тон и лад» народных песен и составляя мозаику «из различных частиц, взятых то в том, то в другом месте», как это делали «мнимо-народные поэты», а «в духе народа», т. е. так, «как творит сам народ».2
Не стесняясь включать в «Кому на Руси жить хорошо» отдельные песни почти без изменений, когда это ему нужно было для воплощения своего замысла, Некрасов в других случаях вносил в них ряд существенных поправок, сплавлял элементы нескольких произведений, менял их функцию (например, похоронное причитание использовал для характеристики психологического состояния солдатки), вносил в песню, основываясь на своем исключительном поэтическом чутье, бо́льшую логическую стройность и последовательность (очень яркий пример последнего — песня «Повелел мой сударь-батюшко» — приведен в статье Ю. М. Соколова3). Разумеется, Некрасов
- 55 -
руководствовался при всех подобных изменениях прекрасным знанием и народной жизни, народного характера и народной поэзии. Нельзя не отметить, что Некрасову не свойственно злоупотребление местными словами и выражениями, которые он тоже далеко не всегда переносил из фольклорных источников.
Представители враждебного лагеря нередко обвиняли Некрасова в сгущении темных красок при изображении народной жизни и в связи с этим бросали ему также упрек, что он далек от подлинной народной поэзии, тенденциозен в своих народных фольклорных мотивах, гораздо более груб, чем настоящая народная поэзия. Так писал, например, к тому времени порвавший с демократическим лагерем В. П. Буренин по поводу песни «Мой постылый муж подымается» из главы «Крестьянка» поэмы «Кому на Руси жить хорошо». «Чудесно и необыкновенно реально! — иронизировал он, — так реально, что такого грубого реализма не обнаружит сам народ в своих безыскусственных песнях!».1 Между тем эта именно песня принадлежит к числу целиком заимствованных Некрасовым из народных источников.
В заключение обзора поэзии 60-х годов необходимо упомянуть еще об одной ее области — о стихотворном переводе, достигшем в это время исключительного расцвета как в количественном, так и в качественном отношении. Переводами занимались многие поэты — Михайлов и В. Курочкин, Вейнберг и Минаев, Фет и А. К. Толстой, Мей и Майков; пользовались популярностью как переводчики Д. Л. Михаловский, Н. В. Гербель, Н. В. Берг, Дружинин, Бенедиктов. Круг переводившихся поэтов был очень широк — античные и восточные поэты, Данте, Шекспир и Байрон, Т. Гуд и Лонгфелло, Гёте, Шиллер и Гейне, Беранже, Гюго и Барбье и многие другие. Немало переводились славянские поэты — Мицкевич, Сырокомля, Гавличек. Особо следует отметить переводы из Шевченко. Велико общекультурное значение работы поэтов-переводчиков, знакомивших русских читателей с замечательными произведениями иностранной поэзии. Но, помимо этого, переводы зарубежных революционных поэтов и отдельных произведений, созвучных настроениям демократических кругов русского общества, способствовали революционизированию общественного сознания, становились оружием революционной пропаганды. Таковы были, например, переводы из Гейне и Беранже, Барбье и Джусти, Мицкевича и Лонгфелло. Творчество некоторых поэтов являлось объектом столкновения разных политических и поэтических направлений. Показательна с этой точки зрения судьба Гейне в России. Представители школы поэтов «чистого искусства» интересовались главным образом его интимной лирикой, к тому же придавая ей иногда чуждую Гейне сентиментальную окраску. Поэты и переводчики демократического лагеря, высоко оценивая содержательность и эмоциональную действенность лирики Гейне, показывали вместе с тем русскому читателю Гейне как политического поэта и сатирика, произведения которого звучали и России 60-х годов в высшей степени актуально, звали к борьбе с русским самодержавием и крепостничеством.
Наконец, работа поэтов-переводчиков обогащала русское художественное слово и стихотворное мастерство.
СноскиСноски к стр. 8
1 В. П. Боткин, Сочинения, т. II, СПб., 1891, стр. 367, 368.
2 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, СПб., 1865, стр. 472—473, 477.
3 Там же, стр. 444, 453, 510.
Сноски к стр. 9
1 Письмо В. П. Боткина 1860 года к сестре по поводу Фета; цитируется по вступительной статье Б. Я. Бухштаба к «Полному собранию стихотворений» А. А. Фета (Л., 1937, стр. X).
2 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, 1935, стр. 10.
3 Там же, стр. 326.
4 Там же, стр. 52.
Сноски к стр. 10
1 Д. И. Писарев, Избранные сочинения, т. I, Гослитиздат, М., 1934, стр. 115, 117. В этих словах есть, кстати сказать, и прямая насмешка над статьей Полонского о стихотворениях Мея («Русское слово», 1859, № 1, отд. II, стр. 66).
2 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 301.
Сноски к стр. 11
1 Стоит напомнить, что, говоря о либеральном обличительстве, революционные демократы нередко употребляли слово «гражданский» в ироническом контексте, подчеркивая этим его неопределенность и бессодержательность в либеральной фразеологии.
2 См., например, рецензию на сборник Д. Минаева «Думы и песни» — «Иллюстрация», 1863, № 268, стр. 275.
Сноски к стр. 12
1 И. С. Тургенев, Первое собрание писем, СПб., 1884, стр. 94.
Сноски к стр. 14
1 В. П. Боткин, Сочинения, т. II, стр. 370, 371. Небезинтересно отметить, что через тридцать с лишним лет, как бы протягивая нити от «чистой поэзии» к символизму, Вл. Соловьев еще более отчетливо сформулировал высказанные Боткиным мысли в своей статье «О лирической поэзии» (1890), написанной по поводу последних сборников Фета и Полонского. «...Существенная особенность лирической поэзии, — писал он, — состоит в том, что она относится к основной постоянной стороне явлений, чуждаясь всего, что связано с процессом, с историей. Предваряя полное созвучие внутреннего с внешним, предвкушая в минуту вдохновения всю силу и полноту истинной жизни, лирический поэт равнодушен к тому историческому труду, который стремится превратить этот нектар и амброзию в общее достояние...Для чистого лирика вся история человечества есть только случайность, ряд анекдотов, а патриотические и гражданские задачи он считает столь же чуждыми поэзии, как и суету будничной жизни» (В. С. Соловьев, Собрание сочинений, т. VI, изд. «Общественная польза», стр. 218).
Сноски к стр. 15
1 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, стр. 491.
2 А. Фет. Вечерние огни, вып. III, М., 1888, стр. V (Предисловие).
Сноски к стр. 16
1 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, стр. 488. За несколько лет до этого критик и поэт Б. Н. Алмазов, член «молодой редакции» «Москвитянина», с осуждением писал, что в стихотворениях Некрасова «выражаются ненормальные, уродливые явления жизни, которых должно избегать в поэзии» («Наблюдения Эраста Благонравова над русской литературой и журналистикой». — «Москвитянин», 1852, т. V, № 17, отд. «Смесь», стр. 19—20).
2 А. Фет. Вечерние огни, вып. III, стр. V.
3 Письмо к К. К. Романову от 27 сентября 1891 года. Русские писатели о литературе, т. I, изд. «Советский писатель», Л., 1939, стр. 434.
Сноски к стр. 17
1 «Русское слово», 1859, № 2, отд. II, стр. 64, 65.
2 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, стр. 120.
3 Хотя эстетические теории Ап. Григорьева некоторыми своими чертами отличаются от дружининских, его лирика в основном находится в русле «чистой поэзии».
Сноски к стр. 19
1 А. Н. Островский, Полное собрание сочинений, т. XIII, Гослитиздат, М., 1952, стр. 166.
2 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, М., 1949, стр. 90.
Сноски к стр. 20
1 «Русское слово», 1859, № 2, отд. II, стр. 64.
2 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, М., 1890, стр. 225.
3 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 577.
Сноски к стр. 21
1 «Библиотека для чтения», 1864, № 6, отд. «Русская литература», стр. 41. Из группы поэтов школы «искусства для искусства» Эдельсон выделял одного Тютчева.
2 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, стр. 214.
3 «Русское обозрение», 1901, № 1, стр. 94.
4 «Литературная библиотека», 1867, т. V, апрель, стр. 57.
5 М. Горький. О литературе, изд. 3-е, изд. «Советский писатель», 1937, стр. 220.
Сноски к стр. 24
1 А. М. Жемчужников. Стихотворения, т. I, СПб., 1892, стр. IX, XII—XIII.
2 Следует подчеркнуть, что творчество К. Пруткова, как и самый его сатирический образ, не ограничивается борьбой с эстетизмом, с «чистой поэзией». В нем, особенно в той его части, которая появилась в «Свистке», отчетливо звучат социальные тенденции. Однако они наиболее ярко проявились в прозе Пруткова — его «мыслях и афоризмах», «гисторических материалах», замечательном проекте «О введении единомыслия в России».
Сноски к стр. 25
1 «Сын отечества», 1860, № 6, 7 февраля, стр. 165—168.
Сноски к стр. 27
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 167.
2 «Библиотека для чтения», 1858, т. 152, № 12, отд. «Литературная летопись», стр. 39.
Сноски к стр. 30
1 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. I, 1934, стр. 330.
2 «Отечественные записки», 1858, т. 117, № 3, отд. III, стр. 17.
3 «Общезанимательный вестник», 1857, № 19, стр. 693—696.
4 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 610.
Сноски к стр. 31
1 Правда, в «Русской беседе» и в «Дне» было напечатано довольно много их произведений, но это преимущественно старые, иногда совсем старые (не только начала 50-х, но даже 40-х и 30-х годов) вещи.
Сноски к стр. 32
1 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. III, М., 1892, стр. 304 (письмо от 24 ноября 1856 года).
Сноски к стр. 33
1 К. С. Аксаков. Обозрение современной литературы. «Русская беседа», 1857, № 1, отд. IV, стр. 14—15. Аналогичные высказывания имеются и в речах Хомякова в Обществе любителей российской словесности.
2 «Библиотека для чтения», 1863, № 5, отд. «Русская литература», стр. 1, 3, 5.
Сноски к стр. 34
1 Ап. Григорьев, Собрание сочинений, вып. 2, М., 1915, стр. 112, 107.
2 Там же, стр. 95, 15.
3 Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 гг., СПб., 1865, стр. 74.
Сноски к стр. 35
1 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. III, стр. 353, 354.
Сноски к стр. 37
1 П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. ЗИФ, М. — Л., 1930, стр. 124.
Сноски к стр. 38
1 В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов, высоко ценивший Кольцова, отчетливо характеризует эту его ограниченность, говоря об отсутствии в его поэзии «всесторонности взгляда», вследствие чего «простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только с своими частными житейскими нуждами...» (Полное собрание сочинений, т. I, стр. 237—238).
Сноски к стр. 39
1 Такое представление о поэте наиболее характерно для школы «чистого искусства», хотя имеются и некоторые отступления; укажем на колебания в этом отношении Полонского, см. его стихотворение «Писатель — если только он...».
Сноски к стр. 40
1 А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. Гослитиздат, М., 1948, стр. 343, 344.
Сноски к стр. 41
1 «Книга и революция», 1921, № 2 (14), стр. 71—73. Не только самый характер настроений, о которых идет речь, но и их критика приобретала весьма разнообразные формы. О преодолении рефлексии писали Добролюбов и Чернышевский (а в 40-е годы — Белинский, протестовавший, например, против помещения в «Современнике» «Монологов» Огарева), но психология «лишних людей» не устраивала также Дружинина (см. их статьи 1857 года о Тургеневе, рецензию Дружинина на «Зимний путь» Огарева). Всё это, однако, не только не сходные, но диаметрально противоположные по своему смыслу явления. Недаром Чернышевский резко полемизировал с Дудышкиным по этому вопросу, показав истинную природу его критики «лишних людей». Если Белинский, Чернышевский и Добролюбов, стремясь к выработке действенного мировоззрения и нового типа человека, революционера и борца за лучшее будущее, считали, что рефлексия является помехой для этой борьбы, то Дружинин и Дудышкин звали «лишних людей» к «примирению с действительностью», к обретению своего скромного места в рамках самодержавно-бюрократического государства.
2 Д. И. Писарев, Избранные сочинения, т. I, стр. 273.
Сноски к стр. 42
1 Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. X, Гослитиздат, М., 1952, стр. 284.
Сноски к стр. 44
1 А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. IV, Пгр., 1919, стр. 399, 402.
Сноски к стр. 45
1 Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1950, стр. 142—143.
Сноски к стр. 47
1 Сб. «Огни», кн. I, Пгр., 1916, стр. 77.
2 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 228.
Сноски к стр. 48
1 «Заря», 1870, № 9, отд. II, стр. 133. Этот упрек, как и многое другое, Страхов заимствовал у Ап. Григорьева (ср. слова Григорьева о «водевильности тона» и «водевильно-александринских пошлостях» в статье «Стихотворения Н. Некрасова». «Время», 1862, т. XII, № 7 отд. II, стр. 17, 33).
Сноски к стр. 49
1 Л. И. Пальмин (1841—1891) — поэт главным образом юморист; в 60-е годы был близок к «Искре» и другим демократическим журналам.
2 И. И. Гольц-Миллер (1842—1871) — поэт и революционер, член кружка Зайчневского и Аргиропуло; сотрудничал в «Современнике», «Русском слове», «Отечественных записках», «Вестнике Европы».
3 В. И. Богданов (1838—1886) — поэт (преимущественно сатирик), один из наиболее активных сотрудников «Искры» и «Будильника». Напечатанная в 1865 году «Дубинушка» Богданова, в позднейшей переделке А. А. Ольхина, стала с конца 70-х — начала 80-х годов одной из самых популярных революционных песен.
4 Омулевский — псевдоним И. В. Федорова (1836—1883), поэта и прозаика, автора романа «Шаг за шагом» («Светлов»), сотрудничавшего в журналах демократического лагеря.
Сноски к стр. 50
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IV, 1948, стр. 531.
2 Сближение стихотворной речи с разговорной у Некрасова и поэтов его школы не означает, разумеется, что они вовсе изгнали из поэзии высокую лексику и торжественные, приподнятые интонации. Но высокая лексика и торжественные интонации, соответствующие высокому пафосу их поэзии, были, так сказать, переадресованы, применены к иным человеческим качествам, поступкам и стремлениям, связаны с идеалами нового периода освободительного движения, выражением которого и является поэзия демократического лагеря 50—60-х годов. Особый поэтический эффект нередко достигается именно благодаря тому, что о «низких», с точки зрения иных социальных взглядов и эстетических норм, предметах, например о крестьянском труде, говорится высокими словами, благодаря соединению сниженной лексики с возвышенной, с новой революционной фразеологией 60-х годов и т. п. Впрочем, высокая лексика и патетический тон речи очень часто имеют место и в негодующей сатире, выражая строй мыслей и чувств поэта, обличающего господствующие классы и социальную несправедливость.
Сноски к стр. 51
1 Письмо к К. К. Романову от 17 сентября 1888 года. К. Чуковский. Некрасов. Статьи и материалы, изд. «Кубуч», Л., 1926, стр. 134.
Сноски к стр. 53
1 Вс. К<рест>овский. Стихотворения Н. Некрасова. «Русское слово», 1861, № 12, отд. «Русская литература», стр. 62—63.
2 Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 235.
3 Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. VII, 1948, стр. 737—738.
4 «Былое», 1906, № 8, стр. 2.
Сноски к стр. 54
1 «Русская мысль», 1915, № 11, стр. 123.
2 В. Стоюнин. Кольцов. «Сын отечества», 1852, № 3, отд. V, стр. 48; № 5, стр. 32, 33.
3 «Некрасов и народное творчество». — «Литературный критик», 1938, № 2, стр. 64—65.
Сноски к стр. 55
1 «С.-Петербургские ведомости», 1874, № 26, 26 января, стр. 1.